Читать онлайн Душа собаки. Как и почему ваша собака вас любит бесплатно
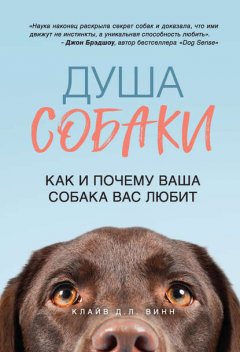
Вступление
Кто бывал зимой в Англии, тот поймет настроение человека, возвращающегося домой после напряженного трудового дня. Некоторое время назад мне пришлось ненадолго вернуться домой из Соединенных Штатов, которые стали моей второй родиной.
Время клонилось ближе к вечеру, и солнце уже завершило свою короткую дневную вахту. Наряду с тысячами других пассажиров я спускался по ступенькам железнодорожной станции в пригороде Лондона. Эти станции, здания в викторианском стиле, должно быть, выглядели величественно в момент строительства. Некоторые из них и сейчас так же великолепны летним днем, но в конце холодного, темного, такого как этот, они производят поистине угнетающее впечатление. Вся триумфальная окружающая обстановка и старые темно-красные кирпичи, подсвеченные лишь тусклыми мерцающими люминесцентными лампами, были пронизаны тоскливым настроением утомленного за день пассажира, возвращающегося домой в пригород.
Внезапно, добавляя мрачности этой гнетущей картине, станцию огласил настойчивый собачий лай. В самом низу лестницы, прямо позади турникетов, молоденькая девушка изо всех сил вцепилась в поводок, который удерживал маленькую, но шумную и очень энергичную собаку породы терьер. Эта собачка пронзительно тявкала, высматривая кого-то в толпе.
Вначале я почувствовал раздражение, но, как только подошел ближе и заметил, насколько счастлива была собака, непроизвольная улыбка тронула мое лицо.
Собака узнала кого-то в огромной людской толпе, и по мере приближения этого человека собачий лай менял свою окраску: от злобного тявканья он постепенно перешел в счастливое повизгивание и поскуливание. Когти собаки скользили по гладкому полу, пока она в нетерпеливом ожидании переступала с лапки на лапку. И как только мужчина прошел через турникет, она сразу же прыгнула к нему на руки и, как мне показалось, лизнула его в щеку. Я стоял немного позади и слышал, как он тихонько шептал ей: «Все хорошо, все хорошо — я уже вернулся».
Оглянувшись, я увидел море людей, на лицах которых, как в зеркале, отражались мои собственные чувства: сначала раздражение, недоумение и, наконец, счастье от такой неожиданной и невероятно эмоциональной встречи хозяина со своей любимицей. Люди улыбались, проходя мимо этой трогательной парочки, и, казалось, даже несколько расправляли плечи, как бы сбрасывая груз усталости, накопившийся за день.
Глядя на эту сцену, я мысленно перенесся на тридцать лет назад, когда после долгого отсутствия снова ступил на землю Великобритании. Да, это были счастливые времена, и наш замечательный пес Бенджи был еще жив.
Прибыв на железнодорожную станцию на острове Уайт, где я вырос, я прохаживался по перону в ожидании мамы, которая должна была меня встретить. Вскоре на дороге действительно появился ее автомобиль. Всмотревшись, я неожиданно оторопел: мне показалось, что ее машиной управляет собака… Едва я успел справиться с растерянностью, как машина остановилась на обочине, и мой пес, мой Бенджи, радостно бросился в мои объятия.
Прожив много лет в Штатах, я успел отвыкнуть от правостороннего движения, поэтому с левой стороны и ожидал увидеть маму, а увидел Бенджи…
На первый взгляд Бенджи не был красавцем. Обычная маленькая черная с рыжими подпалинами дворняга из приюта. Но для нас он был особенным. Пятна песочно-коричневого цвета вокруг бровей делали его глаза очень выразительными, а хвост и уши могли передать такую гамму эмоций, на которую не способен ни один человек. В детстве мы с братьями любили дразнить его, но добродушный пес не обижался и всегда прощал нам наши шалости.
Бенджи, начало 1980-х годов
В 70-х годах прошлого столетия наша семья проживала на острове Уайт, у южного побережья Англии. Мы с младшим братом ходили в школу, а пес дожидался нас дома. По возвращении мы обычно плюхались на диван, заранее зная, что будет дальше, поскольку это повторялось изо дня в день. Разбрасывая все на своем пути, Бенджи мчался в дом с заднего дворика, где обычно проводил время в наше отсутствие. На расстоянии в десять футов[1] от дивана он высоко подпрыгивал и приземлялся прямо на нас, колошматя хвостом и пытаясь по очереди облизать нас своим шершавым, как наждачная бумага, языком. Бенджи любил нас, и всякий раз доказывал свою любовь всеми доступными ему способами.
Прошло много лет. Короткая собачья жизнь Бенджи закончилась, да и моя сильно изменилась. Но детские воспоминания о собаке не покидали меня даже тогда, когда я с головой ушел в изучение аспектов сознания других видов живых существ, обитающих на нашей планете.
Я примкнул к научному сообществу, где занялся изучением того, как разные виды животных приобретают знания и как они относятся к окружающему. Я хотел понять, как и чем сознание животных отличается от нашего.
До какой степени способности рассуждать, думать и общаться являются привилегией человека, и в какой мере их разделяют другие виды живых существ? Людей обычно интересует, есть ли мыслящие существа на других планетах, но я хотел узнать именно об иных формах сознания на нашей планете.
Будучи профессором зоопсихологии, я в первую очередь направил свой интерес на наиболее распространенных обитателей любой лаборатории в этой области: крыс и голубей. И в течение десятилетия я жил и работал в Австралии, где имел возможность проводить исследования на по-настоящему крутых видах сумчатых животных, с которыми прежде никто не работал. Это была прекрасная жизнь, полная увлекательных головоломок и интересных открытий, но мне по-прежнему чего-то не хватало…
Со временем я осознал, что меня не интересует поведение животных, обитающих в изоляции. Более того, я понял, что хочу попробовать установить взаимосвязь и взаимоотношения между людьми и животными. И, похоже, среди многих тысяч видов представителей мира фауны никто не связан более сильно и более интересно с человеком, нежели собаки.
Оглядываясь назад, я понимаю, как много времени потратил на осознание того, что мне необходимо изучать собак, именно собак. Их поведение настолько богато и разнообразно, что не идет ни в какое сравнение с поведением остальных братьев наших меньших. Я не перестаю удивляться их навыкам, даже талантам. Есть собаки, которые могут распознать наличие рака у человека или учуять контрабанду в багаже пассажира, собаки, которые утешают людей, переживших тяжелые травмы, и собаки, помогающие слепым пересекать оживленные городские улицы. Наверно, это можно объяснить отчасти и тем, что нет ни одного животного, с которым бы у людей были более длительные и более глубокие взаимоотношения.
Человек и собака живут бок о бок более пятнадцати тысяч лет. Эта длительная совместная история переплела наши пути и наконец подвела к необходимости тщательного изучения для лучшего понимания тех, кто находился рядом с нами на протяжении веков. Порой непонимание вызвано нашим чувством собственного превосходства и элементарным пренебрежением к животным.
В конце 1990-х годов в области кинологии было проведено новое исследование, в результате которого ученые пришли к выводу, что собаки обладают уникальной формой интеллекта. Согласно этой теории, собаки, живущие на протяжении тысяч лет в непосредственной близости от людей, развили уникальные способности понимания человеческих намерений, что позволило появиться богатым, хотя и едва различимым, связям между нашими двумя видами. Этот так называемый гений собак был провозглашен особым качеством, которое и сделало их идеальными компаньонами для людей, и, как полагают, служит ключом к пониманию и управлению нашими отношениями с ними.
Теория о том, что собаки обладают когнитивными способностями, которые позволяют им понимать людей так, как никто из животных, до сих пор имеет много сторонников среди тех, кто сделал изучение поведения и умственных способностей друзей человека своей работой и страстью. Когда я впервые услышал об этой теории, мне показалась, что она является вполне правдоподобным объяснением невероятного успеха собак на планете, где доминирует человек. Однако когда мы с моими студентами сами начали изучать поведение собак, эти хваленые, предположительно уникальные, навыки восприятия собак самым неожиданным образом исчезали, словно миражи в пустыне.
Я начал задаваться вопросом: а что, если у собак нет никаких уникальных когнитивных способностей, а присутствуют лишь определенные способности совершенно иного рода? Что за талант это может быть? И если бы собаки были особенными по какой-то иной причине, а не благодаря наличию у них интеллекта, то какое бы влияние это оказало на способы нашего общения с ними и на то, как мы о них заботимся?
Как и большинство практикующих ученых, я не сразу смог разглядеть то, что лежало на поверхности и что непрофессионал определил бы сразу. Пока я вникал в изучение сути вопроса, собаки были откровенны со мной и всеми силами пытались продемонстрировать суть своей истинной природы. Бенджи, пес моего детства, и радостно тявкающий терьер на мрачной железнодорожной станции всем своим поведением отвечали на вопрос, что делает наших четвероногих компаньонов особенными.
За последние десять лет изучение собак претерпело, можно сказать, революцию. Исследователи открывают заново богатые традиции кинологии и применяют к ней проверенные временем инструменты психологии наряду с самыми последними методами и технологиями из области неврологии, генетики и других передовых научных областей. Результатом стал быстрый рост доказательств того, что собаки думают и чувствуют. Эти данные позволили ученым, таким как я, заниматься изучением тех вопросов, над которыми несколькими годами ранее мы не смели даже задумываться, а уж тем более посвящать их изучению годы профессиональной жизни.
Моя работа и работа многих других ученых в быстро разрастающейся области кинологии сделали очевидным тот факт, что хотя умственные способности собак и не отличают их от других животных, но есть нечто примечательное в наших друзьях из семейства собачьих. Это исследование, возможно, не менее противоречивое и поразительное, чем более ранние исследования умственных способностей собачьих, потому что оно направлено на простой, но в то же время мистический источник уникальной связи собак с людьми. Этот феномен озадачивает и может вызвать противоречивые чувства, но он хорошо узнаваем и является само собой разумеющимся для каждого любителя собак.
Собаки имеют гипертрофированную, кипучую, возможно, даже чрезмерную способность формировать нежные отношения с представителями других видов живых существ. Эта способность настолько велика, что если бы мы обнаружили ее у кого-либо, принадлежащего к нашему виду, то восприняли бы это как нечто странное, даже патологическое.
В своем научном труде, где я обязан пользоваться техническим языком, я назвал это отклоняющейся поведенческой гиперсоциальностью. Но как любитель собак, искренне заботящийся о них и их благополучии, я не вижу никаких причин, почему мы не должны назвать это просто любовью.
Многие любители собак, и я в их числе, вполне могут использовать это определение в быту, но для ученого такое недопустимо. Само представление о том, что у животных есть эмоции, уже давно стало анафемой для большинства людей в моей сфере деятельности. Концепция любви выглядит слишком сентиментальной и неточной, а наличие этого чувства у собак сопряжено еще и с риском их очеловечивания. Это то, чему ученые по праву сопротивлялись долгое время, как ради научной точности, так и для благополучия самих животных.
И все же я убежден, что в отношении собак намек на антропоморфизм вполне допустим и даже уместен. Единственный способ понять этих животных — признать их любвеобильную природу. Более того, игнорирование их потребности в любви — далее я поясню, что собакам действительно нужна любовь, — столь же неэтично, как и отказ в правильном питании для них или в физической активности.
К такому выводу меня подтолкнул ряд свидетельств, полученных из лабораторий и приютов для животных по всему миру, свидетельств, которые явно доказывают, что собаки чувствуют любовь точно так же, как и мы, люди. И как только я начал наблюдать, то понял, что страсть собак к нам проявляется во многих отношениях. Мы все слышали истории о невероятных подвигах, совершаемых собаками при защите своих хозяев. Исследование того, как собаки реагируют на людей, оказавшихся в беде, ясно показывает, что они действительно проявляют заботу о дорогом им человеке. Но еще более впечатляющими являются исследования, демонстрирующие, как сердца собак и их хозяев бьются синхронно, когда они вместе, имитируя синхронность сердцебиения, которую мы можем наблюдать у любящих человеческих пар.
Рядом с близкими им людьми собаки также испытывают неврологические изменения, вызывающие в мозге команду на выборос химических веществ, как, например, окситоцин, что отражает изменения, какие человек испытывает, когда чувствует любовь. Действительно, бескорыстную любовь собак к людям можно проследить до самого их генетического кода, который на сегодняшний день раскрывает невероятные откровения о разуме этих особей и истории эволюции данного вида.
Эти и другие увлекательные открытия, совершенные в последнее время, заставили меня осознать, что любовь является ключом к пониманию собак. Я также пришел к убеждению — и дальше поделюсь достаточным количеством научных доказательств, подтверждающих это убеждение, — что именно желание собак построить теплые эмоциональные связи, а не особый ум сделали их вид таким успешным в человеческом обществе. Их любящая природа делает их настолько привлекательными, что многие из нас не могут удержаться от того, чтобы не накормить дворнягу, появившуюся на пороге, дружески похлопать чистокровного пса, которого купили у заводчика, или же утешить собаку из приюта, взглядом умолявшую взять ее домой.
Действительно, любовь собак является краеугольным камнем отношений между нами вне зависимости от того, признаем ли мы важность этого утверждения. Но, по моему глубокому убеждению, мы просто обязаны учитывать данный факт и изменять наше поведение в свете доказательств способности собак любить. Ведь теория собачьей любви — термин, который я использую лишь отчасти в шутку, — содержит в себе ключ не только к лучшему понимаю этих удивительных животных, но также и к изменению наших с ними отношений к лучшему. Если исходить из того, что именно способность собак любить делает их уникальными, то вполне резонно, что она дает им еще и право на уникальные потребности. И если из моего исследования можно сделать один простой вывод, то он будет заключаться в том, что нам необходимо делать намного больше, чтобы вернуть любовь наших четвероногих друзей.
Их способность любить нас просто требует взаимности. Многие люди охотно подчиняются этому, даже если они не имеют представления о знаниях, стоящих за вековой динамикой взаимного обожания. Эти знания могут не только объяснить наши близкие отношения с собаками, но и сделать их лучше. Мы может улучшить самочувствие наших собак, если будем чаще ласкать их, выгуливать, реже оставлять одних и предоставлять им возможности, которые им необходимы, чтобы жить в системе сильных эмоционально положительных отношений.
В наши дни кинология развивается семимильными шагами. Генетика и геномика, наука о мозге и гормональные исследования — все работают над тем, чтобы пролить свет на вопросы, которые многие ученые еще не задали. Как нашим собакам удается построить столь исключительные мосты любви между видами? Какие условия необходимо создать, чтобы быть уверенным, что узы любви сформированы? Как собака развила такую способность в столь короткий — по меркам эволюции — период времени? Ответы на эти вопросы являются целью некоторых из наиболее интересных работ, что проводятся в последние годы учеными — первопроходцами в области современных исследований собак. В этой книге я расскажу об их выводах наряду со своими собственными.
Но просто изучать собак и понимать их недостаточно. Мы должны воспользоваться этими знаниями и помочь им прожить более насыщенную жизнь. Наши питомцы доверяют нам, хотя мы их порой недооцениваем.
Если у этой книги вообще есть ценность, то она состоит в том, чтобы помочь людям осознать, что наши собаки заслуживают лучшего. Они имеют право на большее, нежели изолированная жизнь, на какую мы их слишком часто обрекаем. Они заслуживают нашу любовь в ответ на любовь, которую так щедро нам дарят.
И это не просто мои глубокие убеждения как любителя собак. Это мои аргументированные выводы как ученого, подкрепленные фактами. Позвольте мне, как человеку, который в свое время отверг идею любви собак, сочтя ее за сентиментальность, повторить, что после стольких лет и вопреки своим собственным склонностям я нашел огромное количество доказательств в поддержу теории любви собак, и лишь немного, которые бы ей противоречили. И это не сентиментальность, это наука.
Порой я чувствую некоторую неловкость от того, что после стольких лет скептического изучения интеллекта животных в конечном итоге пришел к выводу о приоритете не интеллектуальной, а эмоциональной составляющей, хотя прекрасно понимаю: многие ученые не разделяют такую точку зрения. Но я могу с этим смириться, поскольку твердо верю, что если люди смогут принять ее, отношение к собакам изменится.
Мне также очень приятно знать, что то, что я испытывал с Бенджи все эти годы, было настоящим. Любовь была истинной сущностью наших отношений, как, впрочем, почти во всех отношениях между собакой и человеком. Многие собаководы знали это и без всяких исследований, понимая, что особенность этих животных заключается в их сердцах, а не в умах.
1. Ксифос
Когда я впервые увидел Ксифос, она показалась мне совсем крохой. Она лежала, свернувшись испуганным комочком, на бетонном полу загона в общественном приюте для животных. Вокруг нее прыгали собаки покрупнее, скуля и лая, пытаясь привлечь мое внимание. Но бедняга Ксифос была так напугана, что не отваживалась даже поднять головы, а лишь украдкой поглядывала из-под задней лапы на пришедшего навестить ее незнакомца.
Хотя вольер был чист, и волонтер, который провел меня сюда, выражал озабоченность по поводу расходов на содержание собак, трудно было не испытать здесь чувства уныния. Дом Ксифос из стальных прутьев был похож на тюрьму: шумное, безликое пространство из бетона и стали. Мне захотелось немедленно забрать ее отсюда и увезти домой. Я был уверен, что Ксифос тоже этого хочет.
Я пришел в приют для животных в северной Флориде с женой Рос и сыном Сэмом, потому что они решили сделать мне на день рождения «сюрприз» — подарить собаку. Я поставил слово «сюрприз» в кавычки не случайно: они поступили весьма разумно, посвятив меня в свои планы. Не следует дарить в качестве сюрприза животное, ведь ответственность по уходу за другим живым существом слишком велика. После того как я одобрил их замысел, Рос и Сэм все же взяли на себя поиск подходящего щенка, поскольку я должен был почувствовать, что и правда получаю подарок.
В 2012 году, когда мы наконец решили взять собаку, я уже несколько лет изучал способности этих животных, хотя у меня самого дома собаки не было. Из-за дальних международных переездов и родительских обязанностей моя жизнь и так казалась слишком сложной, куда тут прибавлять еще и собачью компанию… Хотя в прошлом мне и нравилось делить свой дом с собакой, я не был уверен, что готов завести питомца сейчас, зная наш непредсказуемый график и частые отлучки. Я никогда не верил и все еще не верю, что в жизни любого человека найдется место для собаки или щенка.
Когда стало ясно, что моя семья может действительно принять в дом собаку, я вдруг почувствовал, что действительно затосковал по этим животным. Проводя много времени на работе с людьми и их собаками или в приютах для животных, глядя на всех тех замечательных псов, которым нужна семья, я стал чувствовать себя неуютно в собственном доме, где собаки не было. Рос и Сэм, не только уловив мое невысказанное желание, но и сами разделяя его, взяли на себя задачу найти нам собаку.
Поскольку они все еще старались сохранить элемент сюрприза, то не стали просить меня о помощи и сами взялись искать собаку в приюте, который я знал недостаточно хорошо.
Как ученый, который специализируется на изучении поведения собак, я проводил исследования во многих приютах в северной части Флориды. Но именно этот приют я и мои коллеги обошли стороной. Дело в том, что большинство здешних питомцев имели серьезные проблемы с поведением, и мы решили, что будет слишком рискованно привести сюда молодых студентов, помогавших проводить наши эксперименты. Те собаки, которые знали, как правильно вести себя с людьми, долго в приюте не задерживались и быстро находили новый дом. И вышло так, что этот приют — гуманное учреждение, где животных не убивали, — остался с популяцией собак, которые понятия не имели о том, какого поведения от них ждут люди. Независимо от того, были ли эти бедные животные на самом деле опасны или нет, они просто не знали, как показать людям, что могут стать для них хорошей компанией.
Эта печальная ситуация давала о себе знать еще до того, как вы переступали порог приюта. В главном блоке стоял такой гвалт, что его можно было услышать с парковки. Да и сами собаки демонстрировали поведение, едва ли похожее на дружелюбие и радость.
Мы с коллегами испытывали глубокое уважение к миссии приюта, которая заключалась еще и в том, что они отказывались усыплять любое животное, каким бы безнадежным оно ни казалось. Возможно, поэтому мы чувствовали, что не можем проводить здесь исследования из соображений безопасности для наших студентов. И если бы я занимался поисками питомца, то и не подумал бы выбирать собаку в таком приюте. Но, к счастью, меня освободили от этого.
За день до нашего визита Рос и Сэм съездили на разведку. На наше счастье, за день до их визита в приюте появился новый щенок. Собака была в относительно тихом карантинном секторе, пока ее не поместили в основной блок.
Рос и Сэм вернулись домой под впечатлением от маленькой черной собачки, которую там нашли. На следующий день, озадаченный тем, что они обнаружили такого милого щенка в приюте, который я знал только как место для собак, отбывающих пожизненный срок, я поехал с ними, чтобы познакомиться с Ксифос.
Малышке было около года, но она выглядела такой бедной, пугливой и крошечной, что казалась гораздо моложе. В отличие от других собак в блоке, где ее содержали, она больше скулила, чем лаяла, а когда ее выпустили из клетки, перевернулась на спину и обмочилась в отчаянной попытке выразить свое уважение к нам. Она зажала хвост между задними лапами так сильно, как могла. Она лизала наши руки, а когда мы присели рядом с ней, попыталась облизать и наши лица. Она использовала полный набор своих собачьих хитростей, чтобы показать нам свое желание установить эмоциональную связь. Она словно хотела сказать: «Я ваша собака. Заберите меня домой, и я буду преданно любить вас». Это был веский аргумент, и мы сразу же забрали ее.
Позже мы узнали, что с Ксифос жестоко обращались в первые месяцы ее жизни. Она родилась в другом городском приюте. Ее мать бросили еще беременной, и помет подхватывал каждую инфекцию. Со временем Ксифос окрепла и обрела дом. Но ее первая семья по какой-то причине отказалась от нее, и Ксифос, одинокую, напуганную и отчаянно желавшую получить второй шанс, снова вернули в приют.
К этому моменту я уже достаточно знал о приютских собаках, чтобы понимать, что история Ксифос, к сожалению, довольно распространена и что подавляющее большинство животных остаются бездомными не по своей вине. Но как только мы привезли ее домой, я стал наблюдать за ней и все ждал, когда же проявится та непростительная вредная привычка, из-за которой от Ксифос отказалась ее первая семья. Но ничего подобного не было. И это стало одним из множества приятных сюрпризов, преподнесенных этим изящным маленьким существом, и одним из множества уроков.
На момент написания этой книги Ксифос было уже около восьми лет. Она остается такой же очаровательной, и с ней так же легко жить, как и тогда, когда мы только привезли ее домой. В течение первых нескольких недель она избавилась от своей застенчивости и превратилась в сильную и счастливую личность. Несмотря на глубокий черный окрас, кажется, будто она освещает любое пространство, где находится. Ксифос уже не тот робкий щенок с плотно поджатым хвостиком, которого мы несколько лет назад принесли из приюта. Теперь она настолько важная персона в нашей семье, что только диву даешься, как при таких размерах можно быть столь значимой и вездесущей. Она всегда первой встречает людей на пороге. Услышав звонок или приближающиеся шаги, бежит к двери и поднимает бешеный лай, а затем визжит от удовольствия, когда открывается дверь и на пороге стоит тот, кого она ждет и любит. Она различает звук машин наших друзей, и скулит, а не лает, когда они подходят к двери.
Во всем, что делает Ксифос, видна любовь. И это не перестает удивлять меня даже теперь, когда я так много знаю об этих животных и об их способностях быть компаньонами. Справедливости ради надо сказать, что когда Ксифос была еще трогательным щенком, я не испытывал к ней такой привязанности, как сейчас.
Мне и раньше приходилось жить с собаками, и я знаю, насколько их реакции на человека могут быть теплыми. Тем не менее, как у ученого, изучающего поведение этих животных, у меня не было своей точки зрения относительно данного эмоционального аспекта жизни собак.
Мысль о том, что собаки способны любить или хотя бы испытывать какие-то эмоции, в те времена, когда мы нашли Ксифос, представлялась сюрреалистической для специалиста по собачьей психологии, каковым я являюсь. Она была настолько далека от научных суждений о собаках, что даже не приходила мне в голову.
Однако к тому моменту в моей профессиональной жизни я начал сомневаться и в других аспектах полученных ранее знаний о когнитивных способностях собак. Благодаря этому скептицизму я вскоре занялся исследованиями, которые в корне изменили мое отношение к собакам, — не только к Ксифос, но и ко всем тем несчастным представителям ее рода, которые все еще заперты в приютах.
Ксифос вошла в мою жизнь как раз в тот критический момент размышлений о собаках. Я изо всех сил старался совместить свои научные исследования о познавательной способности собак с набором идей о причинах успеха собак в человеческом обществе, которые к тому времени были широко распространенными. Эти идеи предположительно объясняли основы отношений, переживаемых нами в тот момент с нашим новым членом семьи.
В конце 1990-х годов двое молодых ученых вновь разожгли интерес к психологии собак. Независимо друг от друга они предложили новый способ понимания этого вида и его особых отношений с людьми. Адам Миклоши в университете имени Лоранда Этвёша в Будапеште, Венгрия, и Брайан Хэйр, в те времена студент университета Эмори в Атланте, штат Джорджия, а ныне профессор университета Дьюка в Северной Каролине, пришли к одинаковому выводу: собаки обладают уникальной формой разума, что позволяет им ладить с людьми так, как ни одно другое животное.
Сначала Хэйр исследовал социальный интеллект не собак, а шимпанзе. Являясь нашими ближайшими родственниками в царстве животных, шимпанзе представляют собой единственный компетентный вид для любого, кто хочет понять, что делает способности восприятия человека уникальными. Вековая загадка о том, что выделяет людей в царстве животных, не давала покоя Хэйру. Еще со времен Дарвина ученые пытались выяснить, в чем заключается различие между человеческим сознанием и разумом других видов. Типичный подход к этой проблеме звучит так: если вы полагаете, что обнаружили что-то, что присуще только людям, проверьте на шимпанзе, и если окажется, что обезьяны не смогут этого сделать, то маловероятно, что любой другой вид, не так тесно связанный с людьми, сможет сделать то же.
В те времена Хэйр проводил исследования способности, которая для нас, людей, была крайне проста. Если я знаю, а вы нет, где спрятано что-то, что вам нужно, я могу рукой указать на его местонахождение. Хэйр хотел узнать, является ли это понимание уникальной способностью человека или же и другие виды, как, например, шимпанзе, могут понимать смысл простого указательного жеста.
Эксперимент Хэйра был простым. Он брал две перевернутые кружки и, используя заслонки таким образом, чтобы шимпанзе не могли ничего видеть, прятал кусочек еды под одной из них. После этого, убрав заслонку, Хэйр указывал на одну из кружек, под которой была спрятана еда. Если шимпанзе выбирала кружку с едой, это означало, что она понимала значение человеческого жеста.
Как оказалось, шимпанзе Хэйра выбирали наугад. Для них это было настолько же сложно, насколько проста эта задача для нас.
Неудача шимпанзе показалась Хейру странной, потому что он чувствовал уверенность в том, что его собака могла бы успешно справиться с этим заданием. Но когда он рассказал об этом Майклу Томаселло, своему наставнику, тот убедил его, что на самом деле нет ни одного шанса и для собаки (у нее мозг с грецкий орех!) справиться с заданием, в котором шимпанзе потерпели неудачу.
Случилось так, что в следующий раз, будучи дома со своей собакой Орео, Хэйр решил провести эксперимент. Он поставил на пол две перевернутые чашки, по одной с каждой стороны от себя. Его собака терпеливо ждала, пока Хэйр спрячет кусочек еды под одну из чашек и сделает вид, что спрятал такой же кусочек под другую. Затем он указал на чашку с едой, и Орео без колебаний побежал прямо к ней.
Хэйр был убежден, что его собака не унюхала, где спрятана еда. В противном случае Орео сразу бы направился к чашке, но он и с места не двинулся до тех пор, пока Хэйр, стоя между двумя чашками, не указал на одну из них. Выглядело действительно так, будто Орео был способен понять указательный жест Хэйра. То есть домашний питомец с маленьким мозгом преуспел там, где шимпанзе, более близкий родственник человека и с мозгом крупнее, потерпел неудачу.
Затем Хэйр отправился в волчий заповедник в Массачусетсе и провел аналогичные тесты на нескольких волках, выращенных людьми. Все собаки происходят от волков, поэтому, проводя тесты на их диких сородичах, Хэйр проверял, являлась ли способность собак успешно справляться с этим заданием унаследованной от своих предков или же она возникла в результате эволюции.
Результаты исследований волков Хэйра предполагают, что собаки действительно уникальны в этом отношении. Он обнаружил: волки не имели никакого понятия о том, что означал его жест. Столкнувшись с указательным жестом Хэйра, дикие братья собак оказались столь же невежественны, как и шимпанзе.
На другом конце света венгерский ученый Адам Миклоши, независимо от Брайана Хэйра, проводил почти такой же эксперимент и делал почти такие же выводы. И если путь изучения собак Хэйра можно обозначить как «вниз от обезьян», то путь Миклоши скорее характеризуется как «вверх от рыб».
Миклоши был этнологом — ученым, занимающимся изучением поведения животных в их естественной среде обитания, и изначально лаборатория, в которой он работал, специализировалась на исследовании рыб. Но в середине 1990-х директор решил, что настало время исследовать животное, которое бы имело прямое отношение к жизни людей, и Миклоши переключил свое внимание на собак. Его исследовательская группа интересовалась вопросом психологического и поведенческого развития собак и людей для понимания друг друга.
Не имея понятия о том, чем занимались Хэйр и Орео в Атланте, Миклоши и его ученики, независимо от своих американских коллег, прошли такой же точно путь в Будапеште. Сначала они провели тесты на способность домашних животных следовать указательным жестам людей, и результаты были успешными. Затем они вырастили нескольких волчат в домашних условиях и поставили эксперименты на них. Но волкам не удавалось обнаружить еду по движениям рук.
После анализа этих исследований и других, им подобных, Хэйр пришел к выводу, что у собак есть генетическая предрасположенность к пониманию коммуникативных намерений людей и их мышления, сформировавшаяся на протяжении тысячелетий, которые они прожили бок о бок рядом с нами. Эта способность, как утверждал Хэйр, является неотъемлемым правом по рождению каждого щенка и спонтанно развивается у каждого из них, даже безо всякого опыта общения с людьми и наблюдения за тем, что мы делаем. Хэйр не отрицал: есть вероятность научить и представителей другого вида подражать аспектам того, что делают собаки, но только собаки уже рождены с тем, чтобы понимать людей таким образом. Именно это является принципиальным различием между ними и любым другим животным на нашей планете.
Когда Хэйр впервые опубликовал свои умозаключения в 2002 году, я был чрезвычайно взволнован. Я находился на той ступени своей карьеры, которая способствует движению вперед, к открытию чего-то совершенно нового. В тот год я прибыл в Соединенные Штаты в качестве младшего профессора факультета психологии в университете Флориды. Предыдущее десятилетие я провел на факультете университета Западной Австралии, где изучал поведение сумчатых на примере жирнохвостой сумчатой мыши[2].
Переезд во Флориду был захватывающим, но он означал, что мне следовало забыть о сумчатых, столь увлекших меня. Я еще не задумывался над тем, чем буду заниматься, а исследования Хэйра заслуживали того, чтобы обратить на них особое внимание. Они начали появляться в научной литературе примерно в то же время, что и первые статьи, предлагающие проводить анализ ДНК собак. Вклад ученых-генетиков добавил еще один увлекательный аспект в обсуждение уникальности собак.
Генетики оценивают возраст вида, сравнивая генетический материал его представителей с материалом близкородственного вида. Исследования, проведенные в Швеции, Китае и Соединенных Штатах, ясно продемонстрировали, что процесс одомашнивания собаки по меркам эволюции был чрезвычайно быстрым. Вместо миллионов лет, необходимых для заметных изменений у крупных и долгоживущих видов, таких как, например, самый непосредственный предок собаки — волк, собаки появились в течение, самое большее, нескольких десятков тысяч лет. Волки обычно размножаются один раз в год и достигают половой зрелости лишь ко второму году жизни. Может показаться странным, но по сравнению с большинством животных это очень медленный жизненный цикл. Скорость эволюции обязательно связана с тем, сколько времени понадобится отдельным особям для воспроизведения следующего поколения своего вида. Так, животное, которое может производить новое поколение лишь один раз в два года, будет эволюционировать очень медленно.
Эти две параллельные нити исследования начали переплетаться у меня в голове. Если собаки действительно были наделены уникальной способностью к врожденному пониманию людей, как утверждал Хэйр, тогда они, должно быть, приобрели такую способность в мгновение эволюционного ока. Я начал задаваться вопросом: как же им это удалось за столь небольшой отрезок времени?
Как только этот вопрос сформировался у меня в голове, мне на помощь пришла моя студентка. У Моники Уделл имелся опыт как в психологии, так и в биологии. Помимо того, она обладала огромной способностью к тяжелой и кропотливой работе. Важно отметить, что Моника была готова рискнуть и начать писать докторскую диссертацию под руководством наставника, который хотел исследовать виды, прежде никогда им не изучаемые. Работая вместе, мы с Моникой начали исследовать значение этих увлекательных новых открытий об эволюции и восприятии собак.
Мы решили повторить эксперимент Миклоши и Хэйра с участием нескольких домашних собак. Сделать это оказалось довольно легко, и результаты нашего исследования полностью совпали с результатами Миклоши и Хэйра: домашние собаки действительно очень чувствительны к действиям и намерениям человека. Мы прятали еду под одним из двух контейнеров на полу, и, когда Моника указывала на контейнер со спрятанным угощением, собаки бежали именно к нему. Выглядело так, будто они тоже уже читали научные статьи[3].
Хотя полученные результаты в точности соответствовали тому, что Хэйр и Миклоши говорили о собаках, мы не ответили на более важные вопросы. Что способствовало быстрому развитию у собак способности понимать человеческие жесты? Как они приобрели этот навык?
Не успели мы с Моникой обратить внимание на эту проблему, как возможность изучить ее неожиданно появилась в виде приглашения со стороны администрации исследовательского центра Волчьего парка, расположенного в Индиане. Они хотели, чтобы мы приехали и провели исследования на их волках.
Научная деятельность университетского профессора не требует от него наличия физической силы и смелости, поэтому мне не стыдно признать, что я в значительной степени испытывал трепет, когда сидел в учебном здании Волчьего парка, слушая куратора Пэта Гудмана, пока он читал обязательную лекцию о требованиях безопасности при обращении с волками.
Правила общения с обитателями Волчьего парка довольно просты: вы не должны смотреть прямо на волка, но вам также не следует ни на секунду отводить от него взгляда. Важно не делать резких движений, но и не стоять на месте, когда ваши руки произвольно свисают вдоль туловища. Как пояснил Пэт, если вы долго находитесь в неподвижном положении, волки могут принять вас за жевательную игрушку, а это чревато весьма неприятными последствиями. Но самое главное, как объяснил нам Пэт, это не споткнуться о бревно и не угодить в кроличью нору.
Потрясенный до глубины души часовым изложением этих неутешительных прогнозов о том, что серый волк весом в двести фунтов[4] может сделать с маленьким профессором психологии, я наконец был готов встретиться с предметом моих исследований. Настало время укутаться потеплее в этот холодный сентябрьский день и спуститься к волчьему загону.
Волчий парк представляет собой оазис разворачивающегося перед взглядом прятного пейзажа на бескрайних просторах центральной Индианы. Вплоть до самого входа в парк нет ничего, кроме равнин, но земля, на которой он расположен, радует разнообразием рельефа местности с ручьем, несколькими лесистыми закоулками и прекрасным большим озером, где могут играть волки. Будучи одним из немногих участков с деревьями среди тысячи акров сои и кукурузы, он служит убежищем и для птиц, которые дополняют чудесный пейзаж прекрасным звуковым сопровождением.
Это действительно великолепное место, но должен признаться, что во время первого посещения мне не удалось в полной мере насладиться его красотами — настолько я был сосредоточен на крупных плотоядных животных, в чей дом собирался войти.
Момент истины — и ужаса — наконец наступил, когда мы с Моникой вошли в загон для волков. Не успел я пройти через ворота в ограждении из проволочной сетки, как один из старых волков, Ренки, подошел ко мне. Прежде чем я вынул руки из карманов, он положил обе свои лапы мне на плечи.
Я лишь подумал: «Прощай, прекрасный мир», как неожиданно Ренки лизнул меня сначала в одну, а затем и в другую щеку.
В мгновение я понял, каково это быть принятым в волчью стаю, и почувствовал невероятное облегчение. Я постоял так еще немного, знакомясь с моими новыми товарищами и предметом моих исследований. Наконец, как только я почувствовал себя достаточно комфортно рядом с волками, и стало ясно, что они не возмущены моим присутствием, я приступил к выполнению теста, который привел меня в Волчий парк.
Посвящение автора в стаю в Волчьем парке
Мы с Моникой были приглашены в парк после того, как его сотрудники познакомились с новыми исследованиями, проведенными в лабораториях Брайана Хэйра и Адама Миклоши. Они были категорически не согласны с утверждением ученых, что только собаки обладают уникальной способностью распознавать и реагировать на определенные действия человека и что этого не может ни одно другое животное, включая волков.
Трепетное отношение персонала к своим питомцам заставило их обратиться к нам с предложением провести исследование на волках. Они разводят в парке волчат с 1974 года, выступая в роли суррогатных родителей и воспитывая их таким образом, чтобы эти дикие животные воспринимали людей как социальных компаньонов. Главный куратор Пэт Гудман и основатель Волчьего парка Эрих Клингхаммер усовершенствовали методы, которые включают в себя удержание человеческой «матери» со щенками двадцать четыре часа семь дней в неделю на протяжении первых нескольких недель жизни. Подрастая, волки воспринимают людей вокруг как часть социальной структуры своей жизни. Пэт и многие другие сотрудники Волчьего парка имеют дома собак, так что они проводят рабочее время с волками, а свободное — с собаками. Это позволяет им лучше почувствовать сходства и различия между выращенными человеком волками и собаками.
Наблюдая за животными, они пришли к выводу, что ученые, скорее всего, ошибаются, так как волки, с которыми они проводили свое дневное время, были столь же чувствительны к тому, что делают люди, как и собаки, к которым они приходили домой по вечерам.
Хэйр и Миклоши проводили эксперименты с волками и независимо друг от друга пришли к выводу, что они не способны понимать человеческие жесты. У меня не было причин не доверять этим выводам, тем более что они были получены в независимых лабораториях на противоположных концах Атлантики. Но мне и самому хотелось провести подобные исследования с волками, а скептицизм персонала Волчьего парка только раззадорил мое любопытство.
Раньше я никогда не видел волков вблизи и был крайне впечатлен как их пугающей мощью, так и очевидным интеллектом. Эти волки были размером с самых крупных собак. При виде их мне пришла в голову мысль о таких массивных породах, как, например, ирландские волкодавы. Но в отличие от крупных собак, которые, как правило, имели замедленную реакцию, серые волки быстрые. Настолько быстрые, что попавшего к ним в загон кролика убивали мгновенно, как настоящие профессионалы.
Их общительность поражала не меньше, чем их мощь. Волки прекрасно взаимодействовали друг с другом и с людьми, которых хорошо знают. Наблюдать за ними — одно удовольствие, не говоря уже о том, чтобы непосредственно общаться. Поэтому я чувствовал себя по-настоящему польщенным тем, что волки пустили меня в свою жизнь.
И все же я понимал: осмотрительность является лучшей чертой научной добродетели. Поговорив с персоналом, пройдя урок безопасности и рискнув войти в загон для знакомства с самими волками, мы с Моникой решили не испытывать больше судьбу. Мы вышли за ограждение и позволили людям, которые были больше знакомы с животными, провести для нас первый раунд эксперимента. Вместо того чтобы заправлять чаши приманкой и выполнять указывающие жесты самим, мы выкрикивали инструкции трем сотрудникам Волчьего парка, проводившим эксперимент. Мы все согласились: так будет безопаснее и с большей вероятностью раскроет истинные возможности волков. Я и Моника надеялись, что со временем, когда волки будут чувствовать себя с нами комфортнее, мы сможем проводить такую работу самостоятельно, но во время первого посещения хотели позволить волкам поработать с людьми, которых они хорошо знали.
Несколько стажеров помогли очистить от мусора свободный участок загона, куда приводили волков для проведения теста. Пэт Гудман и двое его сотрудников по очереди исполняли одну из трех ролей: стоять между двумя контейнерами и указывать на один из них; стоять на расстоянии около десяти футов, чтобы затем приманить волка на исходную позицию после проведения каждого теста, и просто присутствовать на площадке, чтобы убедиться, что все в безопасности.
Мы с Моникой озвучивали инструкции через ограждение и обеспечивали бесстрашных коллег маленькими кусочками сырокопченой колбасы, которыми они поощряли волков за правильный выбор. А также по завершении исследования выманивали их из загона.
Для того чтобы приступить к исследованию, потребовалось немного времени. Будучи заранее проинструктированы, все работали слаженно, каждый четко выполнял отведенную ему часть работы. Вскоре появились первые результаты, и мы с Моникой были буквально ошеломлены: волки были так же хороши при выполнении этой задачи, как и собаки с лучшими показателями.
В одно мгновение все перевернулось с ног на голову. Приступая к исследованию, я хотел лишь лично убедиться в правильности выводов Хейра и Миклоши о существенном различии между когнитивными способностями собак и волков. Но в ходе эксперимента я раз за разом их опровергал.
Для такого ученого, как я, который всю жизнь ищет ответы на непростые вопросы, подобные моменты вызывают острые ощущения радости и удовлетворения. А если учесть, что открытие совпало с днем моего рождения, то надо признать, что оно стало самым запоминающимся подарком, который я когда-либо получал. Разумеется, не считая Ксифос.
Как только я справился с первоначальным волнением от этого поразительного заключения, мы провели ряд экспериментов на других волках — результат был неизменным. Эти волки могли отслеживать указательные жесты человека так же хорошо, как и любая собака.
На обратном пути во Флориду мы с Моникой размышляли над возможными причинами расхождения между нашими наблюдениями и теорией Брайана Хэйра о врожденном «гении» собак. Под этим термином следует понимать особую чувствительность собак к людям, сформировавшуюся в процессе эволюции, или одомашнивания. Безусловно, эволюция является важным фактором, но определенно существует еще некий компонент, который лежит в основе всего, что делает животное, и отвечает за способность собак понимать и соответствующим образом реагировать на человеческие жесты. И это скорее воспитание, нежели природа.
Эволюция есть результат естественного отбора, процесса, посредством которого меняются виды, из-за того что отдельные организмы рождаются с различными наборами генетических признаков, позволяющих отдельным особям выживать лучше остальных и давать больше потомства в следующем поколении. На протяжении бесчисленных поколений некоторые признаки отбираются и передаются, обеспечивая вид уникальным калейдоскопом. Среди них анатомические и когнитивные особенности, такие как интеллект, закладывающие основу для типичного поведения этого вида.
Одомашнивание является особым случаем эволюции и его механизм послужил причиной научных споров. Дарвин, познакомивший мир с концепцией эволюции, полагал, что животные стали одомашненными, когда люди выбрали для разведения тех из них, которые были наиболее полезны. Со временем, согласно теории Дарвина, эта практика породила совершенно новые виды. Он назвал процесс одомашнивания искусственным отбором — в противоположность естественному отбору. Этот термин он придумал для обозначения того, что происходит, когда силы природы решают, кому жить, а кому умирать.
Сегодня мы не можем с уверенностью сказать, происходило ли одомашнивание животных только под влиянием человека. Более вероятным кажется, что не последнюю роль в этом процессе сыграл естественный отбор. Но независимо от того, происходит одомашнивание в результате искусственного или естественного отбора, оно является формой эволюции — процессом, посредством которого животные изменяются от поколения к поколению в результате выбора наиболее жизнеспособных особей для передачи своих генов. Эволюция сама по себе не способна создать дружелюбное животное, которое могло бы стать надежным спутником человека. Она никогда не сможет в полной мере объяснить уникальный набор когнитивных и поведенческих особенностей, который мы часто называем «личностью», определенной собаки. Хотя эволюция и устанавливает программу для живого существа, она не может контролировать выполнение этой программы. Каждое отдельное животное является продуктом генетической информации, получаемой в результате определенного опыта, приобретаемого отдельной особью по мере своего развития. Следовательно, эволюция сама по себе не может создать дружелюбную собаку.
Равно в той степени, в которой ноги, дающие нам способность ходить, — это часть нашего эволюционного наследия, ее частью являются и структуры мозга, порождающие нашу личность. И то, что верно для нас, верно и для наших собак: они наследуют структуры мозга, которые подготавливают их к возможности вступить в отношения с людьми. Но тот факт, что у моей собаки сформировались определенные отношения со мной и что она чувствительна к действиям близких ей людей, не является следствием лишь эволюции ее вида. Важно и то, выросла ли она в мире, который обеспечил ей возможности развить качества, определяющие ее как личность.
Таким образом, опыт — еще один фактор, который формирует поведение и разум собаки. Ни один щенок или котенок, или детеныш любого другого одомашненного вида, не рождается ручным. Прирученность следует узнать каждой отдельной особи в ее собственной жизни. Самый милый щенок вырастет диким зверем, если он никогда в ранний период своей жизни не имел дело с людьми. Еще в 1960-х годах были проведены эксперименты, установившие этот факт. В лаборатории в Бар-Харборе, штат Мэн, Джон Пол Скотт и Джон Л. Фуллер выращивали щенков собак, лишая их возможности общаться с людьми на протяжении первых четырнадцати недель жизни. И когда щенки вырастали и принимали участие в тестировании в качестве взрослых особей, то вели себя, по словам ученых, как дикие животные, к которым нельзя было приблизиться.
Биологи называют нашу историю эволюции филогенезом, а нашу личную историю жизни — онтогенезом. Прописной истиной в биологии и психологии является тот факт, что каждый человек есть продукт комбинации филогенеза и онтогенеза. Ни один из нас не был бы столь привлекательным, умным и обаятельным, не говоря уже о скромности, какими мы все, в сущности, являемся, если бы не история эволюции, заложившая основу для жизненного опыта, благодаря которому мы стали тем, чем стали. Это справедливо и в отношении собак, каждая из которых имеет свои, присущие только ей личные качества. Позитивные качества отдельной особи помогают ей стать подходящим спутником для человека благодаря в равной степени генетическому фонду и среде, где она выросла.
Мысль о том, что поведение и интеллект собак обусловлены как одомашниванием, так и опытом, легла в основу научного спора в области изучения когнитивных способностей семейства псовых, в который мы с Моникой невольно оказались вовлечены. С одной стороны были такие ученые, как Хэйр и Миклоши, утверждавшие, что способность собак понимать людей обусловлена уникальной когнитивной способностью — частью права по рождению каждой собаки, не зависящей ни от какого жизненного опыта. С другой стороны находились ученые вроде Моники и меня, полагавшие, что надлежащий жизненный опыт, равно как и право генетического фонда, играет ключевую роль в предоставлении собакам возможности быть компаньонами для людей.
Наше неприятие точки зрения об уникальной роли врожденной способности в распознавании смысла того, что делают люди, разделяли не все, причем не только в научных кругах. После того как мы опубликовали результаты нашего исследования в Волчьем парке, журналист назвал меня Дебби Даунер[5] в вопросах изучения когнитивных способностей собачьих.
Справившись с обидой, я осознал, что мне необходимо разобраться в этом вопросе. Как я, человек, который глубоко заботился об умах животных и посвятил свою жизнь их изучению, приобрел столь негативную репутацию сомневающегося в их когнитивных способностях? Я чувствовал, что меня неправильно поняли, и испытывал обиду, ведь моя симпатия к собакам поставила меня в такое положение, будто я их унижал.
Я мог наблюдать, как для людей, которые совсем меня не знают, я казался тем, кто говорит, мол, в собаках нет ничего примечательного. Но я не пытался отрицать, что в них есть нечто особенное. Как раз наоборот: именно уникальная связь собак и людей в первую очередь привлекла меня к ним как к предмету исследования. Как и любящим своих питомцев сотрудникам Волчьего парка, мне следовало смотреть не дальше стен собственной гостиной, где Ксифос часто дружески устраивалась на диване рядом со мной, пока я читал последние научные статьи в прессе, отслеживая нарастающую шумиху вокруг нашего с Моникой исследования, — чтобы найти вдохновение и мотивацию для ежедневной работы.
Было очевидно, что меня неправильно поняли. Как человек, я всегда восторгался неподдельным дружелюбием и бескорыстной преданностью, с которой собаки относятся к людям. Как ученого — подкупала их уникальная способность понимать людей и устанавливать с ними тесные дружеские связи, что в общем-то и сподвигло меня всерьез заняться исследованием их когнитивных способностей.
Ради научной объективности я не мог поступиться своими взглядами и убеждениями, подтвержденными нашими с Моникой экспериментами, в угоду популярной прессе, поднявшей шумиху вокруг этого вопроса.
Я понял, что мне нужно последовать примеру сотрудников Волчьего парка, абстрагироваться и черпать вдохновение для дальнейшей работы в наших с Ксифос дружеских посиделках на диване в гостиной.
В том, что собаки уникальны, я никогда не сомневался. Напротив, я всячески пропагандировал это свое убеждение и доказывал его справедливость на практике.
Когда речь заходила о благополучии собак, личные обиды отходили на второй план. Я был полон решимости и дальше продолжать исследования, чтобы докопаться до сути того, что делает их уникальными, поскольку понимал всю важность нашей работы прежде всего для самих собак.
Собаки уникальны; по поводу этого у меня нет вопросов. Я просто скептически относился к господствующей теории о том, что делало их такими особенными. Как ученый, я был готов носить этот ярлык «Дебби Даунер» как символ гордости; я не собирался позволить себе взгляды на собак, которые просто не мог принять. Как любитель собак, я был полон решимости докопаться до сути того, что делает этих животных уникальными. По мере того как я все больше узнавал о когнитивных способностях собак и их жизни в человеческом обществе, я начинал понимать, что споры, охватившие эту область, не были просто академическими прениями. На карту было поставлено многое, и в первую очередь для самих собак.
Тест по проверке способности собак и волков отслеживать человеческие жесты мы с Моникой и нашим хорошим другом и коллегой Николь Дори провели около нашей домашней базы в Гейнсвилле, Флорида. Но результаты оказались не очень…
Ни одна из приютских животин во время этого эксперимента так и не поняла, что подразумевалось под жестом, указывающим на контейнер на полу. Все они безучастно смотрели на Монику, пока та стояла между двумя контейнерами, ожидая, когда же собака сделает выбор. Иногда та или иная псина подходила к ней и садилась рядом, заискивающе глядя в глаза и пытаясь выпросить угощение, которое, как она знала, было у Моники. Некоторые же собаки просто уходили, ища занятие поинтереснее.
Поначалу мы предположили: возможно, эти животные пережили травму при первых своих попытках общения с людьми и не верили, что Моника действительно собирается сделать для них что-то хорошее. Мы учли тот факт, что в приютах содержится много собак, вера которых в человека была подорвана, и для своего исследования отобрали лишь расположенных к людям и любившим их — по нашим наблюдениям. К тому же мы заранее забрали своих подопытных из питомника, поиграли, приласкали, вкусно накормили, но собаки по-прежнему не понимали значения жестов Моники, работавшей с ними.
Таким образом, теория об уникальности собак на примере подопечных питомника имела крайне неутешительные выводы. Если принять во внимание тот факт, что все собаки появляются на свет с врожденной способностью понимать действия и намерения людей, как утверждают Брайан Хэйр и его коллеги, то те из них, которые, судя по всему, не способны понять человеческие намерения, должно быть, обладают серьезной нехваткой когнитивных способностей, и это мешает им в полной мере осознать свой эволюционный потенциал. Иными словами, если способность понимать человеческие жесты врожденная, тогда и неспособность также должна быть врожденной. Получается, что какие-то собаки меньше подходят на роль компаньонов. Видимо, такими и оказались обитатели приюта, отобранные нами в качестве подопытных.
Результаты, полученные Моникой и Николь в нашем местном приюте, где ни одна собака не смогла отследить их жесты, могли привести к ужасным последствиям для многих животных. В те времена эвтаназия домашних питомцев, которых не могли принять в семьи из-за их неадекватности, все еще практиковалась в этом учреждении, как, впрочем, и в аналогичных приютах по всей стране и по всему миру.
И сейчас еще миллионы собак ежегодно становятся жертвами этой процедуры, потому что им не могут найти дом. Любые качества, которые могут определить, остается ли собака в приюте или же едет в семью, в буквальном смысле являются для них жизненной необходимостью.
Для кинологов и любителей собак, таких как Моника, я и Николь, нет ничего более важного, чем понять то, как собаки начинают жить полноценной жизнью в домах людей.
Мы были полны решимости докопаться до причин неполноценности этих бедных щенков в приюте. У них отсутствовал ген, отвечающий за понимание людей, что делало их неспособными интерпретировать наши жесты? Или же проблема заключается в их онтогенезе, в их личной истории, в негативном опыте, сделавшем и их неспособными понять значение жеста Моники? Ответы на эти вопросы могли бы помочь нам объяснить их недостатки. А это в свою очередь указало бы, как решить проблему.
Точно зная, что эти собаки способны научиться понимать значение человеческих жестов, к ним можно было бы применить простой принцип дрессировки, который бы помог им. Если вы видите, что что-то заинтересовало вашу собаку — любой съедобный кусочек, мячик и прочее подобное, вы указываете на этот предмет, чтобы помочь ей найти его, а затем, при успешном результате, поощряете. На языке науки это означает, что действие, которое только что совершила собака, было закреплено. И все, что мы знаем о поведении животных на сегодняшний день, говорит о том, что закрепленные поведенческие действия с большей вероятностью повторятся в будущем.
Мы пришли к выводу, что этого простого поведенческого механизма вполне может быть достаточно, чтобы собаки могли научиться отслеживать указательные жесты человека. Если бы какая-нибудь из подопытных собак нашла угощение, следуя указательному жесту Моники (пусть в первый раз и случайно), то в дальнейшем она была бы более склонна отслеживать жесты Моники. Отсюда следует, что с животными в приюте все в порядке. И, возможно, они были неспособны понимать человеческие жесты просто потому, что у них было мало опыта общения с людьми, именно такого, когда бы им указывали на предметы. Или у собак не было даже возможности научиться этому. Или они просто забыли, что означают человеческие жесты…
Поэтому все, что нам нужно было сделать, так это вернуться в приют и проверить, возможно ли развить у собак путем дрессировки такую способность. Все просто: требовалось указать на контейнер с едой и показать псине, какой получится результат, если она к нему подойдет. Отрицательный эксперимент означал бы правоту Хэйра в том, что собаки обладают врожденной развитой способностью понимать человеческие жесты — унаследованным качеством, но оно по каким-то причинам отсутствует у некоторых из них. Удачный же результат позволил бы утверждать, что животные учатся следовать человеческим указательным жестам только на своем личном опыте, именно с этими жестами и с помощью методики с закрепленными действиями. То есть способность собак понимать человеческие жесты является приобретенной, а не врожденной, и они, таким образом, ничем не отличаются в этом отношении от других животных. Тогда причины их исключительной связи с людьми нужно искать в другом месте.
Я предложил Монике и Николь попробовать поработать с каждой собакой в приюте на протяжении всего дня, чтобы проверить, смогут ли они научить животных понимать значение указаний человека. Но, как оказалось, достаточно было и менее получаса для получения впечатляющего результата: двенадцать из четырнадцати наших подопытных научились следовать человеческим указательным жестам за это короткое время. Более того, среднее время, которое потребовалось каждой из двенадцати успешных собак, чтобы научиться идти туда, куда ей указывают жестом, составило всего десять минут. Только десять минут, и собака, до этого считавшаяся необучаемой, начинала послушно следовать жесту человека!
Было совершенно очевидно: питомцы приюта небезнадежны, их можно спасти! Наше открытие показало, что нужно удвоить усилия, направленные на понимание поведения и когнитивных способностей собак. Нам еще многое предстояло узнать о том, что делает собаку, не побоюсь этого слова, лучшим компаньоном человека. Мы понимали, что наши усилия могут сделать их жизнь более благополучной, но для этого нужно было понять, что именно отличает собак от других животных. Указательный жест является одним из многих способов, с помощью которых люди общаются с собаками. И та разновидность социально-когнитивного интеллекта, которую Брайан Хэйр, Адам Миклоши и их коллеги выделили как уникальную для собак — лишь одна из причин для того, чтобы люди по-особому смотрели на этих животных.
Да, мы с Моникой и Николь доказали, что собаки приобретают способность понимать человеческие жесты, а не наследуют ее, но мы не опровергли тот факт, что существуют и другие формы собачьего интеллекта, способные объяснить уникальную связь между ними и людьми. Прежде чем двигаться дальше, нам следовало выяснить, что представляют собой эти другие типы интеллекта.
Спросите любого собачника, и он сможет вспомнить имя хотя бы одного из своих питомцев с исключительным интеллектом. В моем случае этим образчиком была бы не Ксифос — прости, дорогая, — а Бенджи, пес моего детства. Многие считали его смышленой собакой, и он вполне оправдывал это мнение, когда сбегал с заднего двора нашего дома, находя для этого немыслимые лазейки, чтобы порезвиться на просторе.
Мы с Бенджи прошли период взросления примерно в одно и то же время, но пока я превращался в прыщавого косноязычного ботаника, он в это время становился ловеласом, чувствовавшим себя как рыба в воде в окружении местных «дам». На его ошейнике было написано: «Привет, я Бенджи. Мой номер телефона — Шанклин, 2371». Но мы обычно шутили, что если бы была его воля, то на ярлычке можно было бы прочесть совсем другое: «Привет, дорогуша, как тебя зовут? Не дашь ли мне свой номер телефона?» При этом нам казалось, говорить он должен с акцентом кокни[6], потому что для нас он всегда был симпатичным повесой, очень милым, но с крайне сомнительной репутацией.
Бенджи являлся одной из тех относительно маленьких, но очень гибких и проворных собак, которые могли не только протиснуться через самую узкую щель в заборе, но и перепрыгнуть через чрезвычайно высокую (для их роста) стену. Ну и, конечно же, его склонности к амурным похождениям способствовал и тот факт, что он был не кастрирован. Моей маме никогда не нравилось это слово, а отец и вовсе полагал, что своими собачьими делами собаки должны заниматься сами. Бенджи такое положение вещей вполне устраивало, поэтому всякий раз, когда до него доносился запах «дамы», готовой уступить его ухаживаниям, он мчался со всех ног и возвращался домой спустя несколько часов уставший, но счастливый.
Отлучки Бенджи к своим подружкам биологи сочли бы наиболее соответствующими разумному поведению животного. Для ученого побуждение к репродукции является одной из важнейших мотиваций в жизни, независимо от того, на какие уловки отваживается индивид для осуществления своей цели. Хотя справедливости ради надо сказать, что ни один непрофессионал не назвал бы стремление к размножению словом «разумный».
Животные в целом и собаки в частности, очевидно, обладают многими другими типами разума, определяющими поведение, больше соответствующее слову «интеллект», нежели желание выйти на улицу и спариться.
Особое мое расположение заслуживают собаки-ищейки, чья способность обнаруживать то, что скрыто от наших органов чувств, больше похожа на магию. Я в полном восторге от собак, которые могут почувствовать рак у человека или, к примеру, взрывные устройства, просто понюхав воздух. И если ищейки не занимают первое место в моем топ-листе самых умных собак, то лишь потому, что больше меня впечатляет их способность чувствовать запах вещей, а не их фактические навыки обучения и интеллект.
Самой умной собакой, какую я когда-либо знал, с самыми замечательными способностями к пониманию человеческих намерений была Чейсер. И это не только мое личное мнение. Бордер-колли классического черно-белого окраса, по версии Би-би-си[7] самая умная собака в мире, знала названия более двенадцати сотен игрушек. Чейсер родом из настоящих рабочих бордер-колли, таких, которых нужно постоянно чем-то занимать, чтобы они не устроили погром в доме и не разнесли в щепки мебель. Ее владелец, Джон Пилли, профессор психологии, выйдя на пенсию, нашел себе хобби. Как-то однажды Джон прочитал исследование немецких ученых о бордер-колли, знавшей наименования более трехсот различных объектов. Необычайно впечатлившись, профессор приобрел собаку этой породы, назвав ее Чейсер, потому что она любила охотиться за разными вещами[8]. Затем Джон решил установить пределы понимания собаками человеческого языка.
Когда в 2009 году я приехал к ним в одну из прекрасных провинций Южной Каролины, Джон и Чейсер работали вместе уже более трех лет. Джон держал огромный склад игрушек в больших пластиковых контейнерах в задних комнатах своего дома. Он предложил мне заглянуть туда и выбрать наугад десять игрушек (их можно было дарить и собакам, и маленьким детям). На каждой из них маркером было написано название. Джон попросил меня отметить их в блокноте, а затем отнести игрушки в дом и положить в гостиной на пол между диваном и стеной. Я так и сделал, а Джон с Чейсер вышли на веранду, чтобы собака не видела заранее, какие игрушки я принес.
Закончив приготовления, я позвал их в дом. Джон сел на диван, отвернувшись от игрушек, поставил перед собой большой пустой контейнер и подозвал Чейсер. Когда все уселись на свои места, Джон прочитал первое название из списка и попросил: «Чейсер, иди и принеси золотую рыбку». Собака, не знавшая, куда я положил игрушки, огляделась. «Золотая рыбка. Давай, Чейсер, принеси золотую рыбку», — повторил хозяин.
Чейсер начала ходить кругами, ища игрушки. Она быстро нашла их за диваном и, наклонив морду, начала искать среди всего прочего золотую рыбку. Казалось, что собака слегка близорука — так низко она склонялась над каждой игрушкой, пытаясь найти нужную. Чейсер действовала совсем как человек в подобной ситуации. И вот она подхватила одну из игрушек и побежала к Джону.
«Клади ее в коробку», — велел Джон, показывая на пластиковый контейнер, стоявший перед ним. Чейсер колебалась, явно не желая расставаться со своей находкой. «В коробку, — повторил Джон, — клади ее в коробку». Наконец Чейсер согласилась и опустила игрушку в контейнер.
«Хорошо, — сказал профессор, — давай посмотрим». Он поднял игрушку, прочитал ярлычок на ней. Джон буквально светился от радости: «Смотри, золотая рыбка! Она золотая, и это рыбка!»
С этими словами Джон швырнул игрушку через комнату, Чейсер с восторгом бросилась за ней и принесла обратно. Он снова ее бросил, и она снова принесла рыбку хозяину. Сложно сказать, кто из них получал большее удовольствие от этой забавы… но все же после нескольких пробежек туда и обратно Джон велел Чейсер положить игрушку в коробку и нежно потрепал ее по загривку, прежде чем перейти к следующему предмету.
И так они прошлись по всему моему списку. От золотой рыбки до робота Радара: Мудрая Сова, мистер Блинг, пупсик Фиоцци, Ширли, сундук с сокровищами, Бурундук и, наконец, Микки Маус. В большинстве случаев наградой для Чейсер служила возможность погоняться за игрушкой уже после того, как она находила ее и клала в коробку. Иногда Джон изменял порядок, дразня Чейсер, играя с ней в перетягивание. Каждый раз, когда собака приносила ему нужный предмет, он издавал радостное восклицание и опять начинал игру. Потом он трепал Чейсер любовно по голове и почесывал за ухом.
Никогда еще мои научные исследования не были такими приятными, как при наблюдении за совместной работой и игрой Джона и Чейсер.
Поскольку им это приносило такую неподдельную радость, я сходил в заднюю часть дома, принес еще десять игрушек, и мы повторили эксперимент. Чейсер принесла все игрушки правильно, поэтому мы повторили еще раз… и еще… Я забыл, как долго мы играли, но уверен, что Чейсер правильно принесла как минимум сотню названных ей предметов. Лишь однажды она совершила ошибку. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что Джон неверно прочитал написанное моим неразборчивым почерком, и собака, не найдя то, что он просил, но и не желая расстраивать любимого хозяина, принесла ему другую игрушку.
Джон перестал заниматься с Чейсер, когда они дошли примерно до двенадцати сотен — был уже не в состоянии вспомнить, какие игрушки у них уже есть, и приобретал некоторые повторно. Профессор с радостью придумывал имена этим игрушкам-двойникам и учил запоминать их Чейсер. А ей достаточно было одного раза, чтобы выучить новое слово. И лишь однажды Джон заметил, что у него две одинаковые игрушки с разными названиями. Вплоть до игрушки под номером 1200 Чейсер никогда не испытывала трудностей при изучении названия новой.
Я в то время был редактором научного журнала и настоял на том, чтобы Джон опубликовал в нем свои результаты. Его статья стала одной из самых читаемых, когда-либо появлявшейся на страницах Behavioural Processes. Джон продолжил работу. Он написал книгу, ставшую бестселлером, которая увековечила имя его замечательной собаки. Они даже успели появиться вместе на национальном телевидении, прежде чем Джон скончался от лейкемии в июне 2018 года, всего за несколько недель до своего девяностолетия.
Конечно, история Чейсер — это лишь единичный случай, но ее невероятный успех при изучении такого большого количества слов и тот факт, что она единственная собака, с которой Джон попробовал заниматься, предполагает: способность понимать язык человека заложена в любой собаке породы бордер-колли. Это подтверждается и тем, что в Германии есть собаки, чей словарный запас состоит из десятков и даже нескольких сотен наименований различных предметов. Среди них и та, что вдохновила Джона на столь длительный эксперимент с Чейсер — достойной представительницей бордер-колли.
На первый взгляд это похоже на доказательство того, что порода, к которой принадлежала Чейсер, наделена исключительным наследственным интеллектом. Но бордер-колли также исключительны благодаря другому своему качеству — они необычайно мотивированы к работе. Джон тренировал Чейсер около трех часов в день в течение трех лет, чтобы поднять ее на тот уровень, на котором она стала прекрасно понимать человеческий язык. И, скорее всего, часть секрета успеха Чейсер заключается в том, что для нее возможность гоняться за предметами была чрезвычайно полезной. У нее была сильная мотивация для изучения языка, потому что акт поиска каждой игрушки был закреплен.
Большинство собак можно поощрить едой, но существует ограничение по количеству угощений, которые целесообразно давать собаке. Животные, часто получающие лакомство, не могут тренироваться несколько часов в день. Они не просто будут сытыми, но очень быстро наберут лишний вес. Но собаку вроде Чейсер, замотивированную на работу возможностью погоняться за движущимся объектом, можно тренировать намного дольше каждый день. Люди, работающие с бордер-колли, знают, что им следует внимательно следить за состоянием и самочувствием своих подопечных. Эти собаки готовы работать буквально на износ, невзирая на травмы, если вы не будете бережно к ним относиться и вовремя останавливать. Такая безграничная энергия, такой фанатизм делают бордер-колли идеальным объектом для проектов подобного рода. Лишь у нескольких других пород собак рабочий энтузиазм находится на столь же высоком уровне.
Навыки Чейсер — несомненно, впечатляющие — были довольно простыми, и, возможно, в большей степени этим она обязана виртуозной дрессировке Джона Пилли, нежели своему собачьему интеллекту.
Со временем дрессировка Чейсера стала напоминать игру, когда взрослый человек называет ребенку предмет, который тому не знаком. Но здесь иной принцип.
Итак, игра начинается. У Джона есть новый предмет. Джон делает этот предмет чрезвычайно ценным для Чейсер, бросив его (чтобы могла побежать за ним и принести обратно хозяину) или играя с ней в перетягивание каната, где в качестве каната выступает данный предмет. Собака любит эту игру почти так же сильно, как и догонялки. Джон говорит что-то вроде: «Эй, Чейсер, иди принеси штуковину». Штуковина — это название нового предмета, которое собака должна заучить. Затем он бросает штуковину так далеко, насколько получится. В восторге от новой приятной возможности побежать за чем-то и принести своему хозяину, Чейсер со всех лап кидается за штуковиной. Затем Джон говорит: «Отдай штуковину Папаше», имея в виду себя. Чейсер входит в то восторженное состояние неуверенности, которое обычно проявляется у собак, любящих гоняться за игрушками, когда им приказывают бросить свою добычу. Следует ли Чейсер отдать ее и получить в качестве награды еще шанс погоняться за ней или ее позволят оставить как приз? В первом варианте присутствует определенный риск: Чейсер по прошлому опыту знает, что Папаша может убрать игрушку, и игра в догонялки на некоторое время прекратится. Поэтому Джон снова и снова продолжает улещивать свою любимицу: «Отдай штуковину Папаше», пока Чейсер ее не отдает. Затем он бросает ее снова: «Давай, Чейсер, иди принеси штуковину». И все повторяется.
В ситуации, подобной этой, когда в игре присутствует только один объект, большинство собак вряд ли обратит внимание на уникальный голосовой ярлык, используемый человеком по отношению к этому объекту. Но к тому времени, как я с ними познакомился, у Чейсер уже был трехгодичный опыт игры с Джоном, который время от времени усложнял игру, предлагая собаке отыскивать сразу несколько названных предметов. Он награждал ее возможностью поиграть в догонялки, если она приносила тот предмет, который он называл. Внимание собаки было сконцентрировано на каждой команде человека, поскольку за правильным ее выполнением непременно следовало поощрение, в какой бы форме оно ни выражалось.
Читатель, у которого есть собака, очень любящая игру в догонялки, и который обладает большим количеством свободного времени, может попробовать эту схему дрессировки и увидеть, насколько получится расширить словарный запас его питомца. К сожалению, моя Ксифос не интересовалась погоней за игрушками, если ее никто не преследовал, но я не настолько большой поклонник спортивных упражнений, чтобы попытаться научить собаку определенной лексике, гоняясь за ней по заднему двору три часа подряд.
Так что же на самом деле демонстрирует дрессировка Чейсер? Она показывает, что собака может провести ассоциацию между звуком, как, например, «штуковина», и предметом, и она знает: ее наградят за то, что она принесет этот предмет Джону. Такая форма ассоциирования вещей считается одним из основных строительных блоков интеллектуального поведения и встречается у всех видов животных, на которых когда-либо проверялась эта способность. Действительно, ассоциация является формой условного рефлекса, открытой великим русским ученым Иваном Петровичем Павловым более 120 лет назад и названной его именем.
Именно огромное количество звуков, которое Чейсер ассоциирует с определенными объектами, и делает ее исключительной. Добавление большего числа элементов в словарный запас Чейсер демонстрирует способность ее долгосрочной памяти, но не добавляет реальной интеллектуальной сложности к тому, что она делает. Поразительный словарный запас собаки является абсолютным свидетельством терпения Джона при ее дрессировке и желания самой собаки продолжать работать час за часом, день за днем, год за годом.
Это сказано не для того, чтобы преуменьшить достижения Чейсер, а просто чтобы рассматривать их в соответствующем контексте. Широкий спектр видов животных показал свои возможности создавать ассоциации, и некоторые из них, как выяснилось, демонстрируют прямо-таки подвиги при проявлении когнитивных способностей. И они намного более значимы, чем выстраивание ассоциаций между специфическими звуками и конкретными предметами (не говоря уже о проведении ассоциации между указательным жестом и кусочком пищи).
Так, голуби могут определить, что нарисовано на картинке: стул, цветок, машина или человек; дельфины понимают грамматику; пчелы сообщают своим товаркам о направлении и расстоянии до обнаруженного ими во время вылета медоноса и о его качестве.
Насколько мне известно, собаки не обладают ничем подобным. Более того, многих других животных можно надрессировать на выстраивание ассоциаций между действиями человека и результатами, что позволяет им, по-видимому, «считывать» намерения в поведении людей. Вероятно, наиболее удивительный пример этого (и, конечно, мои фавориты) — летучие мыши. Мой ученик Натан Холл (ныне профессор Техасского технического университета) провел исследование, дублирующее проведенную нами с Моникой Уделл работу, которая показала, как собаки следуют указательным жестам человека. Но Натан в отличие от нас работал с летучими мышами в заповеднике во Флориде. Эксперименты были в принципе такие же, какие мы ставили с собаками и волками. Основное различие заключалось в том, что вместо хождения по полу летучие мыши передвигались по проволочной сетке, натянутой вместо потолка в их помещениях. Следовательно, Натан указывал вверх на контейнеры, подвешенные к проволочному потолку, а не вниз на контейнер, стоящий на земле.
Этот эксперимент был особенно полезен для понимания того, что именно позволяло животным следовать человеческим жестам — генетическая наследственность (филогенез) или жизненный опыт (онтогенез), потому что примерно половина летучих мышей родилась и росла в заповеднике с матерью, а других туда подбросили люди, самостоятельно вырастившие их. Они просто хотели иметь дома небанальных питомцев. (Как и из большинства неодомашненных видов, из летучих мышей получаются паршивые ручные зверушки, и рано или поздно их хозяевам надоедает постоянно собирать повсюду мышиный помет и они избавляются от питомцев любыми способами).
Натан обнаружил, что летучие мыши, росшие с матерью, не понимают человеческие указательные жесты, но их собратья, выращенные людьми (что способствовало их пониманию того, что движение рук хозяев имеет важное значение), действительно отслеживали жесты. Его открытие стало мощной поддержкой теории, разработанной нами с Моникой.
Анализируя эксперименты, проведенные такими же учеными, как Натан и Джон, а также продолжая свои собственные исследования, мы с моими сотрудниками постепенно пришли к следующему выводу: то, что Хэйр называет «гением собак», на самом деле есть в каждом животном, которое воспитывалось людьми с раннего возраста. Поэтому способность следовать человеческим намерениям не может быть обусловлена генетическими изменениями, произошедшими в процессе одомашнивания, — мы наблюдали это у волков и многих других животных, ведших естественный образ жизни. Скорее, мы теперь убедились, что эта способность может развиваться у любых животных, выращенных людьми и зависящих от людей (жилище, еда, лечение и пр.).
Справедливости ради стоит отметить: способности собак выявлять ассоциации между действиями людей и последствиями, которые имеют значение для них самих, настолько искусны, что может показаться, будто собаки могут читать наши мысли.
Пожилой джентльмен однажды подошел ко мне после моего выступления перед общественной группой и сказал: «Думаю, вам будет интересно это узнать. Моя собака — экстрасенс». Разумеется, мне стало любопытно, хотя и насторожило. Оказалось, что причина, по которой мужчина считал свою собаку ясновидящей, заключалась в том, его маленькая Уэсти всегда точно знала, что он собирается пойти с ней на прогулку, когда он только поднимался со своего кресла — раньше, чем он надевал ботинки или тянулся за поводком.
Поверьте, у меня никогда не было возможности проверить данный факт, поэтому оставался маленький шанс, что Уэсти действительно обладала экстрасенсорными способностями. Но все же я полагаю, что эта собака, подобно моей Ксифос, просто заметила и запомнила движения хозяина, когда он поднимается с кресла, чтобы выполнить то или иное действие. Казалось, что Ксифос все уже знает в тот момент, когда я только вставал со своего рабочего места, — собираюсь ли я сделать себе кофе или вывести ее на прогулку по району. Хотя я сам и не замечаю, как делаю все это, но уверен, что мое поведение и, возможно, даже взгляд, говорят ей лучше любых слов о моих намерениях.
Собаки-ищейки со своей сверхъестественной способностью находить то, что скрыто от человека (зачастую от этого зависит жизнь и безопасность людей) — взрывчатку, наркотики, рак в организме, потерявшихся детей, также достигают своего поразительного мастерства посредством механизмов ассоциативного обучения. На протяжении многих месяцев кропотливо и терпеливо дрессировщик учит собаку тому, что выполнение определенного действия (сидеть, лаять либо то и другое одновременно), когда она слышит крайне важный запах, будет награждено: побегать за мячиком, или поиграть в перетягивание игрушки, или получить какое-нибудь лакомство.
Мы можем привести множество примеров тех невероятных вещей, на которые способны собаки: это и Уэсти, как будто заранее знающая, что ее хозяин сделает в следующий момент, и Чейсер, по команде выбирающая нужный предмет из нескольких сотен, и тысячи розыскных собак, чьи имена нам неизвестны, которые ежедневно обеспечивают нашу безопасность… Но тем не менее я не верю, что существует неоспоримое доказательство того, что интеллект собак — это нечто исключительное. Чейсер замечательна своей преданностью работе и особыми взаимоотношениями с Джоном Пилли. И джентльмен, хозяин Уэсти, якобы читавшей его мысли, тоже обладал сильной эмоциональной связью со своей собакой. И мы можем сказать, что в основе таких особенностей собачьего интеллекта лежат отношения между животным и его хозяином, а также желание собаки подчиняться человеку и согласие обучаться у него. На самом деле это не уникальный вид интеллекта. Других животных тоже можно путем дрессировки научить делать подобное — а в отдельных случаях и нечто более значительное, — если у вас на это хватит терпения.
Брайан Хэйр определенно был на верном пути, когда сказал, что собаки обладают некой гениальностью. Собака, живущая в теплом доме, где она зависит от своего хозяина во всем, что необходимо для жизни: еда, вода, кров, отправление естественных надобностей, — будет крайне внимательна и чувствительна к любым его действиям. Это совершенно бесспорно. Многие из нас наблюдают это в повседневной жизни, когда кажется, будто собака читает наши мысли только потому, что она знает, для чего вы встаете с места — налить кофе или пойти с ней на прогулку. Разумеется, собаки это могут, и это умение является основой того, что делает нашу совместную жизнь такой комфортной и приносящей взаимную радость.
Проведенные мной и моими учениками исследования показали: собаки понимают смысл наших действий потому, что они живут с нами, а не потому, что им присуща какая-то врожденная гениальная способность понимать людей.
Наши отдельные движения позволяют собакам предугадывать наши дальнейшие действия. Таким образом они учатся считывать значение поведения человека. У животных это не от рождения. И действительно, собаки, живущие в приютах, не будут делать этого наверняка, хотя при желании и способны быстро научиться. Более того, и другие представители фауны тоже в состоянии научиться. Список видов животных, которые могут следовать человеческим намерениям, сейчас увеличился: в него входят, например, лошади и козы, а также те, кто никогда не рассматривался в качестве домашних животных (дельфины). Недавно я разговаривал с коллегами из Швеции, разводившими ланей. Зная мой интерес к этим вопросам, они с удовольствием рассказали о том, как их лани теперь следуют указательным жестам человека.
Учитывая все это, становится ясно: то, что мы видим в наших собственных собаках, является не умом, а скорее результатом феноменальной связи между человеком и собакой. Интенсивность этой связи позволяет собакам и их хозяевам так тесно сотрудничать, а когда люди очень терпеливые, а их питомцы высоко замотивированные, то даже давать некоторые совершенно удивительные представления.
Но где же находится источник такой феноменальной связи между собаками и людьми? И хотя проведенные исследования в Волчьем парке и в местном приюте для животных не убедили меня в наличии у собак исключительной формы интеллекта, я не мог отделаться от чувства, что в них было нечто особенное. И если это не интеллект, то что же?
Моя работа до нынешнего момента позволила мне убедиться в том, что ответ на этот вопрос исключительно важен и для собак, и для людей, которые их изучают и заботятся о них.
Наши первые посещения мира приютов для животных не были вызваны какими-то особыми заботами о том, как в нынешнем обществе обращаются с бездомными собаками. Признаюсь, до этого момента, я довольно легкомысленно относился к жизни собак, не являющихся чьими-либо питомцами, и лишь интеллектуальное любопытство толкнуло меня посетить приюты, стремление лучше понять природу способности этих животных следовать намерениям человека. Но после проведенной работы придерживаться столь бесстрастного подхода было невозможно.
Я был озадачен убогой жизнью приютских собак. Я и не осознавал, что миллионы животных томятся, часто месяцами, в помещениях, предназначенных для кратковременного пребывания. Они проводят все время на бетонном полу, им перепадает лишь самое краткое общение с человеком каждый день и считаные моменты, когда можно погоняться за мячом или поиграть как-то иначе. Некоторые собаки буквально оглушены непрекращающимся лаем своих соседей и страдают от хронического недосыпания из-за плохих условий. В двух штатах США, знакомых мне лучше всего, Флориде и Аризоне, лето не очень: субтропический зной во Флориде и условия, близкие к пустынным, в Аризоне. В большинстве местных приютов собаки страдают от жары из-за отсутствия кондиционеров, а отопление зимой, как правило, минимальное.
Наше исследование когнитивных способностей собак все еще находилось на ранней стадии, но мы уже получили важные выводы относительно собачьего разума — выводы, которые, я уверен, потенциально могут улучшить и, возможно, даже сохранить многие собачьи жизни. К примеру, нам удалось доказать, что, хотя собаки в приюте и не могли без подготовки реагировать на человеческие жесты, их можно было очень быстро этому научить.
Если вы возьмете свою следующую собаку из приюта (искренне рекомендую), то вам не нужно беспокоиться о том, что ей потребуются уроки, чтобы понимать людей. Обычная повседневная жизнь, в которой человек общается с собаками различными сложными способами, предоставляет собаке более чем достаточный опыт, чтобы научиться понимать последствия его действий, как жестов, так и вербальных.
Вероятно, при такой жизни собака не будет учиться так же быстро, как те, которых мы специально дрессировали в приюте. Следованию указательным жестам они научатся в течение первых нескольких недель в новом доме наряду со многими другими вещами, например, запрет запрыгивать на постель, диван, не гоняться за кошкой по всему дому и пр.
Наши первые вылазки в приют для собак позволили мне почувствовать то, что наша работа могла бы сделать. Но она также помогла осознать вакуум в центре исследования когнитивных способностей собак и острую потребность в большем количестве информации о них и о том, что ими движет. После нашего первого исследования в приюте я поставил перед собой задачу не только понять, что делает собак уникальными, но и определить, как эта уникальность влияет на то, каким именно образом людям следует заботиться о них. Я был обязан для Бенджи, Ксифос и собак, сделавших богаче мою жизнь, выяснить, чем они отличаются от остальных животных, и использовать эту информацию, чтобы сделать богаче их жизнь.
2. Что делает собак особенными
Когда Ксифос появилась в моей жизни, я уже начал видеть прорехи в сложившейся теории о том, что собаки особенные благодаря своему интеллекту. Ксифос очень быстро превратила эти прорехи в зияющую дыру.
Моя любовь к Ксифос проснулась почти сразу же, как только мы привезли ее домой. Но я могу сказать (как уже намекал), что эта милая маленькая дворняжка не была очень умной. Лестница, например, представляла для нее довольно сложную задачу. В первом доме, где она жила с нами, был верхний этаж, который наверняка стал в новинку для приютской малышки. В первый раз Ксифос неуверенно последовала за мной вверх по ступеням, но когда я начал спускаться, она просто осталась стоять наверху и заплакала. Наконец набралась мужества. В первый раз ничего не получилось, и она кубарем слетела вниз на последней ступеньке. Никто не пострадал; и Ксифос постепенно разобралась и освоилась с этим странным человеческим изобретением.
В 2013-м, через год после того, как мы взяли Ксифос, мы уехали из Флориды в Аризону, где я хотел основать виртуальную кинологическую лабораторию в местном университете. В этом исследовательском центре посредством инструментов поведенческой науки стремятся лучше понимать собак и улучшить их жизнь, а также жизнь их хозяев.
Рос, Сэм и я переехали в дом в Темпе, который, по нашему мнению, должен был понравиться Ксифос. Там нет лестницы и есть даже маленькая дверца в большой двери, чтобы щенку не приходилось каждый раз проситься, когда он захочет на улицу. Но Ксифос, верной себе, потребовались недели, чтобы разобраться с этой штукой — даже с моими объяснениями, как она работает. Я открывал заслонку, кладя на нее угощение и показывая собаке внешний мир. Но она не отличалась особой сообразительностью.
С поводками все тоже было сложно. Я предполагаю, что предыдущие хозяева Ксифос не выводили ее на прогулку на поводке, потому что она всегда запутывалась в этом странном приспособлении. Очарованная всем, с чем мы сталкивались по пути, она ходила вокруг меня, обматывая поводок вокруг моих ног. Или же шла по другую сторону фонарного столба, нежели я, а потом, казалось, не могла понять, почему мы оба не можем двигаться вперед. Потребовалось несколько месяцев, прежде чем нам удалось более-менее нормально погулять по окрестностям.
Но хотя Ксифос и не отличалась особой сообразительностью, она была (и все еще остается) удивительно ласковой. Ее милый характер уже был очевиден, когда мы забирали ее из приюта, и, как только мы привезли ее домой, она начала демонстрировать добросердечность по отношению к каждому, кого встречала (единственным исключением являлись бородатые парни — тут она немного колебалась). Помимо всего прочего, я был удивлен тем, как быстро Ксифос принялась убеждать нас, что мы для нее особенные. Она редко позволяет расстоянию в несколько футов отделять ее от одного из нас. Она никогда не упускает возможности поприветствовать нас по возвращении домой и не любит ничего больше, чем лежать у наших ног на диване или кровати, когда мы отдыхаем. Мы обнаружили, что Ксифос, к счастью, в отличие от миллионов других собак откровенно не расстраивается, если нам приходится оставлять ее одну, хотя радость малышки, когда мы возвращаемся, не знает границ. Она поднимает настоящий шум, даже если мы отсутствовали дома всего пару часов.
Когда же приходилось быть вдали от нее в течение нескольких недель (замечу — редко), встречая нас по возвращении, она выла так громко, что казалось, будто ей больно. Такое проявление страдальческого облегчения неизбежно заставляло нас чувствовать себя ужасно из-за столь долгой отлучки.
Даже несмотря на то что в интеллекте собак не было ничего примечательного, я все-таки оставался убежден — и Ксифос старалась очень сильно подтвердить это, — что в собаках действительно есть нечто особенное. Я мог провести целый день в офисе, читая и пиша научные статьи о поведении собак, подвергая сомнению научную литературу об их предположительно уникальных когнитивных способностях. Но когда возвращался домой к Ксифос, ее безудержный восторг от того, что она видит меня, настолько сильный, что трудно было зайти в дверь, так как она постоянно подпрыгивала, стараясь лизнуть мое лицо (однажды или даже пару раз сбивала очки), сводил на нет попытки не признавать факта наличия в этих животных чего-то экстраординарного, чего-то, что отличало их от всех остальных земных созданий.
Чем больше я об этом думал, тем больше казалось, что эта экстраординарность была не интеллектуальной, а эмоциональной. То, что отличало Ксифос от всех других животных, которых я исследовал или с которыми проводил время, — от голубей до крыс, сумчатых и волков, — заключалось в ее потрясающей эмоциональной связи с окружающими людьми. Любовь и волнение, которые, как казалось, вызывало у нее наше присутствие, и ее страдания, когда мы отсутствовали, вероятно, служили определяющими характеристиками ее поведения относительно людей-компаньонов.
Хотя Ксифос являлась частью нашей жизнь не слишком уж и долго, ей уже удалось заставить меня как ученого-бихевиориста[9] подвергнуть сомнению некоторые из моих основных убеждений. Казалось, большая часть ее поведения обусловлена тем, что я мог бы охарактеризовать как сильную эмоциональную привязанность к людям. Тем не менее общепринятая мудрость и основополагающие принципы моей научной подготовки и учения, бихевиоризма, решительно свидетельствовали о том, что так быть не может.
Бихевиоризм является не чем иным, как применением к психологии одного из фундаментальных принципов науки. Этот принцип, эта лакмусовая бумажка, известная как закон скупости или бритва Оккама, датируется XIV веком и приписывается ученому Уильяму из Оккама.
Однажды я посетил деревню Оккам (англ. Occam или Ockham), лежащую к юго-востоку от Лондона, в надежде купить бритву, которую мог бы потом показывать на своих занятиях, чтобы сделать абстрактный принцип более конкретным. К сожалению, в этой скупой деревне я не смог приобрести даже бритву (хотя там имелся превосходный паб, где мне подали первоклассный ланч).
В любом случае бритва Оккама является принципом, а не физическим объектом; из него следует, что самое простое объяснение феномена всегда предпочтительнее всех остальных, и это позволяет избежать дополнительных ненужных объяснений. Данная идея — важный эвристический инструмент, за последние шесть столетий оказавшийся чрезвычайно ценным в различных научных дисциплинах — от астрономии до зоологии.
Как бихевиорист, я был полон решимости найти самое простое и наиболее краткое объяснение проявлениям якобы любви и ласки в поведении Ксифос. Не желая, чтобы мои объяснения психологии животных включали вещи, без которых мы и так можем прекрасно справиться, до этого момента я обычно избегал разговоров об эмоциях у животных. Правдой было то, что Ксифос, запрыгивая на меня, когда я входил в дверь после тяжелого дня в университете, определенно выглядела счастливой от созерцания хозяина. Но скупой ученый внутри предпочитал видеть, что она действует согласно сформировавшейся ассоциации между моим приходом и появлением того, что она считала полезным для себя: например, ужина или прогулки. Привнесение чего-то настолько беспорядочного, как эмоции, в той ситуации нарушило бы четкие уравнения моей научной подготовки и, казалось, нарушила бы принцип бритвы Оккама.
В своем скептицизме в вопросах рассмотрения эмоций для понимания собачьей психологии я был не одинок. Многие ученые, интересующиеся поведением животных, не находят эмоции полезными. Антропозоолог Джон Брэдшоу и специалист в области когнитивных способностей собак Александра Горовитц, к примеру, утверждают, что проецирование на собак сложных эмоций, как, скажем, чувство вины, вызывает у них замешательство и даже может привести к причинению вреда нашим любимым дворнягам. Вспомните: люди часто наказывают своих виновато выглядящих собак, потому что они воспринимают это выражение на морде животного как признание вины. На самом деле столь очевидное раскаяние собаки является не чем иным, как проявлением тревоги в ответ на явно сердитый вид хозяина, а определенно не признанием ответственности за содеянное.
Виновато выглядящая собака не понимает, что она сделала неправильно, поэтому наказание за проступок является ошибочным, бессмысленным и жестоким.
Нейробиолог и психолог Лиза Фельдман Барретт идет еще дальше, утверждая, что и само понятие эмоций и слова, которые мы используем для классификации различных эмоций, — это человеческие творения, основанные на нашем уникальном языке. Таким образом, они зависят от понимания семантики, которым собаки обладать не могут. Наш мозг сам строит наши эмоции на основе внутренних физических состояний в каждый конкретный момент, так же, как и на основе жизненного опыта, включая опыт улавливания на слух того, как люди используют особые слова, чтобы описать свое собственное внутреннее психическое состояние. Барретт признает, что животные могут испытывать широкий спектр положительных и отрицательных эмоциональных реакций, наподобие основных «чувств» — злости, страха, счастья или грусти, но она подчеркивает: их неспособность понять эти лингвистические категории означает, что мы не может утверждать, что они испытывают эти специфические эмоции как таковые.
Независимо от того, с чьей теорией вы согласны, единое мнение экспертов выглядит ясным: эмоции животных являются черным ящиком для науки, терра инкогнита, которую мы никогда не сможем полностью изучить. Но в меня начало закрадываться подозрение, что ничто не имеет смысла в Ксифос и ее отношении с людьми, если не рассматривать ее как существо со способностью формировать сильные эмоциональные связи с нашим видом — способностью, которая, как я уже подозревал, не имеет себе равных в царстве животных.
Будучи настолько открыто скептически настроенным относительно заявлений других исследователей о том, что собаки обладают особой формой интеллекта, я прекрасно знал: развивая свою собственную теорию о том, что делает собак такими уникальными, я принимаю на себя огромное бремя доказательств. Если бы я утверждал, что собаки обладают особой способностью к эмоциональной связи с людьми, то мне бы потребовались доказательства, которым бы пришлось выдержать довольно резкий разбор. Кто-то из ученых могли бы (и небезосновательно) скептически отнестись к моим взглядам, как и я относился к выводам других.
Поэтому я приступил к поискам данных в поддержку моей гипотезы. И, как оказалось, мне не пришлось искать очень далеко.
Современные бихевиористы избегают говорить об эмоциях у животных, это правда. Но у знаменитого русского ученого, который в каком-то смысле основал бихевиоризм, подобной сложности не было. Он заметил, что собаки, по всей видимости, формируют сильные эмоциональные отношения с людьми. И вместо того чтобы избегать, поместил это наблюдение во главу угла своих исследований.
Академик Иван Петрович Павлов известен каждому выжившему на вступительном экзамене по психологии как человек, доказавший, что у собак выделяется слюна, когда они ждут пищу. (На что ирландский драматург Джордж Бернард Шоу ответил: «Любой полицейский может рассказать вам о собаке так же много».)
Феномен заключался в следующем. Павлов звонил в колокольчик каждый раз перед тем, как дать своим собакам порцию еды, и это в свою очередь привело к тому, что сам звук колокольчика начал вызывать у них слюноотделение. Данный эксперимент демонстрировал то, что известно как «классическая обусловленность» или «обусловленность Павлова». По сути, именно выученную ассоциацию между нейтральным сигналом и следствием, важным для животного, то есть классическую обусловленность, использовал Джон Пилли, чтобы заставить Чейсер запомнить все те разные названия двенадцати сотен игрушек. Классическая обусловленность служит чрезвычайно важным инструментом в наборе любого дрессировщика и является основополагающим компонентом взаимоотношений собак с людьми.
Благодаря часто повторяющимся историям о его знаменитом эксперименте с пускающими слюни собаками репутация Павлова стала довольно одномерной, но сам ученый был сложным человеком. В течение восьмидесяти лет после выдающегося физиолога мы на самом деле почти ничего не узнали о его личности, но недавно вышедшая отличная биография Павлова, написанная Даниэлем Тодесом, пролила яркий свет на жизнь и творчество великого ученого. Многие из открытий Тодеса разрушают мифы о Павлове, которые складывались столетие. К примеру, Тодес обнаружил, что Павлов ни разу не использовал колокольчик ни в одном из своих экспериментов («колокольчик» был неправильным переводом русского словосочетания «звуковой сигнал».) Согласно объяснениям Тодеса, Павлов полагал, будто его собаки являлись личностями со своими эмоциями и характером, поэтому он давал им клички, отражающие их отличительные особенности.
Признание Павловым того факта, что у собак есть эмоции, даже наложило определенный отпечаток на его знаменитые эксперименты. В учебниках довольно много информации о том, что у Павлова был специально спроектированный лабораторный корпус для его исследований, построенный в Санкт-Петербурге. Это впечатляющее здание, сохранившееся до сих пор, известно как «Башня молчания». Названа она так потому, что ученый стремился изолировать собак внутри испытательных камер от любых факторов внешнего мира. На фотографиях видно, как на собаках Павлова проводят тесты в специальных звуконепроницаемых отсеках, а сам экспериментатор находится в соседней комнате за окном с двойным стеклом. Но то, что могло показаться холодной клинической обстановкой, смягчала сильная эмоциональная связь между Иваном Петровичем и его собаками. Тодес рассказывает нам, что, хотя Павлов требовал таким образом от своих студентов работать в отдалении от собак, сам великий человек сидел внутри вместе с собакой. Он знал, что животным необходимо его присутствие, чтобы расслабиться.
Ученый и сам нуждался в компании. С 1914 года и вплоть до смерти в 1936-м наиболее важой коллегой была Мария Капитоновна Петрова. Бывшая его студентка, она со временем стала одним из самых значимых сотрудников профессора, принимавших активное участие во многих исследованиях по обусловленности, которые обеспечили Павлову славу. Возможно, в настоящее время эту женщину слегка подзабыли, но при жизни ее крайне ценили. Начиная с выхода на пенсию Павлова в 1935 году и до своего собственного в возрасте 66 лет, она работала директором лаборатории, основанной академиком, и в 1946 году получила Сталинскую премию в области науки.
Помимо того что Мария Капитоновна являлась самым значительным научным последователем Павлова, она была и возлюбленной великого ученого. Бывало, они сидели вдвоем в отсеке с собакой и перешептывались тихо о науке или о чем-то другом. Иногда собака засыпала в ожидании эксперимента, и горе тому студенту, который, не понимая, что исследование должно было уже начаться, врывался в комнату, когда Иван Петрович и Мария так интимно беседовали.
Павлов как биолог объяснял все виды поведения как рефлексы, и поэтому он называл необходимость общения, которую наблюдал у собак (и себя самого), социальным рефлексом. Один из двух американцев, учившихся с Павловым, У. Хорсли Гантт, продолжил исследование этого феномена под руководством Павлова. Он прикладывал датчик к груди собаки для измерения сердечного ритма. Когда в комнату входил человек, у животного, находившегося в тревожном ожидании, частота сердечных сокращений ускорялась. Но если человек гладил собаку, то по мере того, как она расслаблялась, частота сердечных сокращений снижалась.
Я наткнулся на этот забытый аспект исследований Павлова вскоре после того, как начал поиски доказательств в поддержку своей идеи о том, что делает собак особенными. Выводы Павлова о выраженных физических реакциях собак на присутствие человека нельзя назвать чем-то новым в истории науки, но в них был хороший пример того эмоционального отклика, который меня интересовал и который я надеялся изучить. Поэтому моя бывшая студентка Эрика Фейербахер, ныне профессор Технического университета Вирджинии, вместе со мной приступила к разработке серии экспериментов, основанных на давно забытом исследовании Павлова и Гантта о влиянии присутствия людей на собак. Мы хотели узнать, насколько важно собакам находиться в обществе ценного для них человеческого существа. В некотором смысле мы стремились оценить силу эмоционального отклика на присутствие человека, какой наблюдали Павлов и Гантт в своих опытах много десятилетий назад.
Мы выбрали более простой путь, чем тот, которым двигались Павлов и Гантт. Вместо того чтобы измерять изменение сердечного ритма у животного, мы оценивали поведение собаки напрямую. В частности, предоставляли ей сделать выбор между обществом человека и чем-то съедобным. По нашему мнению, еда для собаки столь же желанна, если даже не в большей степени. Во время первых исследований мы ставили ее перед простым выбором: коснуться руки человека мордой, чтобы заслужить небольшое лакомство, или же в качестве награды за то же минимальное усилие получить немного ласки и услышать: «Хорошая девочка». Все было так же просто, как кажется: когда собака своей мордой касалась правой руки Эрики, она либо давала ей лакомство из левой, либо гладила ее шею обеими руками и говорила, что та хорошая девочка. При проведении опытов Эрика то чередовала две минуты награды едой с двумя минутами награды похвалой, то предлагала собаке возможность выбора между двумя людьми — один давал лакомство, а другой чесал за ухом.
Мы начали с собак, живущих в приюте, которые, как мы полагали, не часто принимают ласковых посетителей и поэтому могут быть особенно впечатлены похвалой и почесыванием за ухом. Когда наши тесты не сработали в той мере, как ожидалось, мы провели их на домашних собаках, чьи хозяева выступали в роли экспериментаторов. Мы полагали, что влияние ласки усилится, если хозяин, действительно заботящийся о своей собаке, станет нежно ворковать с ней. Но каждый раз получали один и тот же результат: казалось, что похвале и ласке животные предпочитают лакомства.
Все собаки, на которых проводились тесты, независимо от того, были они дворнягами из приюта или же избалованными домашними питомцами со своими особенными людьми, всегда предпочитали угощение человеческому вниманию.
Оглядываясь назад, я уже не столь уверен, что мы правильно проводили эксперимент с самого начала. Думаю, нам с Эрикой так сильно нравилась компания наших собак — и мы были убеждены, что они отвечают нам взаимностью, — что мы не смогли понять простой факт. Для собаки, которая уже находится в компании человека, дополнительное почесывание шеи не настолько ценно, как угощение, ведь оно не всегда доступно.
Однако со временем исследование стало более сложным. Мы обнаружили, что если не выдавать лакомство сразу, чтобы собаки были вынуждены ждать несколько секунд, прежде чем съесть вкусный кусочек собачьего корма, а почесывание за ухом могли получить сразу же, то предпочтения животных быстро менялись. Они начинали проводить больше и больше времени с человеком, который хвалил их и почесывал, предпочитая его тому, который немного медлил с выдачей угощения. Таким образом, собаки показывали, что похвала была на самом деле для них ценнее. Имея выбор между одним человеком, который давал вкусные кусочки один раз в 15 секунд, и другим, чесавшим за ухом и говорившим ласковые слова, собаки оставались с тем, кто ласкал, а не кормил.
Проанализировав результаты наших опытов, мы поняли, что в этих исследованиях собаки и так находятся в компании человека. Независимо от того, чешут ли их за ухом или дают лакомство, если им просто нравится общество человека. Мы чувствовали, что нужно менять условия эксперимента. Видимо, собаку нужно было лишить не только постоянно доступного угощения, но и постоянного общения с человеком. Иными словами, она должна была проголодаться и соскучиться по своему хозяину.
Как только мы определились со структурой эксперимента, Эрика приступила к работе. Она нашла нескольких помощников, у которых есть собаки, но которые проводят целый день на работе, оставляя своих питомцев одних на весь день. Но существовал важный критерий: у каждого участника должен был быть дом со входом в гараж.
В конце рабочего дня, после того как подопытные животные провели в одиночестве многие часы, Эрика ставила эксперимент в гараже. Там же находилась и одна из собак. У входа, ведущего в дом, Эрика делала на полу две отметки на равном расстоянии от двери и под равными углами от того, кто смотрел из дверного проема из дома в гараж. Затем крепила веревку к дверной ручке и просила ассистента открыть дверь с помощью этой веревки так, чтобы его не было видно.
Прежде чем ассистент открывал дверь, Эрика ставила миску с собачьей едой на одну из отметок на полу, а владелец собаки становился на другую. Хозяин отсутствовал на протяжении всего восьмичасового рабочего дня, и в течение этого времени еды в доме тоже не было. Таким образом, собака оказывалась в равной мере лишена и внимания, и пищи.
Теперь у нас был прекрасный тест. Когда ассистент открывал дверь и собака видела хозяина и миску с едой, причем одновременно и на одинаковом расстоянии от того места, где она находилась, ей предстояло сделать непростой выбор. Так что же выберет пес: своего хозяина или вкусную еду?
Ассистент открывал дверь.
Неизменно собака, которая слышала, как владелец подъезжал к дому, уже готова была броситься в его объятия, практически запрыгнуть на него, как только открывалась дверь. Но так как он стоял не прямо перед дверью, а под определенным углом, собака не сразу замечала его и пребывала в некотором замешательстве. Но уже через мгновение она видела хозяина и бежала, виляя хвостом, подпрыгивая, чтобы лизнуть его, тем самым выказывая свою радость и расположение.
Возможно, в этот момент бедный питомец на самом деле не замечал миску с едой. С чисто технической точки зрения эксперимент был ошибочным, потому что люди по размеру намного больше, чем посуда. Но собака довольно быстро справилась с нашей оплошностью. Пока она вертелась вокруг хозяина, то замечала вторую награду. Сначала просто смотрела на нее — по сравнению с приветствием хозяина еда не имела важности. Затем все же бежала к миске и нюхала содержимое, но опять быстро возвращалась к человеку. Видимо, еда не представляла для нее такой ценности, как человек.
Каждый раз, когда мы проводили этот эксперимент, то давали собаке две минуты, чтобы сделать выбор между человеком и едой. Мы ни разу не обнаружили, что при первом тестировании животное действительно интересовалось едой.
Мы повторяли эксперимент изо дня в день на протяжении недели. Собаки наконец поняли, чего мы от них хотели, и стали больше есть. Каждый день, когда хозяин возвращался домой, Эрика со своим ассистентом повторяли эксперимент. Разница состояла лишь в том, что хозяина и миску с едой меняли местами, чтобы собака не выработала предпочтение идти постоянно в одну и ту же сторону. Через пару дней животные начинали понимать, что происходит. Они продолжали встречать своего хозяина, но в то же время выработали собственную модель поведения. После первого приветствия они бежали к миске, хватали еду и снова возвращались к человеку. Несмотря на то что собаки при встрече с хозяином все чаще отходили за едой, эксперименты ясно показали, что для них общение с человеком столь же важно, как и еда. Действительно, оказавшись перед выбором, большинство животных предпочли еде общение со своим хозяином. Но, убедившись, что тот рядом, что он никуда не собирается уходить, они приступали к еде. А почему, собственно, и не совместить эти приятные вещи?!
В целом поведение собак в ходе недельного эксперимента явилось свидетельством силы их связи с человеком. Кроме того, это заставило меня иначе посмотреть на мои отношениях с собственной собакой. Даже несмотря на то что Ксифос каждый раз радостно встречала меня после долгого рабочего дня, все еще оставались сомнения: была ли она действительно рада меня видеть или же просто взволнована перспективой предстоящего ужина? Эксперимент Эрики с гаражной дверью давал четкий ответ на этот вопрос: да, Ксифос действительно была рада меня видеть, даже если у нее и имелись какие-либо скрытые мотивы.
Но что являлось причиной радости Ксифос? Проведенное исследование показало лишь то, что псина волновалась, она была чему-то рада. Но чему? Чтобы получить ответ на этот вопрос, нам требовался совершенно другой эксперимент.
Эрикой двигало желание понять, какие связи существуют между собаками и их хозяевами. Но уже следующее тестирование продемонстрировало неожиданные результаты. В этот раз она предоставила домашним питомцам выбор между их владельцем и совершенно незнакомым человеком. Если бы у вашей собаки был выбор между вами и незнакомцем, с кем, как вы думаете, она провела бы больше времени? Если вы считаете, что с вами, то будете крайне удивлены тем, что установила Эрика. Она предоставила собакам именно такой выбор и обнаружила, что в привычной обстановке собаки на самом деле проводят больше времени с незнакомцами.
Этот результат может показаться удивительным — разумеется, ваша собака думает, что вы намного важнее, чем какой-то случайный человек с улицы! — но на самом деле он очень похож на то, что в психологии младенцев называется «эффект безопасной базы» и служит признаком сильной привязанности к родителю или главному воспитателю.
В 1960–70-х годах известный первопроходец в области психологии младенчества Мэри Эйнсворт разработала простой, но очень информативный тест связи между ребенком (чаще не старше двух лет) и главным попечителем (обычно матерью). Целью процедуры под названием «Незнакомая ситуация» было проверить отношение ребенка к матери, предложив ему довольно сложный сценарий.
Для этого эксперимента Эйнсворт помещала мать с ребенком в незнакомую комнату. Сначала ребенку разрешалось свободно исследовать пространство под наблюдением матери, но затем мать внезапно оставляла его в комнате с чужим человеком. Большинство маленьких детей были расстроены тем, что их оставляли в незнакомом месте с незнакомым человеком. В скором времени мать возвращалась, а затем снова уходила, но уже вместе с посторонним, и ребенок оказывался в полном одиночестве. Через некоторое время этот человек заходил в комнату чуть раньше матери. На этом тест завершался.
Эйнсворт обнаружила: реакция младенцев на то, что их оставляют в одиночестве, а затем снова воссоединяют с матерью, изменялась в зависимости от силы связи между каждой парой мать — ребенок. Малыши, которых она определяла как «надежно привязанных» к своим матерям, стремились к исследованию комнаты в их присутствии, используя маму как базу безопасности для познавания мира. Эти дети были явно расстроены, когда мать покидала их, но радовались, когда она возвращалась, и быстро успокаивались.
Малыши, которые, как считала Эйнсворт, «ненадежно привязаны», часто казались безразличными к уходу матери и проявляли лишь слабые эмоции, когда она возвращалась. Некоторые из них выказывали беспокойство еще до того, как мать покидала экспериментальную комнату. Когда же та возвращалась, их было очень тяжело успокоить.
Процедура «Незнакомая ситуация» представляет собой структурированный способ количественной оценки силы связи между ребенком и его основным попечителем, чего никто до Эйнсворт не обнаружил. В настоящее время этот тест применяется ко многим тысячам детей и позволяет получить глубокое представление о тонкостях взаимоотношений между ребенком и главным объектом его привязанности.
Основная структура эксперимента Эйнсворт может быть легко перенацелена на изучение взаимоотношений между собаками и их самым значимым человеческим объектом. В одном из ранних исследований новой волны изучения взаимоотношений между собакой и человеком Джозеф Топал, один из сотрудников Адама Миклоши в Лаборатории семейных собак при университете имени Лоранда Этвёша в Будапеште, возглавил команду, исследовавшую реакцию собак на «Незнакомую ситуацию Эйнсворт». Результаты венгерских ученых проливают свет на природу той связи, которая возникает между собаками и людьми. Их результаты также помогают объяснить, почему собаки в эксперименте Эрики предпочитали проводить больше времени с незнакомцем, чем со своим хозяином.
Топал и его коллеги провели тест на пятидесяти одной собаке двадцати разных пород с довольно равным разделением на самок и самцов. Возраст собак варьировался от года до пяти, так что во время исследования они все уже были взрослыми. Но, помимо различия видов и зрелости подопытных, эксперимент полностью отражал оригинальное исследование Эйнсворт практически в каждом своем аспекте. Команда Топала провела тест «Незнакомая ситуация» точно так же, как и с детьми, выделив по две минуты на каждую фазу процедуры.
Топал обнаружил, что этот тест, предназначенный для детей, оказался эффективным для оценки взаимоотношений между собакой и ее владельцем. Все животные в его исследовании показали, что они используют своего владельца в качестве базы безопасности. Точно так же поступали надежно привязанные к родителям дети.
В присутствии хозяина собака больше играла и исследовала помещение, в котором находилась. Когда же хозяин выходил, она явно огорчалась и стояла у двери, ожидая его возвращения. После прихода человека собака радовалась воссоединению, быстро устанавливала физический контакт и проводила с ним много времени. Исследователи сделали вывод, что данная модель поведения, столь схожая с поведением маленьких детей, оправдана лишь при условии наличия у собак привязанности к своим хозяевам.
Эти результаты очень хорошо согласуются с тем, что Эрика нашла во Флориде, когда обнаружила, что собаки в привычной обстановке проводят больше времени с незнакомцем, чем со своим хозяином.
И вместе эти исследования показывают, что взаимоотношения между собаками и их владельцами похожи на самые крепкие узы привязанности между детьми и их родителями. Как и надежно привязанные дети, животные явно придают огромное значение присутствию рядом своего хозяина.
Действительно, когда собак на некоторое время лишали общества человека или когда помещали в незнакомую обстановку, контакт со знакомым человеком был даже более важным мотиватором, нежели еда.
Когда я размышлял о природе взаимоотношений между собаками и людьми, я знал, что полученный объем данных послужит важным доказательством. И действительно, исследования выявили связь между представителями двух разных видов, которая очень напоминала привязанность. Определенно, модель поведения, установленная в этих экспериментах, отражает то, что психологи назвали бы привязанностью, существующей между родителями и детьми.
Но что означает эта привязанность? Мой опыт наблюдения за поведением животных научил меня скептически относиться ко всему, что лежало на поверхности, что казалось естественным и очевидным. Но при всем при том я не мог отрицать, что это доказательство явно подтверждало мою собственную гипотезу: поведение собак в этих экспериментах подразумевало, что ими двигала эмоциональная связь с людьми.
Приятно взволнованный этими открытиями, я сопротивлялся желанию ученого абстрагироваться и удивиться по-настоящему. Казалось, у нас есть доказательства эмоционального отношения собак к людям, но — недостаточно. Оставалось лишь нарушить закон скупости и искать все новые и новые подтверждения наличия этих эмоциональных связей.
Павлов, Топал, Эрика Фейербахер и особенно Ксифос — все они, казалось, пытались сказать мне, что эмоциональная связь между собаками и их хозяевами существует. Но я все еще не готов был принять их посылы на веру. Для подтверждения этой гипотезы я, как любитель собак, руководствовался своими инстинктами, но думал все еще как скептик. Старался тщательно проверять свою теорию о природе отношений этих животных с людьми даже в надежде, что она окажется правильной.
Я осознавал, что на проживание в доме с людьми могут рассчитывать меньшинство собак во всем мире. Мне предстояло выяснить, было ли поведение этих избалованных четвероногих типичным для вида в целом и было ли оно вызвано тем, что они жили вместе с нами (почти как у детей).
Предположительно, общее число собак в мире колеблется в пределах миллиарда. Из этого миллиарда, возможно, около трехсот миллионов являются домашними питомцами. Многие из нас живут в таких местах, как Северная Америка, Северо-Западная Европа и Австралазия[10], где почти нет собак, способных выжить в природе. Но на глобусе еще достаточно мест, включая Южную и Центральную Америку, Африку, Восточную и Южную Европу и Азию, где намного больше этих четвероногих живут на улице, чем в домашних условиях.
И если я хотел заявить нечто особенное о собаках как о целом виде, а не только об определенных в определенных условиях, то мне необходимо было исследовать поведение собак, не имеющих хозяев. Но признаюсь, подобное таило в себе некоторые трудности.
Изучая этот вопрос, мы с коллегами должны были найти способ отличить собак, просто взаимодействующих с людьми для собственной выгоды, от собак, действительно с этими людьми связанных. Столь тонкое, но принципиальное различие стало для меня очевидным во время посещения России незадолго до этого.
В 2010 году, когда во время исследовательской поездки я оказался в Москве, мне выпал шанс провести увлекательный день с Андреем Поярковым, профессором Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, и его бывшим студентом, а в настоящее время коллегой Алексеем Верещагиным. Поярков гораздо меньше известен на Западе, чем, безусловно, заслуживает, поскольку он мало публикуется на английском языке. Я обнаружил, что он не только обладает прекрасными знаниями в области собачьих, но также является человеком с добрым сердцем, который заботится о жизни собак в своем городе. Андрей с энтузиазмом рассказал мне о том, что обнаружил за многие годы наблюдения за бездомными животными.
Поярков начал изучать бродячих собак Москвы примерно тридцать лет назад, во времена распада Советского Союза, когда они большими стаями стали появляться на улицах столицы. В ходе увлекательной беседы с ним и несколькими студентами в исследовательском здании Московского зоопарка я многое узнал о бедственном положении этих животных до и после того переломного момента. Помимо прочего, я получил представление о проблемах, с которыми, должно быть, сталкивались сами люди, пережившие советскую эпоху.
Я:
— Что случалось с бродячими собаками в советское время?
Поярков:
— Их быстро хватали, и если за ними не приходили в течение сорока восьми часов, то убивали.
Нахальный студент:
— Примерно так же, как и бродячих людей.
Если вы хоть что-нибудь слышали об уличных собаках в Москве, то наверняка знаете о тех из них, которые спускаются в метро. Об этом мне было известно еще до того, как я посетил русскую столицу. Но хотя эти животные и попадают в новостные заголовки, они составляют лишь небольшой процент от числа всех московских собак.
У бездомных животных имелись веские причины тянуться к станциям метро, но не к самим поездам. В огромных шумных залах можно было укрыться от холода и дождя, а в урнах найти вкусные объедки. Не успев доесть купленный по дороге пирожок, люди часто выбрасывали его, прежде чем спуститься в метро и успеть на свой поезд. Все, что нужно собакам, есть на станции, поэтому им нет необходимости спускаться к платформе и садиться в шумный вагон.
По подсчетам Пояркова, на улицах Москвы живут примерно 35 тысяч собак. Среди них, как он полагал, лишь «горстка» ездила в поездах. Еще один эксперт по собакам, Андрей Нейронов, насчитал всего лишь двадцать из тех, кто регулярно ездит на метро. В любом случае цифры показывают, что у собак не так много причин пользоваться московским метрополитеном, а не скитаться по улицам и надземным станциям.
Вечером того дня, который я провел в зоопарке с Андреем Поярковым, я пошел прогуляться в поисках собак по улицам центральной Москвы с коллегой Пояркова Алексеем Верещагиным. Верещагин является представителем нового поколения российских ученых, хорошо знакомых с научными традициями своей родины, а также с новейшими исследованиями западных специалистов. Я привык к тому, что бродячие собаки живут на улицах в условиях теплого климата, но для меня было немного странно видеть животных, обитающих на улицах там, где даже в сентябре становилось достаточно прохладно.
Собаки были крупнее тех, что я видел в других местах, и большинство из них покрыто густой шерстью, местами спутавшейся, слежавшейся и грязной. На одной из пригородных станций мы увидели интересную картину. Трое парней пили пиво, держа по бутылке в одной руке и по хот-догу в другой. Судя по тому, как они раскачивались, эти бутылки были не первыми за вечер. Рядом с ними крутилась довольно крупная собака. Когда-то она была белой, но теперь ее длинная косматая шерсть была в серых тонах, а местами покрыта грязью. Я не собирался подходить ближе, просто мне было интересно, что же произойдет дальше.
Вскоре стало ясно, что у каждого из троих абсолютно разное отношение к животным. Один время от времени поворачивался к собаке и даже, казалось, готов был поделиться своим хот-догом. Другой всякий раз, когда она приближалась, норовил пнуть ее ногой. Третьему было совершенно все равно. Он был так сосредоточен на себе, что, по всей видимости, совершенно не замечал собаку.
Наблюдая за этой сценой, я подумал, что уличные собаки, возможно, уделяют людям еще более пристальное внимание, чем домашние питомцы, несмотря на тот факт, что они очень чувствительны к нам и нашим действиям. Но домашним обычно не приходится опасаться агрессии со стороны хозяев, тогда как бездомные животные должны постоянно остерегаться людей, чтобы не попасть в беду. Это было мучительным напоминанием о трудностях и неопределенности, с которыми ежедневно сталкивается примерно 70 процентов собак на Земле.
В другом месте в центре Москвы мы с Верещагиным увидели двух собак, которые лежали на земле рядом с киосками. Когда они поняли, что мы обратили на них внимание, то начали рычать. Но мы не двинулись с места. Тогда собаки поднялись и пошли прочь, на ходу оборачиваясь и следя за нами. Очевидно, что для них люди, которые подходят слишком близко, но не предлагают ничего съедобного, представляют собой потенциальную опасность, и ее следует избегать.
Я наблюдал за тем, как эти собаки проявляли интерес к людям лишь ради еды. Но воспринимали ли они нас как нечто большее, чем возможность получить пищу? Увы, мне не довелось побыть в Москве достаточно долго, чтобы изучить этот вопрос вместе с Андреем, Алексеем и их командой. Кроме того, как мне известно, в России не проводилось никаких исследований по этой проблеме. Но, к счастью, ученые в других странах начали заполнять данный пробел.
Индия — еще один пример страны с огромным числом бездомных собак. Научная группа из Индийского института образования и исследований в области науки в Калькутте, возглавляемая Аниндитой Бхадрой, проводит интереснейшие эксперименты с этими уличными животными. Бхадра и ее коллеги отмечают, что для многих людей в Индии свободно разгуливающие по улицам собаки являются большой неприятностью.
Животные забираются в мусор, расшвыривают его и оставляют после себя ужасный беспорядок. Зачастую они испражняются там, где ходят люди. И если даже собаки здоровы, от них повсюду кошмарная грязь. А значительная часть этих уличных животных больны. Они являются носителями многих серьезных болезней, включая бешенство, до сих пор уносящее в Индии жизни примерно 20 тысяч человек в год. Большинство жертв подхватывают эту страшную болезнь от собак. Добавьте к этому ночной лай, мешающий спать, и вы поймете, почему они вызывают такое раздражение у людей.
Печально, но в Индии убийство уличных собак не редкость. Некоторые намеренно отравляют их или даже забивают до смерти. Большое число животных становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий. И все же многие люди заботятся об этих собаках, давая им еду и в некотором роде приют. Какими же мы должны казаться им непредсказуемыми…
Собаки часто щенятся вблизи нашего жилья, видимо понимая, что человек может обеспечить им определенные удобства, которые смогли бы компенсировать опасности, исходящие от людей. Индийские уличные собаки успешно прошли тест, о котором говорилось в первой главе, тем самым доказав, что способны отслеживать человеческие жесты.
Учитывая факты жестокого обращения с уличными собаками в Индии, я не удивлюсь, если они, и это в лучшем случае, будут относиться к людям противоречиво. Но мне хотелось узнать, как они на самом деле относятся к нам. Боятся ли они людей или их к ним тянет? И если мы важны для них, есть ли у них какая-либо привязанность к человеку, которую ученые обнаружили в собаках, живущих с людьми?
Проведение тестов на уличных животных намного сложнее, чем проведение экспериментов над домашними питомцами или собаками из приюта. Я был крайне удивлен, обнаружив отчет об исследовании, которое провел один из студентов в группе Бхадры, Деботтам Бхаттачарджи. Он задался тем же вопросом, который уже давно интересовал меня: как уличные собаки относятся к людям? Результаты стали полнейшей неожиданностью.
В трех разных районах неподалеку от Калькутты, в Западной Бенгалии, ученые нашли одиноких уличных собак. Некоторые бродячие животные образуют группы, или стаи, но я предпочитаю избегать данного термина, потому что эти группы более подвижны, нежели устойчивые стаи, например, волчьи. Другие уличные собаки — одиночки. Бхаттачарджи решил сосредоточиться именно на них, так как хотел получить единовременный результат от одной конкретной собаки.
Ученый и его команда предоставляли собакам выбор между куском мяса на земле и таким же точно куском, который держал в руке человек. Неудивительно, что собаки осторожно относились к незнакомым людям и в основном брали еду с земли, но предпочтение было не ярко выраженным. Почти 40 процентов животных подошли к человеку, кого никогда не видели прежде, и взяли мясо из его рук.
Этот результат меня несколько удивил, но следующий тест Бхаттачарджи и его коллег привел к еще более неожиданным выводам. В дальнейших экспериментах с несколькими уличными собаками-одиночками люди делали одно из двух: либо давали им мясо, либо гладили по голове три раза. Они проделывали подобное с каждой собакой в общей сложности шесть раз в течение нескольких недель. Выглядело это так: одних постоянно кормили, других постоянно гладили. В конце эксперимента исследователи предлагали каждой собаке еду и оценивали, насколько быстро животные из двух групп подходили к человеку и брали ее.
К своему удивлению, Бхаттачарджи и его команда обнаружили, что собаки, которых регулярно гладили на протяжении двух недель, теперь приближались к экспериментатору быстрее и были более склонны брать еду из его рук, нежели те, которых регулярно кормили.
В свете этих неожиданных и впечатляющих результатов авторы исследования пришли к выводу, что «награда в виде общения является более эффективной в построении доверительных отношений между бродячими собаками и незнакомыми людьми, чем награда едой».
Так же как и собаки в исследовании Эрики, у которых был выбор между приветствием своего хозяина и удовольствием от еды, для животных в эксперименте Бхаттачарджи тоже большее значение имело общение с человеком.
Признаться, я был совершенно не готов к такому результату. Несомненно, Ксифос показывала мне, насколько мы, люди, важны для нее, но никак не предполагал, что это обнаружится и у уличных собак, которых я наблюдал в Москве и других местах. Я не ожидал, что социальный контакт с людьми будет настолько значимым для собак, в буквальном смысле изгоев на улицах больших городов, где люди их всячески притесняют и стремятся уничтожить.
То, что индийские уличные собаки позволили себя гладить, само по себе меня несколько удивляло. А то, что эти ласки заслужат их доверие больше, чем многократная кормежка, напоминало эффект разорвавшейся бомбы. Оказалось, положительный социальный контакт с людьми обладает невероятной силой даже для собак, не имеющих защитной привязанности к какому-либо конкретному человеку. Кроме того, стало вероятным, что у этих животных социальный рефлекс, как это называл Павлов, может стать ключевым фактором, определяющим их поведение даже в большей степени, чем желание есть.
Это открытие было тем более невероятным, что еда — основной стимул для данного вида (как скажет вам любой владелец собак). А уж особенно значимым стимулом она является для тощих дворняг, живущих впроголодь на улице. Если бы вы искали доказательство, что люди важны для собак независимо от их положения и социального статуса, то вам не удалось бы найти более удачного примера, чем этот.
Но хотя группа Аниндиты Бхадры в Индии доказала, что собакам хочется получать «награды в виде общения», исследователи не задумывались, почему так могло произойти. В частности, они не выдвигали никаких предположений, что же такого было в общении с людьми столь важного для собак. Контакт с человеком, несомненно, представал формой поддержки для этих существ. Но что именно в нашем присутствии для них значимо? И являлось ли это глубокое влечение к людям действительно уникальным для собак?
Я упоминал ранее, что бихевиористы имеют репутацию людей, игнорирующих наличие эмоций у животных. Поэтому можно назвать иронией тот факт, что когда я стал все больше интересоваться доказательством точного характера уникальных связей собак с людьми, именно бихевиорист подтолкнул меня в правильном направлении.
Марианна Бентосела является научным сотрудником Национального совета по научно-техническим исследованиям Аргентины в Буэнос-Айресе. Она приехала на несколько недель в университет во Флориде, видимо, для изучения некоторых наших методов исследования. Но на самом деле, я думаю, она научила нас гораздо большему, чем мы ее.
Марианна разделяла наш интерес к попыткам охарактеризовать замечательное поведение собак. Мы до поздней ночи болтали о том, что делает их особенными, и обсуждали проблемы, с которыми каждый из нас сталкивался в своей работе. В то время я пытался найти быстрый, очень простой и надежный способ оценить уровень заинтересованности собаки в человеке. При исследовании реакций приютских и домашних питомцев на право выбора между обществом человека и едой Эрика показала, как собаки к нам относятся. Так же сделал и Бхаттачарджи, изучая реакцию индийских уличных собак на людей, которые их гладят и предлагают им еду. Но эти тесты были довольно трудоемкими. Есть ли более простой способ измерить привязанность собак к людям, который можно было бы использовать там, где он необходим больше всего?
Помимо нашего научного интереса к тому, что делает собак такими замечательными, нас с Марианной объединяли опасения по поводу благополучия собак, живущих в приютах, — этой неприятной обратной стороны отношений между нашими двумя видами. Нам хотелось понять, в чем состоит разница между теми собаками, которые легко находят новый дом, и теми, которые томятся в питомниках месяцами или даже годами, если в приюте их не усыпят.
Работники приютов и зоозащитники используют множество различных тестов, пытаясь классифицировать личность собак. В некоторых случаях они хотят определить, стоит ли давать определенным животным шанс на обретение семьи; в других — получить более общие выводы о том, какие виды собак лучше подходят тем или иным людям. Но эти тесты, очень похожие на эксперименты, проводимые Эрикой и Бхаттачарджи, довольно сложные. Марианна изучила их все, чтобы найти то главное, что дает собакам наилучшие шансы стать успешными домашними питомцами.
Со своими студентами в Буэнос-Айресе Марианна разработала удивительно простой тест. В открытом пустом пространстве ставили стул. Вокруг стула чертили круг радиусом примерно три фута. Затем просили кого-нибудь посидеть на стуле около двух минут и записывали, какую часть этого временного интервала собака проводит внутри круга.
Марианна уже опробовала этот тест на нескольких собаках у себя в Аргентине и поняла, что он хорошо показывает разницу, существущую между общительным домашним питомцем и собакой, которую сложнее взять в семью. В ходе нескольких демонстраций этого теста во Флориде выяснилось, что общительные собаки проводят большую часть времени внутри круга с человеком, а необщительные, напротив, — за его пределами.
Тест на общительность собак с моей Ксифос
Я люблю простые тесты. Их намного легче провести и сложнее испортить. Вряд ли можно неправильно истолковать роль сидящего на стуле человека, и подсчет времени, которое собака проводит в круге, тоже далек от области ракетостроения. Я понимал, что тест Марианны обладает огромным потенциалом для собак в приютах. И когда я стал свидетелем проведения ее теста питомцах Волчьего парка в Индиане, то оценил его невероятный потенциал и для собственного исследования связей между собакой и человеком.
Хотя Марианна ставила много экспериментов на собаках, она никогда не сталкивалась близко с волком до своего приезда к нам. Поэтому мы с Моникой Уделл взяли ее с собой в следующее посещение Волчьего парка.
К последнему дню нашего там пребывания мы с Моникой, проведя все исследования в запланированные сроки, спросили Марианну, может, она хотела что-то сделать. Ради забавы она сказала: «А почему бы не попробовать мой тест на общительность?» До этого я не считал ее простой маленький тест имеющим значение для наших дискуссий о том, что делает собак особенными. Но как только Марианна предложила провести его на волках, я понял, что он может оказаться очень интересен для оценки разницы в общительности между этим видом собачьих и их одомашненными собратьями.
Персонал и волонтеры Волчьего парка прекрасно понимают разницу между собаками и волками. Да, волки могут быть очень милыми с хорошо знакомыми людьми, а некоторых просто обожают, но они не проявляют открытого интереса практически ни к чему, что типично для собак. С помощью теста Марианны мы действительно могли оценить различные уровни заинтересованности в людях особей этого вида. Очень захватывающая перспектива.
Мы посадили помощника на перевернутое ведро в вольере и дали волку две минуты, чтобы он определил, насколько ему было интересно находиться на расстоянии в три фута от человека. Так же как и с собаками, в этом тесте участвовали люди, которых волки знали, и совершенно посторонние.
Результат вряд ли мог быть более впечатляющим. Питомцев Волчьего парка, как я уже говорил, можно считать одними из наиболее успешно проходящих процесс социализации с людьми, и вы вряд ли встретите таких волков в другом месте. Многие из них могут безопасно контактировать с незнакомцами. Именно их мы и тестировали. Эти волки, безусловно, дружелюбны и достаточно благородны.
При тестировании Марианны они не пытались убежать от незнакомых людей и, к счастью, не проявляли никаких враждебных намерений к исследователям. Но волки не выказывали и желания находиться рядом с ними. Они лишь изредка входили в круг, где сидел на ведре незнакомец.
Но когда знакомый человек заходил в вольер, волки проявляли значительно больший интерес. Они подходили к Дане Дрензек, директору парка, которую знают всю жизнь, и проводили с ней приблизительно четверть отведенного на эксперимент времени. Остальное время они держались за пределами круга, спокойно занимаясь своими делами.
Дана Дрензек, директор Волчьего парка, проводящая тест на общительность с волком
Контраст с обнаруженным у собак был поразительным. Собаки, которых мы тестировали под руководством Марианны, проводили больше времени в круге с незнакомым человеком, чем волки проводили с тем, кого они знали всю жизнь. А когда пес видел, что на стуле сидит хозяин, он оставался с ним все отведенное время.
К этому моменту мы с Моникой уже много раз ездили в Волчий парк и каждый раз обнаруживали, что свидетельства других ученых о различиях между волками и собаками, когда мы пытались воспроизвести опыты этих специалистов, терпели неудачи. Не получалось подтвердить их результаты. В итоге мы заработали репутацию исследователей, утверждающих, что значительной разницы между собаками и волками нет. Конечно, это было не совсем так. Но тот факт, что каждый раз, когда мы пытались найти различие между собаками и волками, обнаруженное другими исследователями, и не находили, оставался фактом. Мы просто не справлялись с этой задачей.
Однако теперь нам удалось обнаружить разницу между собаками и волками — огромную. И не разницу в восприятии или интеллекте, но кое-что намного более фундаментальное: разницу в заинтересованности животных в сближении с людьми. Что-то явно притягивало к нам собак. Вопрос был в том, что же это?
Если бы у меня была профессиональная мантра, то звучала бы она так: действуйте с осторожностью. Я полагаю, что надежные научные знания можно получить, лишь только подвергнув критическому взгляду даже самые правдоподобные заявления. Это особенно верно, когда объект моих же исследований близок моему сердцу. Не так много на свете того, что мне ближе, чем собаки, учитывая, что я работаю с этими замечательными существами, а также живу вместе с одним из них под одной крышей.
Когда я занимался изучением крыс, и голубей, и даже сумчатых, восхитительных, как все эти виды, и периодически чрезвычайно увлекательных, то не было реального риска, что личные чувства возьмут верх над научными знаниями. Но, работая с собаками, которые по праву могут рассчитывать на мои эмоции, я тревожился по поводу того, что здесь личное может повлиять на объективность ученого.
Мне пришлось вернуться и задуматься над тем, как я дошел до такого состояния. Я считал, что уникальная связь с нами объясняется эмоциональной реакцией собак на людей, и что именно привязанность заставляла их вести себя так. Обнаружил убедительные научные доказательства, подтверждающие мои научные взгляды. И все же понимал, что лишь поверхностно коснулся тех откровений, которые должна была предложить наука. К тому же существовал риск, что если начать копать глубже, то окажется, что все это время я переливал из пустого в порожнее.
С другой стороны, мне следовало оставаться открытым для той возможности, которая заставила меня пойти по этому пути в самом начале. Это то, что отличает собак от их диких собратьев, а возможно, даже от всех остальных видов животных на планете, — их способность формировать эмоциональные связи с людьми, чувствовать к ним привязанность.
Мне было явно не по себе, но в то же время очень интересовало, куда же заведут наши исследования. Я чувствовал, что подхожу все ближе к тому моменту, где каждое последующее действие, если и не являлось окончательным табу, то, безусловно, расходилось с моей подготовкой как бихевиориста. Мне приходилось искать простые, скупые ответы на научные вопросы. Вся моя профессиональная жизнь до этого момента заключалась в том, чтобы провести четкую грань между холодными объективными научными описаниями поведения животных и теми не научными, но такими теплыми и эмоциональными характеристиками, которых заслуживали наши любимцы.
И все же я понимал, что многие из тех доказательств, что свидетельствовали об уникальности собак, могли свернуть меня с научного пути и ввергнуть в сентиментальную абракадабру.
Эмоции, казалось, служили сутью отношений между нашими видами, и привязанность собак к людям здесь была ключевым моментом. Это ставило бихевиориста и известного скептика вроде меня в некоторое затруднение.
Поэтому я сделал единственное, что умел: продолжил копать.
3. Собакам не все равно
Очень многое в поведении собак указывает на то, что их сильно тянет к людям. Это подтверждается моими наблюдениями в разных парках от Москвы до Тель-Авива, а также становится понятно из исследования, которое я проводил и проверял. Это справедливо не только по отношению к домашним собакам, ежедневно балуемым любящими хозяевами, но и применительно к бродячим животным. Они тоже искали внимания людей, зачастую в ущерб собственному желудку.
Однако тесты, которые я рассматривал до этого момента, лишь фиксировали желание собак приблизиться к людям. Они не ставили своей задачей более глубоко вникнуть в то, что в присутствии своих хозяев животные демонстрируют эмоциональную привязанность к конкретному человеческому существу. Я хотел понять, как данная привязанность к людям проявляется в этом новом слое поведенческих привычек. И может ли поведение собак рядом с нами стать ключом к пониманию того, что именно так сильно привлекает их к людям?
Это была очередная загадка, к которой я обратился, головоломка, которую стремился разгадать, присматриваясь к поведению собак, живущих рядом с людьми. К счастью, когда я начал искать ответы, то обнаружил, что другие мыслители тоже ломали головы над этим вопросом задолго до того, как до него добрался я.
Одним из первых ученых, задумавшихся об отношениях собак и людей, был Чарльз Дарвин. Как и мы сейчас, натуралист любил общаться со своими питомцами и старался никого из них не обделить вниманием. Как рассказывает Эмма Таунсенд в своей книге «Собаки Дарвина», единственным периодом в его жизни без собак были те пять лет, которые он провел в знаменитом кругосветном плавании на «Бигле» — барке[11] военно-морского флота Ее Величества.
Дарвин определенно считал собак эмоциональными существами, склонными к сильным чувствам по отношению к людям. В одной из поздних работ «Выражение эмоций у животных и человека» Дарвин подробно рассматривает, как собаки проявляют свои эмоции. В начале книги, игнорируя тех, кто приписывает эмоции лишь человеку, он указывает на то, что ни одно живое существо не может превзойти собаку в проявлении эмоциональной связи: «Но сам человек не может выразить любовь, и смирение с помощью внешних признаков так же ясно, как это делает собака, когда она опускает уши, ее губы повисают, тело изгибается, и она виляет хвостом при встрече с любимым хозяином».
Дарвин детально рассматривает то, как собаки проявляют привязанность. Он комментирует движение хвоста («вытянутый и виляющий из стороны в сторону»), ушей («опускаются и в некоторой степени оттягиваются назад») и то, как собака опускает голову и все тело. Дарвин отмечает склонность облизывать руки и лицо своего хозяина, а также то, что собаки облизывают и друг другу морды, говорит, что он видел, как собаки облизывают кошек, «с которыми они дружат». (Я думаю, что Ксифос понравилась бы мордочка нашей кошки Мятки, но Мятка никогда бы не потерпела столь дерзкого межвидового братания.)
В своих описаниях проявления собаками привязанности Дарвин обнаружил глубокую связь между поведенческими признаками счастья, которые животные выказывают в обществе человека, и глубокой привязанностью, которую они к нам испытывают. Еще одним важным наблюдением ученого было то, что собаки выказывают признаки счастья, не только виляя хвостом. Они выражают удовлетворение всем телом и даже мордой.
Дарвин стал первым ученым, который мог считывать эмоции собак по выражению морды, особенно по форме счастливого собачьего рта. Его интересовало то, как выражения счастья могут удивительно напоминать выражения гнева. Он отмечал, что на морде счастливой собаки «верхняя губа втянута, как при рычании, так что клыки открыты и просматриваются, а уши отведены назад». Точно такое же выражение можно наблюдать у собаки, когда она злится. Теория Дарвина о том, что выражения, раскрывающие противоположные эмоции, могут зеркально отражать друг друга, не прошла испытание временем, как и его более известная теория естественного отбора. Тем не менее она подтолкнула к изучению эмоций животных.
К счастью, Дарвин был не единственным ученым, кого интересовала богатая мимика собак. Известная дрессировщица собак и эксперт по поведению Патриция МакКоннелл в своей книге «Эмоции людей и собак» углубляется в этот захватывающий феномен. Она говорит, что «счастливые собаки имеют такие же расслабленные, открытые морды, как и лица у счастливых людей». Изучая фотографии людей и собак, МакКоннелл отмечает, что «так же легко отличить счастливых собак, как и счастливых людей». С ее точки зрения, каждый, кто провел достаточно времени с этими животными, без труда сможет определить по выражению морды, что собака счастлива.
Всякий раз по возвращении домой Ксифос бежала ко мне, и я определенно видел отражение любвина ее морде. Казалось, она улыбалась каждый раз, когда я открывал входную дверь: уголки ее рта поднимались, что походило на радостное выражение, а губы обнажали зубы (с извинениями Дарвину, даже не совсем в рычащей манере).
Но как я мог быть уверен, действительно ли на морде Ксифос — выражение эмоций? Даже в компании таких превосходных проводников, как Дарвин и МакКоннелл, я все еще не был уверен в правильном толковании мимики собак. Мы признаем, что вздернутые уголки рта дельфина, к примеру, не означают, что он счастливо улыбается, — просто рот у дельфина так расположен. Мы это знаем, потому что его рот не изменяет свою форму, как, например, рот человека в ответ на те или иные эмоции. На морде дельфина невозможно считать эмоции, как на нашем лице. Выражения морды собаки, напротив, имеют свойство меняться в течение жизни.
И все же, как мы можем с точностью утверждать, что вздернутые уголки рта собаки действительно выражают счастье, а не являются ее анатомической особенностью, как у дельфинов, или другим аспектом собачьей биологии?
Когда я впервые начал задумываться об этом, то не мог понять, как можно провести научное исследование значений выражения собачьей морды. Для изучения эмоций, которые выражают и воспринимают люди, обычно привлекают актеров. Они при помощи мимики передают разные эмоции, в то время как другие пытаются определить, какие именно. Очевидно, что актеров учат показывать эмоции, которые они на самом деле не испытывают. Но я не мог себе представить, как мы могли бы обучить этому собак.
Но, к моему удивлению, в одном научном исследовании нашли способ решить эту проблему. Тина Блум и Харрис Фридман из Департамента исправительных учреждений Пенсильвании и Уолденского университета соответственно провели эксперимент для определения того, насколько хорошо люди могут прочесть разнообразные выражения эмоций на собачьих мордах.
Они добились этого, наняв профессионального фотографа, чтобы сделать снимки полицейской собаки Блум, пятилетней бельгийской овчарки малинуа по кличке Мэл. Чтобы вызвать выражение отвращения на морде, Мэлу дали команду «сидеть», за которую обычно поощряли едой, но вместо этого предложили противное лекарство. Чтобы получить грустное фото, они сказали Мэлу «фу» — слово, употребляемое во время тренировок, чтобы показать, что собака делает не так. Для выражения страха исследователи показали Мэлу кусачки для когтей. А для выражения счастья дрессировщица Мэла приказала ему «сидеть», а потом сказала: «Хороший мальчик. Мы скоро пойдем играть».
Мэл неоднократно слышал эти слова перед тем, как ему давали поиграть с мячом. Поэтому Блум и Фридман предположили, что услышав эти слова снова, Мэл испытает состояние, близкое к счастью. Как только была сделана фотография, Мэла освободили от необходимости сидеть и бросили ему мячик. Таким образом Мэл и Фридман собрали коллекцию, которая включала по три фотографии для каждого из семи выражений морды. В дополнение к тем, которые упоминались ранее, были еще удивленное выражение, выражение злости и нейтральное.
Мэл, овчарка малинуа в исследовании Блум и Фридмана, демонстрирующая (по часовой стрелке с верхнего левого изображения) радость, грусть, страх и злость
Затем Блум и Фридман показали эти снимки двум группам людей по двадцать пять человек в каждой. В первую группу входили люди, имеющие значительный опыт в дрессировке собак. Во вторую — те, у кого никогда не было собак и у кого был минимальный опыт общения с этими животными. Каждого человека попросили оценить фотографии на предмет отсутствия какой-либо конкретной эмоции, если речь шла о нейтральном выражении, либо наличия одной из шести основных эмоций: счастья, грусти, отвращения, удивления, страха и злости.
В целом люди довольно точно определяли эмоции Мэла, хотя одни фотографии было классифицировать проще, чем другие. Наиболее сложной эмоцией для распознавания оказалось отвращение. Только тринадцать процентов ответов оказались верными. Многие воспринимали отвращение на морде Мэла как грусть. Не всегда правильно определяли удивление. Лишь один человек из пяти выбирал эмоцию, подходящую к удивленной морде Мэла. Для всех остальных снимков респонденты практически всегда выбирали верный ответ.
Четыре из десяти человек определили грустную морду Мэла. Почти половина выбрали правильный ответ для фото с испуганной мордой и семь из десяти узнали злую морду Мэла — полезный опыт, особенно если учитывать размеры и силу собаки.
Проще всего оказалось определить радость. Девять из десяти респондентов оценили счастливый снимок Мэла именно как счастливый. Процент распознавания был намного выше у людей с большим опытом общения с собаками (более девяти из десяти ответов правильные), нежели у людей с минимальным опытом контактов с собаками (немного более, чем восемь ответов из десяти). Но даже самая низкая доля правильных распознаваний по-прежнему составляет более трех четвертей опрошенных. Похоже, люди довольно хорошо научились разбираться в эмоциях своих питомцев.
И как же выглядит эта счастливая морда? Действительно, на ней расслабленный, мягко приоткрытый рот, слегка изгибающийся в задней части — точно такой, какой описывали Дарвин и МакКоннелл, и такой, какой мне часто показывает Ксифос.
Исследование Блум и Фридмана принимает утверждения Дарвина и МакКоннелл, что собаки выражают эмоции своей мордой, и предоставляет убедительное, основанное на опыте доказательство того, что эти близкие наблюдатели собак были полностью правы, в частности, относительно счастья, проявляемого улыбкой собаки. Этот эксперимент не требовал дорогостоящего сложного оборудования, но он демонстрирует: по морде собаки можно точно понять, что животное испытывает. И, следовательно, укрепляет цепочку доказательств того, что, когда наши собаки смотрят на нас со счастливыми мордами, они испытывают сильную эмоциональную связь с нами. Хорошая новость для тех, кто чувствует, что наши животины счастливы находиться рядом с нами, и добавляет веса аргументу, что собаки испытывают эмоциональную связь с близкими людьми.
Конечно, мимика собак не является их единственным способом выразить свое счастье от встречи с нами. Другим важным инструментом для выражения этого служит хвост. В целом люди довольно легко распознают счастливо виляющий хвост — как и счастливо улыбающуюся собачью морду. Действительно, меня часто поражает тот факт, что мы с готовностью признаем виляние хвостом как выражение счастья, в то время как у нас самих хвоста нет. Но, как оказалось, собачий хвост хранит еще несколько секретов, и людям может быть намного сложнее истолковать значение его движения, чем кажется.
Недавно группа итальянских ученых провела детальное исследование собачьего хвоста и обнаружила, что он обладает такой глубокой экспрессивностью, о которой никто даже не догадывался. Джорджио Валлортигара и его коллеги в университете Триеста, отобрали тридцать собак для эксперимента. Животных по одному помещали в черный ящик с окошком по размеру чуть больше, чем сама собака. Когда пес выглядывал в окошко, ему показывали поочередно: хозяина, незнакомого человека, незнакомую собаку и кошку. Пока собака смотрела на кого-то из них, видеокамеры записывали движение ее хвоста.
Ученые обнаружили, что собаки демонстрировали поразительную склонность вилять хвостом вправо, когда они видели то, к чему хотели приблизиться, — к объекту, который делал их счастливыми. Это виляние в правую сторону было наиболее сильным в ответ на появление хозяина, но также замечено как реакция на незнакомого человека. Я восхищен осознанием того, что собака хвостом способна посылать такой особенный сигнал своей привязанности к нам. Это показывает, как это качество запрограммировано по всему ее телу.
Конечно, человек — не единственный объект, к которому собаки хотят приблизиться. Когда показывали кошку, они очень слабо виляли хвостами, но, что интересно, движение тоже было вправо. Когда их оставляли одних или же показывали другую собаку, животные гораздо сильнее виляли хвостом — уже влево.
После прочтения этого отчета я пытался наблюдать за движениями хвоста Ксифос, чтобы проверить, соответствуют ли итальянские результаты происходящему в Аризоне. И предложил нескольким своим друзьям последовать моему примеру. К сожалению, очень сложно определить, в какую сторону собака виляет хвостом, ведь вокруг нас настоящая жизнь, а не стены лаборатории. Как и большинство собак, которых я знаю, Ксифос редко стоит на одном месте и виляет хвостом при неподвижности всего остального тела. Обычно она находится в постоянном движении. Поэтому мне не удалось подтвердить результаты исследования Валлортигары и его команды на основе наблюдения за хвостом Ксифос.
Тем не менее эти исследования, проведенные в Италии, делают объективным вывод, к которому наверняка пришли миллионы людей: когда собака видит своего хозяина, она счастлива и сообщает об этом вилянием хвоста.
Но группа Валлортигары также обнаружила, что собачий хвост выражает намного больше, чем мы можем понять сходу. В этом и сила научного метода. Польза науки была бы неоспорима, если бы результаты, полученные в ходе исследований, заключались в подтверждении (а иногда и противоречии) того, что обычные люди думают о своих собаках. Но обнаружить скрытое ранее от глаз человека — в нашем случае, что собачьи хвосты могут выражать различные эмоции, — значит вызвать волнение в научных кругах.
Безусловно, знание того, как выглядят собаки, когда они счастливы, служит еще одним доказательством их связи со своими хозяевами. Потому что когда они с нами, мы часто наблюдаем их счастливые морды и счастливые хвосты. Однако, чтобы выйти и заявить, что собаки особенные из-за способности формировать эмоциональные связи с людьми, мне были нужны более веские доказательства.
Разумеется, я собрал уже все имеющиеся на настоящий момент исследования по данной теме — от Павлова и Гантта в Санкт-Петербурге в начале ХХ века и вплоть до настоящих дней в Калькутте, Москве, Будапеште, северной и центральной Флориде. Результаты всех указывают на то, что у собак имеется существенная связь с людьми. У меня также были наши исследования из Волчьего парка, которые демонстрировали, что собаки тяготеют к людям гораздо больше, нежели их собратья волки.
Казалось, вывод напрашивался сам собой, но не все было так просто. Ведь, если подумать, наши собаки зависят от нас во всем, что им необходимо, — в еде, крове, тепле и даже необходимости ходить в туалет. Поэтому их интерес к нам может возникать лишь благодаря той важной роли, которую мы играем в их жизни.
Я знал, что мне нужно сделать нечто большее, чем просто продемонстрировать, что собаки приходят от людей в восторг. Я должен был показать, что мы им важны. Требовалось доказательство того, что собаки действительно делают что-то, чтобы помочь своим хозяевам, когда те расстроены. Это показало бы, что эмоциональная связь между людьми и собаками взаимна. А это куда более сильный аргумент в поддержку мнения, что эти четвероногие не просто привязаны к нам, но и заботятся о нас. Свидетельства такого рода открыли бы новое понимание эмоциональной жизни этих животных и пролили бы свет на их отношения с человеком.
Когда я начал обдумывать поиск существующих доказательств того, что собаки действительно могут что-то делать для своих хозяев, у меня появилось ужасное чувство, будто я тону. Я прекрасно помнил одну из наиболее ярких презентаций конференции, которую когда-либо посещал. Она посвящалась именно этому вопросу, и результаты представали крайне разочаровывающими.
Это было еще в первое время моего научного интереса к поведению собак, примерно в 2004 или 2005 году. Я находился на конференции по сравнительным когнитивным способностям в Мельбурне во Флориде. Мне приходится посещать немало научных собраний, и, должен признаться, иногда трудно было поддерживать в себе интерес во время долгих многолюдных заседаний. Между нами, я часто засыпаю во время послеобеденных встреч. Однако на одном таком собрании мне посчастливилось проснуться, и я не мог поверить в то, что услышал.
В этот конкретный день выступал Билл Робертс из университета Западного Онтарио. Далеко не самому красноречивому оратору на конференции, Биллу, скорее был присущ сухой, лаконичный стиль, из-за которого иногда недооценивают его обширные научные познания и сделанные открытия. Но как только я собрался уснуть после обеда, я понял, что Билл представляет нечто весьма отличное от его обычных скрупулезных лабораторных исследований на голубях. Нынешняя тема его презентации имела четкие и шокирующие последствия для моего исследования уникальности собак.
Билл рассказывал о недавно проведенном исследовании, в котором ряд добровольцев, выгуливавших своих собак в холодном ноябрьском парке, имитировали сердечный приступ. Криста МакФерсон, бывшая в то время студенткой Билла, пряталась за деревом с видеокамерой, а другой помощник сидел на скамейке, делая вид, что читает газету.
Одно за другим Билл показывал видео, снятые Кристой. Люди по очереди внезапно останавливались возле «незнакомца» на скамейке и с криком, хватаясь за грудь, падали на землю. Каждая собака тщательно обнюхивала рухнувшего хозяина, а затем реагировала следующим образом. Либо она ложилась рядом, либо (в самых забавных случаях) делала два осторожных круга вокруг него, и, убедившись, что никто не держит другой конец поводка, убегала в закат. Ни одна собака не подошла к человеку на скамейке, который мог оказать медицинскую помощь.
Ни разу я не видел, чтобы на научной встрече так много смеялись. Смотреть, как эти собаки убегают, особенно после сухого введения Билла в эксперимент, было невероятно смешно.
Позже критические комментарии показали, что, возможно, собакам удалось определить, что владелец лишь имитировал сердечный приступ, а не испытывал настоящую боль. Или, возможно, собаки не обращались за помощью, потому что не знали человека на скамейке. В ответ на эти замечания МакФерсон и Робертс воспроизвели эксперимент снова, имитировав падение на хозяина собаки книжного шкафа. Они предложили хозяевам перед «несчастным случаем» представить «незнакомца» собаке. Криста и Билл даже позволили каждому владельцу, будучи прижатым к полу, явным образом проинструктировать собак, чтобы те обратились за помощью. Но даже при этом улучшенном варианте первоначальной идеи результаты были точно такими же. Как и в эксперименте с сердечным приступом, ни одна собака не сделала ничего, что могло бы помочь вытащить ее хозяина или хозяйку из-под упавшего шкафа.
Несколько лет спустя было опубликовано другое исследование, которое еще раз подтвердило, что собаки не очень склонны помогать людям. Джулиана Бройер и ее коллеги из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге соорудили отсек из оргстекла, примерно восемь с половиной на четыре с половиной фута. В него вела дверь из плексигласа, которая открывалась при нажатии кнопки на полу. Группа Бройер надрессировала двенадцать собак нажимать на эту кнопку лапой, чтобы открывать дверь в отсек. После завершения обучения экспериментаторы помещали в отсек либо кусочек собачьей еды, либо ключ. Поскольку отсек был полностью прозрачным, собаки, прежде чем нажать кнопку, могли легко увидеть, что находится внутри. Когда в отсеке была еда, животные почти всегда нажимали кнопку, показывая, что они понимают, как работает механизм открывания двери.
Когда на полу в комнате лежал ключ, дверь открывала одна собака из трех. Не имело при этом никакого значения, смотрел ли человек то на ключ, то на подопытного, просил ли он его достать ключ, пытался ли открыть дверь, потянув за нее, или даже говорил «открой!» приказным тоном (на немецком языке, который, безусловно, делал эту фразу еще более властной!).
В следующем эксперименте команда Бройер добилась того, что процент собак, которые открывали дверь после того, как им прямо указывали на кнопку, увеличился до 50. Тем не менее я предполагаю (и Бройер и ее коллеги поддерживают меня), что собаки истолковывали указательный жест как инструкцию нажать кнопку. Так что это все еще не доказывает, что собаки заинтересованы в помощи людям.
Эксперименты и МакФерсон с Робертсом, и лейпцигской группы являются убедительным доказательством того, что собаки проявляют достаточную заботу о том, чтобы помочь своему человеку. Все тесты проведены крайне тщательно. Если судить только по этим экспериментам, то можно прийти к выводу, что собаки проявляют меньше заботы, чем люди.
К счастью, другие исследования показывают: собаки действительно беспокоятся о том, что происходит с людьми. К Теду Руффману и Заре Моррис-Трейнор, работающим в университетах в Новой Зеландии, пришла блестящая идея — демонстрировать собакам людей, которые испытывали крайние эмоциональные мучения (или как минимум воспроизводились издаваемые ими звуки). Они не просили собак делать что-то конкретное — просто хотели увидеть, переживают ли те какие-либо эмоции, реагируя на людей в экстремальных эмоциональных состояниях.
Для эксперимента были получены аудиозаписи человеческого голоса в самой свободной фазе жизни — младенчестве. При проведении этого научного эксперимента ни один ребенок не пострадал (!): исследователи записали совершенно спонтанные детские крики и смех.
Руффман и Моррис-Трейнор установили два громкоговорителя и поочередно проигрывали записи плача и смеха детей. Собаку помещали на равном удалении от каждого громкоговорителя, а каждая запись звучала по двадцать секунд. Исследователи затем измеряли склонность собаки приближаться к тому или другому (или не приближаться ни к какому) из громкоговорителей. Руффман и Моррис-Трейнор обнаружили, что все подопытные животные чаще устремлялись к колонке, передававшей детский плач.
Такой вывод вызывает интерес, но на самом деле мало о чем говорит. Возможно, он подразумевает, что собаки обеспокоены страданиями детей. Но плач может быть просто более странным, более сильным и более интригующим звуком, чем смех ребенка. Возможно, он пробуждает в собаках любопытство, а не сочувствие и обеспокоенность. Однако Дебора Кастанс и Дженнифер Майер из Голдсмитса, Лондонского университета, подумали о том, как расширить эксперимент Руффмана и Моррис-Трейнор, чтобы увидеть более выразительную демонстрацию заботы собак о людях.
При разработке своего исследования Кастанс и Майер выявили интересное различие между эмпатией и сочувствием. Эмпатия, как они утверждают, нечто вроде инфекции. Когда я вижу тебя грустным, мне тоже становится грустно.
Если все, что я испытываю — эмпатия, то я буду стараться избавиться от этой грусти. Если бы я был маленьким ребенком, то бы пошел на поиски своей матери. (А так как я им не являюсь, то скорее утопил бы свою грусть в скотче.) Сочувствие же — более сложная вещь. Если я вижу тебя грустным, и испытываю по отношению к тебе сочувствие, то я не обязательно сам грустный, но мною движет желание избавить тебя от этой грусти. Если бы я был твоим родителем, то обнял бы тебя. (Но так как я им не являюсь, то утопил бы твою грусть в виски.)
Было бы интересно обнаружить, что собаки проявляют к нашему страданию эмпатию. Однако, если они действительно проявляют заботу о своих людях, тогда речь идет о сочувствии, а не об эмпатии, и именно его мы должны искать.
Повторяя исследованиее Руффмана и Моррис-Трейнор, ученые Кастанс и Майер также показывали собакам людей, испытывающих страдание, но они улучшили структуру эксперимента несколькими способами. Чтобы максимизировать шансы получить нормальную реакцию собаки на страдающего человека, они тестировали каждое животное в его доме, и владелец был одним из двоих людей, которые должны были демонстрировать расстройство.
В течение двадцати секунд женщина-хозяйка максимально натурально плакала перед своей собакой. Контрольным условием, чтобы убедиться, что все действия собаки в ответ на плач не являются просто реакцией на странный звук, исходящий от хозяйки, было то, что она издавала жужжание в течение двадцати секунд. Майер — совершенно незнакомая собакам — также воспроизводила по очереди те же самые плач и жужжание. В перерывах между демонстрацией этих звуков хозяйка и Майер тихо болтали друг с другом в течение двух минут, чтобы дать собаке время отдохнуть от любых эмоций, вызванных плачем или жужжанием. Обе женщины находились в помещении постоянно. Все, что менялось на каждом этапе, так это тот, кто издавал звуки — владелица или незнакомка и сами звуки — плач или жужжание. Люди и действия, которые они выполняли, носили случайный характер.
Если собаками при приближении к плачущим людям двигало просто любопытство, вызываемое этим относительно редко слышимым звуком, тогда они должны были с той же готовностью подходить и к жужжащему человеку, потому что такой звук люди тоже крайне редко издают в присутствии этих животных. Но Кастанс и Майер обнаружили нечто совсем другое. Во время эксперимента собаки приближались к плачущим людям гораздо чаще, чем к тем, кто жужжал.
Если собаки испытывали эмпатию, то есть созерцание грустного человека заставляло грустить их самих, — тогда, точно так же как и малыши, бросающиеся к своей матери при виде плачущего человека, они были должны идти к своему хозяину в поисках поддержки, услышав плач пусть даже незнакомца. Но и это не то, что установили исследователи.
Кастанс и Майер сообщили, что собаки в эксперименте шли к плачущей хозяйке, но они приближались и к незнакомке, когда та начинала плакать.
Это согласуется с тем, что можно ожидать от способности к сочувствию: беспокойство о благополучии другого существа и желание предложить эмоциональную поддержку любому, кто находится в беде.
Чтобы было яснее, вывод, который я сделал из этого эксперимента, заключается не в том, как Кастанс и Майер истолковали свои результаты. По их мнению, наиболее вероятное объяснение полученных данных заключается в том, что собак, обладающих богатым опытом жизни рядом с людьми, раньше награждали за то, что они подходили к человеку, который выглядел грустным.
Но если именно ожидание вознаграждения побуждает собак подходить к плачущим людям, то почему они приближались к плачущему незнакомцу, а не к своему хозяину? Помните, оба человека присутствовали на всех этапах теста. Я бы подумал, что если плач приводит к ожиданию еды, то тогда ожидание, безусловно, будет сосредоточено на хозяйке — на той, кто раньше давала еду, а не на незнакомке, которая никогда не кормила собаку. И все же когда плакала незнакомка, то именно к ней приближалась собака во время эксперимента.
Нет, конечно, лучшее объяснение этих удивительных результатов заключается не в том, что собаки ожидают, будто грустные люди дадут им что-нибудь, а в том, что они на самом деле обеспокоены, когда человек расстроен. Они приближались к плачущему — независимо от того, была ли это хозяйка или незнакомка, — потому что испытывали эмпатию или сочувствие, их тревожило то, что человек страдает. Этот эксперимент убедительно доказывает: наших собак беспокоит происходящее с нами.
Эксперимент Кастанс и Майер является просто одним из видов тестов, которые мне нравятся. Как и тест на способности к общению Марианны Бентоселы, его очень легко проводить, но результат действительно убедителен. Он простой, без лишних деталей, поэтому если у вас есть собака, то можете попробовать выполнить его самостоятельно.
Вам не понадобится никакое оборудование. Только человек, незнакомый вашей собаке, и вы сами. И диван или два стула — хотя я полагаю, что вы можете провести его и сидя на полу, если достаточно проворны. Необходимо место без каких-либо отвлекающих факторов. Затем вам с помощником нужно по очереди плакать или жужжать в течение двадцати секунд с перерывом по две минуты между действиями. Вы заметите, как реакция вашей собаки будет сравнима с реакциями собак Кастанс и Майер. Беспокоит ли вашу любимицу ваше страдание, а также страдание незнакомца?
Не все тестируемые собаки Кастанс и Майер вели себя одинаково, поэтому вполне возможно, что ваш питомец продемонстрирует реакции, отличающиеся от тех, которые я здесь описал. Вы сможете узнать нечто новое и удивительное о нем, надеюсь, только приятное.
Многие из описанных исследований предполагают наличие у собак способности заботиться о нас. Или как минимум важности для них людей в такой степени, что они испытывают эмоциональную реакцию, когда мы страдаем. Но на первый взгляд эксперименты, показывающие, что собаки не помогают своим людям во время явного сердечного приступа или падения книжного шкафа, опровергают этот вывод. Как же мы должны согласовывать столь противоположные результаты?
Одним из способов разрешения этого якобы противоречия могут послужить собаки, помогающие людям.
Конечно, некоторые виды помощников всем известны: два очевидных примера — собаки-поводыри для слепых и сенбернары, собаки-спасатели, отыскивающие людей под снегом в Альпийских горах.
Но этих собак обучали оказывать помощь, поэтому их поведение, вероятно, отражает намерения их тренеров, а не их собственные. И, следовательно, их действия не помогут ответить на вопрос, являются ли собаки существами, замотивированными помогать людям.
И все же есть очень много примеров, когда простые собаки совершают удивительные подвиги, чтобы помочь людям, попавшим в беду. Теперь я, конечно, считаю, что мы должны быть осторожны с трактовкой того, что, по словам хозяев, делают их собаки. Потому что наша к ним любовь может затмить наши суждения и воспоминания. Однако в то же самое время огромное число сообщений о том, как собаки пытались помочь людям, получившим тяжелую травму, требует, чтобы мы серьезно относились к этим неофициальным данным.
Некоторые из самых ярких примеров, когда собаки пытались помочь людям, были документально зафиксированы во время Второй мировой войны. В британских газетах было несколько сообщений о собаках, не надрессированных на такие действия, но которые откапывали своих хозяев из-под обломков домов.
Декабрь 1940 года. Газета «Дейли мейл»: «Чум, двенадцатилетний эрдельтерьер, спас Марджори Френч. Ее дом был разрушен, и она, как в ловушке, оказалась под обломками. И тут Марджори увидела лапы собаки, яростно копающие, чтобы освободить ее, затем пес попытался вытащить ее за волосы».
Здесь перед нами ситуация, в которой страдания хозяина подлинны, а не постановочны. Крики боли женщины были, без сомнения, убедительными. И действия, которые требовались от пса, было легко понять. И то, что ему следовало сделать (копать), было совершенно естественным для любого такого же, как Чум. Конечно, в таких условиях собаки действительно приходят на помощь своим хозяевам. (Между прочим, Чум был впоследствии награжден медалью за храбрость Лиги наших бессловесных друзей — ведущей британской организации по защите животных.)
Это является довольно убедительным доказательством того, что собаки помогают людям, о которых они заботятся. И есть много других удивительных историй, подобных этой. Но они меркнут по сравнению с результатами очень умного эксперимента, проведенного на крысах в Чикагском университете.
Полное разоблачение с моей стороны: однажды я встречался с девушкой, у которой дома жила крыса. Маленькая зверушка активно суетилась в пределах квартиры, но, несмотря на ее бодрость, я никогда не рассматривал крыс как особенно социальных существ. Оказалось, ошибался: они на самом деле образуют сильные связи друг с другом, и две крысы, делящие одну клетку, станут настоящими друзьями и союзниками. То, насколько мощным может быть их дух товарищества, заинтересовало исследователей и со временем привлекло также и мое внимание.
Чтобы измерить силу чувств между двумя крысами в одной клетке, Пегги Мейсон и ее группа сначала спроектировали небольшой цилиндрический контейнер, достаточный для того, чтобы в него втиснулась крыса. Довольно неприятно для крыс попасться в такую ловушку…
Бедные маленькие зверьки разражаются воплями страдания, слишком тонкими, чтобы люди могли их услышать, но отчетливо распознаваемыми другими представителями их вида. Контейнер снабжен дверью, которая закрывается таким образом, что пленница не может открыть ее сама, но это получится у крысы снаружи, если у нее есть желание помочь своей подруге. Мейсон и ее коллеги сначала продемонстрировали, что если крыса в ловушке и крыса снаружи являются друзьями из одной домашней клетки, то большинство из находящихся снаружи откроет контейнер, чтобы освободить своего компаньона. Группа Мейсон продолжила эксперименты, показав, что крысы поступят таким же образом, даже если рядом будет стоять контейнер с шоколадом. Свободная крыса откроет оба контейнера и поделится шоколадом с соседкой.
Когда я услышал об этом, мне пришлось поверить, что если крысы освобождают своего собрата, который для них важен, то собаки, безусловно, тоже так поступят. Это могло бы стать идеальной проверкой того, насколько собаки заботятся о своих людях. Я понял: все что нам нужно, — это специальная ловушка для человека с защелкой снаружи, которую открыть собаке не составит труда, и человек, желающий быть запертым в ловушке и способный убедительно кричать.
Мы начали строить то, что я назвал «картонный гроб», из продуктовых коробок, скрепленных изолентой. Потребовались три больших коробки для сооружения ящика, достаточно вместительного, чтобы туда мог кто-нибудь заползти. Мы не заклеили переднюю стенку и проделали в ней дыру: собака должна была видеть, что внутри. Она могла при желании просунуть свою морду в это отверстие, чтобы открыть коробку.
Ксифос была первой собакой, на которой испытали этот «высокотехнологичный аппарат». И с сожалением вынужден сообщить, что она не пыталась освободить меня из моей «могилы», пока я звал на помощь.
Мне сказали (жена и мой студент Джошуа Ван Бур, чьей идеей это было), что она бегала вокруг, очевидно, в сильном огорчении, и, похоже, пыталась заставить мою жену помочь. Но ящик Ксифос не открыла… Когда же моя жена забралась в «картонный гроб» и позвала на помощь, Ксифос сразу же открыла коробку и спасла не такую уж беспомощную, как она выглядела, узницу. Давайте просто назовем эти конкретные обнаруженные данные неоднозначным результатом.
После того первого опыта Джош построил намного более вместительную коробку и просил многих людей забираться в нее и звать собак, изображая страдание.
На момент написания этой книги эксперимент все еще продолжается, но уже есть убедительное доказательство того, что немало собак спасают своих хозяев, когда те кричат и зовут на помощь.
Джош также обнаружил существенные различия между результатами экспериментов на крысах и на собаках. В первый день, когда крыс помещали в аппарат, Мэйсон и ее коллеги обнаружили, что примерно 40 процентов сородичей освобождали товарища. Но в среднем им требовалось около часа на выполнение этого. Даже спустя неделю после ежедневного тестирования лишь примерно половина крыс освобождали друг друга, и им все еще требовалось около двадцати минуть, чтобы это сделать. В отличие от них с подопытными собаками Джош обнаружил нечто другое. В течение одного двухминутного теста около одной трети из них освобождали своего хозяина.
Насколько я знаю, эксперимент Джоша является первым, в котором ученый когда-либо проводит тесты на то, как представители одного вида помогают представителям другого. И это не только захватывающий научный результат, но также, я полагаю, подобное ясное доказывает, что собаки испытывают острую необходимость помогать своим хозяевам. Основываясь на других исследованиях, мы знаем, что эти собаки чувствуют заинтересованность в человеческом общении. Но теперь мы знаем еще, что они сделают все возможное, чтобы помочь людям, с которыми их связывают особые узы.
Разумеется, не все собаки в этом исследовании — или других подобных — оказывали помощь. Но я подозреваю, что ошибка скрывалась в эксперименте, а не в самих собаках. Тесты были непродолжительны в интересах добровольцев, и требовалось, чтобы их крики о помощи не звучали слишком неестественно; более того, не все хозяева собак смогли достаточно правдоподобно изобразить страдания. Эти проблемы, несомненно, способствовали полученным данным о том, что не все собаки оказывают помощь.
Я также думаю, некоторые собаки хотели помочь, но не понимали, что им нужно делать. Подозреваю, именно это произошло в эксперименте МакФерсон и Робертса в Канаде. Как бы забавно ни выглядело поведение собак, многие из них вполне могли на самом деле сами испытывать страдания, когда у их человека, казалось, случался сердечный приступ или же он был придавлен книжным шкафом. Животные просто не понимали, что от них требуется в подобной ситуации.
Точно так же некоторые собаки в нашем эксперименте, возможно, не понимали, как открыть коробку, чтобы выпустить из нее человека. Это неизбежные ограничения подобного рода поведенческого эксперимента. Хотя мы и разработали исследование, чтобы предложить наиболее простой возможный способ собаке показать свое беспокойство и желание помочь, все же ясно, что для некоторых животных это настоящее интеллектуальное испытание. Как вы можете заметить, если попробуете провести его со своей собственной собакой, многие из них теряются в такой ситуации и абсолютно не знают, как поступить.
Однако на наших видеозаписях видно, как поведение собаки указывает на то, что данная ситуация огорчает ее, даже если она не открывает коробку и не освобождает своего хозяина. Более того, наши эксперименты показывают, что многие собаки действительно помогают пострадавшим близким людям, если проблема достаточно проста, чтобы животное ее поняло, и решение включает в себя поведение, к которому оно готово.
Копать и тянуть — это те вещи, которые собака знает, как делать. И если мы будем работать с этими простыми параметрами, то станет ясно, что собаки заботятся о нас достаточно, чтобы прийти нам на помощь.
Около столетия назад один из американских первопроходцев в области психологии животных Эдвард Торндайк (часто наравне с Павловым считающийся основателем бихевиоризма) горько пожаловался в одной из первых книг: «Собаки теряются сотни раз, и никто никогда этого не замечает и не отправляет отчет об этом в научный журнал. Но стоит одной из них найти дорогу из Бруклина в Йонкерс, так это немедленно становится историей у всех на слуху».
Точка зрения Торндайка хороша: естественно, всех нас тянет к историям о чем-то исключительном и чудесном. Иногда эти истории содержат крупицу истины, но зачастую они преувеличены и не отражают того, что могут делать животные. Если наше понимание собак должно стать объективным и научным, предоставляя огромные преимущества с точки зрения понимания того, как ухаживать за ними, тогда нам необходимо разработать тесты и эксперименты, которые могут установить без всяких сомнений, на что собаки действительно способны.
Поэтому в данной главе я избегал вымышленных историй о любви и заботе собак или историй из вторых рук. Во многом так же, как рассказы о подвигах Лэсси не могут иметь большого научного значения, для меня ничего не значило бы то, что в «Дейли мейл» в 1940 году сообщалось, будто собака спасла своего владельца из-под обломков разбомбленного дома, если бы я не смог найти способ экспериментально проверить, является ли это способностью собак. Разумеется, без того, чтобы на самом деле разбомбить чей-то дом.
Демонстрация МакФерсон и Робертса, что собаки, по-видимому, не пытаются помочь людям в беде, столь же важна для уточнения понимания их отношений с нами, как и гораздо более положительные данные из исследования моего студента Джоша. Без объективных доказательств мне бы даже захотелось оспорить значение счастливых морд собак и виляния хвостом. Признаюсь, радость, которую передает виляющий хвост, даже для меня было бы сложно поставить под сомнение.
Я очень серьезно отношусь к поведению как показателю отношения животных к миру. И в их поведении существует множество доказательств того, что собаки действительно проявляют заботу о людях. Собаки ищут нас; они игнорируют еду, чтобы быть с нами; в нашем присутствии они выражают радость посредством хвоста и морды; они демонстрируют готовность помочь нам, когда мы в этом нуждаемся.
Все это говорит о том, что у них есть сильные эмоциональные связи с людьми, что для собак мы важны на более глубоком уровне, чем большинство ученых и экспертов могут с уверенностью признать.
Но я также признаю, что сложно выяснить мотивацию ко всему этому, если изучать одни только действия. Как собаки относятся к людям? Их поведение может содержать подсказки, но ответы содержат их тела.
4. Тело и душа
Ксифос иногда издает звуки, похожие на нечто среднее между скулежом и воем. Я в шутку называю это ее попытками выучить английский. Вообще, я могу понимать ее в достаточной мере, даже несмотря на этот языковой барьер. Я знаю, что она любит прогулки и членов нашей семьи, она неоднозначно относится к нашей кошке, ей больше нравится человеческая еда, чем собачья, и т. д. Но тот факт, что она и ее собратья не могут сказать нам напрямую, как они себя чувствуют, ставит преграду между такими учеными, как я, и этими мохнатыми объектами исследований.
Инструменты психологии, безусловно, помогают нам заглянуть за завесу, разделяющую наши виды. Остроумные эксперименты позволяют наблюдать связь между вещами, которые происходят в мире (например, появление особого человека или человека, указывающего на объект), и поведением наших собак (стремление приблизиться к хозяину или следовать по направлению указательного жеста к объекту). Эти и многие другие тесты, безусловно, информативны и значительно улучшили наше понимание собак.
Но с помощью одних лишь видов исследований поведения чрезвычайно сложно понять глубинные мотивы выполняемых действий. Например, мы можем выдвигать теории, что выражение заинтересованности людьми в беде у собак показывает, что они заботятся об этих людях. Но в конечном счете это та теория, которую мы не можем доказать лишь с помощью инструментов психологии.
Таким образом, даже с увеличивающимся объемом исследований у меня на руках и растущим подозрением, что Ксифос испытывает эмоциональную привязанность, я приближался к пределам своего набора навыков как бихевиориста. Я также прекрасно осознавал, что многие другие психологи-кинологи не разделяют мою растущую страсть к исследованиям эмоций у животных. И, следовательно, не собираются особенно помогать в этом вопросе. Однако, к счастью, пока психологи мешкают, другая группа ученых — биологи — несется вперед на всех парах.
Ряд недавних научных исследований был направлен на выявление биологических основ реакции собак на людей. Эти эксперименты включают некоторые из наиболее интригующих и креативных текущих исследовательских проектов в области кинологии в настоящее время. И я знал, что эти исследования могут содержать неопровержимые доказательства, так нужные мне, что собаки особенные, поскольку они могут заботиться о людях.
Если у собак существует эмоциональное взаимодействие с людьми, то мы должны наблюдать свидетельства этого в их телах — в частности, в активации биологических механизмов, лежащих в основе эмоций. На сегодняшний день ученые обнаружили целый ряд неврологических, гормональных, сердечных и других физиологических маркеров, которые связаны с конкретными эмоциональными переживаниями у людей. Тот факт, что все животные взаимосвязаны через свою общую эволюционную историю, подразумевает, что подобная активность этих же маркеров у видов животных, не относящихся к человеку, может свидетельствовать о том, что они испытывают сходные внутренние состояния.
Если собаки действительно заботятся о людях, их привязанность должна отражаться на их телах. Сокрытое в биологии собак свидетельство их уникальности должно выйти на поверхность, как только у нас появятся правильные инструменты для его освещения.
Когда мы говорим об эмоциях, мы, естественно, склонны говорить о сердце. И на то есть веская причина: наши эмоции буквально способны ускорять наш пульс. Павлов и Гантт поняли это еще столетие назад и первыми, прикрепив электроды к ее груди, измерили, как изменялось ее сердцебиение, когда она обнаруживала, что человек заходит в камеру. Так ученым удалось доказать, что присутствие знакомого человека успокаивало взволнованное животное.
Этим направлением исследований также недавно воспользовались двое из Австралии: Крейг Дункан из Австралийского католического университета и Миа Кобб из университета Монаш. Вместе они провели прекрасную демонстрацию, которая буквально запечатлела, как два сердца могут биться как одно, когда собаки и их люди эмоционально синхронизированы.
Я знаю ученых, проводивших эти тесты, и поговорил с Мией Кобб об исследовании. Видео может быть сделано искусно, но исследования — реальны, а результаты полностью убедительны.
Дункан и Кобб подключили трех человек и их питомцев к мониторам сердечного ритма. Эти устройства определяют не только то, как быстро бьется чье-то сердце, но также и синхронность биения, когда одновременно записывают двух человек.
Для этого исследования Дункан и Кобб выбрали людей, имевших особенно сильную связь и взаимозависимость со своими собаками. Гленн — строитель, который получил серьезные травмы, когда леса на стройплощадке обрушились. Он сказал, что после несчастного случая пошел по кривой дорожке, и тогда он доверился своей собаке Лирике. И она вернула ему волю к жизни. Алиса глухая от рождения. Собака Юнона — это ее уши, с помощью питомицы женщина слышит и осознает, что происходит вокруг. Другая женщина, Сиенна, была убита горем после смерти своего пса Макса. Она не думала, что когда-нибудь какая-либо собака будет значить для нее столько же, сколько Макс, но ее новый питомец, Джейк, был полон решимости доказать ее неправоту.
Исследователи просили каждого участника по очереди сесть на диван и крепили монитор сердечного ритма к его груди. Во всех трех тестах Дункан и Кобб, отслеживая сердцебиение на экранах компьютеров, могли видеть, что человек был слегка взволнован ситуацией. То странное и незнакомое положение, когда к груди присоединен прибор, к которому вы не привыкли, и сидение на диване под прицелом камер, фиксирующих каждое ваше даже самое легкое движение, обязательно вызывает хотя бы небольшое беспокойство. После того как участник был устроен, экспериментаторы запускали в комнату его собаку, также с монитором сердечного ритма.
Как только собака и ее хозяин оказывались вместе, частота сердечных сокращений человека начинала снижаться, что указывало на расслабление. Очень быстро сердцебиение обоих испытуемых синхронизировалось — два сердца начинали биться как одно. Эта демонстрация настолько прекрасно доказывает близость человека и животного, что трудно найти что-то лучшее…
Эксперимент, как, вероятно, понятно, относится к таким, который вы не должны пробовать проводить самостоятельно. Даже если у вас есть собственный монитор сердечного ритма, я настоятельно не советую пытаться прикреплять его собаке без профессиональной помощи.
Но вы можете найти доказательства этой близости в постоянном ощущении спокойствия и глубокого расслабления, которое возникает тогда, когда ваша собака сидит рядом. Каждый человек, находившийся в теплых отношениях со своим псом, испытывал такое безмятежное единение.
Мониторы сердечного ритма — не очень дорогие и труднодоступные приборы, поэтому с их помощью ученые имеют возможность изучать то, что происходит в организме собаки, когда она находится в тесной связи с конкретным человеком. Но в исследованиях Грегори Бернса в университете Эмори в Атланте, штат Джорджия, используют значительно более дорогой аппарат. Его анализ биологических основ того, как собаки реагируют на людей, направлен к ядру органа, контролирующего все наши чувства, — к мозгу.
К 2012 году Бернс был признанным специалистом в относительно новой дисциплине — нейроэкономике, использующей инструменты нейробиологии, чтобы понять, как люди принимают решения, связанные с финанасами и другими экономическими проблемами. Бернс и его коллеги проводят исследования с помощью МРТ (магнитно-резонансного томографа). Такие приборы создают мощное магнитное поле для генерации фантастически детального изображения живого мозга в период бодрствования.
При сравнении снимков мозга, сделанных во время занятий человека различными видами умственной деятельности, ученые при помощи метода функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) могут установить, какие участки мозга отвечают за разные области мышления. Картины деятельности мозга, которые команда Бернса получает, настолько детализированы, что можно определить, какие центры в мозге отвечают за различные аспекты обработки экономической информации.
Так как сохранение умственного равновесия по-прежнему имеет решающее значение для успеха этого метода, единственные, чей мозг был отсканирован таким образом, были люди. Бернс всегда считал собак частью своей семьи и хотел понять, о чем думали его любимцы. Но ему никогда не приходило в голову, что МРТ можно использовать для лучшего понимания того, что происходит в мозге собаки.
Но когда Бернс узнал о ликвидации Усамы бен Ладена в мае 2011 года, на него снизошло вдохновение. Его внимание привлек тот факт, что в команду «морских котиков» ВМС США, проводившую эту операцию, входила немецкая овчарка. Бернс вспоминает в своих увлекательных мемуарах о том, как он разрабатывал эту новую линию исследований и его поразила фотография военной собаки, привязанной к груди солдата, прыгающего с парашютом. Ученый был очень впечатлен, увидев, что собаку можно научить работать в столь экстремальной обстановке. Овчарка (как и солдат) была в кислородной маске, она слышала страшный шум от двигателей самолета и испытывала крайне неприятные ощущения падения с такой высоты.
Тот факт, что собак можно обучить работать в чрезвычайно сложных условиях, вдохновил Бернса на проведение серии революционных экспериментов на собачьем мозге, которые в итоге убедительно поддержали бы теорию о том, что именно эмоциональное взаимодействие с людьми делает собак особенными.
Бернс взял свою собаку Кэлли на занятия по дрессировке щенков к опытному тренеру Марку Спиваку. Бернс спросил у Спивака о том, можно ли собаку научить лежать неподвижно при сканировании мозга.
Ученый знал, что для получения данных МРТ о мозге собак ему потребуется помощь. Чтобы аппарат смог создать детальное изображение того, что происходит внутри головы, пациент или объект исследования должны оставаться совершенно неподвижными в шумном ограниченном пространстве камеры. Аппараты МРТ, как правило, вызывают беспокойство даже у людей. Но как собаку, которую нельзя убедить словами, можно заставить лежать совершенно неподвижно в такой неудобной и непривычной ей обстановке?
Спивак сказал, что это можно сделать. Он утверждал, что современные гуманные методы дрессировки помогут собаке сохранять неподвижность, достаточную для сканирования мозга.
Бернс и Спивак договорились о сотрудничестве. Вместе они построили простую деревянную раму, в которой собак приучали находиться в позе сфинкса, положив лапы по бокам головы. Бернс получил записи шума, производимого аппаратом МРТ во время сканирования мозга, и Спивак приучал собак лежать в наушниках, через которые они слышали эти тревожные звуки, до тех пор, пока собаки не начали чувствовали себя совершенно комфортно.
Затем Бернс и Спивак приступили к созданию макета МРТ сканера, чтобы собаки могли привыкнуть к узкому, ограничивающему в пространстве туннелю. Они даже перенесли макет на стол и научили собак подниматься по ступенькам и ложиться в деревянную раму сканера, где через наушники те слышали утомительный шум, с которым им предстояло столкнуться в реальном аппарате МРТ. На протяжении всего этого длительного процесса тщательного формирования поведения собак Спивак и Бернс использовали только лакомства и не переходили к следующему этапу дрессировки, пока не могли сказать по поведению собак, что те действительно чувствуют себя комфортно и готовы продолжать работу.
Наконец после нескольких месяцев тренировок Спивак и Бернс поняли, что две собаки были готовы выполнить задание: забраться в настоящий сканер и лежать в нем неподвижно. Во время дрессировки эти животные показали себя достаточно хорошо, чтобы не осталось сомнений и вибрациями, которые могут возникнуть при проведении тестов.
Как только Бернс со Спиваком убедились, что собаки комфортно расположились в аппарате, Бернс начал работу над несколькими исследованиями.
Бернс разделяет мое восхищение тем, как собаки относятся к своим хозяевам. Он был полон решимости понять, сумеет ли найти в мозге собак доказательства их эмоциональной связи с людьми. Но для того чтобы выяснить, как мозг животного реагирует на общество своего человека, сначала Бернсу надо было убедиться, что с помощью разработанной методики он сможет определить участки мозга, активизирующиеся при получении простого вознаграждения, такого, например, как еда.
Чтобы увидеть, какие участки мозга собаки становятся активными, когда она чувствует, что обязательно получит награду, Бернс не мог просто показать собаке лакомство, пока она находилась в сканере. Животное может начать крутиться и пускать слюни, и это лишит шанса получить чистые изображения мозговой активности. Вместо этого Бернс и Спивак обучили подопытных, что сигнал одной рукой (левая поднята) означает, что те могут ждать еду, двумя руками (руки вытянуты вперед, пальцы слегка касаются друг друга) — что никакой еды нет. Обе собаки могли держать голову совершенно неподвижно при каждом сигнале столько времени, сколько было нужно Бернсу и его сотрудникам для получения четкого представления о том, какие части мозга активизировались.
В этом первом исследовании Бернс и его коллеги обнаружили, что, когда собаки ждут чего-либо приятного, их мозг функционирует так же, как и у человека. В центре удовольствия в мозге есть особая зона — вентральный стриатум. В ней актизивируются нейроны. Эта зона связана с системой вознаграждения мозга, которая в свою очередь ассоциируется со всеми видами поведения. Поэтому данные о том, что эта область так же активна у собак в ожидании награды, как и у людей, подтверждало и подход Бернса и его коллег.
Сначала в эксперименте участвовали только две собаки. Принимая во внимание необходимость интенсивной дрессировки, Бернс, Спивак и их коллеги не хотели тратить время и усилия на дрессировку большего числа собак, пока они не убедятся в том, что метод работает. Но, получив такой первоначальный результат, команда продолжила дрессировать собак — теперь у них более девяноста животных, способных совершенно неподвижно лежать в сканере МРТ.
Продемонстрировав, что они способны визуализировать специфические рисунки активности собачьего мозга в ответ на награду лакомством, Бернс, Спивак и их команда перешли к сути того, с чего начинали, — доказательству активности мозга при привязанности собак к людям. Они провели тесты на двенадцати животных, давая каждому понюхать тряпку с их собственным запахом, затем тряпку с запахом знакомого человека, с запахом незнакомого человека, знакомой собаки и незнакомой собаки. В этот раз исследователи обнаружили, что вентральный стриатум был преимущественно активен при запахе знакомого человека — основного опекуна собаки. Таким образом, эта активность в центре мозга, отвечающем за удовольствие, доказывает, что мозг собаки воспринимает присутствие любимого человека как ситуацию, сопровождаемую очень высокой наградой.
Циники могут возразить, что эта активность в вентральном стриатуме, вызываемая запахом хозяина, не доказывает на самом деле, что собака вознаграждена только одним этим напоминанием о своем человеке. Скорее, он так много раз кормил собаку, что его запах напоминает о еде, и зоны, связанные с системой вознаграждения мозга животного, активизируются благодаря этой ассоциации.
Я встретил Грегори Бернса на конференции и рассказал ему о своем беспокойстве. Я даже предложил ему попробовать провести эксперимент с людьми, у которых сильная связь с собственными собаками, но они никогда не кормили их. Коллега совершенно правильно заметил, что довольно сложно найти людей, имеющих собак, но никогда не кормивших их, и заверил меня, что он сейчас как раз проводит эксперимент, который объяснит мое беспокойство и поможет преодолеть неуверенность.
Конечно же, у Бернса и его команды был эксперимент намного умнее, чем тот, который предложил я. Их исследование имело три этапа, поэтому оно было немного сложным, но его примечательный результат делал его достойным изучения.
Кади, одна из подопытных в эксперименте Грегори Бернса, в макете сканера МРТ. Пластиковый игрушечный автомобиль предвещает скорое появление ее хозяина
Сначала Бернс и его команда набрали пятнадцать собак и приучили их лежать неподвижно в сканере МРТ. Пока каждая из них была внутри, исследователи показывали собаке сигналы, обозначающие приближение либо съедобной награды, либо похвалы от важного для нее человека. Если экспериментатор показывал пластиковый игрушечный автомобиль на длинной палке, это означало, что в скором времени собаку в течение трех секунд будет хвалить хозяин. Если же показывал пластиковую игрушечную лошадь, значит, ей дадут маленький кусочек сосиски.
Таким образом, по каждой собаке ученые получили данные, сколько центров в мозге, связанных с системой вознаграждения, были активны при предложении еды и сколько — когда хвалил значимый для собаки человек.
В ходе второго эксперимента они повторяли весь процесс лишь с пластиковым автомобилем. Но в этот раз исследователи иногда пропускали награду (человека с похвалой), обычно следовавшую после автомобиля. Результат: сигнал мозга, означающий разочарование, когда обещанной награды нет, — это отраженная мера активности мозга, лежащей в основе сигнала счастья, возникающего, когда награда все же присутствует.
Благодаря этим двум экспериментам у Бернса и его команды теперь было два нейронных сигнала, которые указывали на то, насколько сильно собаки ценили награду человека. В первом эксперименте они могли измерить силу активности мозга в вентральном стриатуме в ответ на похвалу и сравнить ее с уровнем активности в ответ на получение еды. Разница между этими двумя сигналами — это мера того, насколько каждая собака ценит похвалу человека в сравнении с едой. Во втором эксперименте разница между получением ожидаемой похвалы по сравнению с разочарованием от ее отсутствия является второй мерой ценности человеческой похвалы.
Эти две меры оказались тесно связаны. У Перл, которую Бернс назвал «компактным и энергичным золотистым ретривером», реакция была с более сильной активностью мозга на похвалу, нежели на еду, и также наблюдалась большая разница в активности мозга, когда за сигналом, говорящим о приближении похвалы человека, сама похвала так и не следовала.
С другой стороны, Трюфель, чей мозг слабо волновался в преддверии похвалы (сравнительно с едой), также демонстрировал небольшое неврологическое доказательство разочарования, когда похвалы не было. Мозг лишь двух из пятнадцати собак показал более значимую активность в отношении еды, чем похвалы. Мозг остальных тринадцати был либо более активен во время похвалы, либо отсутствовала разница в активности между этими двумя видами вознаграждения.
Но самая интересная часть исследования была еще впереди. Во время третьего эксперимента те же собак заводили по одной в большую комнату, где перед ними было две дорожки: одна вела к хозяину, который был готов похвалить и приласкать, а другая — к миске с лакомствами. Сидящий хозяин и ярко-желтая миска находились в поле зрения на том месте, где собаке необходимо было сделать выбор. Каждое животное проверяли двадцать раз — двадцать шансов выбрать между едой и лаской.
Бернс и его коллеги обнаружили, что большинство собак отдавали предпочтение похвале хозяина, а не еде. Но то, что они наблюдали, находилось за гранью определения среднестатистического предпочтения лакомствам ласки.
Поскольку этих же собак сканировали в аппарате МРТ, команда Бернса смогла рассмотреть это поведение через графическое изображение активности их мозга. Самым захватывающим открытием стало то, что предпочтение каждой собаки — хозяина или миски с едой — исследователь способен был предсказать с удивительной точностью, основываясь на графике мозговой активности животного.
Перл, предпочитавшая похвалу, оказавшись перед выбором, шла к человеку, готовому похвалить, в два раза чаще, чем к еде. А Трюфель, чей мозг меньше реагировал на похвалу, выбирал еду, а не человека в трех случаях из четырех.
Бернс, опираясь на полученные результаты, писал в «Нью-Йорк Таймс»: «Мы пришли к выводу, что большинство собак при выборе между нами и едой все же предпочитают нас». Однако проведенное исследование самом деле дало больше. Ученые установили, что для многих собак свои люди важнее еды. Но кроме того, они обнаружили в мозге собак центры возникновения интереса к человеку, находящиеся в области, отвечающей за анализ наград вроде еды.
Решение Бернсом загадки работы мозга собаки при предпочтении человека потрясает. Благодаря методу Бернса и его команды собачий мозг теперь может разговаривать с нами, и послание его очень ясно. Сходство собак с людьми заложено в их мозге, и нейронная активность животных даже может определить, насколько они о нас заботятся. Сказать, что собаки созданы для любви, не будет преувеличением.
Во время дрессировки и наблюдения за тем, какие центры мозга животных активизируются при напоминании о значимом человеке, Грегори Бернс и его коллеги установили, какие из зон отвечают за эмоции собак по отношению к человеку.
Но это еще не все, что связано с мозгом. Химия — один из важнейших аспектов его деятельности. Без химии наш мозг вообще бы не функционировал. Нервные клетки взаимодействуют с помощью специальных химических веществ — нейротрансмиттеров, и мозг также координирует деятельность всего организма при помощи химических гормонов.
Изучение этих нейрохимикатов сегодня является одной из самых интересных тем в биологии. Это помогает ученым преодолеть языковой барьер между людьми и целым рядом других видов, среди которых главными являются собаки. Точно так же как в географии мозга есть подсказки, насколько значимыми могут быть люди для собак, химические вещества дают понимание отношений между нашими двумя видами — и удивительные доказательства того, как много мы действительно значим для наших собак.
Недавние исследования показали, что определенный гормон играет ведущую роль в отношениях собаки и человека. Это окситоцин — в переводе с греческого название означает «быстрое рождение». Его открыл сэр Генри Халлет Дейл, который в 1909 году установил, что нечто в определенной части мозга заставляет матку сокращаться. Американец Винсент дю Виньо получил Нобелевскую премию по химии в 1955 году за определение этого химического вещества. Оно стало первым пептидом (биологическим химическим веществом, состоящим из аминокислот), полностью описанным учеными. Окситоцин является нейропептидом, то есть он оказывает прямое влияние на активность мозговых клеток.
Этот жизненно важный пептид, впервые обнаруженный при исследовании уникального функционирования женского организма в период беременности и грудного вскармливания, как мы теперь знаем, присутствует в организме млекопитающих, как самцов, так и самок, и играет значительную роль в интимных отношениях всех видов.
Например, когда самка крысы беременеет, повышение уровня нейропептида окситоцина заставляет ее проявлять повышенный интерес к крысятам. После введения инъекционно этого материнского пептида девственным особям ученые отметили, что тех начали больше интересовать крысята. У овец также выделение окситоцина во время родов заставляет матку запомнить запах новорожденного ягненка и таким образом заботиться о своем собственном потомстве, а не о других ягнятах.
Исследования решающей роли окситоцина в укреплении эмоциональных связей между особями легли в основу нового понимания отношений собак и людей. Оно предполагает, что привязанность этих животных к человеку выходит за рамки поведения, даже сканирования мозга, вплоть до уровня нейрохимии. Как мы можем заметить, химические вещества в мозге собак работают в согласии с их нейронной географией, управляя эмоциональными реакциями на внешние раздражители, которые являются ключом к точному пониманию того, как собаки относятся к людям. И где и каким образом их привязанность к нам берет начало в мозге.
Большая часть понимания действия окситоцина на проявление привязанности в поведении получена при исследовании степной полевки на равнинах Среднего Запада США и в центральной части Канады. Степные полевки в отличие от других близкородственных видов обычно моногамны, и оба родителя заботятся о потомстве. Ученые обнаружили, что окситоцин регулирует рекцию самки полевки на присутствие и отсутствие самца. Обычно она отдает предпочтение своему партнеру, но ее можно подтолкнуть к проявлению интереса к незнакомому самцу, если ей ввести окситоцин. (Похожий эффект наблюдается у самцов полевки, хотя результаты менее однозначны.)
Окситоцин играет важную роль в отношении степных полевок к своему потомству, а также своим собратьям, но и так же себя ведет часть мозга, которая наиболее чувствительна к этому нейрохимическому воздействию. Исследователи впервые столкнулись с этим, когда заметили, что отдельные полевки-самки по-разному проявляют интерес к самцам. И что эта изменчивость тесно связана с тем, сколько рецепторов окситоцина у них в определенной части мозга, называемой — как вы догадались — «вентральный стриатум».
Вентральный стриатум находится у собаки в тонусе, когда рядом с ней есть важный для нее человек. Это место является подобластью кластера нейронов, который играет важную роль в системе вознаграждения мозга, что в свою очередь ассоциируется со многими видами поведения. Кроме того, в значительной степени эта область мозга с очень высокой плотностью нервных клеток реагирует на стимуляции окситоцином.
Полученные при исследовании степных полевок (а также крыс, овец и других животных) данные помогли нам более ясно, чем когда-либо прежде, понять, как определенные области мозга и химические вещества работают вместе, чтобы укрепить социальные связи между эмоционально связанными особями одного вида. В последние годы ученые расширяют это исследование, чтобы точнее понять отношения между людьми и собаками.
Появляется все больше доказательств того, что те же нейроны и нейрохимические вещества, которые регулируют внутривидовые связи у других животных, отвечают за обеспечение межвидовых отношений между собаками и людьми. Окситоцин в вентральном стриатуме, по-видимому, играет решающую роль в проявлении интереса собак к нам, так же как это происходит у самки степной полевки в отношении самца или потомства.
Возможно, самое поразительное исследование этого феномена провели в Японии; основное внимание в нем уделяется роли окситоцина в развитии и поддержании эмоциональных связей.
Такефуми Кикусуи и его коллеги из университета Азабу в пригороде Токио делают очень много для расширения нашего понимания того, каким образом окситоцин является посредником при реакции собак на людей. В июне 2011-го мне посчастливилось посетить их университет. Должен признаться, мне стало немного завидно. Кикусуи работает в специальном здании для исследования собак с оборудованием, предназначенным не просто для изучения поведения, но и для проведения гормонального анализа. Но тот факт, что им разрешалось приводить своих питомцев в лабораторию, вызвал мою особую зависть. У Кикусуи и в офисе я также встретил трех его пуделей.
Помимо исследования роли окситоцина в поведении лабораторных животных по отношению к важным для них особям, мы можем выяснить влияние этого нейропептида на наш собственный вид.
Некоторое количество окситоцина проникает в мозг, когда пептид впрыскивают в нос добровольца. Ученые используют этот прием для регулирования количества окситоцина в мозге человека, что позволяет им наблюдать результаты изменения уровня этого мощного нейрохимического вещества. Например, исследователи продемонстрировали, что люди с повышенным содержанием окситоцина больше доверяют незнакомцам. Те, у кого уровень окситоцина был повышен искусственно, также лучше запоминают лица и успешнее справляются с определением эмоций на демонстрируемых им фотографиях. Причина этого, по-видимому, заключается в том, что повышенный уровень окситоцина заставляет людей дольше смотреть в глаза другому человеку.
Группа Кикусуи для получения действительно интересных открытий объединила несколько методов исследования. К примеру, они взяли образец мочи у добровольца и обучили его собаку мочиться по команде. Таким образом они могли провести анализ изменения уровней окситоцина в организме собаки и в организме человека при их взаимодействии. Наряду с этим ученые также применяют к обоим участникам пары человек — собака безболезненную технику впрыскивания окситоцина в нос для управления уровнями этого нейропептида. При взаимодействии человека и его собаки на них крепят видеокамеры, что позволяет оценить изменение поведения собаки и человека вместе с изменением у каждого из объектов исследования уровня окситоцина.
Используя этот инновационный подход к измерению содержания нейрохимических веществ в организмах людей и собак, Кикусуи и его сотрудники обнаружили нечто невероятное: уровни окситоцина и у тех и у других резко возрастают, когда они смотрят друг другу в глаза. Эффект зависит от силы эмоциональной связи между собакой и ее хозяином. При наиболее выраженной эмоциональной привязанности людей к своим питомцам те смотрели на них дольше. А у этих людей наблюдалось повышение уровня окситоцина сильнее, чем у владельцев, менее связанных со своими собаками.
Еще исследователи выяснили, что при впрыскивании окситоцина собакам те также дольше смотрели на своих хозяев. Затем, когда измерили уровень окситоцина в моче человека, они заметили, что уровень нейропептида вырос, хотя дозу окситоцина получали собаки, а не владельцы. Исследовательская группа университета Азабу также обнаружила, что подопытные животные были более склонны играть с людьми и сородичами.
Эти результаты прекрасно отражают наблюдения за матерями и младенцами. Женщины с повышенным уровнем окситоцина смотрят на своего малыша дольше, чем женщины с более низким уровнем. Любой родитель, мужчина или женщина, может определить тот мощный эмоциональный всплеск, который испытывает в этот момент. Представьте себе глубокие потоки эмоций, которые наверняка проходят между человеком и собакой в сходных сценариях, поскольку точно так же неистово взаимодействуют элементы их нейронного механизма.
Результаты чрезвычайно захватывающие, но они лишь верхушка айсберга. Передовые исследования роли окситоцина в сильной связи между человеком и собакой в настоящее время проводятся по всему миру. Если бы я оценивал вклад стран в изучение этого вопроса, другим главным претендентом на лидерские позиции, помимо Японии, была бы Швеция.
Во время недавнего визита в Швецию я очень хотел встретиться как можно с большим числом шведских исследователей. Но в моем расписании было только несколько имен. Кроме того, одна из молодых ученых, чьей работой я восхищался, Тереза Рен, недавно родила ребенка. Тем не менее нам удалось выпить кофе на центральном железнодорожном вокзале Стокгольма, выкроив для этого пару часов. Мы успели по максимуму использовать ограниченную по времени фику[12]. Рен добавила еще более потрясающие подробности о роли окситоцина в связи между собакой и человеком.
Вместе с коллегами из Шведского университета сельскохозяйственных наук в Упсале Рен исследовала феномен, который всегда поражал меня как одно из самых глубоких проявлений любви наших собак к нам: то, как они реагируют, когда мы возвращаемся домой после разлуки.
Размышляя о том, как знакомые псы выражают свои чувства по отношению ко мне, я понимаю, что именно их поведение при встрече в наивысшей степени демонстрирует привязанность.
В Фениксе, штат Аризона, людям разрешено приводить своих собак в аэропорт. Всегда так увлекательно наблюдать волнение Ксифос, когда моя жена или сын появляются из-за угла после проверки службы безопасности. Мне практически завидно, насколько Ксифос лучше, чем я, демонстрирует своей позой и поведением, как она взволнована возвращением близкого человека. Моя природная британская сдержанность мешает мне проявлять излишнюю эмоциональность в общественных местах, но Ксифос далека от этого. Она скулит, практически ложится на пол и низко виляет хвостом, прежде чем подпрыгнуть и поцеловать, облизывая, хозяина или хозяйку. Люди оборачиваются на нее, но Ксифос чужды правила приличия.
Меня привлекает идея изучения того, что происходит в мозге собаки в тот момент, когда мы видим яркий взрыв любви к представителю другого вида.
Для эксперимента Рен со своими коллегами измерили уровни окситоцина у двенадцати биглей до и после того, как значимый для них человек покидал комнату на 25 минут. Людей разделили на три группы, каждой из них дали разные инструкции относительно того, как себя вести во время встречи с собакой после двадцатипятиминутного отсутствия.
Одна треть людей должна была установить вербальный и физический контакт (например, ласковые разговоры и поглаживания) с собакой, другая треть — просто поговорить с собакой ласковым голосом, и последняя треть не должна была говорить вообще, а сидеть и просто читать книгу. Каждая встреча человека и собаки проходила под наблюдением в течение четырех минут.
Группа Рен зафиксировала, что при встрече у собак повышается уровень окситоцина, даже когда люди игнорируют их. Однако чем больше человек уделял времени своей собаке, тем более устойчивым было увеличение уровня окситоцина. Эти результаты показывают, что эмоциональная реакция собак на появление их особого человека действительно подкреплена мозговыми механизмами, которые, как известно, связаны с наиболее важными эмоциональными связями между особями.
Другая молодая шведка, с которой мне удалось пообщаться, Миа Перссон из университета Линчёпинга, изучает роль окситоцина в отношениях между человеком и собакой на еще более глубоком и более захватывающем уровне. Вплоть до тех самых генов, которые кодируют рецепторы, обеспечивающие воздействие окситоцина на мозг. Выявляя связь между ДНК собак и их склонностью испытывать удовольствие от контакта с человеком, Перссон и ее сотрудники действительно определяют глубину чувств собак к людям на самом нижнем уровне биологического анализа.
Перссон с коллегами приводили шестьдесят золотистых ретриверов одного за другим в тестовую комнату с их владельцем. Затем исследователи впрыскивали окситоцин собаке и предлагали хорошо видимые лакомства, но они были заперты в специально сконструированном контейнере. Довольно быстро собака в такой ситуации начинает умоляюще смотреть на человека рядом, прося о помощи.
Этот эксперимент вы можете легко попробовать провести сами. Стыдно смотреть, как быстро большинство собак прекращают попытки добраться до чего-либо, если есть человек, к которому они могут обратиться за помощью.
Удивительно, что с учетом результатов исследований японских ученых, эти собаки с повышенным уровнем окситоцина в среднем не смотрели на своего человека дольше, чем животные в контрольной группе, которым не впрыскивали нейрохимическое вещество.
Но у эксперимента Перссон есть еще один дополнительный слой. С помощью ватного тампона взяли образцы ДНК с внутренней стороны щеки каждой собаки и использовали этот генетический материал для анализа гена, ответственного за рецепторы в мозге, стимулируемые окситоцином. То, что они обнаружили, показывает, что не все собаки реагируют на окситоцин одинаково. Это помогает объяснить, почему интенсивность эмоционального ответа на человека варьируется от одного представителя собачьих к другому.
Исследователи из Линчёпинга обнаружили, что гены, которые кодируют рецепторы окситоцина мозга, пишутся с использованием только двух из четырех букв «алфавита» ДНК: А и Г. Поскольку организм обладает двумя копиями каждого гена, у любой отдельно взятой собаки может иметься ген рецептора окситоцина, который обозначается одним из следующих способов: AA (две копии A), ГГ (две копии Г) или АГ (одна копия каждого типа). Эти крошечные различия, кажется, оказывают большое влияние на то, как собаки перерабатывают окситоцин и как они относятся к людям.
Особи с первым вариантом написания гена рецептора окситоцина демонстрировали поведение, более ориентированное на человека, чем собаки со вторым или третьим вариантом. Собаки с типом АА быстрее просили помочь хозяина, чем животные с двумя остальными версиями генов. И когда им в нос впрыскивали окситоцин, собаки с типом гена рецептора окситоцина АА были еще более склонны просить помощи у человека.
Это удивительное открытие проводит связь между привязанностью собак к человеку с самыми основными строительными блоками их (нашей) биологии — генетическим кодом. Столь удивительное явление — первый шаг в предстоящих новых исследованиях чувств собак к людям.
Ученые обнаружили и другие интригующие различия в связи между ДНК собак и их отношением к людям. Например, Анна Кис и ее коллеги из новаторской Лаборатории семейных собак в Будапеште продемонстрировали невероятную сложность генетики собак, добавив еще один захватывающий поворот в исследование генов рецепторов окситоцина, проведенное Мией Перссон.
Кис и ее коллеги изучали две породы собак и пришли к разным структурам результатов. Когда они впрыскивали окситоцин в нос немецкой овчарке, а затем бордер-колли, результат зависел не напрямую от вида гена рецептора окситоцина, которым обладала собака, а от сочетания формы гена и породы животного. Немецкая овчарка действовала более дружелюбно, когда ей в нос попадал окситоцин, так как она обладала особой формой гена рецептора данного нейропептида. Но бордер-колли вела себя более дружелюбно, имея ген в той же форме, которая делала немецкую овчарку менее дружелюбной.
Это показывает, насколько сложными могут быть отношения между генами и поведением. Геномы немецких овчарок и бордер-колли, вероятно, настолько несхожи друг с другом, что это провоцирует такие тонкие различия в их поведенческом ответе на окситоцин. В частности, различия в генетическом коде двух пород должны влиять на то, как их гены рецептора окситоцина взаимодействуют с самим нейрохимическим веществом, чтобы сформировать модель ласкового поведения, которую мы наблюдаем у этих представителей вида собак.
От ласкового поведения до гормонов привязанности к генам, которые кодируют рецепторы этих гормонов в мозге… Ученые все глубже и глубже изучают биологическую сущность собаки, находя все больше и больше подтверждений тому, что она запрограммирована на эмоциональную связь. Но такое доказательство, хотя и убедительное, не подтверждает, что собаки являются уникальными в этом отношении. И оно не ответ на вопрос, на поиски которого я отправился: что же делает собак такими особенными?
Как специалист по поведению, я, естественно, лучше всех осведомлен об исследованиях поведения собак. Однако не могу отрицать, что определяющие различия — поведенческие или иные — между любыми двумя видами[13] должны сводиться к ДНК каждого из них.
Поэтому, если в собаках есть что-то уникальное, я знал, что это должно быть связано с их генами. Любое постоянное различие между поведением волков и собак обязательно прописано в генетическом коде. Конечно, найти его будет сложно, но наверняка оно должно находиться там. Результаты, полученные Мией Перссон и Анной Кис, показывают, как гены влияют на характерное поведение собак, но доказательств должно быть больше.
Теперь мы знаем каждую букву в большой книге, в которой изложен генетический код собаки. Это связано с тем, что в 2004 году собака породы боксер по имени Таша стала всего лишь четвертым млекопитающим, у которого был упорядочен весь геном, в проекте, возглавляемом Керстин Линдблад-Тох из института Броуд (они называют его «Броод»), в Кембридже, штат Массачусетс. Эта информация чрезвычайно полезна в вопросах изучения генетических болезней у собак, таких как рак. Обнаруженные данные, вытекающие из этого одиночного прорыва в науке, тоже содержат ключ к раскрытию тайны того, что делает собак такими особенными.
Спустя пять лет после того, как стал известен первый геном собаки, молодой генетик из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Бриджит фон Холдт возглавила команду, которая опубликовала статью, чье сухое название обещало заманчивые открытия из «богатой истории, лежащей в основе одомашнивания собаки». Этого было достаточно, чтобы зацепить меня, — и я не преувеличу, если скажу, что информация, которую я прочитал в этой академической работе, изменила мое понимание того, что делает собак теми уникальными существами, какими они являются.
Фон Холдт и ее коллеги объяснили, как они прошли весь путь по геному собаки (точнее, геномам 912 собак), сравнив его с геномом волка (собственно, геномами 225 волков). Исследователи рассматривали один маленький кусочек генетического материала за другим, проверяя, нет ли в нем признаков недавней эволюции. Когда мы говорим о собаках, «недавняя эволюция» означает процесс, посредством которого определенные волки стали собаками, — процесс, известный как одомашнивание. Так что фон Холдт и ее коллеги в основном искали генетические изменения, сделавшие собак собаками.
Я подозреваю, что любой человек находит язык научных дисциплин, кроме того, на котором его учили, довольно сложным, но мне действительно кажется, что генетики бьют все рекорды. Я и моя тогдашняя аспирантка Моника Уделл (ныне профессор Орегонского государственного университета) прочитали и перечитали эту статью фон Холдт и ее сотрудников. Сначала мы не могли обнаружить ничего, что бы относилось к вопросу, который нас интересовал: что на психологическом уровне делает собак особенными. Было немного о генах для «формирования памяти и / или поведенческой сенсибилизации» и несколько других интригующих моментов, но ничего, что послужило бы ответом на вопрос о том, выделяются ли собаки своим интеллектом или способностью формировать эмоциональные связи среди других животных.
Затем мы натолкнулись на один фрагмент о генетике, настороживший нас: исследователи наблюдали мутацию, близкую к «гену, ответственному за синдром Вильямса — Бойрена у людей… который характеризуется социальными чертами, такими как исключительная общительность».
«Исключительная общительность» — разве это не идеальное подведение итогов феномена, который мы наблюдали в наших исследованиях поведения? Разве это не технический способ говорить об очень эмоциональной связи, определяющая отношения собак с людьми? Я сразу же помчался проверять синдром Вильямса — Бойрена и быстро обнаружил, что у этого синдрома Вильямса (как его обычно называют) есть много симптомов, но его выдающаяся особенность — чрезмерная общительность.
Люди с синдромом Вильямса не имеют представления о таком понятии, как «незнакомец». Для них каждый — друг.
Стандартное описание человека с синдромом Вильямса: «коммуникабельный, очень общительный, крайне дружелюбный, милый, очаровательный, проявляющий чрезвычайный интерес к другим людям и не боящийся незнакомцев».
Я смог найти фрагмент из телешоу «20/20» на ABC News онлайн о летнем лагере в северной части штата Нью-Йорк для детей с этим синдромом. Он назывался «Где все хотят быть твоим другом». Журналист Крис Куомо был явно поражен теплотой, с которой его там встречали. Абсолютно не боясь камер, дети задавали Куомо вопросы: откуда он? какой у него любимый цвет? есть ли у него дети?
Одна девочка лет двенадцати спросила его, нравятся ли ему девочки, а затем закрыла лицо, хихикая и смущаясь, когда он ответил: «Да, девочки мне нравятся».
Когда я смотрел это видео, мне сразу вспомнились многочисленные комические сюжеты на YouTube, в которых люди изображают собак. Мне особенно нравится «Друг-кот против друга-собаки» Джимми Крейга и Джастина Паркера, имевший на момент написания этой книги более двадцати шести миллионов просмотров. Джастин Паркер в качестве собаки — абсолютно такой, какими выглядят дети с синдромом Вильямса: он очень дружелюбный, милый, очаровательный… Все подобные прилагательные, которые приходят на ум, так хорошо описывают детей во фрагменте телешоу «20/20».
Должен признаться, что я был шокирован, наблюдая за детьми с синдромом Вильямса. Это может звучать абсурдно, но мне казалось, что я наблюдаю за целым лагерем детей, притворяющихся собаками. И как только появилась эта мысль, мне стало стыдно. Неважно, как сильно вы любите собак, никто (я надеюсь) действительно не захочет думать о своем ребенке как о собаке. Мой собственный сын в то время был примерно того же возраста, что и несколько детей из этого телевизионного фрагмента. Я бы не хотел, чтобы кто-то лишил его человеческих качеств, сравнивая с собакой.
В эмоциональном плане меня скорее смущало увиденное, но с научной точки зрения я был чрезвычайно взволнован.
Интуитивно ощущалась сильная связь между поведением детей с синдромом Вильямса и поведением собак. Может ли она быть недостающим звеном? Долгожданным ключом к пониманию того, что делает собак такими замечательными существами, какими они являются?
Чем больше я размышлял о научных последствиях того, что я видел, тем сильнее начинал испытывать приступы научной паники. В нашем исследовании, сравнивая поведение собак и волков, мы с Моникой часто указывали, что поведение человека — это не просто прямой результат определенного генетического наследия. Влияние генов в значительной степени модулируется жизненным опытом. Когда мы вступали в споры с другими учеными по поводу того, могут ли волки следовать указательным жестам человека, нам было трудно объяснить, что выполнение чего-то вроде таких заданий представителем другого вида не является поведением, приобретаемым отпрыском любого вида и полностью сформированным с рождения щенка (или ребенка).
Даже наши дети не рождаются со способностью следовать жестам окружающих их людей. Лишь спустя какое-то время после своего первого дня рождения малыши могут хорошо понимать движения рук и другие проявления языка тела. Мы с Моникой смогли показать, что некоторые волки, воспитанные среди людей — а это совершенно исключительно для волка, хотя и довольно распространено для собаки, — действительно были готовы и проявляли желание следовать указательным жестам человека и понимать их значение.
Приложив много усилий, чтобы подчеркнуть исключительную важность опыта, а не только генетической идентичности, Моника и я почувствовали себя немного странно, так взволновавшись открытием в генетике. Но мы никогда не отрицали актуальности генетики для понимания того, как устроены собаки. И, наиболее очевидно, то, что отличает подвиды волков, которых мы называем собаками, от других подвидов волков, которые все еще признаются волками, должно заключаться именно в их генетических кодах.
Вскоре после того, как мы поделились этим интересным соображением друг с другом, Моника приступила к организации собственной лаборатории в университете штата Орегон. Разумеется, мы оставались на связи и часто говорили о наших общих научных увлечениях.
В первый год после переезда в Орегон Моника рассказала мне, что она столкнулась с Бриджит фон Холдт на конференции. Бриджит определила гены синдрома Вильямса как ключевое генетическое изменение в эволюции собак от волков. Мы с Моникой хотели найти способ проверить, было ли это изменение в двух представителях собачьих причиной существенного различия в их поведении. Чтобы решить такую увлекательную задачу, мы решили заняться совместной работой.
Монике, Бриджит и мне следовало найти способ узнать, были ли именно гены, определенные Бриджит как измененные в ходе эволюции от волка к собаке, ответственны за «чрезвычайную общительность» собак, а не какой-то другой менее выраженный симптом синдрома Вильямса. Мы должны были иметь в виду, что синдром Вильямса включает в себя большое количество генов (около двадцати семи) и что люди с синдромом обладают широким спектром качеств, помимо просто общительности, которая заинтриговала нас. Тип лица у них «эльфийский» (лицо эльфа), они могут страдать от проблем с сердцем, слух сверхчувствителен, и, помимо остальных проблем, они, как правило, интеллектуально ограничены.
Во время размышлений обо всем этом у меня была возможность посетить Научный центр изучения волков в Венском ветеринарном университете. После того что я там увидел, огромная разница в поведении собак и волков сделалась действительно конкретной.
Научный центр изучения волков, основанный биологами-бихевиористами Куртом Котшалом, Фредерике Ранге и Жофией Вирани, настолько близко подходил к вопросу о выращивании собак и волков в одинаковых условиях, насколько только это было возможно. На территории Научного центра изучения волков в прекрасной деревне, расположенной вокруг замка в стране вин, примерно в часе езды к юго-западу от Вены, проживает популяция волков (около двух десятков), выращенных людьми. Поэтому они с готовностью принимают человеческое общение. К моменту своего визита я уже много времени провел с питомцами Волчьего парка в Индиане, поэтому, хотя меня всегда восхищает их благородство, не ради встречи с волками я ехал туда. Именно собаки из этого центра действительно заинтриговали меня.
Чтобы установить наилучшие возможные контролируемые сравнения поведения волков и собак, Научный центр содержит несколько десятков собак в условиях, максимально приближенных к условиям жизни волков. Это означает, что люди забирают щенков у матери в первые недели жизни и воспитывают. Затем, когда они становятся достаточно взрослыми, чтобы жить самостоятельно, их помещают в огороженную зону, где они находятся в основном среди особей своего вида.
Поскольку этих собак воспитали люди, те с радостью воспринимают человека в качестве компаньона для общения, как это делают их домашние собратья. И собаки, и волки видят людей и взаимодействуют с ними каждый день, но все же ведут жизнь главным образом среди сородичей.
И поскольку собак и волков разводят почти в одинаковых условиях, любые различия, которые ученые наблюдают между двумя видами при выполнении психологических тестов, несомненно, связаны с причинами, отличными от воспитания.
В холодный февральский день Жофия, Фредерике и Курт встретили меня и провели небольшую экскурсию. Размещение в центре довольно интересное, со множеством вольеров, в которых живут волки и собаки. Там же находится прекрасное исследовательское здание, напоминающее клубный дом в лесу.
Во время прогулки по территории мы впервые увидели волков. Они мирно отдыхали в мягком солнечном свете между сугробами, оставшимися от снежной бури, прошедшей в начале недели. Когда волки услышали, как мы приближаемся, многие, но не все, встали, потянулись и подошли к забору. Те из нас, кто был знаком с волками, гладили их через проволоку. Большинство животных выглядели заинтересованными и благодарными за ласку. Они мягко виляли хвостами и проталкивались вперед, чтобы их погладили. Но звери хорошо разбирались в посетителях, и несколько волков нас полностью проигнорировали.
Затем мы пошли в глубь территории, где жили собаки. Еще до того, как мы добрались до их вольера, животные побежали к нам, лаяли, взволнованно тявкали и усиленно махали хвостами. Первые, кто заметил нас, предупредили других, и вскоре мы увидели множество сумасшедших, взволнованных собак, подпрыгивающих вверх вдоль забора по мере нашего приближения.
В этот момент мне пришлось взять паузу и подумать о том, какое разное ощущение, когда находишься среди этих двух близких подвидов животных. Трудно не войти в волчий вольер без чувства тревоги за свою безопасность, даже если знаешь, что волки в Научном центре никому еще не причинили зла. Среди собак же мы совсем не испытывали страха — я просто опасался испачкаться, потому что собаки в своем энтузиазме даже пытались запрыгнуть на нас.
Контраст между умеренным интересом волков и неистовым оживлением собак стал убедительной демонстрацией того, как эти собратья из семейства Псовые проявляют очень разную степень привязанности к людям.
Домой я вернулся с яркими впечатлениями о том, насколько разными могут быть эти два вида. Полученные впечатления наложили отпечаток на наши обсуждения с Моникой и Бриджит возможности проверить, какую роль играют гены синдрома Вильямса в совершенно разном поведении этих животных.
Очевидно, нам нужно было выйти за рамки тех впечатлений, вызванных энтузиазмом собак и волков по отношению к людям, которые я получил в Научном центре изучения волков. В идеале нам следовало использовать простой и быстрый тест, который мог бы количественно оценить способность собак и волков к межвидовой привязанности таким образом, чтобы можно было провести научное сравнение. Это позволило бы понять, какую часть своей способности к привязанности к другим видам собаки приобрели самостоятельно и сколько ее они унаследовали от своих предков, волков.
Для этого существовало множество потенциальных тестов, но я понял, что мы уже выполняли один тест, который дал именно то, что нам нужно. Я вспомнил, как наша подруга Марианна Бентосела из Буэнос-Айреса продемонстрировала мне и Монике то, что стало одним из моих любимых экспериментов.
На открытом пространстве человек сидел на стуле в центре круга диаметром один метр. Она приводила собаку на две минуты, а затем засекала, сколько времени та проводит в кругу. В Волчьем парке мы позже провели этот эксперимент на волках.
Волки, которых Марианна тестировала в Волчьем парке, хотя они и часто виделись с незнакомыми людьми, не проявляли особой склонности к общению с кем-то, кого не знали. И проводили внутри круга примерно по 30 секунд из каждых двух минут с человеком-другом. Собаки же проводили больше времени с незнакомым человеком, чем волки с тем, кого они знали всю жизнь. А уж если на стуле в круге сидел тот, кого собака знала, то она оставалась рядом с ним все отведенное время.
Моника и ее студенты провели второй, очень простой тест на тех же волках в Волчьем парке и на собаках в Орегоне. Она дала им обычный пластиковый пищевой контейнер с небольшим кусочком сосиски. Чтобы сделать задачу максимально легкой, через крышку была пропущена толстая веревка, так что любой зверь при желании мог легко открыть ее.
Волки обычно срывали крышку с контейнера, чтобы съесть сосиску. Но большинство собак, если рядом был человек, предпочитали обратиться к нему за помощью вместо того, чтобы самим открыть контейнер.
Здесь в контексте проблемы, вставшей перед собакой и волком, мы увидели тот дополнительный интерес к социальным контактам, имеющийся у собак. Он выражается в том, что в трудных ситуациях человек воспринимается ими как помощник.
После этого мы обратились к нашей коллеге и специалисту по генетике Бриджит фон Холдт. Моника отправила генетические образцы (мазки с внутренней стороны щеки) собак и волков, участвовавших в этих поведенческих тестах. Предполагалось, что Бриджит удастся установить, могут ли различия между собаками и волками в этих тестах, которые она ранее назвала следствием недавней эволюции собак, быть обусловлены генами синдрома Вильямса.
Процедура генетического иссследования сложна, но вопрос, который мы задавали, был простым, хотя и глубоким. Изучаемые нами собаки и волки различались по своему поведению. И — по своим генам. Существовала ли связь между неодинаковыми уровнями поведенческой активности на социальные навыки и генами тестируемых животных?
Хотя у меня и имелись определенные надежды, я не был уверен, что мы сможем найти прямую связь между простыми паттернами поведения, такими как обращение к человеку за помощью, и самым базовым уровнем биологии — генетическим кодом. И когда Бриджит сообщила нам по электронной почте о том, что чрезмерный интерес собак к людям был связан с тремя генами, относящимися к синдрому Вильямса, я был так же взволнован, как и несколькими годами ранее, когда мы с Моникой обнаружили, что волки способны следовать человеческим жестам. И вот мы здесь показываем, что именно выделяет собак в природе, — секрет их успеха у нас.
Бриджит продемонстрировала, что один из генов («поэтично» названный WBSCR17) подвергался интенсивному отбору во время недавней эволюции собак. Другими словами, он изменился во время одомашнивания. Анализ показал, что для этого и еще двух генов, известных как GTF2I и GTF2IRD1, за разные уровни общительности, обнаруженные у собак и волков, отвечали отдельные формы.
Наряду с этой основной демонстрацией генетических изменений у собак на пути к становлению вида, отличного от волков, в ходе исследования было сделано еще два интересных открытия. Первое: разные породы собак обладают разными версиями этих трех генов, и способы их выпадения согласуются с типичными описаниями пород как дружественных или отчужденных.
Моника и Бриджит в настоящее время проводят исследование собак различных пород, чтобы попытаться получить более точную картину того, как генетические вариации могут привести к неодинаковым моделям проявления общительности у разных собак.
Вторым открытием является то, что предыдущие опыты на мышах, в которых экспериментально управляли генами, прямо продемонстрировали, что гены GTF2I и GTF2IRD1 участвуют в общении. И еще один интересный поворот: меньшая часть людей с синдромом Вильямса не проявляет преувеличенную общительность, которая обычно является определяющим аспектом этого синдрома. Они, как было доказано, имеют нормальные формы данных двух генов.
Все это подтверждает, что между нашими собаками и людьми с синдромом Вильямса есть родственные связи. Новое исследование Мии Перссон и ее коллег в Линчёпинге предполагает, что другие гены с еще более «поэтическими» именами BICF2G630798942 и BICF2S23712114 также могут играть роль в природе интереса собак к людям.
Данные гены у людей связаны с аутизмом. Аутизм — это синдром, характеризующийся сниженным, а не преувеличенным интересом к социальному контакту, но варианты гена могут иметь разные, даже противоположные эффекты у собак. Эта информация подкрепляет теорию, изо всех сил старающуюся найти связь между генами собак и их замечательными моделями поведения.
И хотя я был в восторге от участия в таком захватывающем научном проекте, меня беспокоило, что родителей детей с синдромом Вильямса может оскорбить наше открытие. Трудно принять, что между твоим ребенком и собаками есть генетическое сходство. Но, как оказалось, для беспокойства не было повода. Журналист, сообщивший о наших результатах, взял интервью у члена правления Ассоциации людей с синдромом Вильямса Соединенных Штатов. В своих комментариях она сказала: «Если бы у этих детей были хвосты, они бы ими виляли».
В научной литературе типичная модель поведения людей с синдромом Вильямса называется гиперсоциальность или крайняя общительность. Это отражает тот осторожный язык описания, который я использую в своих научных работах, где часто встречаются такие слова, как «принадлежность», «поиск контактов» или «общительность», при характеристике реакции собак на людей.
Эти слова обозначают специфическое поведение, которое можно объективно измерить. Я вижу, как собака плачет, когда ее оставляют одну без близкого человека. Вижу энергию, с какой она приветствует знакомого: ее низкую посадку, прыжки в попытке лизнуть своего человека в уголок рта. Я могу измерить то, что делает собака, чтобы утешить человека, который ей кажется расстроенным.
Я ценю точность научной терминологии, но также считаю, что наступает момент, когда просто промаркировать и подсчитать отдельные модели поведения становится бессмысленным, равносильным преднамеренному пропуску более масштабных моделей поведения. Для собак, связанных с людьми, поведение и нейронные и гормональные модели реакции, которые я только что упомянул, наряду со многими другими составляют общую картину, и эта картина заслуживает того, чтобы ее называли чем-то большим, чем просто «коммуникабельность» или «общительность».
Собаки не просто общительны. Они демонстрируют действительную, добросовестную привязанность, такую, которую по отношению к людям мы бы назвали любовью. Для собаки, так же как и для человека с синдромом Вильямса, главное — это желание установить тесные связи, выстроить теплые личные отношения, то есть любить и быть любимой.
После того как я стал свидетелем невероятного поведения детей с синдромом Вильямса и участия в революционных экспериментах, связавших уникальные генетические изменения этого синдрома с ласковым поведением собак, меня не нужно было больше убеждать. Рассмотрев ряд научных данных и увидев параллели между собаками и людьми, которые разделяют свои отличительные генетические маркеры, мне стало комфортно называть вещи своими именами. Только благодаря этому долгому научному путешествию я смог признавать любовь собак к людям. И делать это со всей убежденностью, которую ранее применял к своему скептицизму.
В вопросе о том, что собаки, с одной стороны, обладают исключительным интеллектом, а с другой — нежной связью с людьми, я был настолько безжалостен, насколько возможно. Задача, которую я поставил перед обеими возможностями, поразила многих любителей собак. Они считали ее в лучшем случае ненужной, а в худшем — бредовой и подлой. Я знаю это, потому что многие люди поспешили мне так сказать — от незнакомцев в самолете до многих из лучших друзей. Мне часто говорили бросить исследовательское дело и просто любить свою собаку, и, что касается моей Ксифос, именно так я и поступил.
Но в систематических исследованиях есть и свое вознаграждение — по мере возможности стремиться отбрасывать предвзятые идеи и беспристрастно собирать доказательства. Это является ни с чем не сравнимым удовольствием от принятия решения, основанного на твердом фундаменте.
С такими результатами относительно генов синдрома Вильямса и выводов Мии Перссон о генах аутизма мы находимся на основном уровне организации живых существ — мы смотрим на ДНК, код жизни. И наблюдаем в генетическом материале собак безошибочные признаки их готовности заботиться о нас. Мы можем проследить этот сигнал обратно через гормоны и структуры мозга, через сердца, которые бьются в унисон, когда люди и их собаки находятся вместе. Отмечать счастье животных, когда они рядом с людьми, о которых заботятся, и огорчение от разлуки с ними. Видеть, как приближение хозяина зачастую является такой же наградой, как и еда, и как собаки будут пытаться помочь своим людям, когда те в беде, если смогут понять, что нужно сделать. На каждом уровне анализа, в экспериментах независимых исследовательских групп по всему миру мы видим один и тот же вывод.
Суть собаки — любовь. А любовь это то, что делает собак такими исключительными — идеальными спутниками людей.
Способность собак любить отличает их от других видов животных на планете, включая ближайшего родственника — волка. Собаки максимально стараются сблизиться и ласково пообщаться со знакомыми людьми, но им также интересны чужаки. Этим они кардинально отличаются от диких сородичей.
Волки же, отнятые от матери в самом раннем возрасте и воспитанные людьми, не демонстрируют такой уровень эмоциональной активности даже со своими суррогатными матерями. Звери могут дружить с людьми, но эти отношения никогда не перерастают во всеобъемлющую любовь к ним, свойственную собакам.
Приняв (надо сказать, с трудом) собак как любящих существ, сегодня я ощущаю, что обладаю чем-то особенным. Теперь я знаю, что отличает их от других животных. Я нашел свой профессиональный — и личный — святой Грааль.
Но это знание только усилило мою исследовательскую жажду. В частности, у меня возникло несколько важных новых вопросов, их я буду рассматривать в следующих главах книги.
Во-первых, почему собаки оказались такими? Теперь мы знаем, что способность любить и испытывать привязанность не присуща их предкам, волкам, и это знание подводит еще к одной великой тайне: когда и каким образом собаки обрели эту способность?
Во-вторых, как вырастает любовь в душе каждой отдельной псины? Из моих наблюдений за дикими собаками по всему миру я знал, что не все они одинаково любят людей, даже если есть возможность. Как развивается такая любовь? И как мы можем ее развивать?
Наконец, самое главное: что любящая природа собак означает для них и жизни людей с ними? Если сущность собак заключается в их способности любить, то что можно сказать об отношениях, которые нас связывают? Из всех вопросов этот может оказаться самым важным, неотложным и значимым.
5. Происхождение
Любовь — это право собак по рождению. Но как они его приобрели и когда? Зафиксированные свидетельства проявления собаками любви относятся еще к дальним временам возникновения письменности. И в одном из них, самом эмоционально ярком, рассказывается о событиях, происходивших около двух тысяч лет назад в Древней Греции.
Арриан из Никомедии, философ, историк и солдат, прославился хрониками подвигов Александра Македонского. Молодой человек был достаточно близок к римскому императору Адриану, поэтому правитель предложил ему оставить службу и подыскал для него должность в имперском Сенате. Несмотря на такую удачную карьеру, в конце жизни в своих мемуарах Арриан не писал ни об Адриане, ни о других своих друзьях. Он писал о своей собаке.
Арриан (который также называл себя Ксенофонт Афинянин в честь еще более раннего автора рукописей о собаках) писал книгу о том, как охотиться с гончими. Внезапно в середине раздела, в котором перечислялись идеальные качества охотничьей собаки, он резко переключается на восхваление Хорме (греч. — «стремительный»), собаку, лежавшую у его ног. Арриан рассказывает, как он «вырастил собаку с самыми серыми из всех серых глазами, которая была самой нежной и любящей людей, и никогда раньше ни одна другая собака не находилась со мной так долго… как она… она провожает меня в гимназию, сидит рядом, пока я занимаюсь, и бежит впереди меня, когда я возвращаюсь, часто оборачиваясь, как будто проверяя, чтобы я не сошел где-то с пути; когда она видит, что я на месте, она улыбается и снова бежит впереди… Если она видит меня даже после короткой разлуки, она мягко подпрыгивает, как бы приветствуя, и начинает радостно лаять, показывая свою привязанность… И поэтому я думаю, что я не должен стесняться записать имя этой собаки, чтобы она жила даже в будущем: у Ксенофонта Афинянина была собака по имени Хорме, очень быстрая, очень умная и совершенно не из этого мира».
Эта трогательная дань уважения Арриана своей любимой гончей. Здесь показана не только глубокая любовь, которую люди испытывают к собакам, но также то, как животные выражают привязанность к человеку. И становится ясно, что любовь собак к людям — это не какое-то вновь появившееся чувство, а постоянная связь человека с этими удивительными животными, возникшая тысячелетия назад.
Корни таких нежных отношений уходят в прошлое даже дальше, чем мы видим в этом примере двухтысячелетней давности. Самое старое свидетельство об эмоциональной связи между человеком и собакой, которое мне удалось найти, — это древняя египетская надпись на могиле, сделанная более четырех тысяч лет назад. В ней всего шестьдесят восемь слов, и ничего не сказано о поведении собаки по отношению к людям. Но сам факт, что эта эпитафия была выгравирована на камне с целью сохранить ее на века, говорит о древней и нежной связи между нами и собаками.
«Пес, который был охранником Его Величества. Абутийу его имя. Его Величество приказал похоронить его в гробу из королевской сокровищницы, чтобы ему положили тонкое белье в большом количестве, благовония. Его Величество дал ароматизированную мазь и [приказал] каменщикам построить гробницу. Его Величество сделал это для него, чтобы наградить и почтить его».
Льняное белье, благовония, духи, драгоценный гроб, специально построенная гробница… Если вы читаете эту эпитафию и задаетесь вопросом, будет ли ваше собственное захоронение хоть наполовину таким же богатым, как у этой собаки, то знайте, что вы не одиноки. На протяжении тысячелетий любовь египетского правителя к своей собаке, несомненно, производила большое впечатление на множество людей, читавших эту надпись на могиле. Но в этом и заключался ее смысл.
В древней литературе есть много подобных небольших по объему сведений о мощной связи людей и их собак, но она не может нам помочь оказаться еще дальше в прошлом. Письменный язык достаточной сложности, чтобы выразить чувства, подобные тем, которые египетский правитель испытывал к Абутийу (хвала тому, кто может выговорить это имя!), вероятно, еще не существовал раньше того времени, когда была выгравирована эта эпитафия.
К счастью, есть много археологических свидетельств, предшествующих таким письменам. Однако то, насколько в глубь времен тянутся эти доказательства, является предметом острых споров и противоречий среди археологов. А происходит так потому, что они в основном состоят из костей, чьи секреты крайне трудно раскрыть. Более того, настолько сложно, что в научных кругах бурно спорят о том, какие кости собачьи, а какие нет.
Может показаться, что отличить старые собачьи кости от старых костей волка совсем несложно, но на практике археологические образцы намного труднее идентифицировать, нежели вы думаете. Проблема в том, что древние собаки и волки были анатомически очень похожи. Сегодня для нас волки большие и опасные животные, а собаки — гораздо меньше, добрее, но эти различия были далеко не столь очевидны в ту эпоху, когда появились первые собаки.
Они были очень похожи на волков. Это мы можем утверждать с уверенностью, потому что крайне маловероятно, что все генетические изменения, необходимые для того, чтобы собаки стали собаками, появились внезапно и сразу. Скорее, потребовалось множество поколений для того, чтобы две популяции псовых имели полный набор отличий. И наличие этой обширной «серой» области в истории эволюции возможность отличить древние кости собак от древних костей волков делает чертовски сложной, даже с приблизительной точностью, которая нам потребуется для восстановления самых ранних периодов истории собак.
Наиболее древними останками, определенно собачьими, с чем согласны все археологи, принято считать кости семимесячного щенка, датированные довольно точно — 14 223 лет назад (плюс-минус 58 лет). Эти кости были обнаружены в Германии, в карьере около Бонна, более века назад и лежали, забытые, в ящике в музее. Лишь недавно их подвергли тщательному анализу с применением новейших методов, и теперь они дают интересные подсказки о том могли ли и каким образом, эти ранние представители семейства собачьих иметь отношения с людьми, основанные на любви и привязанности.
Результат недавнего повторного анализа останков щенка Бонна слегка «намекнул», что при жизни песика о нем заботился человек. Научная группа Люка Янссенсена из Лейденского университета в Нидерландах предположила, что щенок страдал от собачьей чумки и, чтобы он смог прожить достаточно долго, за ним должны были ухаживать люди. Это довольно противоречивый вывод, поскольку он основан на исследовании отметок на эмали зубов, которые пролежали в земле более четырнадцати тысяч лет. Однако если это действительно правда, то сей факт является ярким свидетельством связи между щенком и его хозяином, человеком.
Но, о чем бы ни говорили нам кости Бонна, существует еще достаточно доказательств того, что собаки любили людей на протяжении тысячелетий, независимо от того, отвечали те взаимностью или нет. На самом же деле у меня есть сильное подозрение (основанное на текстах древних греков, надписях на могилах древнеегипетских гробниц и многих других источниках), что несмотря на то, что большинство людей предпочитало держаться подальше от собак на протяжении всей истории, этих животных сильно тянуло к человеку. Хотя в самых первых письменных источниках и содержится достаточно свидетельств того, что многие люди отвечали собакам взаимностью.
Развитие этих длительных отношений удивительно, и, хотя многие детали еще остаются неясными, все говорит о зарождении любви между видами, предшествующем рассвету записанной истории. Как только я пришел к выводу, что собаки способны любить нас, эта предыстория оказалась в центре моего внимания. Откуда появилась эта способность? Как стоящие особняком волки с их естественной склонностью к нескольким сильным отношениям внутри вида превратились в собак с их противоположной, открытой межвидовой привязанностью? Где и как зародилась сила собачьей любви?
Путь от волка к собаке совершался, когда уже везде были люди. Но у этих людей, должно быть, были другие заботы и проблемы, потому что они не оставили никаких сведений о том, как проходил этот процесс. Более того, вокруг следов данного процесса можно построить множество догадок. Вероятно, именно благодаря тому, что эти следы эволюционного путешествия собак столь неоднозначны, археологи и генетики, интересующиеся удивительным происхождением собак, настолько расходятся во мнениях о том, как происходила эта эволюция и какую роль в ней играл человек.
К счастью, для того, чтобы понять, как способность к любви впервые возникла у собак, нам не нужно зацикливаться на точной дате их появления. Именно процесс эволюции является ключевым, а также роль, которую огромная способность испытывать привязанность сыграла в нем.
Одна из версий истории происхождения собак, вероятно, самая популярная на сегодняшний день — это та, что собаки появились, когда наши предки, охотники-собиратели отобрали самых дружелюбных волчат, чтобы те помогали им на охоте.
Французский натуралист XVIII века Жорж Кювье, возможно, был первым, кто предложил эту версию. Согласно его теории, на протяжении долгого времени происходил отбор самых дружелюбных щенков в помете, и они становились родителями следующего поколения. В результате этого волк постепенно превращался в собаку. В поддержку такой теории можно добавить, что многие охотники сегодня имеют натасканных на различную дичь собак, хороших помощников в лесу. Более того, на некоторых из ранних рисунков изображены именно охотничьи собаки.
То, что первые собаки играли роль помощников на охоте, вероятно, имело важное значение в их эволюции. Более того, я считаю, что развитию способности этих животных любить людей во многом способствовала такая многовековая совместная охота. Но все увиденное и услышанное в Израиле заставил меня усомниться в том, что наши предки-охотники способствовали появлению собаки как вида.
В 2012-м, в том же году, когда в нашей семье появилась Ксифос, я совершил паломничество в Израиль. Многие люди посещают Святую землю с религиозными целями, меня же занимало нечто другое, но, возможно, столь же значимое — происхождение собаки.
Я поехал в Израиль, чтобы увидеть самые ранние, по моему мнению, останки собаки. Это были кости щенка, найденные чуть менее двенадцати тысяч лет назад в могиле рядом с женщиной, чья рука лежала на животе щенка. Данная археологическая находка говорила о том, что собаки появились на Ближнем Востоке, и, естественно, я хотел увидеть эти кости своими глазами.
Я также хотел увидеть подвид волка, обитающего на Ближнем Востоке, — арабского. Этот волк был значительно меньше своих североамериканских собратьев, с которыми я уже был знаком, — те по размеру с крупного лабрадора. Особенно любопытно было узнать, легче ли приручается этот подвид волка, чем большие серые волки, о которых я уже немного знал. Если бы это действительно было так, то вероятность того, что собаки появились в этой части земного шара, возрастает.
Лишь в последний день недельного пребывания в Израиле я смог подобраться поближе к нескольким арабским волкам. Музейный служитель сказал мне, что надо посетить кибуц Афиким в двух милях к югу от Галилейского моря[14]. После этого визита мои взгляды на то, как могли появиться собаки, радикально изменились.
В этом кибуце живут двое режиссеров-документалистов — Йосси Вайслер и Моше Альперт. Моше вырастил нескольких арабских волчат для съемок в их с Йосси документальном фильме. Тема фильма: как охотники тысячи лет назад использовали ручных волков на охоте, тем самым начав процесс превращения волка в собаку.
К сожалению, Моше был очень занят в тот день, когда я приехал, и у меня почти не было возможности поговорить с ним. Но зато у Йосси оказалось достаточно времени. Он любезно показал мне четырехминутный короткометражный ролик, который они с Моше сняли с целью получить финансовую помощь для своего фильма. Это был довольно простой фильм, но он меня удивил.
Парень в набедренной повязке с луком и стрелами выходит на охоту с двумя молодыми волками. Он замечает оленя и стреляет в него. Затем в кадре появляются волки, сторожащие убитого оленя до прихода охотника. Человек взваливает мертвую тушу на спину и отправляется домой, а волки послушно трусят рядом.
Выглядит все как достаточно простая последовательность действий, но материал меня просто поразил. Сначала я подумал, что неправильно понял слова Йосси. Возможно, это были не волки, а собаки (они выглядели как чехословацкие волки)? Нет, это действительно были арабские волки, которых Моше вырастил и воспитал. Хорошо. Тогда как мог актер, играющий первобытного охотника, просто взвалить оленя на плечи перед волками? Животные из Волчьего парка никогда бы не потерпели, что кто-то уносит их ужин прямо у них из-под носа.
Мне показалось, что я где-то читал, что арабские волки гораздо более послушный подвид, чем те большие серые волки, к которым я привык. Если бы с арабскими волками было действительно так легко ладить, это могло бы означать, что привязанность к людям уже присутствовала в том особом подвиде, от которого, возможно, произошли собаки.
Моя голова закружилась от последствий, которые обещала эта видеозапись. Но, к лучшему или худшему, мое замешательство было недолгим. Йосси объяснил, что съемка фильма проходила не так гладко, как все выглядело на экране. Во-первых, сам Йосси ужасно боялся. Будучи режиссером фильма, он оставался в своей машине на протяжении всей съемки, выкрикивая команды через чуть приоткрытое окно.
Я должен упомянуть, что во время израильских войн в 1960-х годах Йосси был десантником. Я всегда думал, что десантники необычайно смелые. Я мог предположить, что прыжок с самолета сам по себе страшен и без дополнительного стимула — людей с автоматами на земле, куда бы я беззащитно спускался. Так что Йосси явно был смелым парнем, и его страх перед волками вряд ли был совершенно иррациональным, как он вскоре и объяснил мне.
Моше был очень занят монтажом фильма, чтобы сдать его в срок. Он не хотел участвовать в марафоне вопросов и ответов с этим странным академиком, появившимся в его кибуце, но он хотел встретиться со мной и поздороваться. По его покрасневшим глазам было видно, что он работал всю ночь. Он позволил мне задать только один вопрос: «Правда ли, что с волками, которых вы вырастили, вы с семьей чувствовали себя в полной безопасности?»
Не говоря ни слова, Моше закатал правый рукав рубашки. Толстые полосы шрамов безмолвно свидетельствовали о том, что не всегда его общение с волками, которых он растил, проходило гладко. Ему не нужно было ничего говорить, чтобы ответить на мой вопрос. Охота с волками, выращенными человеком, совершенно нецелесообразна и опасна. Эволюционное происхождение собак должно находиться в другом месте.
Не могу сказать, что был очень удивлен, обнаружив, что волки не были хорошими компаньонами для охотников. Я был мысленно к этому подготовлен покойным великим Рэем Коппингером, выдающимся человеком в мире кинологии и тем, кто рассказал мне многое из того, что я знаю о происхождении собак.
Рэй первый обнаружил нестыковки в идее, будто бы собаки изначально появились как помощники охотников. Он назвал эту теорию уничижительно «гипотезой Пиноккио» — не из-за носа деревянного человечка, который становился длиннее, когда тот лгал (хотя я уверен, что Рэй не возражал против этой ассоциации), но из-за начала истории, когда бедный мастер Джеппетто вырезает куклу Пиноккио, чтобы скрасить свое одиночество.
Вместе со своей женой Лорной Рэй написал книгу «Собаки: новый взгляд на происхождение, поведение и эволюцию собак», в которой изложил причины, по которым эти четвероногие не могли быть выведены людьми в ходе отбора самых дружелюбных волков для помощи на охоте. В своей книге Коппингеры объяснили, почему эта теория не заслуживает серьезного к ней отношения. Их доводы все еще достаточно веские для того, чтобы их можно было кратко резюмировать здесь.
Во-первых, волки не заинтересованы помогать людям охотиться.
Если вы отправитесь на охоту со своим домашним волком, почти сразу же, как только вы его спустите с поводка, он окажется за несколько миль от вас и будет радостно набивать желудок, пока вы растерянно бродите по лесу.
Через несколько часов ваш довольный, сытый волк может вернуться, но лучше вам от этого не станет. Волк не принесет вам ни еды, ни поймает для вас зверя или птицу.
Во-вторых, волки слишком опасны, чтобы наши предки терпели их больше, чем необходимо, особенно рядом с детьми. Конечно, у меня было много дружелюбных, полезных контактов с волками, выращенными людьми, и у меня нет шрамов, которые можно было бы показать как результат этого общения. Но знакомые мне волки были выращены на основе научного понимания типа воспитания, способного привить нежность и дружелюбие этим животным (я вернусь к этом в следующей главе). Но даже и к таким волкам не всегда можно допускать незнакомых людей, и держат их за забором высотой 12 футов по веским причинам.
В третьих, чтобы отобрать дружелюбных волков, первобытным людям нужно было гораздо больше предусмотрительности — и гораздо больше знаний в области генетики, — чем у них предположительно было. Четырнадцать тысяч лет назад (или больше) не существовало никаких других одомашненных животных. Люди не могли знать, что большие и страшные хищники могут однажды стать дружелюбными и полезными компаньонами, если они просто начнут разводить их выборочно на протяжении нескольких столетий.
Рэй и Лорна Коппингеры утверждали, что самые ранние собаки не занимали нишу помощников людей для охоты. Более вероятно, что собаки эволюционировали, чтобы играть гораздо прозаическую, даже жалкую роль — роль падальщиков вокруг первых человеческих поселений. Коппингеры отметили, что, когда люди начали вести оседлую жизнь, тут же появились горы мусора. Этот мусор привлекал (и, несмотря на все наши усилия, продолжает привлекать) многих животных. Некоторые волки, по их предположениям, были среди тех любителей порыться на помойке.
Собаки, вероятно, появились в тех местах, где наши предки вели оседлый образ жизни годами или даже поколениями, охотясь и занимаясь собирательством. Люди, живя на одном месте, неизбежно производят этот уникальный маркер нашего вида — мусор. Но мусор — это не только то, что мы, люди, считаем бесполезным, но то, что может оказаться ценным для других видов живых существ. Еще Аристотель сказал: «Природа не терпит пустоты», и в костях, дочиста обглоданных человеком, все еще есть питательные вещества, нужные другим животным.
По всему миру на свалках встречаются различные животные. В Калькутте скот бродит по городской свалке; на Аляске люди вынуждены отгонять белых медведей от мусорных куч. Тысячи лет назад волки, должно быть, действовали так же, отыскивая съедобные остатки возле поселений наших предков.
Уборка мусора — это привычка, которая до сих пор свойственна волкам в некоторых частях планеты. В этом я смог лично убедиться во время поезки в Израиль.
Сначала я отправился в пустыню Негев на юге страны, чтобы увидеть арабских волков в дикой природе. Рейнджер национального парка, любезно согласившийся помочь мне в поисках волков, сразу же направился к городским свалкам, разбросанным по пустыне. Как он объяснил, эти свалки являются наиболее вероятными местами скопления волков в Негеве, потому что в пустыне трудно найти пропитание, и, конечно, его запасы не такие большие, как на свалке.
Многочисленные данные по всему миру свидетельствуют о том, что волков привлекают бытовые свалки. То же самое касается собак, и даже в большей степени. Эта ситуация была бы более знакома людям, если бы не мероприятия правительств по забору и отлову собак, чтобы эти животные не оккупировали городские свалки. Но и сегодня вы легко обнаружите собак в кучах мусора в этих «оазисах», независимо от того, насколько развита страна.
Я видел их и на Сицилии, и на Багамах, и в Москве. Хотя ни одно из этих мест не относится к странам третьего мира, тем не менее там множество собак, влачащих жалкое существование на любой мусорке, которая не огорожена и не охраняется.
Для любых животных, собак или других, залог успеха при извлечении пользы из пищевых отходов — терпимость и способность терпеть, терпеть людей. Но волки и собаки, хотя и схожи во многих других отношениях, в этом чрезвычайно отличаются. К сожалению, на городских свалках Израиля и других стран, которые я посетил, где и собаки, и волки бок о бок роются в мусоре, не было проведено ни одного исследования.
Но ученые отдельно изучали волков на мусорках Швеции и собак в Эфиопии. Шведские волки убегают, когда замечают человека в пределах 650 футов. Собаки в Эфиопии позволяют незнакомым людям подойти примерно на 16 футов, прежде чем отойти в сторону.
Эта разница в единой мере — то, что биологи называют «расстоянием полета», — в сумме дает огромную разницу в количестве еды, которую могут найти два близкородственных вида собачьих из человеческого мусора. Будучи более терпимыми к людям и больше ими терпимыми, собаки способны извлекать гораздо больше пользы из человеческих отходов, чем волки. Таким образом, эта способность переносить присутствие людей является главным приспособленческим преимуществом собак, по крайней мере при отыскании пропитания на свалках.
Я признаю, что идея возникновения собак на свалках гораздо менее привлекательна, чем об охотниках, подбирающих волчат, чтобы вырастить помощников для загона диких зверей. Журналист Марк Дерр в своем рассказе «Как собака стала собакой» говорит о том, что наши любимые компаньоны могли начать свою историю с разграбления свалок. С отвращением он писал, что «волк [мог бы] добровольно [стать] хныкающим знатоком помоек, крадущимся пожирателем деревенских потрохов с дурным запахом — уборщиком подгузников».
Но правда в том, что хоть мы и представляем своих предков лордами и дамами, охотящимися верхом на лошадях, большинство из нас вынуждено мириться с тем, что они потомки крестьян, живших за счет переработанных отходов. И то, что верно для нас, скорее всего, верно и для наших лучших друзей.
Как бы нам ни хотелось, мы не можем выбирать наше прошлое. И мы, и наши собаки своего рода падальщики. Возможно, есть что-то дельное в этой общей истории — общий modus operandi (образ действия). Может ли это стать объяснением их привязанности к нам? Или природа любви собак находится в другом месте?
Имея научные данные, мы не можем знать, любили ли самые ранние волкопсы людей так, как наши собаки любят нас сегодня. Но я думаю, что они этого не делали.
Я подозреваю, что на самой ранней стадии эволюции собаки еще в основном были волками (хотя уже почти отказавшимися от охоты на крупную добычу и развившими большую терпимость к людям) и все еще обладали в большей мере личностью волка. Вероятно, у них было небольшое число сильных связей, почти всегда с представителями их собственного вида. Другими словами, эти предсобаки не имели способности к беспорядочному общению, каковая сегодня есть у наших лучших четвероногих друзей.
Нельзя сказать, что наши предки не замечали, что эти животные отличались от волков. Предсобаки вполне могли вызывать меньше страха у людей-соседей, чем «настоящие» волки. Поскольку они перестали охотиться, первые собаки, вероятно, были менее жестокими и грозными. И у них развились более мелкие и менее мощные челюсти и зубы. Их поведенческое развитие, возможно, начало замедляться, поэтому когда они вырастали, то сохраняли привычки несовершеннолетних, например, проявление дружелюбия или желание поиграть. Они, возможно, пыхтели и неприветливо хрипели (звуки — предвестники лая, редко встречающегося у волков), когда опасные животные, такие как медведи и «настоящие» волки, приближались к поселению. Эти предупреждающие звуки, вероятно, стали полезными их хозяевам людям.
Но за исключением данных различий, я не склонен рассматривать этих животных как полноценных любвеобильных созданий, чьей компанией мы наслаждаемся сегодня. По крайней мере, я буду сопротивляться такому утверждению, пока наука не докажет мне обратное (что, безусловно, может произойти в не столь отдаленном будущем).
Чтобы выяснить, когда собаки стали сверхобщительными и любящими существами, такими, как сегодня, ученым необходимо определить, в какой момент их эволюции геномы мутировали, включая гены синдрома Вильямса. Прямо сейчас мой друг зооархеолог и генетик Грегор Ларсон, сотрудник Оксфордского университета, изучает археологические находки ранних собак для выявления признаков этих генов. Он может дать нам ответ в любой момент. И если он это сделает, то осветит темные уголки совместной переплетенной истории наших двух видов, указав точный момент, когда люди и собаки влюбились друг в друга, или, по крайней мере, когда любовь собак к людям начала вызывать ответные чувства. А пока мы должны довольствоваться обоснованными, но не поддающимися проверке предположениями.
Лично я считаю, что собаки приобрели способность любить не на самом раннем этапе, когда их манили мусорные кучи, а скорее на более поздней стадии своего эволюционного пути. Критический сдвиг, я думаю, наступил, когда их и наши предки покинули поселения вместе с мусором и отправились на охоту.
Как я уже говорил, волки не могут быть хорошими помощниками на охоте, но эти лишь недавно ставшие терпимыми к человеку псы не были волками. У них отсутствовала склонность к агрессии, как у волков, и, вероятно, они уже не могли самостоятельно охотиться (что как раз и делает волков такими плохими партнерами для людей на охоте). Более того, они эволюционировали, чтобы стать более терпимыми к людям в решающий момент в истории нашего собственного вида, когда человек особенно нуждался в помощи собак.
Поскольку ученые теперь знают, что собаки появились по крайней мере четырнадцать тысяч лет назад (а некоторые археологи полагают, что это было даже намного раньше), мы также можем быть совершенно уверены, что они появились во времена последнего ледникового периода. Ледяные щиты, покрывавшие планету, начали исчезать около двенадцати тысяч лет назад. Понятно, что собаки возникли где-то в этот ледяной промежуток.
Как вы можете себе представить, тысячелетний холод оказывал особенное давление на людей, живших в то время. Но они уже привыкли к подобному климату, когда планета снова начала нагреваться. (Хотя лично мне не импонирует жить в ледниковый период.) У наших предков было достаточно времени, чтобы приспособиться к холоду, и они знали, как в нем выжить. Люди того периода находились в таких условиях уже пару сотен тысяч лет. И тот холодный мир, в котором они жили, был и домом для гораздо большего числа крупных животных, чем мы можем наблюдать сегодня. Массивные звери, такие как мамонты и гигантские наземные ленивцы, бродили по тундре, представляя для наших предков великолепные объекты охоты.
После того как древние люди приспособились к климату ледникового периода, потепление планеты стало для них серьезной головной болью. Изменение температуры вызвало наряду с новыми возможностями добывания еды и новые трудности. К счастью для обоих наших видов, собаки стали идеальными помощниками в сложившихся условиях.
Прекрасное зрение наших предков сделало их одними из самых успешных охотников в условиях ледникового периода в степях и открытых сосновых лесах. Люди придумали эффективное оружие для охоты на расстоянии — копья, копьеметалки, луки и стрелы сделали человека грозным хищником. Однако в конце последнего ледникового периода редкие леса (например, в Скандинавии и северной части Северной Америки) превратились в непроходимую чащу, где людям было очень трудно ориентироваться. И острое зрение стало бесполезным, так как нижние уровни леса заросли густым подлеском.
Нашим предкам в этом странном новом мире нужны были новые навыки, чтобы успешно охотиться. Они должны были научиться обнаруживать добычу в густом подлеске, а также быстро по нему перемещаться. Требовалась скорость, чтобы преследовать добычу и загонять ее в ловушку. Нужен был помощник. Но такой, который бы загнал зверя и дожидался прихода охотников, а не пожирал бы его сам. И еще: этот помощник должен был быть минимально опасен для человека.
Волки не обладают всеми этими качествами, но они присущи собакам. Собаки унаследовали острый нюх от своих предков-волков, поэтому они находят добычу там, где зрение бесполезно. Также к ним перешла способность охотиться. И их размер, как правило, позволял без проблем передвигаться по густому лесу. А главное, в значительной степени снизилась их способность убивать, и они на заключительном этапе охоты дожидались человека. Поэтому собаки как нельзя лучше подходили на роль помощников для первобытных голодных людей. И человек в этом меняющемся мире воспринял собаку как некое волшебное существо.
Я подозреваю, что партнерство охотника и собаки началось случайно: несколько первых псов, перекусывая на деревенской мусорке, решили последовать за мужчинами на охоту. Но я уверен, что это быстро переросло в крепкие отношения, отличающиеся сильными эмоциями с обеих сторон. Именно тогда, я думаю, связь между человеком и собакой действительно выросла до сильной эмоциональной связи, которую мы видим сегодня.
Мусор создал эволюционную нишу для тех собачьих, кто обладал терпимостью к людям. Охота же дала предсобакам шанс доказать человеку свою ценность. Кроме того, совместная охота также способствовала таким генетическим мутациям, в результате которых собаки стали теми любящими существами, какими являются сегодня.
Чтобы по-настоящему понять, как собаки помогали нашим предкам охотиться и как эмоции в целом и любовь в частности могли сыграть роль в зарождении связи между ними, мне нужно было самому узнать, каково это — охотиться с собакой.
Я обратился к материалам антропологии, где говорится о разных народах мира, которые до сих пор охотятся с собаками по традициям предков. Там я наткнулся на работу Джереми Костера из университета Цинциннати, который детально проанализировал способы охоты народа маянгна.
Маянгна — коренной народ, проживающий в биосферном заповеднике Босава в отдаленной части Никарагуа на границе с Гондурасом. Они выращивают фасоль, бананы и рис. Охота с собаками играет важную роль в их жизни — дичь является одним из немногих источников высококачественного белка в рационе маянгна.
По счастливой случайности, вскоре после того, как я прочел статьи Костера, я побывал в Цинциннати на конференции и предложил автору выпить вместе пива. Возможно, мы выпили слишком много, потому что на следующий день я понял, что согласился поехать с Костером в Никарагуа, чтобы посетить народ маянгна.
Костер заверил меня, что до поселения маянгна Аран Док добраться очень легко. Дорога займет всего три дня. Перелет из Майами длится два с половиной часа, день на машине из столицы Никарагуа Манагуа и два на лодке. Но он ни слова не сказал о том, что день мы будем ехать на переднем сиденье Toyota Land Cruiser с двумя другими пассажирами по дорогам, напоминающим скорее полосу препятствий. Два дня на «лодке» оказались двумя днями в каноэ. Большое выдолбленное каноэ, хоть и с мотором, но тем не менее… Это было самое, мягко говоря, некомфортное путешествие в моей жизни.
Но как только мы прошли через скалы и бурлящие воды и оказались на территории маянгна, я испытал нечто ошеломляющее. Ощущение, будто я попал в парк Юрского периода. Единственное, чего не хватало, — это динозавров. Но то, что мы увидели, было почти таким же невероятным: у собак с людьми оставались те же отношения, что и у их предков с нашими много тысяч лет назад.
Маянгна живут в крепких деревянных хижинах на сваях вдоль берегов реки. Когда мы приблизились, они бросились к берегу и с некоторым беспокойством уставились на незнакомцев. Однако как только я махнул им рукой и улыбнулся, они махнули в ответ с такой же широкой улыбкой. Люди, узнававшие Костера, чрезвычайно тепло приветствовали его. В какой-то момент мы чуть не перевернулись, когда подошли к небольшому выдолбленному каноэ с четырьмя мужчинами, которые хотели крепко обнять Костера.
Мы натянули гамаки в гостевой хижине и с удовольствием съели по тарелке риса с кусочками мяса на ужин. Утром — еще по тарелке риса без мяса на завтрак. Затем я отправился на охоту с мужчинами племени маянгна (охотятся только мужчины). Они натянули свои сапоги, схватили мачете, окликнули собаку и были таковы!
Сначала меня поразило сходство охотничьей экспедиции маянгна с прогулками по лесу, которые мы совершали с Бенджи, когда я был ребенком.
Первое правило: посадите собаку на поводок. У маянгна нет ошейников и поводков, но у них есть веревка, которую они обвязывают вокруг собачьей шеи. Но собака идет на поводке только через деревню. В лесу поводок снимают, и она становится совершенно свободна.
В этот момент Бенджи и собака маянгна вели себя примерно одинаково, но поведение человека было совершенно другим. Когда я гулял с Бенджи, было важно не позволять ему уходить слишком далеко. Если бы я не смог привести его обратно домой, то были бы проблемы. Он приходил в восторг от запахов и звуков леса неподалеку от нашего дома, поэтому мне приходилось постоянно звать его, чтобы держать в поле зрения.
Для мужчин маянгна, напротив, весь смысл охоты состоял в том, чтобы собака бегала по густому тропическому лесу в поисках дичи. Если же она жалась к охотникам, те раздражались и возмущались и давали команду приступать к работе. Время от времени люди останавливались на вершине холма и прислушивались, иногда выкрикивая «сулу» («собака» на языке маянгна) с очень длинным звуком «у» — суууу-лууууу… Они надеялись услышать в ответ возбужденный лай, признак того, что собака что-то нашла. Если это случалось, мужчины бросались изо всех сил вперед, чтобы догнать ее.
Мужчина маянгна на охоте со своей собакой
Мчась за псом, охотники пробивались сквозь тропический лес с помощью мачете быстрее, чем я, хотя мне просто надо было идти по расчищенному ими пути. Вероятно, из-за медленного гринго, которого они тащили с собой, все охоты, в которых я принял участие, оказались неудачными. Но я отлично окунулся в процесс. Я понял, что собаке не требовалась какая-либо дрессировка. Все зависело от ее склонностей и способностей: обнаружение и преследование добычи и невозможность убить самостоятельно. Обнаружив и поймав зверя, собака зовет людей, хотя я не могу сказать, лает ли она от разочарования или знает, что охотники придут и убьют его. В любом случае эффект тот же: люди бегут и завершают охоту.
Охота с маянгна помогла мне понять, как важно, чтобы собаки не оставляли добычу себе, а лаем подзывали к ней людей. Если бы собаки вели себя так же, как волки, — убивали и сами съедали, то ни о какой помощи людям речь бы не шла. Это говорит о невозможности того, что наши предки охотились с волками. Им пришлось ждать появления собак, чтобы заиметь такого полезного помощника на охоте.
Эти пушистые маленькие компаньоны для охотников так же эффективны и в наши дни, что служит свидетельством сильной и стойкой связи между человеком и собакой. По данным Костера, собаки маянгна обычно весят около двадцати фунтов, но каждая добывает в среднем более десяти фунтов мяса в месяц. Это впечатляющий вклад в пищевой рацион людей. Такой успешный результат вызывает сильное проявление эмоций, общее для людей и животных. И он, несомненно, укрепляет связь между ними.
В Аран Док у двоих мужчин есть винтовки. Костер выяснил, что собаки в среднем приносят добычи не меньше, чем оружие.
Наблюдая за тем, как мужчины маянгна и собаки вместе охотятся, я также был поражен силой связи между ними. Я понимал, что для собак охота с людьми требовала совершенно другого набора навыков, чем копание в мусоре. Искать еду в мусорных баках — занятие уединенное. Животные, копающиеся на городской свалке, не заинтересованы в компании ни человека, ни своего собрата. На охоте в тропическом лесу у меня сложилось впечатление, что это занятие требует координации и взаимопонимания между собаками и охотниками. Успех охоты зависел именно от этого. Мужчины дают понять собакам, что пора искать дичь, и те должны найти и загнать ее. Собаки же, как только они нашли добычу в густом лесу, должны сообщить об этом людям, а также о том, где они находятся. Охотники даже утверждали, что по тону лая они могли определить, какую дичь загнала собака. Но так как мы ничего не поймали на тех двух охотах, в которых я принимал участие, то не смог это проверить сам.
Вернувшись из Никарагуа, я стал одержим тем, как с помощью охоты можно было бы объяснить, почему у собак развилась способность любить людей. Будучи сторонником Рэя Коппингера, я не мог думать, что охота сыграла какую-то роль в происхождении собак и их способности к межвидовым отношениям. Мало того, что Рэй нашел нестыковки в теории, что люди «создали» собак для помощи на охоте, но он также скептически относился к тому, что люди давным-давно обнаружили большую выгоду в охоте с собаками. Он подозревал, что для обучения животных потребовалось слишком много усилий. Он думал, что вся охота скорее относилась к «демонстрации принадлежности к мужскому роду», когда мужчины хотели произвести впечатление на дам, а не являлась экономически выгодным занятием.
Но теперь я пересматривал свою позицию.
Даже если охота и не привела собак к эволюции, в конечном итоге сделавшей их отличными от волков, не помогла ли она этим четвероногим приложить дополнительные усилия?
Я догадывался, что собаки с генетическими мутациями, делавшими их более склонными к формированию прочных связей с людьми, имели преимущество перед остальными. Эти дружелюбные собаки были более склонны следовать за людьми на охоту и звать их на помощь, чтобы убить добычу. За это человек заботился о них, что давало больше шансов на выживание и большее количество щенков. А это значит, что гены таких собак в конечном итоге стали доминирующими.
Я задавался вопросом, могут ли мои друзья-археологи предоставить доказательства, которые пролили бы свет на возможность прочных отношений между людьми и собаками к моменту окончания ледникового периода, когда нашим предкам требовалась помощь в охоте. Анжела Перри, зооархеолог из Даремского университета в Великобритании, особенно заинтересованная в важности собак для древнего человека, с радостью была готова помочь.
Для своей докторской диссертации Перри взяла не захоронения людей вместе с собаками, а аккуратные захоронения одних только животных. Выбор был обусловлен тем, что существует множество причин, по которым пса могут похоронить с хозяином. Большинство из них ничего не говорят о возможных отношениях между человеком и его питомцем. В зале Израильского музея в Иерусалиме, где хранится копия костей женщины, похороненной со щенком двенадцать тысяч лет назад, также есть витрины, в которых лежат останки людей, захороненных с рогами оленя, черепаховыми панцирями, зубами лисы и другими всевозможными фрагментами животных. Но из этого не следует, что люди того времени как-то особо трепетно относились к оленям, черепахам, лисам и пр. Те, кто похоронил эту женщину, имели собственные ритуальные причины класть части животных в могилу своих родственников.
Когда вы глубже задумываетесь о захоронении собаки вместе с умершим человеком, у вас не может не возникнуть вопрос, как это случилось. Она по совпадению умерла в то же время либо была убита специально, чтобы украсить могилу или быть рядом с хозяином и в загробной жизни? Учитывая, что внезапная смерть питомца по естественным причинам одновременно с его хозяином или хозяйкой не случается так уж часто (хотя последняя собака Чарльза Дарвина, Полли, умерла через три дня после его смерти), большинство таких выглядит как преднамеренное убийство животного. Конечно, у нас нет возможности узнать, о чем думали люди много тысячелетий назад. Вполне вероятно, что их связывали с собаками крепкие взаимоотношения, основанные на любви, но это не мешало им убить псину, чтобы похоронить с человеком, которого она любила при жизни.
Как отмечает Перри, эмоциональное значение совместных похорон собак и людей в лучшем случае неоднозначно. Но гораздо более четкие выводы позволяют дать одиночные захоронения собак, сделанные с большой любовью и уважением.
Когда в могиле нет человека, значение, которое имела собака для людей, ее похоронивших, только одно. Если мы видим, что пес был похоронен в богатой могиле, с соблюдением ритуалов, то становится понятно, насколько этим людям была дорога собака.
Перри провела анализ древних захоронений собак в трех частях света: Восточная Япония, Северная Европа (включая Скандинавию) и область восточных Соединенных Штатов, охватывающая часть Кентукки, Теннесси, Алабаму и несколько других штатов. Она просмотрела отчеты о сотнях захоронений собак в тех областях. Она обращала внимание на то, когда животные были погребены и как. Были ли в захоронениях богатая утварь и другие знаки заботы и уважения либо все было просто, обычно и выглядело случайным? Другими словами, существовали ли признаки взаимной любви и привязанности или же люди просто избавлялись от трупов старых собак?
Именно то, что важнейшие события в истории человечества происходили в разное время в этих трех местах, и заинтересовало Перри, поэтому она и сосредоточилась на них. Конец последнего ледникового периода, трудности, с которыми наши предки сталкивались при охоте в вечнозеленых лесах, появление собак в качестве помощников охотников и, наконец, развитие сельского хозяйства, снизившего зависимость людей от охоты, происходили в моменты, расходившиеся на тысячи лет в трех этих регионах.
Перри сделала удивительное открытие. Для каждой локации она составила график с числом сознательных захоронений собак на протяжении долгого времени — от ледникового периода до относительно недавнего прошлого (недавнее для археолога означает лишь несколько тысяч лет назад). В каждом случае она обнаружила, что график принимает общую форму — перевернутой U. Если мы вернемся достаточно далеко назад во времени в каждом месте, то увидим, что люди особо не заботились о захоронении своих собак, — нижняя точка на графике. Продвинемся далеко вперед — и график также опускается вниз: люди тогда тоже не утруждали себя. Но для каждой области на графике есть центральный «бугорок» — длительный период времени, когда люди в каждой из трех частей света хоронили своих любимцев с почестями и в богатых могилах.
Временные границы этого периода различны в разных местах, но момент, когда люди начали относиться так к своим собакам, общий. Человек максимально заботился о захоронении четвероногих друзей после окончания последн
