Читать онлайн Балийские рассказы бесплатно
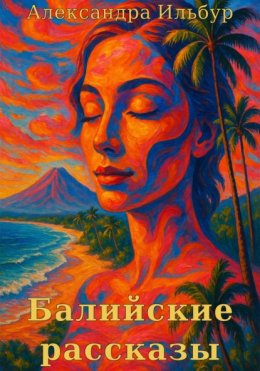
Ночная Одиссея в Ловине
Шла бурная рабочая неделя: звонки, встречи, бесконечные сообщения и нескончаемый поток задач. Голова гудела, а сердце требовало свободы. Казалось, сам океан звал меня, обещая покой и новые впечатления.
В пятницу вечером, около десяти, я вернулась домой после долгой деловой встречи. Моя соседка и подруга, Светланочка, уже сидела на балконе с бокалом вина. Я бросила сумку в угол и с порога сказала:
– «Свет, я больше не могу. Давай рванём в Ловину! К дельфинам!»
Света даже не задумывалась:
– «Собирайся! У нас жизнь одна, а дельфины ждут!»
Через час мы уже сидели в такси. В руках дорожный бокал шампанского, в голове ветер перемен. Водителем оказался весёлый парень по имени Ваян. Он включил балийскую музыку, и машина мягко скользила по ночным дорогам.
– «Девушки, в Ловине тихо, спокойно… настоящий рай!» – сказал он, ловко обгоняя редкие байки.
– «А дельфинов много?»– спросила Света.
– «Очень. Но настоящий секрет Ловины – ночной океан. Там, когда темно, вода начинает светиться… планктон как звёзды под водой!»
Мы переглянулись. Светящийся океан… Звучало как начало приключения.
К трём часам ночи мы приехали в Ловину. Тихая деревенька спала, лишь вдали слышался прибой. Вдоль улиц горели жёлтые фонарики, и только редкие голоса рыбаков напоминали, что здесь тоже живут люди.
Наш отель оказался спрятан в зелени. С первого раза мы его не нашли – маленькие улочки, фонарей почти нет. Наконец, наткнулись на деревянные ворота. Внутри всё было утоплено в цветах: пахло жасмином, пели цикады, фонарики мерцали у дорожек.
Номер оказался простым, но невероятно уютным: две резные кровати, картины с дельфинами, высокий потолок и… душ под открытым небом. Мы подняли головы – над нами густое звёздное небо.
– «Свет, я хочу жить тут!» – вздохнула я.
– «Подожди. Сначала поплаваем с дельфинами, потом решим!»
Мы легли поздно, но уже в пять утра нас разбудил стук в окно. Это был хозяин отеля, пожилой мужчина по имени Геде.
– «Если хотите увидеть дельфинов, нужно выходить на лодке до рассвета!» – предупредил он.
Но у нас был другой план – ночное купание среди светящегося планктона. Солнце только-только начало золотить пальмы, а мы, не спавшие ночь, уже строили новый маршрут.
На закате мы вышли на пляж. Вдали покачивались рыбацкие лодки, воздух был пропитан солью и ароматом костров. В какой-то момент Света ткнула меня локтем:
– «Смотри, лодки без присмотра… Может, сами прокатимся?»
– «Ты с ума сошла?»
– «А что? Мы же в кино, правда?»
Мы переглянулись – и решили, что приключение важнее.
Волны тихо шептали у берега. Мы осторожно толкнули маленькую лодку в воду, залезли внутрь и оттолкнулись от песка. Свет фонариков на пляже постепенно исчезал.
Небо над океаном было усыпано звёздами, а когда мы опустили руки в воду, вокруг ладоней засияли миллионы крошечных огоньков – биолюминесцентный планктон.
– «Это магия!» – прошептала я.
– «Смотри! Как будто звёзды падают прямо в океан!»
Мы смеялись, брызгались, кружили лодку по лагуне… пока не случилось непоправимое. В порыве восторга мы обе прыгнули в воду – и волна унесла лодку прочь.
Мы смеялись, плескались, чувствовали себя частью этого океанского чуда…Ночь была тёплой, звёзды висели низко, словно можно дотянуться рукой. Вода вокруг светилась – миллионы огоньков биолюминесцентного планктона мерцали в такт нашим движениям.
И вдруг всё изменилось.
Сначала лёгкий ветерок усилился. Потом волны стали тяжелее, удары воды громче. Небо над нами словно потемнело в один миг, звёзды скрылись за облаками.
– «Нам пора возвращаться…» – Света тоже почувствовала неладное.– «Свет… что-то не так…» – прошептала я, глядя на горизонт.
Мы одновременно посмотрели на лодку – она была метрах в двадцати от нас и медленно уплывала.
– «Сильное течение! Я не доплыву!»– «Плыви к ней!» – крикнула я.
Ветер налетел неожиданно, свистя так, будто океан сам нас предупреждал. Вода больше не светилась мягким мерцанием – теперь она казалась чёрной, холодной и чужой.
Первая огромная волна ударила в нас, будто стена. Мы захлебнулись солёной водой, потеряли ориентиры. Второй удар пришёл через секунду, сбил дыхание. В голове стучало одно: "Только не паниковать!"
– «Какой берег?! Его не видно!» – её голос сорвался на истерику.– «Света, держись за меня! Дыши! Греби к берегу!» – кричала я, но слова тонули в шуме ветра и грохоте волн.
С каждой секундой океан будто становился глубже, темнее. Я чувствовала, как течение тянет нас вглубь. Под ногами уже не было ничего – только бесконечная бездна.
Внезапно, под водой, я заметила движение. Что-то огромное скользнуло под нами. Тёмная тень, больше нашей лодки. Сердце взорвалось в груди, дыхание перехватило.
– «Это акула?.. Скажи, что это не акула!» – Света зажмурилась, не решаясь посмотреть вниз.– «Ты видела?!» – пролепетала я, дрожа всем телом.
Я пыталась всматриваться в толщу воды, но там была только тьма. Казалось, сама бездна дышит под нами.
Вдруг раздался странный звук – высокий, пронзительный свист, похожий на зов. Я замерла. Из темноты начали всплывать тени… десятки, нет – целая стая.
Они двигались быстро, стремительно, окружая нас. Моё сердце билось так, что я слышала его сквозь рёв океана. Вода вспыхнула светящимися волнами – планктон загорелся ярче, как будто ожил.
И тут я увидела их – дельфинов. Они вынырнули почти одновременно, белые брызги ослепили нас. Один из них подплыл вплотную, касаясь меня боком, словно приглашая держаться за него.
– «ДОВЕРЬСЯ ИМ!»– «Света! Хватайся за плавник!» – закричала я, задыхаясь. – «Ты уверена?»
Мы вцепились в них из последних сил. Вокруг бушевал шторм, волны били по лицу, солёная вода обжигала глаза, но дельфины вели нас, уверенно пробивая путь сквозь ревущий океан.
В какой-то момент мне показалось, что я больше не дышу. Мир стал тёмным, звуки исчезли, остался только глухой стук сердца в висках. И вдруг… мои ноги коснулись чего-то твёрдого.
Берег.Песок.
Мы выползли на мокрый песок, дрожащие, вымотанные, напуганные до смерти. Океан ревел позади нас, словно разъярённый зверь, которому не удалось нас забрать.
Света лежала на спине, хватая воздух ртом, и тихо прошептала:
– «Мы живы…»
А я смотрела на бушующие волны и не могла произнести ни слова. Только слёзы текли по лицу.
На берегу нас уже ждали – рыбаки заметили, что мы пропали. Один из них, седой мужчина с глубокими морщинами, покачал головой:
– «Девушки, зачем вы полезли в океан ночью? Это опасно. И лодка…»
Оказалось, лодка уплыла далеко в океан и её потом целый день искали. Туристическую полицию вызвали сразу. После долгого разбирательства нас серьезно оштрафовали.
Света посмотрела на меня и улыбнулась сквозь слёзы:
– «Главное, что мы живы… и мы видели светящийся океан!»
– «И нас спасли дельфины… Это того стоило.»
Прошло несколько месяцев, но каждую ночь, закрывая глаза, я снова вижу ту картину:
тёмный океан, миллионы огоньков вокруг, и серые спины дельфинов, которые вели нас к жизни.
Амед
Чёрный вулканический песок, спокойная вода, живописные бухты… и главное – затонувший военный корабль Japanese Wreck, ставший одной из главных тайн Восточного Бали.Мы с друзьями давно мечтали попасть в Амед – место, которое местные называют «спящим рыбацким краем».
В пятницу вечером мы собрались вчетвером.
Дорога шла вдоль побережья, и на горизонте поднимался величественный вулкан Агунг. Огромный, словно древний страж, он наблюдал за нами, пока машина петляла по узким улицам.
– «Здесь океан хранит память… иногда слишком ревниво.»– «Амед – другое Бали», – сказал Кай, глядя вперёд. – «А что там особенного?» – спросила Света.
– «Ха! Отлично! Значит, будет весело.»Сэм фыркнул:
Амед встретил нас запахом соли и тишиной. Узкие улочки, лодки джукунг, сушёная рыба на бамбуковых решётках, статуи богов под пальмами. Мы поселились в маленьком бунгало на склоне холма, откуда открывался вид на бухту Джемелюк.
Вечером, сидя на террасе, мы обсуждали планы.
– «Завтра ныряем в Japanese Wreck», – сказал Кай.
– «А глубоко там?» – спросила Света.
– «Нет, нос судна всего на 5-6 метрах, остальная часть глубже 12-15. Но не заходите внутрь корабля. Там темно, течения опасные.»
– «Темнота меня не пугает.»Сэм усмехнулся:
– «Должна.»Кай посмотрел на него холодно:
Вода была прозрачная, тёплая, словно жидкое стекло. Мы медленно погружались вниз у бухты Джемелюк.
Под нами открылась подводная галерея – статуи богов, покрытые кораллами, словно ожившие под водой. Их каменные лица казались слишком настоящими.
Света подплыла ближе, замерла перед одной статуей и показала мне рукой знак «страшно».
Я улыбнулась в маске, показала жест «всё ок» и подтолкнула её вперёд.
Внезапно Кай поднял руку – знак «СТОП». Мы замерли. Он указал фонарём вперёд: на горизонте проступал силуэт корабля Japanese Wreck.
Мы подплыли к корпусу. Тёмная громада лежала на боку, обросшая кораллами и губками. Сквозь иллюминаторы мелькали стаи рыб, словно души, застрявшие в петле времени.
Сэм показал рукой на пролом в корпусе и сделал жест «пойдём туда».
Кай резко покачал головой, жестом «нельзя».
Сэм ответил знаком «коротко, быстро» и, не дожидаясь, ушёл в тень трюма.
Кай махнул рукой – «оставайтесь» – и поплыл за ним. Но Света встряхнула моей рукой: мол, мы не можем их оставить.
Мы поплыли следом.
Внутри было темнее. Даже лучи фонарей растворялись в воде, и казалось, что чернота живёт своей жизнью.
На полу лежал ржавый штурвал, вокруг – остатки сетей, кабелей, труб. Вода стала мутной, поднимаемый ил закрыл обзор.
Сэм плыл впереди, его луч фонаря танцевал по ржавым стенам. Внезапно – темнота. Его фонарь погас.
Он резко повернулся к нам, глаза расширены за стеклом маски, дыхание тяжёлое, пузырьки вырываются быстрыми толчками. Он пытался что-то показать руками – резкие, рваные движения.
Кай отплыл к нему, достал запасной фонарь. Включает – свет падает на стену.
И мы все замираем.
На стене, среди кораллов, следы ладоней.
Чёткие, свежие. Как будто кто-то касался металла… пару минут назад.
Света тронула меня за руку, глаза за маской огромные, в них паника.
Вдруг за нашими спинами – движение. Быстрое, резкое, словно кто-то проскользнул вглубь трюма. Кай махнул рукой – «к выходу».
Мы плыли назад, но течение внезапно усилилось, словно кто-то втягивал нас обратно.
Сэм, вместо того чтобы всплывать, замер и смотрел вглубь корабля. Я подплыла к нему, коснулась плеча, чтобы вывести из ступора. Он повернул голову, глаза круглые, и показал рукой на рот, затем – на трюм.
Я поняла жест:
"Он слышит голоса."
От этой мысли стало жутко.
Под водой тишина… и вдруг – глухой металлический скрежет, словно кто-то закрыл за нами люк.
Мы вырвались наружу, но когда я оглянулась, мне показалось, что из тьмы трюма на нас смотрят… глаза.
На поверхности мы лежали на воде, пытаясь отдышаться. Сэм дрожал, цепляясь за буй, лицо белое как мел.
На берегу он долго молчал, потом сказал:
– «Я слышал их… они что-то говорили… на японском…»
Кай медленно покачал головой:
– «Это место – братская могила. Здесь погибли десятки людей. Иногда… они напоминают о себе.»
Магические традиции Бали.
Бали – это не просто остров, это живая легенда, где каждое дыхание наполнено магией, а каждая деталь жизни имеет глубокий смысл. Здесь традиции не просто чтут – ими живут. Секрет в том, что балийцы сумели сохранить знания своих предков, передавая их из поколения в поколение, как самое ценное достояние.
Мы, жители мегаполисов, привыкшие к шуму, скоростям и переменам, порой уже не способны представить себе мир, где культура и ритуалы остаются нетронутыми веками. Здесь, на Бали, всё иначе. Повседневность пронизана духовностью: каждое подношение, каждая церемония, каждая мелочь хранит в себе уважение к прошлому и гармонию с настоящим.
Иногда судьба удивительно щедра. Моё желание познакомиться с одним из хранителей древних балийских традиций – Манку, местным священником и целителем – сбылось почти магически. Манку – это не просто жрец, это человек, который объединяет в себе черты шамана, философа и хранителя знаний.
Я спросила у своего балийского друга, насколько сложно встретиться с Манку. В ответ ожидала услышать о длинных списках ожидания и сложных церемониях допуска. Но всё оказалось проще: «Завтра в 16:00 приезжай в Убуд, вот адрес». В этой лёгкости и заключена философия Бали – баланс между повседневным и сакральным.
Дом Манку встретил меня тишиной. Классический балийский двор – это целый мир: небольшие павильоны для церемоний, алтарь, резные ворота, ухоженный сад и животные, словно часть духовной экосистемы. Балийская архитектура заслуживает отдельного восхищения. Даже в современных домах здесь соблюдают древние принципы: кухня строго на юге, храм – на северо-востоке, размеры павильонов рассчитываются по особым формулам, исходя из пропорций тела владельца. Эти знания передаются священникам-архитекторам, которые соединяют материальное и духовное.
Женщина в традиционной одежде, появившаяся спустя несколько минут, попросила меня подождать. Я осталась одна среди этой магии. Вокруг пели птицы, в клетках переливались перья попугаев и голубей, филин задумчиво наблюдал за мной, а чёрный ворон встрепенулся и словно хотел что-то сказать. «Ворон – птица шаманов», – мелькнула мысль. Говорят, что балийские целители способны видеть мир глазами этих птиц.
Вскоре вышел Манку. В белой ритуальной одежде, с книгой в руках, он излучал спокойствие и силу. Мы прошли в шале, где стены были уставлены стеллажами с древними рукописями. Он сел в позу лотоса, протянул мне лист бумаги и попросил написать имя и дату рождения. Я почувствовала, что мы перешли в мир, где время течёт иначе.
Манку начертил круг со стрелками, погрузился в чтение старинной книги и начал писать. Затем он поднял взгляд и стал рассказывать о моей жизни так, словно читает невидимую книгу моей души. Слова его были точными, глубокими и неожиданно откровенными.
После беседы Манку предложил энергетический сеанс. Внутренний голос шептал мне что-то между страхом и любопытством, но я доверилась. Мы прошли в соседний павильон, где стоял массажный стол и висели схемы человеческих органов и энергетических точек.
«Не нужно объяснять, что тебя тревожит, – я знаю. Ложись», – сказал Манку спокойно.
Я легла. Он не прикасался ко мне руками, но я чувствовала, как над телом движется поток тепла. Вскоре тело охватила волна расслабления, а перед глазами промелькнул образ чёрного балийского духа с клыками – странно, но страха не было, только ощущение, что я становлюсь частью чего-то большего.
Я почувствовала лёгкие вибрации внутри – словно кто-то касался меня изнутри, убирая блоки боли и усталости. Позже мой друг объяснил: это и есть энергетический массаж – практика очищения от негативной энергии и гармонизации тела и духа.
Позже я узнала, что Манку принадлежит к древнему королевскому роду и редко принимает посетителей. Его знания передавались из поколения в поколение, и каждая встреча с ним – это прикосновение к живой магии Бали. Жители острова верят, что энергия, которой он управляет, способна изгонять тени и возвращать силу.
Выйдя из дома Манку, я почувствовала себя другой – как будто родилась заново. Ощущение лёгкости, умиротворения и наполненности сопровождало меня до самого вечера.
Бали умеет открывать сердца и напоминать нам о том, что главное богатство человека – это его связь с корнями, с землёй, с духами и предками. Здесь прошлое и настоящее переплетаются так тонко, что границы стираются, а реальность становится частью большой, живой легенды.
Шоколадная фабрика
Влажный воздух обжигал лёгкие, солнце пробивалось сквозь листву тропического леса, а пальмовые кроны танцевали над головой, словно гигантские зелёные паруса.
Алекс и Лера познакомились всего три месяца назад – и вот они здесь, на Бали, вдвоём. Их мир был наполнен случайностями, которые выглядели как судьба.
– Если мы найдём эту виллу у океана, я обещаю, что это будет наш рай, – сказал Алекс, поправляя шлем глянув на карту в телефоне.
– Рай? В джунглях, где Wi-Fi пропадает каждые три минуты? – Лера засмеялась, но в её глазах блестел азарт.
Мотор байка урчал, пока они пробирались по узкой дороге среди непроходимых тропиков. Влажные листья блестели, словно покрытые стеклом, а из чащи доносились крики обезьян. Наконец дорога исчезла вовсе, превратившись в тропу, усыпанную кокосами.
И вдруг – глухой удар.
Огромный кокос рухнул с двадцатиметровой высоты и разбился о землю в метре от них.
– Чёрт! – выдохнул Алекс. – Ещё немного, и нам бы пришлось звонить в страховую!
– Уходим! – Лера схватила его за руку. – Здесь опасно!
Они побежали по узкой тропинке. Пальмы шумели, словно дышали, а сверху глухо гремели падающие орехи.
И вдруг, когда силы почти покидали их, перед ними открылся ослепительный свет океана. Зелень резко разошлась, и тропинка вывела их к побережью.
Берег был диким, словно забытый людьми рай. Черный песок жёг ступни, а шум волн смешивался с криками птиц. И вдруг среди зарослей они заметили старую фабрику: домики, построенные из бамбука и тростника, половина деревянного корабля над обрывом, казались частью пейзажа.
– Это что… отель? – прошептала Лера.
– Или фильм про Индиану Джонса, – ответил Алекс, вытирая пот со лба.
Дверь одного домика скрипнула, и навстречу вышел мужчина с широкой улыбкой и загорелой кожей. На его соломенной шляпе сидел маленький попугай.
– Welcome to Charlie’s Chocolate Factory! – сказал он, и воздух будто наполнился ароматом какао и свежих фруктов.
Внутри бамбукового павильона царил прохладный сумрак. На длинном деревянном столе стояли стаканы с ледяным шоколадом, украшенные кусочками мяты и кокосовой стружкой. Напиток пах тропиками и солнцем.
– Попробуйте, – сказал мужчина, протягивая стакан. – Здесь, в этих джунглях, мы выращиваем какао уже двадцать лет. Мой отец, Чарли, купил эту землю и построил фабрику, когда здесь был лишь песок и океан.
Холодный шоколад растаял на языке, и мир вокруг замер. Лера улыбнулась:
– Кажется, я только что нашла рай.
Перед фабрикой стоял странный дом – выстроенный в форме старого пиратского корабля. Корму обвивали лианы, нос «корабля» смотрел прямо в океан.
– Это похоже на декорации «Пиратов Карибского моря», – засмеялся Алекс.
– Нет, это лучше, – Лера уже поднималась по лестнице.
С верхней палубы открывался вид на бескрайний океан, где солнечные блики играли на волнах, а лёгкий бриз приносил запах соли. Они фотографировались, смеялись, стояли в обнимку, словно капитан и его штурман, открывающие новый мир.
Чуть дальше к морю свисали огромные качели, привязанные к вековым пальмам. Алекс сел первым, а Лера толкнула его – и он взмыл так высоко, что казалось, пальцы ног коснутся облаков. Затем она сама взлетела, волосы развевались, сердце замирало от восторга.
– Представляешь, если бы так выглядела наша жизнь? – крикнула она сверху.
– Она так и будет! – крикнул он в ответ.
На закате они кормили голубей у берега. Птицы слетались, садились на плечи, трепетали крыльями. Солнце окрашивало океан в золотые и пурпурные оттенки, а их сердца были наполнены планами, мечтами, надеждами.
Лера взяла его за руку:
– Давай пообещаем, что вернёмся сюда.
– Не просто вернёмся, – ответил Алекс, – а построим свою историю здесь.
Через два года они вернулись – уже не как туристы, а как жених и невеста.
Чарли помог организовать свадьбу на берегу. Балийцы украсили пляж гирляндами из цветов, деревянными факелами и тканями цвета океана. Звуки гамелана смешивались с шумом прибоя.
Лера шла по песку босиком, в лёгком платье цвета слоновой кости, а Алекс ждал её под аркой из бамбука и орхидей.
– Сегодня я выбираю тебя, – сказала она.
– Я выбираю тебя каждый день, – ответил он.
В тот момент пальмы зашумели громче, волны взлетели выше, а голуби, как тогда, взмыли в небо.
Они снова качались на тех же качелях, теперь уже муж и жена, а холодный шоколад был холоднее и слаще, чем когда-либо.
Иногда жизнь делает странные повороты.
Они приехали искать виллу, но нашли свой дом – место, где джунгли встречаются с океаном, а случайные дороги становятся судьбой.
Цветы. Петя и Марина
Девятый год их брака был похож на длинную зиму.
Марина и Пётр жили в Салехарде – городе, где весна приходит только на календаре, а летом можно встретить снег.
Она – владелица небольшого бутика женской одежды.
Он – графический дизайнер, умеющий превращать серые будни в яркие макеты, но никак не способный раскрасить собственную жизнь.
Они были счастливы… почти.
Им не хватало только одного – ребёнка.
За девять лет они прошли шесть курсов ЭКО, бесконечные обследования, горы таблеток, календарей, надежд и слёз.
И вот, сидя однажды в маленькой кухне, Марина сказала:
– Петь, это шестая неудачная попытка…
– Я знаю, – тихо ответил он, касаясь её руки.
– Я больше не могу.Ни морально, ни физически. У меня нет сил верить.
Марина отвернулась, и Пётр увидел, как на её щеке медленно скатилась слеза.
Он взял её лицо в ладони и прошептал:
– Я люблю тебя больше жизни. Но, Марин, давай дадим себе паузу. Отпустим.
– Паузу? – горько усмехнулась она. – Может, лучше сразу сдаться?
– Нет. Не сдаться. Жить.
Он замолчал на секунду, а потом сказал то, что изменило их судьбу:
– Через неделю мы летим на Бали.
– Что?
– Бали. Дельфины. Кокосы. Море. Солнце. Мы просто уезжаем.
– А вещи?
– Купим там. Старое оставим здесь.
Марина впервые за долгое время улыбнулась.
Они поселились в маленьком деревянном бунгало у пляжа Томас-Бич.
Домик был простым, но в нём было всё, что нужно для счастья:
терраса с белым гамаком, на полу большое глиняное кашпо с деревом, которое цвело круглый год ярко-розовыми цветами, а с крыши на нитях свисали ракушки.
Когда ветер шевелил их, они издавали нежные, едва уловимые звуки, будто шёпот океана.
Пётр работал удалённо и заканчивал проекты к полудню, а вечерами они гуляли босиком по тёплому песку, пили чилийское вино, провожая закаты.
Солнце падало в Индийский океан, и каждый вечер казался финалом фильма, который ты не хочешь останавливать.
Марина училась рисовать на холсте, занималась пилатесом и пляжным волейболом, открывая заново своё тело и свою свободу.
Впервые за девять лет она не считала дни в календаре.
Впервые за девять лет она просто жила.
В один из вечеров Марина заметила церемонию на берегу.
Местные в белых одеждах пели мантры, играли на гаме́ланах и делали подношения океану.
Огни факелов отражались в воде, аромат благовоний смешивался с солёным воздухом.
Когда люди начали расходиться, Марина подошла ближе, держа в руках кисть,на пальцах у неё осталась гуашь красно-оранжевых оттенков.
Вдруг к ней подбежала девочка лет пяти, одетая в белое.
Она взяла Марину за руки, посмотрела прямо в глаза и сказала на чистом английском:
– “Красный меняется на два синих и один розовый.”
– Что? – удивилась Марина. – Ты хочешь порисовать?
Девочка лишь улыбнулась, отпустила её руку и побежала к уходящей группе.
Через минуту подошёл старик —, видимо, её дедушка.
В его поясе висел маленький бронзовый колокольчик.
Он посмотрел на Марину и сказал:
– “Скоро у тебя будут два синих цветка… и один розовый.”
Он коснулся её лба, что-то произнёс на балийском и ушёл.
Марина вернулась на террасу и долго молчала.
Пётр слушал её рассказ и только пожал плечами:
– Ну, мало ли что имел в виду старик… Местные свои загадки любят.
Но всю ночь Марине снились странные сны:
водопад, изливающийся золотым светом, птица с огненными крыльями, лотос в клюве и мантры, растворяющиеся в океане.
Прошло 4 месяца.
Бали стал для них домом.
Каждый день начинался с купания в океане, запахов франжипани и свежего кокоса.
Но однажды утром Марина почувствовала себя плохо.
– Наверное, солнце, – сказала она, пытаясь отмахнуться.
Пётр нахмурился:
– Собирайся. Едем в больницу.
В клинике после анализов доктор поднял на них глаза и сказал тихо:
– “Поздравляю. Вы станете родителями.”
Марина замерла.
Пётр побледнел.
– Подождите… вы серьёзно?
– Очень серьёзно.
В коридоре Пётр присел на лавку и уткнулся лицом в руки.
Слёзы текли сами собой.
– Девочка моя… мы сделали это…– шептал он, целуя её ладони.
Через восемь месяцев, в балийской клинике, Марина родила двух крепких мальчиков.
А спустя полтора года в их семье появилась и долгожданная дочка Мила.
На фотосессии в балийских нарядах, держа сыновей за руки и прижимая к себе маленькую дочку, Марина вдруг вспомнила ту девочку на пляже Томас-Бич.
Её слова зазвучали в голове так ясно, будто она произнесла их снова:
Красный меняется на два синих и один розовый.
Два синих цветка.
И один розовый.
И Марина впервые за девять лет поняла:
Бали услышал их.
И дал им то, о чём они просили.
День, когда остров дышит тишиной
На Бали есть дни, которые чувствуешь задолго до того, как их объявят по радио. Сначала меняется свет – он становится суше, как будто солнце протёрли мягкой тканью. Потом пахучее и гуще делается дым благовоний – он висит над улицами не просто «запахом», а намерением. И уже потом на перекрёстках появляются новые плетёные корзинки-подношения: чуть более нарядные, с целыми горками лепестков, риса, печенья, монеток, с каплей святой воды – как печати на письмах богам.
Так остров готовится к Ньепи— Дню тишины, когда целые сутки Бали не едет, не шумит, не торгуется, не развлекается, а дышит. Чтобы в этой тишине услышать – себя.
Но до тишины – шум. И не обычный: торжественный, театральный, выстраданный. Острову нужно «выговориться», чтобы суметь замолчать по-настоящему.
За пару дней до Ньепи, на рассвете, дороги тянутся к морю, как реки, вспомнившие устье. Меласти – церемония очищения водой. Из деревень, из храмов – маленьких семейных и больших общественных – тянутся процессии: мужчины в белых рубашках и саронгах, женщины в кружевных кебаях с широкими поясами; на головах – корзины с яркими подношениями, над всем – бело-жёлтые зонты, как маленькие солнца, и флаги с длинными хвостами.
Детвора прижимается к мамам, старики идут с такой прямотой спины, какая бывает у людей, для которых вера – не убеждение, а ремесло. У кромки воды служитель разбрызгивает воду над толпой – короткими дугами, как вспышки памяти. Разноцветные лепестки ложатся на песок рядом с рыжими крабами, и волна бережно тянет их на пару ладоней – не забирая, а «читая».
– Sukṣma, – шепчет женщина рядом и касается лбом кончиков пальцев. Спасибо – здесь всегда действием, а не словом.
Океан шумит без лишней торжественности, как добрый механик, который знает: самая важная работа – тихая. Оно смывает не «грехи», а усталость. Накопившуюся за год пыль имён, привязанностей, маленькой злобы – того, что прилипает к человеку, если ходить по миру без внутренней метлы.
Накануне Ньепи, днём, на перекрёстках острова – Tawur Kesanga. Это не просто «жертвоприношение духам», как любят писать путеводители; это переговоры с миром: с землей, ветром, огнём и водой. На земле раскладывают рис и фрукты, крошечки сладостей и чуток соли, в листьях банана дымятся благовония, а священник на певучем балийском произносит слова, которые не переводятся, потому что они не «про», а «для».
– Мы отдаём – чтобы нам вернули, – шепчет Ваян, мой сосед по лавочке у храма, – не вещи, а равновесие. Это слово и есть богатство.
С неба стекает жар; в тени под воротами дрожит ленивый пес; мимо проходящая женщина несёт на голове поднос – такое искусство равновесия не увидеть в спортзалах больших городов. Не потому, что там нет таланта, а потому, что нет привычки держать мир на голове и не ронять.
И вот – вечер. Улицы уже шумят не просто музыкой – гангса и барабанами – а чем-то более плотным: шумом, в котором есть задача. Площадь наполняется Ого-Ого – гигантскими фигурами демонов, гротескных и смешных, страшных и нарядных, сделанных руками ребят из каждого банжара (общины). Глаза – выпуклые; язык – алый и длинный; когти – как у кошки, которая решила стать оперной дивой; тела – иногда как у монстров, иногда как у карикатур на человеческие пороки.
– Наш – Каанган! – гордо шепчет парнишка, указывая на страшилище с рогами. – А у них – Бхута с тремя головами. В прошлом году – чудо как победили!
«Победить» – значит унести фигуру по маршруту, плясать с ней, не уронив, пройти развилки, развернуть на узких улочках, выдержать ритм барабанов и гомон толпы. На перекрестках – остановки: Ого-Ого крутят по часовой стрелке. Так, говорят, запутывают дороги злым духам, чтобы тем стало сложнее найти обратный путь.
Сейчас кажется, будто смеются и танцуют над «суевериями». Но здесь нет смешного. Это – коллективная психотерапия до всяких факультетов. Мы делаем монстров своими руками – раскрашиваем, украшаем, придумываем им имена – и, когда они встают во весь рост, выносим на улицу… чтобы сжечь. Не ненависть, а тревогу. Не врага, а тень, которая вырастает у каждого, когда забылось, из чего сделан день.
Факелы разгораются, ветер отгоняет дым, искры летят в легкую темноту – и дети аплодируют так, словно только что расслабилась мышца в затылке мира.
– Завтра – тишина, – говорит Ваян и точно кладет ладонь мне на плечо. – Но тишина без сегодняшней ночи – это просто отсутствие звуков. А нам нужна тишина со смыслом.
Ночь съезжается к полуночи. Тогда весь остров – целиком – делает то, что в мире называют «невозможным».
Аэропорт закрывается. Все взлёты и посадки отменены. Ни одна лодка не идёт к Ломбоку. Интернет у мобильных операторов отключают, телевидение замолкает. Улицы пустеют. В каждом доме – шторы, плотные покрывала на окна, приглушенный свет (если он вообще есть) и внутреннее «тишина».
Это – не «локдаун». Это – обряд. Называется он Catur Brata Penyepian— четыре запрета:
1. не зажигать огонь (и яркий свет),
2. не работать,
3. никуда не выходить из дома,
4. не развлекаться.
«Не» здесь – не наказание. Это – инструмент. Чтобы тот шум, что мы носим в груди, хотя бы раз в год перестал влиять на нас, как гиря на лодку. Верующие постятся – кто-то всю ночь молится, кто-то медитирует, кто-то просто сидит в тени двора и слушает, как скрипит бамбук. Дети шепчутся под одеялами, как будто весь остров стал одной большой палаткой.
По улицам в этот день можно увидеть только печаланг – традиционных стражей тишины. Они патрулируют с факелами и рациями, проверяют, чтобы никто не вышел в суету без необходимости, чтобы свет из окон не колол темноту и чтобы у соседей было достаточно воды и риса. Это не «полиция». Это – совесть общины на вахте.
Да, предприниматели недополчают выручку, туркомпании отменяют трансферы, авиалинии теряют деньги. Но остров словно говорит: «Ради памяти, ради устроения вещей я могу прожить сутки без оборота капитала». И это звучит мощнее всякой риторики о «сохранении традиций».
В полдень – самая густая тишина. Даже океан – будто вежливо убавил шум. С рисовых террас доносится только птичий свист да редкое хлопанье крыльев цапли.
Я сижу во дворе у семьи Ваяна. Его мама тихо плетёт подношения для завтра, отец чинит старую бамбуковую перегородку, мальчишки дремлют на циновках. У каждого – в руках тень от пальцев. У меня – ощущение, что мир только что выдохнул после долгого марафона.
– В этот день легко понять, чего в тебе больше, – шепчет Ваян. – Если ты зависим от движения, тишина страшна. А если ты просто живой – она как вода после жары.
Он смеётся совсем тихо, чтобы не разрушить полупрозрачную кожу тишины, и я вижу, как на мгновение у него в глазах появляется мальчишеское: радость не от того, что «получилось правильно», а от того, что получилось вместе.
Каждый год находятся те, кто «знает лучше». На этот раз – четверо туристов, две пары. Они приехали за неделю до Ньепи, сняли мопеды, успели почувствовать на вкус закаты и маракуйю, насмотрелись на Ого-Ого— и решили, что «день тишины» – отличный повод устроить себе «ретрит на природе».
– Мы поставим палатки на пляже, – сказал один (в футболке с надписью Be Mindful), – будем медитировать на прибой. Это же «быть с собой», да?
Хозяин геста в Чангу попытался объяснить, что нельзя: выход на улицу запрещен; свет нельзя; печаланги патрулируют; отель несет ответственность за гостей. Те снисходительно улыбались:
– Мы – тихо. Нас не заметят.
И, когда остров погрузился в мягкую темноту, они утащили рюкзаки и поплелись по знакомой тропе к океану. Набросали песка на колышки, натянули палатки, зажгли внутри маленькие фонарики «только чтобы книгу почитать», достали из пакетика фрукты и бутылку красного вина.
Волна шуршала, ветер принёс кокосовый лист, вдалеке ничего.
Тишина услышала их первой.
Через полчаса показались печаланги – двое, тихие, как сами правила. Они не кричали «эй, вы что творите». Они просто подошли, светанули фонарём на песок, на палаточные тени, на белые лица, и голос старшего прозвучал так же, как звучит слово «пожалуйста», когда оно на самом деле означает «нельзя»:
– Друзья. Сегодня – Ньепи. Вы – на пляже. Вы – нарушаете сразу всё. Сверните палатки. Возвращайтесь в свою гостиницу.
– Мы медитируем, – сказала девушка, дрогнув, – это тоже часть… ну… уважения.
– Уважение, – мягко ответил печаланг, – начинается с того, чтобы не считать себя умнее традиции.
Вся сцена заняла меньше пяти минут. Туристы, ворча, стали сворачивать палатки. Один вдруг дёрнул бутылку вина и махнул в сторону патруля:
– В Европе у нас свобода! Мы никому не мешаем!
– В Европе – у вас Европа, – не повышая голоса, сказал второй печаланг. – На Бали – Бали.
Они проводили их до отеля и – не шумно, но очень ясно – передали информацию в район. В такие моменты остров не «возмущается». Он фиксирует. А потом – делает вывод.
Когда вновь зажглись кухни и забормотал базар, двоих мужчин и двух женщин попросили прийти в иммиграционный офис. Разговор был короткий и не злой: объяснение правил, фиксация нарушения, напоминание, что ответственность несет не только ты, но и те, кто тебя приютил.
Через два дня их депортировали. Без скандала, без наручников. Просто – «вы не услышали остров». И это звучало страшнее, чем любое полицейское «вы нарушили».
В кафе, где мы сидели с Ваяном, говорили не о «жесткости», а о «прямоте». Здесь никому не придёт в голову восхищаться бегством от «правил». Правила – не сетка для ловушек. Правила – фасон, по которому шьют день.
– Мы теряем много денег в Ньепи, – признался владелец варунга, крутя ложку в стакане с чаем, – но мы не теряем смысл. Если потерять смысл, деньги не помогут.
Он улыбнулся и подмигнул сыну: тот тащил к столу большую корзинку с еще теплыми блинчиками. Жизнь вернулась в осязаемое: шуршит банановый лист, звякают ложки, кто-то смеётся. Ngembak Geni – «разжигание огня» – день после Ньепи, когда можно снова навещать друзей, мириться, начинать дела «с чистого места».
Ньепи – это не «театральный трюк ради туристов». Он был задолго до нас и будет – дай бог – после. Потому что эта традиция отвечает на главную болезнь времени: навязчивость звука. Мы живём так, будто любое молчание – поломка колонки. Остров раз в год говорит: «Давайте, мы вместе выключим звук. А потом – посмотрим, кто мы без него».
Некоторые постятся,кто-то просто спит, кто-то весь день читает древние тексты, кто-то пересчитывает рис – не чтобы занять руки, а чтобы вспомнить, что у вещей есть вес. У всех – по-разному. Но у всех – про себя.
Это и есть самое честное «духовное упражнение», какое только можно придумать: не «победить себя», а разжаться настолько, чтобы услышать собственную жизнь, пока она ещё твоя.
Вечером, когда заново включаются огни, когда над рисовыми террасами вспыхивают первые фонари, когда базары младенчески тянут свои голоса в небо и моторы мопедов складываются в ритм «ну что, поехали дальше» – ты вдруг понимаешь, зачем были эти сутки. Чтобы день снова стал днём, а не беспрерывной лентой задач.
На Бали умеют держать форму жизни. Не железом и указами, а привычками – маленькими и упрямыми.
Кладбище лодок
На севере Бали море не кричит – оно дышит-Балийское море. Волна приходит короткая, упругая, отступает, оставляя на чёрном песке стальную кромку соли. Пахнет мокрой верёвкой, солёной древесиной и чем-то горьким – как будто с дальнего рифа ветер приносит вкус старых бурь.
Я шла вдоль берега между Сингараджей и Теяджакулой, где за пальмами лежат деревни с низкими дворами и крохотными семейными храмами. Здесь – не открытки. Здесь – работа: сети сохнут на бамбуковых жердях, дети спорят из-за пригара на рисе, женщины перебирают мелкую рыбу в тени, мужчины чинят двигатели, к которым океан относится без сентиментальности.
И вдруг берег сделал паузу. На следующем отрезке пляжа песок был забит лодками – сбитыми с ног, вывалившимися на бок, обуглившимися от солнца, облезшими от соли. Некоторые – с расколотыми бортами, другие – ещё держали форму, но в каждой доске жили трещины, как морщины на старом лице. Они лежали рядами, как выстроенные к вечеру солдаты, и зловеще не шумели.
«Кладбище лодок», – прошептала я, хотя никто не спрашивал. Под ботинком хрустнуло что-то острое – сухая рыбья кость. Я подняла камеру: широкоугольник ловил одинаковое, как будто любой кадр мог стать чужим. Тогда я подошла ближе. У одной лодки – выцветший глаз на носу, написанный тяжелой кистью – mata, чтобы море видело путь. На борту – облупившаяся надпись: Suka Jaya- «Счастливая удача».
– Cantik?-Красиво? – спросил кто-то за спиной. Голос хриплый, тёплый, как чай после ночной рыбалки.
Я обернулась. Передо мной стоял старик – сухой, как бамбук, в белой рубашке, завязанной на животе, в синем саронге. На голове – узелок чёрной ткани, уденг. Кожа его была цвета старого тикового дерева, глаза – неожиданно светлые. В руке – плетёная корзина с маленькой рыбой, ещё блестящей.
– Красиво, – сказала я. – И страшно. Они как живые, но умерли.
Старик усмехнулся уголком рта и кивнул на лодки:
– Это не смерть. Это память. У каждой – имя, и у каждого имени – семья. Ты снимать пришла? Присядь, послушай. Сначала – слова, потом – картинка. Иначе увидишь только доски.
Мы сели на перевёрнутый корпус, похожий на ребро кита. Ветер принёс сухую пыль песка и далеко-далеко – хрип мотора от живых лодок у следующей деревни.
– Меня зовут Маде, – сказал он. – Nelayan. Рыбак. Как отец. Как kakek, дед.
Он постучал костяшками по борту. Дерево откликнулось глухо.
– Её сделали в восемьдесят восьмом. Тиковая сердцевина, а поперечины – албезия, она легче. Видишь бамбуковые «крылья» по бокам? Это аутригеры, чтобы не опрокидывалась. Тогда строили без чертежей: два мужчины, три недели, нож, шнур, терпение. Этой лодкой я плавал с отцом.
– Выход в три ночи. Возвращение – к девяти. Солнце здесь не щадит. Мы сдавали улов на рынках – Pasar Banyuasri в Сингараджe, в деревенских варунгах, иногда грузили в пенопластовые ящики со льдом – и через горы, к югу, в Денпасар.
Он провёл пальцем по букве «S».
– Это написал мой отец. Той кистью он расписывал кайты, воздушных змеев, – улыбнулся коротко. – Представь: мы веревками тянем сеть, посередине ночи, и разговор звучит как музыка, пока руки не перестают чувствовать соль. Лодка – как дом, только движущийся.
– Почему она здесь? – я всё ещё не решалась снимать голос – только дерево.
– Потому что я старый, а море любит молодых. И потому что в ту зиму сменился ветер. Angin barat – западный муссон – принес слишком много злости. Мы перевернулись в трёх милях от берега, когда цепляли буй. Лодку вытащили, починили, но в ней поселилась тень. Я стал выходить реже. Потом – вовсе перестал. Пусть лежит и хранит.
Он сказал это без жалости – как о человеке, который отработал жизнь и имеет право спать.
Мы перешли к следующей. Нос выкрашен в сильный синий, по борту – белые волны и две маленькие ладони, отпечатанные краской.
– Это лодка Ибу Команг, – сказал Маде. – Женщины редко ходят в море, но её муж слёг, а дети иногда голодали. Она ставила небольшую сеть на cakalang , иногда – поднимала bubu (ловушку), которую мы ставим на песчаном дне. Эта лодка пахла её волосами – они были всегда мокрые.
Я провела ладонью по борту. Краска шелушилась, как выгоревшая ткань.
– Потом сын вырос и сказал, что будет водить туристов смотреть дельфинов у Ловины. Он купил мотор, привёз наклейки с «TripAdvisor» и перестал смотреть на море как на хозяина. Команг радовалась, что он улыбается чаще, – Маде паузу выдержал длинную, – а я радовался, что когда шторм, он не выходит. Смотри: эти ладони – его и младшей дочери. Они «благословили» лодку на удачу. Лодка стояла с ними, как с глазами.
– А сейчас?
– Сейчас от Putri Laut осталась скамья у неё во дворе. Доски – крепче, чем мы думаем. Море разучивает нас, а дерево – учит.
Эта была почти целая. На носу – «глаз» с золотой точкой, на корме – треснувшее сиденье.
– Bintang Purnama – «звезда полнолуния». На ней Кадек Тамин ходил к дальнему рифу. Он не верил в приметы, смеялся над «глазами», не клал рис перед выходом и говорил, что у него «наука»: компас, эхолот, новая свеча зажигания, – Маде хмыкнул. – В тот год у дочери была metatah, обряд подпиливания зубов. Надо было заплатить жрецу, музыкантам, купить сари. Кадек продал двигатель. Думал – купит другой через сезон. Сезон был плохой. Теперь он чинит чужие мотороллеры. Говорит: «Я всё равно ищу звук моря – только в других пчёлах».
Он провёл ладонью по трещине сиденья.
– Понимаешь? Лодка – это не про «богатство». Это – про возможность быть кто ты есть. Когда её нет – ты всё ещё ты, но труднее это помнить.
– Можешь залезть, – сказал он и кивнул на «Suka Jaya».
Я осторожно переступила борт. Дерево было шершавым, как небритый подбородок. На дне – плоские камни вместо балласта, обломанная dayung – весло, рулевое перо, привязанное к борту. Пахло прелой солью и моторным маслом, уксусной кислинкой от старых рыбьих кишок. На шпангоутах виднелись затертые следы пальцев – там, где годами хватались руки. Я села на корточки и приложила щеку к дереву – как будто можно услышать море, которое в нём осталось. Доносился шум крови. Моей.
– Ложись на спину, посмотри в небо, – сказал Маде. – Вот так мы мечтаем в полдень, когда сеть мокнет и мотор молчит. Видишь облако? Оно похоже на парус. А то – на рыбу махи-махи. Когда мы были мальчишками, мы считали облака вместо цифр. Так учились ждать.
Я подняла камеру. В объектив вставало небо, прорезанное двумя бамбуковыми «крыльями», и узкая полоска чёрного песка. Где-то в дальнем крае кадра медленно шёл человек с корзиной на голове – ровно, как стрелка компаса.
Щёлк. Впервые картинка дышала.
С моря надвигалась длинная, как пояс, туча. На севере дожди приходят без предисловий: за минуту ветер меняет лицо, воздух наполняется ароматом зелени и ржавчины, и где-то на дальних пальмах начинают хлопать листья – слышно издалека, как шаги армии.
Мы спрятались под выступом лодки. Дождь ударил. Крупный, горячий, мягкий – как будто кто-то вылил на остров ведро теплой воды. Песок тут же запил его, как жаждущий. На мокрой древесине проявились годичные круги – светлые и темные, как записи в старой книге.
– Ты откуда? – спросил Маде.
– Из Петербурга, – сказала я. – Но это раньше. Сейчас – из везде. Фотограф.
– Фотограф, – повторил он вкусно. – Значит, ловишь не только рыбу. Menangkap cahaya – ловить свет. Смотри, как он сейчас ложится, – он показал на борт. – Как чешуя.
Мы молчали. Дождь отсчитывал минуты сверх точно.
– Я хочу сделать книгу, – сказала я вдруг. – Не про «Бали с открытки». Про ваши perahu – лодки. Про вас. Про это место. «Кладбище лодок», только живое.
– Сделай, – сказал он. – Но всё по-честному. И не фотографируй там, где людям больно, как будто это артефакт.
– Обещаю.
– И ещё, – добавил он. – Если будет книга – пусть одна лодка снова поплывет. Хоть маленькая. Чтобы наши мальчишки помнили, как скрипит сухая веревка.
Я кивнула. Это было условие контракта – не бумажного, настоящего.
Вечером я вернулась. Северный берег темнеет иначе, чем южный: без ресторанного электричества, без петель музыки, без загара на языках. Только жёлтые лампочки у двери, запах жареной рыбы и гамбус – старый струнный инструмент, на котором играют сидя на ступеньках.
Женщина в светлом кебая разложила на ткани маленькие подношения: рис, кусочки банана, пару печений, щепотку соли, каплю святой воды. Поставила рядом безымянной лодке. Пламя благовоний в темноте было виднее, чем солнце.
– Кому вы делаете подношения? – спросила я осторожно.
– Чему, – улыбнулась она.Мы благодарим море, что не забрало нас в этом году. И лодки – за то, что держали.
Где-то за спиной хохотали мальчишки, гоняли друг друга вокруг связок сетей. Один из них пнул пяткой старую доску – она издала знакомый, хриплый звук: «я ещё здесь».
Следующие дни я записывала первые наброски для книги. У Ибу Команг – руки в мелких белых шрамах от плавников, она говорила спокойно, как будто перечитывала молитву, но на слове «шторм» горло предательски подрагивало. У Кадека Тамина – аккуратные руки, на мизинцах ногти по 3 сантиметра,он смеялся над собой ретроспективно, как мальчишка, пойманный на воровстве папайи, и говорил, что его двое сыновей теперь «водят людей на дельфинов» и снова летом покупают kites – воздушные змеи размером с гараж, чтобы запускать их между рисовых полей.
Был ещё Путу, который вытаскивал с рифа ikan kerapu (групер) только на леску, без катушки. Ему было под семьдесят, он называл море «босиком» и говорил, что «лодка чувствует, куда ты смотришь». Его лодки здесь не было – её распилили на табуреты для свадьбы внучки.
– Табуреты стояли вдоль одного длинного стола, – сказал он с гордостью. – Все сидели, и никто не падал. Вот и хорошо.
А ещё был Пак Нюман, молчун, у которого умер брат – не в море, на суше, от сердечного приступа. Его лодка лежала здесь, потому что никто не решался её трогать: она казалась продолжением дыхания. Он много молчал, чуть улыбается – «пусть лежит».
Я записывала каждую нелепицу. Как они спорят о тонкостях узлов. Как один ненавидит фирменные «джутовые» веревки и клянется на старой конопле. Как другой говорит, что современные моторы слишком «гордые» и не терпят влажности. Как третий уверяет, что mata на носу – глаз – обязательно должен быть слегка косым: «море любит смотреть вбок».
Я училась словам: banjar – община, purnama – полнолуние, ngaben – кремация, boks es – ящик со льдом. Училась измерять расстояния не километрами, а «полчаса до того рифа, где живёт солнце». Училась слушать паузы, потому что именно в них обитают старые страхи, к которым никто не хочет прикасаться – ни языком, ни памятью.
Сначала мои снимки были «про лодки». Потом – «про людей». И лишь на третий день они стали «про между»: то место, где рука в старой соли становится продолжением дерева, а дерево – продолжением молчаливой гордости.
Я перестала снимать лодки целиком. Я снимала зигзаг трещины – как карту реки. Узел, где веревка впилась в дерево, оставив под кожей лодки чёткую шрамовую борозду. Пятно от масла, которое по цвету как янтарь. Тень от ладони на борту.
И да – море. Оно стало не фоном, а владельцем кадра. Иногда я делала всего один снимок за час, а остальное время просто сидела на корточках, медленно дыша. Мимо меня, как тени, проходили люди. К лодкам никто не относился «сверху»: их обтирали, о них спотыкались, на них сидели. Как на стариках, которых уважают не за наставления, а за то, что они просто выдержали.
Однажды Ибу Команг позвала меня к себе. Во дворе её дома – низкая терраса, бетонный столик, три табурета, два подростка в футболках «Barça» и в глубине – маленький храм с навесом. У боковой стены, под навесом, висела скамья – два куска старого борта, стянутые бамбуком.
– Это Putri Laut, – сказала она. – Теперь она – здесь. Иногда муж садится на неё утром и пьёт кофе. Говорит, что вкус лучше. А мужики из общины смеются и говорят, что это магия дерева. Я не спорю.
На стене висел черно-белый снимок: тридцать лет назад, молодой мужчина с голым торсом, влажные волосы, на носу лодки – его сын, мальчишка, который сейчас водит туристов на дельфинов. Они улыбались. В улыбке было очень много зубов и ничего лишнего.
Снимок пах сухим временем.
Я уехала не сразу. Несколько раз возвращалась на север, чтобы доснимать – в золотые часы и в тусклые облачные, потому что у каждой лодки был свой правильный свет.
Книга получилась без глянца. Я назвала её «Лодки, которые молчат» – Perahu yang Diam – так мы придумали вместе с Маде. В каждой истории – минимум слов и максимум воздуха, как в домах на сваях: пусть ветер ходит, не запирай.
На презентации в Убуде я читала кусочки вслух. Кто-то плакал тихо, кто-то улыбался. Один турист спросил:
– Почему у вас так мало фотографий «целых» лодок?
– Потому что целые лодки – работают, – ответила я. – У них нет времени позировать.
Часть дохода мы отправили в банжариат Маде: чтобы из старых досок восстановить одну детскую лодку и купить хорошие спасжилеты. На север приехал мастер из Булаэляра, и через три недели по песку, свистя веревками, пацаны тянули к воде ярко-синий jukung с игрушечными бамбуковыми крыльями. Они кричали так, как кричат только там, где нет стыда радоваться.
– Вон, – сказал Маде и ткнул подбородком в сторону моря, – слышишь? Это не мотор. Это память, у которой выросли ноги.
Спустя год я опять пришла к «кладбищу». Солнце стояло ниже, чем я помнила, или мне казалось. Лодки лежали почти те же, но в них стало больше мягкости – как будто они смирились со своей работой хранителей. На носу у «Suka Jaya» кто-то снова поправил глаза. Тень шла к морю и не спешила.
– Ты вернулась, – сказал Маде. Он постарел за год – чуть ниже ростом, чуть тяжелее взглядом, но улыбка жила так же, как море – тихо.
– Я обещала, – сказала я. – И привезла тебе что-то.
Я достала из рюкзака книгу – бежевую, с грубой бумагой, на обложке – ободранный нос «Suka Jaya», и на обратной стороне – маленькие ладони Putri Laut.
Он перевернул, провёл пальцем по своему имени – I Made Arta – маленькие буквы посреди больших.
– Bagus sekali, – очень хорошо, – сказал он без многословия. – Значит, лодки говорили не зря.
– Это ты говорил, – возразила я.
– Нет, – он улыбнулся. – Я только переводчик.
Мы любим говорить: «Море – свобода». Возможно. Но на севере Бали я увидела другое: море – договор. Оно даёт ровно столько, сколько ты способен уважать. Лодка – не мечта о свободе, а инструмент уважения: к воде, ветру, рукам, терпению, памяти предков и будущим детским ладоням.
Люди уходят работать в гостиницы, водить экскурсии, варить капучино, потому что так проще кормить семью. В этом нет предательства. Но когда в банжариате снова собирают бамбук для аутригеров и подтёсывают доску по старой линии, у мальчишек глаза становятся круглее. Это – не «возвращение к корням». Это – продолжение речи.
Туристы ищут здесь «кайф» океана – коктейль, закат, музыка. И получают это щедро. Но под слоем «кайфа» живёт остров, который умеет быть строгим. Он запоминает те руки, что учились держать весло, и те глаза, что не опускаются перед водой.
Когда я теперь слышу ночью дождь по стеклу, мне слышится не просто погода. Мне слышится хрип «Suka Jaya», которую вытащили на песок, чтобы она стала музеем без стен. И мне кажется, что, если бы у моря была библиотека, там стояли бы не книги – лодки. Каждая – с историей на борту. Каждая – как детская ладонь на краске. Каждая – как договор: «Я держу тебя. Ты – держи меня».
И, наверное, это единственный честный способ разговаривать с Бали: не «забирать впечатления», а поддерживать память. Хоть одной маленькой лодкой. Хоть одной фотографией, в которой не мы главные, а свет, который оставили в дереве чьи-то очень терпеливые пальцы.
Письмо из детства
Утро в Джимбаране пахло рыбой и дымом от жаровен. Рыбаки в тёмных саронгах тянули лодки на песок, и борта глухо скрипели, как старые двери. Женщины перекрикивали друг друга, торгуясь за цену тунца и махи-махи. На пляже гудел рынок: корзины с ещё блестящей рыбой, крики «Икан! Икан!», резкий запах соли и йода.
София привыкла начинать день именно здесь, среди рыбацкого хаоса. Она приехала на Бали не как туристка, а волонтёр: помогала детям в местной школе учить английский. В Джимбаране всё было иным, чем на открытках. Вместо вилл с бассейнами – простые каменные дома за резными воротами, вместо спа-салонов – уличные лотки с дурианом, а вечерами – ряды кафе вдоль берега. Там горели фонари и весь пляж превращался в одну большую кухню, где в дыму жарились креветки, кальмары и красные снепперы.
Софии нравилась эта атмосфера: здесь жизнь чувствовалась настоящей, без глянца.
В один из жарких дней она разбирала старый шкаф в классе. Шкаф был перекошенный, с облупившейся краской. Среди потемневших тетрадей и учебников её пальцы наткнулись на плотный конверт.
На нём детской рукой было выведено неровными буквами:
«Ваян. 2008»
София осторожно вскрыла конверт. Внутри – листок с простыми словами, написанными криво и с кляксами:
«Я хочу стать пилотом. Чтобы летать над океаном, и чтобы моя семья мной гордилась. А моя мама улыбалась, когда я возвращался с работы.»
Она перечитала несколько раз. Письмо было трогательным, как застывший кусочек детской души.
Вечером София показала письмо учителю, седовласому Пак Маде.
– Это писал мальчик по имени Ваян, – сказал он после паузы. – Сын рыбака. Всё время рисовал самолеты в тетрадях. Глаза у него горели небом.
– А где он сейчас? – спросила София.
– По-моему, работает здесь же, в Джимбаране. У него фруктовая лавка.
Они вышли на улицу. Солнце садилось, и с минарета рядом тянулся азан – мягкий, тягучий, словно сам воздух отзывался на зов. Люди останавливались, кто-то шёл к мечети, а пляж внизу уже оживал: фонарики загорались один за другим, официанты расставляли столики, и над океаном стоял густой запах морепродуктов.
Фруктовая лавка оказалась небольшой. На прилавке лежали пирамиды манго, змеиные фрукты, бананы. Мужчина лет тридцати с загорелым лицом перекладывал плоды.
София подошла.
– Извините… Вы Ваян?
Он поднял голову.
– Да. А вы кто?
Она протянула конверт.
– Я нашла это в школьном шкафу.
Он взял письмо, задержал дыхание и тихо улыбнулся:
– Господи… Я писал это пятнадцать лет назад.
Они присели на низкие табуреты прямо у лавки.
– Я мечтал быть пилотом, – сказал Ваян. – Сидел на крыше и смотрел на самолеты. Казалось, они уносят меня куда-то туда, за горизонт. Но отец заболел, нужно было работать. Учёба – дорого. Я остался помогать семье.
София слушала, а вокруг шумела улица: кто-то вёз мотоцикл с корзинами рыбы, дети гоняли мяч, над головой в небе парил воздушный змей.
– Я не стал пилотом, – продолжал Ваян. – Но у меня есть дети. Двое. Они ходят в школу, смеются, мечтают. И когда я вижу их глаза, я понимаю: вот мои крылья.
В тот вечер София пошла по пляжу Джимбарана. Туристы сидели за столиками, ели креветки с дымящихся грилей, пили кокосовую воду. Фонарики отражались в чёрной глади океана. А где-то позади, на узких улицах, звучал вечерний азан.
Она думала о письме, о Ваяне, о его мечте.
Может быть, летать – это не всегда про небо. Иногда летать – значит поднять семью, дать детям шанс выше, чем у тебя. Иногда крылья – это не самолёт, а руки, которые держат близких.
София достала блокнот и написала:
«Я хочу собрать истории, которые не стали полётом в облаках, но стали полётом сердца. Эти письма и есть настоящая карта острова».
Океан шумел, как подтверждая её мысли.
Память времен
Северо-восток острова просыпался не спеша, будто и сам был живым существом. Перед рассветом море дышало глубоко и ровно, как спящий великан, и когда с востока прокатилась первая розовая волна света, чёрный вулканический песок начинал блестеть – не как песок, а как шлифованное стекло. Лодки-джукун с изогнутыми аутригерами шуршали по гальке, их корпуса были разрисованы детскими, почти наивными орнаментами – глаза у носов, ресницы, ленты, звезды. Рыбаки, убаюканные ночной водой, молчали – в эту пору слова казались лишними.
Лукас пил крепкий балийский кофе на террасе маленького варунга и смотрел, как из темноты выныривают силуэты. Он был тридцатилетним немцем, который однажды приехал на восточный Бали на пару недель, а остался на годы – сначала из упрямства, потом из любви. В Европе у него была постоянная усталость под скулами и привычка просыпаться от будильника, а здесь будил его шум волн, и будильник казался оскорблением.
В блокноте рядом – короткие, рваные записи с прошлой ночи:
«Сирена. Пламя. Люди бегут по палубе. Я под водой, но слышу их голоса.»
Сны не отпускали его несколько недель. В них всегда был корабль – длинный, тяжёлый, из прошлого. И чувство, что тебя зовут.
Сегодня он собирался снова нырять к «Либерти» – американскому кораблю, который был выброшен к берегу после торпеды в 1942-м и окончательно ушел под воду позже, когда Агунг вздрогнул и сдвинулся мир. Лукас водил туда десятки туристов в неделю, знал каждый люк и каждую щель, но плавал один редко. Сегодня – хотел плыть один.
– Снова к «Либерти»? – спросила хозяйка варунга, Путу, поставив перед ним тарелку с рисом и жареными бананами.
– Снова, – улыбнулся он.
– Будь вежлив, – сказала она просто. – Там – люди.
Он проверил баллон, ремни, фонарь, тычком пальца успокоил стрелку манометра и шагнул с джукуна в воду. Момент входа всегда был как вход в храм – поверхность вздрагивает, мир резко меняется, звуки глохнут, и всё вокруг становится густым, как свет в витражном окне.
Первые метры – молочное сияние. На пяти – синеет. На десяти – эхо волн затихает, и начинает слышаться тонкий свист дыхания через регулятор. И вдруг – корпус.
«Либерти» проступил из толщи воды, как огромный ребристый кит, присевший на бок. Ржавчина и время превратили его в коралловый сад, и от этого зрелища всегда становилось не по себе: жизнь росла на смерти, веселая стая желтых рыбин крутилась в месте, где когда-то кричали люди.
Лукас плыл вдоль пробоин, скользя пальцами по металлу. Он знал эти поверхности на ощупь – шершавые, мшистые, местами мягкие от губок. Свет фонаря облизнул на дне что-то не из этого века – не коралл, не стекло. Металл. Кругляш. Он завис, притормозил плавниками, откинул слой ила ладонью – теплый, как пепел – и поднял.
Медальон. Потемневший, но не сдавшийся. На ребре – насечка. На лицевой стороне – выцветшие буквы. Он сощурился и прочитал, как читают молитву:
J. D.
И ниже: 1942.
Холодок стек по позвоночнику. Ничего страшного – просто кусок металла, говорил разум. Но в воде разум всегда звучит глухо, как чужой голос через стену. Лукас сунул медальон в карман компенсатора, ещё раз провёл ладонью по обшивке – как извиняясь – и пошел вверх. Солнце ждало его у поверхности, как выдох.
Ночью он не спал. Медальон лег на тумбочку. И едва Лукас закрыл глаза, то оказался в другом свете – жёлтом и красном, как внутри печи. Сирены вышивали воздух, черные фигуры бежали по палубе, кто-то падал, кто-то кричал матросским голосом – грубо и отчаянно. Он слышал английские команды с примесью чужих акцентов – это был язык, похожий на тот, которым говорила его бабушка, когда нервничала: западное побережье, польские согласные, немецкие гласные – война всегда говорит на смеси.
Удар. Волна. Вода схлопнулась над его головой. Он проснулся рывком, как человек, которого вытянули из глубины. На террасе стрекотали цикады, пахло благовониями, где-то за стеной щелкала закрывающаяся дверца алтаря – кто-то делал подношение духам дома. Он сел, ладони были мокрыми.
Он попытался смеяться – «чего я, взрослый мужик, боюсь куска железа?» – и не смог. В снах пахло гарью, и это была не метафора.
Утро было обыкновенным – Ваян, сосед, чинил аутригер, женщины в саронгах развешивали белье, мальчишки тренировались задерживать дыхание в лагуне, соревнуясь, кто дольше. Лукас спустился к воде, там, где сушат сети, сидел старик. У него было лицо, которое могло бы быть любым: такая морщинистая карта, где можно прочитать всё – и радости, и шторма.
– Пак Ньюман, – позвал Лукас, садясь рядом. – Смотри.
Старик долго вертел медальон между пальцами, как будто согревал.
– Нашли там? – кивок в сторону моря.
– У «Либерти».
– Помню, – сказал старик и неожиданно улыбнулся. – Я был мальчиком. Нас подняли ночью – всё село звало. Корабль горел. Мы бежали к берегу с фонарями. Американцев вытаскивали. Кто-то молился по-нашему, кто-то – по-своему. Утром мы варили для них рис и собирали им одежду. Мой отец нёс парня на плече. Тот всё спрашивал, где его медальон. Отец не понял. Потом он сказал «мама» и заснул.
– Он…
– Умер, – спокойно сказал старик. – Здесь иногда умирают. В море – всегда.
Лукас попытался спросить «кто он был?», но старик лишь пожал плечами.
– Для нас все они были таму – гости. Мы не знали их имена. Но мы их помним.
– Что мне сделать с этим? – Лукас сжал медальон, как жмут амулет.
– Сделай, чтобы он перестал стучать у тебя в голове, – сказал старик. – Иногда вещи надо возвращать.
Дни текли как вода – одинаковые, если смотреть сверху, но уникальные, если опустить ладонь. Лукас водил туристов к «Либерти», останавливал их у огромной пушки, показывал, как коралл захватывает металл, как ткань захватывает шрам. Он ловил себя на том, что говорит мягче, чем раньше, подолгу молчит, дольше висит в синеве перед тем, как войти в корпус. Ему казалось: если говорить шёпотом, звук дойдет туда, где надо.
Ночами снились лица – он уже различал черты, привыкал к ним, как привыкают к соседям по подъезду. Один парень всё время улыбался – даже в огне, другой ругался так, будто ругательство было молитвой. И вдруг – голос на непохожим английском, с тянущимися «р»: «Tell my mother…». Он просыпался и слышал, как за стеной Путу тихо шуршит, открывая маленькую коробочку с цветами – на утренние подношения.
– Они тебя выбрали, – сказала она как-то, наполняя плетёные корзинки рисом и лепестками. – Так бывает.
– Кто – «они»?
– Те, кто не доплыл. Ты им нужен, чтобы доплыть.
Они пришли – группа дайверов из Сан-Диего, двое мужчин, женщина и парень – моложе Лукаса. В руках у самого старшего был конверт. Лукас рассказывал им перед брифингом историю «Либерти», показывал схему, где лучше проходить, где течения. Кивнул на табличку «Не трогать. Не брать». Пауза. Мужчина из Сан-Диего поднял руку:
– Извините… Вы не находили на «Либерти» чего-то вроде медальона? – Голос дрогнул.
Лукас почувствовал, как внутри всё ухнуло.
– Почему вы спрашиваете?
Мужчина достал фотографию – черно-белую, с зазубренными краями. На ней – парень едва ли старше двадцати, с обычным, нелепо-нормальным лицом и улыбкой. В уголке – «J. Davis».
– Это мой прадедушка, – сказал американец. – Он пропал здесь в сорок втором. Мой отец до конца жизни хранил его письма. Я приехал… ну… не знаю, зачем. Просто приехал.
Лукас молча достал медальон. Мужчина вдохнул, как при погружении: глубоко и с небольшой паникой. Пальцы его дрожали.
– Можно?
– Это… – Лукас запнулся. – Это, кажется, его.
Тишина висела вязко, как тропическая жара. Потом мужчина кивнул:
– Я хочу нырнуть. Если… если можно, мы вернём его туда.
Они шли вдвое медленнее обычного. Лукас показывал жестами – «дыши», «не спеши», «смотри». Американец держал медальон ладонью у груди, как люди держат крестики. Внутри «Либерти» лоскуты света резали тьму на квадраты, как через жалюзи. Шаг за шагом они прошли коридором, потом через разбитый люк, откуда обычно рыбам нравится влетать к фотографам – и остановились.
Лукас показал на выступ у ребристой стены – как полочка. Он кладёт ладонь – «сюда». Американец посмотрел на него, и у Лукаса на мгновение мелькнул отчетливый образ – молодые руки, обгорелые, пахнущие машинным маслом, которые очень стараются застегнуть что-то мелкое. Он моргнул, усмехнулся себе под маской: откуда это – память или воображение?
Медальон лёг на полочку. Совсем просто. И все. Но в эту секунду вода словно сделалась теплее, фонарь моргнул и, казалось, на долю мгновения вокруг стало светлее – так, будто кто-то открыл маленькую дверь. Американец вытянул руку и коснулся металла, как касаются надгробной плиты. Лукас посмотрел в его лицо – там не было театра и сверхсмысла. Там была усталость человека, который выносил из себя тяжёлую вещь и наконец её положил.
Они сидели на гальке и пили сладкий чай прямо из стеклянных стаканов, обжигаясь. Американец молчал, потом сказал:
– Знаете, я думал, что увижу знак. Музыку, свет, ангела, что-нибудь. А было – просто. И… этого хватило.
– Иногда достаточно просто, – ответил Лукас. – Слишком много света – ослепляет.
Американец улыбнулся впервые.
– Мой отец прожил всю жизнь, думая, что его дед там, в воде, один. А теперь мне кажется, он не один.
Лукас ничего не сказал – потому что знал: там, внутри, полный дом.
Рассказы перед брифингом после этого случая изменились. Лукас всё так же говорил про «проверяем запас воздуха на двадцати, выходим по буйку», показывал схемы течений, предупреждал про бережное отношение к кораллам. Но теперь он добавлял пару фраз – коротких и, казалось бы, лишних:
– Это не парк развлечений. Это кладбище. Здесь – чьи-то имена. Мы – гости. Снимайте красиво. Плывите мягко. Ничего не берите, кроме фотографий и памяти.
Он заметил, как воздух вокруг сдвинулся: люди кивали, волнуясь, говорили друг другу тише. Иногда кто-то спрашивал: «А если найти что-то?». Он отвечал: «Подумай, у кого ты это отбираешь». Этой фразы хватало.
Ночью сны стали другими – всё ещё яркими, но без крика. Руки не тянулись из воды, а махали – как с лодки на лодку. Он просыпался не вздрагивая, а будто его аккуратно поставили на берег.
Через несколько недель он поехал в Амед по делам и, как всегда, заглянул в лавку старика-резчика, у которого покупал деревянные маски и рыбины для сувениров. Старик держал в руках кусок железного дерева – улин – и строгал его узкой стамеской. Лукас смотрел, как из грубой болванки выступает тонкая рыбья спина, как живая древесная пыль ложится на доску коричневым снегом.
– Ты стал другим, – сказал старик, не поднимая глаз.
– С чего ты взял?
– Ты стал медленнее. Медленные люди видят больше.
Лукас хмыкнул.
– Мне снились они – моряки. Сейчас снятся чаще – но спокойнее.
Старик закончил линию, подул на резьбу, отложил стамеску.
– Знаешь, почему улин не гниёт? – спросил он. – Потому что он рос долго и не спешил. В нем нет лишней воды, только то, что надо. Так и с памятью: если её не расплескивать, она становится крепкой.
Лукас взял деревянную рыбину – теплую, только что рожденную. И подумал, что, может быть, его работа – не только в том, чтобы нырять и показывать людям красивое. А ещё – в том, чтобы учить их не торопиться.
Через три месяца пришло письмо – настоящее, бумажное, со штампом Сан-Диего. Внутри – короткая записка от американца и старая фотография: двое мальчишек на пляже, у ног – ведро, из ведра – торчат палки для воздушных змеев. На обороте было написано: «Джон и Питер, 1938». Ниже – новая, цветная фотография: тот самый медальон на коралловой полочке, снятый под водой. Американец попросил Лукаса передать копию старому рыбацкому селу – «чтобы знали, кого они спасали в ту ночь».
Лукас повесил обе фотографии в варунге Путу. Посетители спрашивали: «Кто это?» – и Путу рассказывала своим мягким, чуть насмешливым голосом историю про «гостей, которых море держало долго, а мы держим в голове». Люди слушали внимательно, как слушают старые сказки.
Однажды на закате, когда море было гладким, как раскатанная сталь, Лукасу захотелось нырнуть один – без туристов, без инструкций, без фонаря. Только он и вода. Он шагнул, погрузился, проплыл вдоль края корпуса, ладонью отметил знакомые шероховатости – как человек, который обходит дом в темноте и знает, где скрипит доска.
У полочки с медальоном он почти не остановился – коротко кивнул и поплыл дальше. Там, где «Либерти» больше всего похож на кита, есть место, где вода звучит иначе – тонко, стеклянно. Там он висел минуту, две, три – время в воде ведет себя странно. И вдруг понял: это не «последний нырок», как говорили сны. Это – первый, в котором ему не нужно было искать знак. Он – часть знака.
На обратном пути вверх, когда сверху – уже золото и свет, он посмотрел вниз еще раз. И увидел корабль не как разрушенный металл, а как длинную, твердую историю, на которой вырос сад.
Когда на востоке Бали наступают ночи без ветра, черный песок у воды на секунду становится зеркалом. В нем отражается небо и огни джукунов – рыбачьих ламп вдалеке. В такие ночи в варунге Путу под тиканье старых часов Лукас пишет в блокноте новые заметки. Не сны – истории. Про тех, кого он встретил под водой и на берегу. Про вещи, которые нужно возвращать. Про людей, которые держат для вас лодку, пока вы плывете.
Иногда кто-то из туристов просит: «Покажи место, где лежит медальон. Я хочу его увидеть». Он улыбается и качает головой:
– Не сегодня. Иногда лучше знать, что он там, чем смотреть на него.
Он говорит новое правило, которое придумал для себя:
«Не бери с моря ничего, кроме воздуха. Не оставляй в море ничего, кроме благодарности».
И когда ночь становится теплой и густой, как чай, ему кажется, что где-то очень далеко, за рифом, кто-то смеется – коротко, молодо, как смеются на палубе перед отплытием. И он смеётся в ответ – тихо. Потому что наконец понял простую вещь: мы не всегда можем вернуть людей домой, но мы можем вернуть домой их истории. И этого, иногда, достаточно.
Игры под запретом
Когда ты переезжаешь в другой город – это всего лишь смена декораций. Новые улицы, новые лица, стресс, но привычный мир рядом. Когда переезжаешь в другую страну – это фаталити. Тебя вырывают с корнем: чужая культура, чужой язык, и пустота вокруг. Чувствуешь себя выброшенным на необитаемый остров: нужно искать еду, крышу над головой и хоть кого-то, с кем можно разделить одиночество.
Не каждый выдерживает этот период. Многие экспаты первые месяцы ходят, как тени, и жуют тоску. Но мне повезло. Я сорвала джекпот.
Совет всем, кто боится переездов: ищите людей по интересам. Волейбол, настолки, обмен книгами. В любой стране есть чаты соотечественников – и именно они становятся твоей «подушкой безопасности».
Через два месяца у меня уже была большая семья – тридцать человек. Яркие, энергичные, решившие оставить свои офисы и «начать с нуля». Финансисты, юристы, продажники. Мы были такими разными, что от этого казались ещё ближе.
Главным у нас был Араз – парень с кавказским обаянием и неиссякаемой энергией. Его вилла стала штабом: ужины «кухонь мира», фильмы на проекторе, настольные игры. Те, кто снимал крохотные номера в отелях, здесь впервые чувствовали, что у них есть дом.
Мы бродили по пляжу Double Six, сидели в кафе B9B и смотрели на закаты. В такие вечера весь мир казался на ладони: океан, смех друзей и простая благодарность за то, что мы здесь.
А потом Араз пропал.
Не отвечал в чате, не брал трубку. Сначала мы шутили: «наверное, заснул после вечеринки». Но прошло два дня. Договоренный ужин отменяется. И сердце сжалось.
Я открыла новости в русскоязычном чате. И там – строчка, от которой волосы встали дыбом:
«На вилле задержана группа иностранцев за игру в покер. Все арестованы».
Я знала. Без сомнений. Это он.
Азартные игры в Индонезии – под жёстким запретом. Это не «штрафчик». Это может быть тюрьма. С железными прутьями, духотой, и словом deportasi, которое потом висит на тебе клеймом.
И тут – смс с незнакомого номера:
«Забери мой паспорт. Завтра отнеси в отделение на Джимбаране.
Меня накрыло. Перед глазами мелькали образы: сырые камеры, закованные в цепи заключенные, охранники с холодными лицами.
Я набрала друзей:
– Ребята, нужно забрать паспорт Араза. Кто со мной?
– Ты что, с ума сошла? – пискнула одна. – Это же опасно.
– Я на другом конце острова, не успею, – оправдывался другой.
– Ну, давай хотя бы паниковать вместе, – сказала Оля и приехала.
Мы сидели у меня дома, и воздух был такой густой от страха, что казалось – дышать невозможно.
В 9 утра мы стояли в полицейском участке: я, Лера, Оля и Максим.
На стенах – портреты генералов, в углу вентилятор лениво гонял теплый воздух. За решеткой в глубине здания мелькали силуэты – арестованные иностранцы. Мне стало плохо от одной мысли, что там могли быть мои друзья.
– И что теперь? – Лера кусала губы.
– Ждём, – сухо сказал офицер, принимая паспорт.
– Сколько? – спросила я.
Он пожал плечами:
– Bisa lama… mungkin sebentar (может долго, может быстро).
Мы переглянулись.
– Отлично, – прошептал Максим. – Это как очередь в миграционку, только страшнее.
Мы рассмеялись. Смех был нервным, на грани истерики.
Три дня мы жили в подвешенном состоянии. Новости обрастали слухами: «дадут пятнадцать лет», «депортируют в кандалах», «посадят всех, кто был на той вилле».
Я представляла условия азиатских тюрем. Камеры по десять человек. Железные нары. Вёдра с мутной водой. Жара, в которой душно дышать. И мрак, от которого кровь стынет в жилах.
– Представляешь, если нас тоже запишут как «соучастников»? – прошептала Оля.
– Ну, тогда главное – чтобы вай-фай провели, – снова попытался шутить Максим.
И мы снова засмеялись. Но внутри было холодно.
Когда всех отпустили, мы вздохнули, как будто впервые за эти дни вдохнули по-настоящему.
Огромные штрафы. Депортация. Но не тюрьма.
Араз позже позвонил нам из-за границы. Голос бодрый, даже весёлый:
– Ну что, друзья. Покер – не для Бали. Зато в Макао – самое то. Приезжайте. Сыграем турнир.
Мы переглянулись и рассмеялись. Смех уже был искренним.
Именно тогда я поняла: свобода – это не просто возможность дышать океанским воздухом. Это то, что в один миг может исчезнуть. И только испытав на себе холод тюремных решёток, даже чужих, начинаешь ценить её по-настоящему.
Псевдопросветленные
Когда-то Убуд был тихой деревней художников и резчиков по дереву. Сейчас его называют «духовной столицей Бали», но если приглядеться – он больше похож на ярмарку тщеславия. Сюда слетаются люди со всего света – одни ищут йогу и тишину, другие – легкие наркотики и «быстрое просветление».
Лена переехала на Бали в поисках перемен. После развода и тяжёлого года она хотела тишины и новых смыслов. Но вместо покоя её окружили «инстагуру» – молодые ребята с бородами, бусами на шее и бесконечными сторис:
– Сегодня мы открываем чакры через какао-церемонию!
– Записывайтесь на наш ретрит – всего тысяча долларов, и вы станете самим собой!
Лента Инстаграма пестрела рекламой «волшебных практик». Кто-то пил микродозы грибов, кто-то «чистился» травами, кто-то делал селфи в позе лотоса и писал: «Мой путь к свету продолжается…»
Лена смеялась, но ей было любопытно.
– Пошли, – сказала подруга Рита, когда их пригласили на «глубинный ретрит».
– Что это? – удивилась она.
– Да что-то про айяуаску. Там шаман, из Перу вроде. Все говорят, это путь к настоящему «Я».
Они ехали по узкой дороге за Убудом. Джунгли сгущались, воздух пах влажной землёй и сладкими цветами франжипани. Вдалеке играли сверчки, и уже по атмосфере было понятно: всё рассчитано на эффект.
Место оказалось виллой, стилизованной под храм: много свечей, мантры из колонок, алтари с фигурками Будды и Ганеши. Человек двадцать – европейцы и американцы, в белых одеждах, некоторые уже изнеможенные от поста. Их усадили в круг.
Шаман оказался не седым перуанцем, а высоким парнем в модной хипстерской одежде. На руке – айфон, в другой – чаша с густым чёрно-зелёным напитком.
– Сегодня мы отправимся в путешествие внутрь себя, – сказал он на английском. – Айяуаска откроет то, что вы скрываете. Не бойтесь, вас ждёт новая жизнь.
Первым выпил худощавый австралиец. Через десять минут его вывернуло в ведро, и он упал на коврик, корчась. «Процесс очищения», – улыбнулся шаман.
Потом очередь дошла до девушек. Несколько из них начали рыдать, одна смеялась истерически, другая – выкрикивала обрывки молитв. У кого-то начались видения, у кого-то – паника.
Лена смотрела, как её подруга Рита держится за голову:
– Я вижу змей… они лезут на меня! – кричала она.
– Это твои страхи! – уверенно сказал «шаман». – Прими их!
На деле же всё выглядело жутко: блевота, слёзы, хаос. Кто-то бился в истерике, кто-то лежал без сознания. А рядом – ассистенты, которые раздавали ведра и салфетки.
Лена подумала: «Если это путь к просветлению – то спасибо, я лучше чай из имбиря попью».
На рассвете круг разошелся. Люди были бледные, уставшие, но многие сияли:
– Это было невероятно! Я увидел свое новое «Я»! – говорил один.
– Я встретила предков и поняла, что мне нужно разводиться! – делилась девушка.
В Инстаграме на следующий день появились сторис: фотографии свечей, цитаты про любовь к миру, селфи со слезами и хэштег #reborn.
А Лена чувствовала только пустоту. Она не увидела просветления. Она увидела группу потерянных людей, готовых платить большие деньги, лишь бы кто-то сказал им, что они «на верном пути».
Через день Лена пошла к Кетуту – пожилому балийскому целителю, которого знали в округе. Его дом был прост: дворик с храмом, клетки с птицами, маленькая веранда. На стенах висели старые фотографии его семьи.
– Ты ходила к шаманам? – спросил он, улыбаясь.
– Да. Но это было похоже на цирк.
– Цирк для белых туристов, – кивнул он. – Айяуаска – это серьезный обряд в Амазонии. Там есть традиция, поколениями передающаяся. А здесь – бизнес. Люди думают, что если выпьют траву, они станут мудрыми. Но мудрость не приходит в чашке.
Лена молчала. Кетут продолжил:
– Миллионы приезжают на Бали за «просветлением». Они хотят быстрых ответов: кто я? зачем я здесь? Но если ты сам не знаешь, чего ищешь – никакой остров не поможет. Ты можешь отрастить бороду, покрыться татуировками и кричать о чакрах в Инстаграме – и всё равно останешься пустым.
Он рассмеялся мягко, но в его смехе слышалась ирония.
– Знаешь, иногда я думаю: если бы просветление было в грибах или травах – козы давно бы стали святыми.
Лена засмеялась тоже. И впервые за всё время почувствовала: не вся духовность – фальшивка. Есть настоящая глубина, но она там, где нет рекламы и хайпа.
На Бали легко встретить псевдо-пророков. Они обещают открыть вселенную, но на деле лишь продают иллюзии. Настоящая мудрость – тише, скромнее. Она хранится в сердцах людей вроде Кетута и в простых моментах жизни: в запахе жасмина, в улыбке ребёнка, в тишине на рассвете.
А если ты ищешь её в чашке с травами или на ретрите с громкой рекламой – ты найдешь только блевотное ведро и пустоту.
Санур. Последняя молодость
Санур не кричит о себе, он дышит. Он похож на отдельный маленький город у океана, у которого неожиданно оказались и характер, и манеры: тенистые аллеи, тротуары – на Бали это редкость и почти нежность, – лавочки под деревьями, низкие дома с крышами, похожими на раскрытые книги. Здесь всё – в шаговой доступности: аптека с прохладным кондиционером и улыбчивым фармацевтом, скромная клиника, лавка с пахучими манго и салаком, прачечная, где бельё пахнет солнцем, и променад, стелющийся вдоль лагуны так ровно, будто её строгал терпеливый плотник.
По утрам лагуна – как стеклянная тарелка, волна приходит лишь шёпотом. На мелководье шалят дети – вода до колена, прозрачная, ленивая, тёплая, как ладонь. На первой линии – много отелей, но они, будто воспитанные соседи, не загораживают море. Есть один – деревянный, с высокими, как соборный неф, потолками,сквозняк проходит через него не как ветер, а как органный аккорд. Внутренний сад с зеркальными лужайками и бассейном, в котором тень кокосов распадается на квадратные осколки, по кромке ходят бесшумные садовники – и всё это напоминает: здесь старость – не приговор, а форма хороших манер.
К семи утра на набережной уже слышны голоса: ракушки, подвешенные у входов в кафе, позвякивают чуть слышно, и кто-то невидимый аккуратно расставляет мир по местам – детей к песку, туристов к кофе, местных к подношениям из цветов. Я иду вдоль воды – в Сануре легко идти не спеша: тротуары для этого и придуманы. Мимо – велосипедисты, чьи корзинки пахнут хлебом и фруктами, две бабушки в кружевных кебая несут маленькие плетеные корзинки-чанган на подносе – в каждую по щепотке риса, по цветку франжипани, по толику благодарности утру.
У кафе, где ракушечные шторы звенят ровно на одной ноте, сидит компания – они смеются так, как умеют смеяться только люди, которым уже нечего доказывать. Татуировки на загорелых руках, короткие шорты, колени с шрамами – не от войн, от велосипеда и любопытства. Пиво со льдом в стеклянных стаканах, крошки круассана на тарелках, соль на губах – и тот самый взгляд, в котором юность ещё слышна, а опыт уже виден.
– Садись, – кивает мне мужчина с кожей цвета старой карты. – У нас как раз идет важнейшая парламентская сессия. Обсуждаем, что лучше: медленно идти или медленно ехать.
Его зовут Джон. Когда-то он был банкиром в Лондоне, терпеливым инженером чужих мечтаний и чужих ипотек. Теперь его профессия – рассказывать меткие, краткие истории и смотреть на море по три часа подряд.
– Я всю жизнь разговаривал с цифрами, – объясняет он, – они, знаешь, как дети: требуют внимания, а благодарности редко дождешься. Тут всё честнее: море что забрало – то вернёт в другом виде. Иногда – в виде приливов, иногда – в виде друзей.
Рядом с ним – Питер, австралиец; в ухе у него серьга, а на стуле – укулеле, отполированная руками до медного блеска. Он в прошлом играл в сиднейских пабах, в настоящем – вяжет музыкой края дня, как парус к реям. С другой стороны – Мария, немка, бывшая медсестра, белые дреды скручены в тугой пучок, на запястье – татуировка ветки оливы, на столе – старенькая «лейка».
– В Европе, – говорит Мария, – старость – это когда на тебя начинают говорить шепотом. Здесь старость – это когда тебе, наконец, дают договорить вслух.
Они смеются, шутят меж собой легко, без царапин. Шутки здесь – как местные благовония: пахнут не дымом, а спокойствием. Мы берем завтрак – тунец на гриле, папайя, салат из молодого манго с чили, и долго никуда не идем, потому что в Сануре «никуда не идти» – это тоже занятие.
Я спрашиваю, как они сюда попали. Джон говорит, что однажды понял: метро – это океан, в котором нет рыб. Питер признается, что пришел играть на месяц – и остался на двенадцать лет: «Меня задержала тишина». Мария поднимает камеру: «Меня – лица». На карточках у нее – не «достопримечательности», а ладони, дорожки на шее, улыбки продавцов на рынке. Улыбки здесь – как валюта, только без инфляции.
Мы идем дальше – не из необходимости, из приличия к хорошей погоде. Санур, как город, любит, чтобы его рассматривали близко: каждый двор – словно открытая книга без обложки, у каждого – свои главы. Где-то – старик чинит мопед, где-то – девочка в школьной форме читает стихи под нос, где-то – мужчина, присев у ворот, плетёт листовые подношения. Тротуар мягко ведёт, пальмы держат тень, море маячит сбоку, как тихий собеседник.
На окраине – новый порт: низкие стеклянные павильоны, ровные пандусы, белые катера, как разлинованные тетради. У входа – каменные рыбы с распахнутыми плавниками, будто два стражника из мифа. Отсюда уходят скоростные лодки на Нуса Пенида, Лембонган, Ломбок; табло не кричит, оно напоминает. Пахнет соляркой и солью. Люди в ярких жилетах помогают пожилым – здесь старость не опция, а часть логистики.
– Мы однажды рискнули, – усмехается Питер, – и судно танцевало, как я в восемьдесят втором. Мария тогда сказала: «Если что – хороните меня в песке, несуразности мне к лицу».
– Нет, – отвечает Мария, – я сказала точнее: «Если я умру – то на ваших коленях, под музыку и с бутылкой пива в руке». Впрочем, каждый слышит свою версию. В этом и есть дружба.
Мы сворачиваем от порта к лагуне. По пути – ферма морских черепах. Маленькие бассейны, где шевелятся крошечные «пятачки» панцирей; плакаты с схемами, как правильно держать жизнь двумя пальцами; дети с внимательными лицами – их сосредоточенность сродни молитве. Джон приводит сюда внуков, когда они прилетают на каникулы.
– Смотри, – говорит он мальчику, – у каждой из них будет свое море. Задача – не быть ей препятствием.
Мы молчим – редко в мире сейчас остались вещи, за которые не требуют денег, а только – уважения. Выпуская черепашек в воду, дети становятся взрослыми на полчаса раньше; в их глазах появляется то знание, которое нельзя выучить в школе.
К полудню жар поднимается уровнем выше, и Санур переходит на шепот. Тени густеют, в кафе лениво шелестят вентиляторы, и только морской бриз, как немой официант, приносит прохладу. Мы возвращаемся к тому деревянному отелю на первой линии – тому, что похож на корабль, вытянутый на берег: высокие потолки, длинные галереи, сад, где всё растёт не ради «вау-эффекта», а ради тени. На шезлонгах – пенсионеры читают; книги их толстые, очки удобные, время – их соавтор. В бассейне, отбрасывая дрожащие клетки света на дно, плывут люди, и мне кажется: так плавают мысли, когда торопиться уже не надо.
Мы садимся в баре у кромки воды. Мария, прикрыв глаза, слушает – у нее слух медсестры: она умеет слышать не громкое. Питер перебирает на укулеле два аккорда; и в этих двух – целый залив. Джон смотрит на дальний буй – по нему он мерит протяжённость дня.
– Ты понимаешь, – говорит он мне, – что главная роскошь – это пешком? В Лондоне меня всё время кто-то обгонял: коллеги, новости, молодость. Здесь меня никто не обгоняет, потому что я никуда не бегу.
– В Европе, – продолжает Мария, – старость – это расписание таблеток. Здесь – расписание приливов. Таблетки – это о том, как жить подольше, а приливы – о том, как жить правильно.
– Молодость, – улыбается Питер, – это способность удивляться. Удивляешься – значит, молод. Вот вчера я удивился, почему внуки собирают ракушки так же увлеченно, как мы старики считаем мелочь на пиво. Я молод.
Мы смеёмся. В этот смех вложены годы – как в хорошую бочку вина: он плотный, тёплый, без горечи.
К вечеру Санур надевает огни. Фонарики вдоль променады загораются волной, как если бы электричество было разновидностью заката. Рыбаки жарят на углях кальмаров; воздух пахнет углём, лаймом и соусом самбал, который улыбается, пока не попробуешь. Семьи с детьми тянутся к столикам на песке – здесь хорошо отдыхать с малышами: вода у берега мелкая и тихая, в сумерках по ней идут мягкие отблески, и кажется, будто океан – это чья-то добрая книга с картинками.
Мы остаёмся у воды. Мимо проходит официант, оставляет по стакану. Пиво холодное так, как должна быть холодной память – без обид, освежающе. Питер берёт укулеле. Три ноты – и песок под ногами становится мягче, будто музыка – это способ договориться с гравитацией.
– Расскажи правду, – говорит Джон, посмотрев на меня хитро, – ты ведь приехала сюда не за солнцем. Солнце везде одинаково. Ты приехала за людьми. Люди – вот что делает место настоящим. Наугад ткни карту – и ты попадёшь в широту и долготу, но не в смысл. Смысл – это те, кто сидят рядом, те, кто держат твой смех, пока ты пьешь.
Мария кивает:
– И ещё – ты приехала сюда за временем. Европа научила тебя экономии, Азия – доверять расточительности. Тратить время на разговоры, на то, чтобы смотреть, как ребенок отпускает черепаху, на то, чтобы идти пешком, хотя можно доехать. Расточительность – это, когда ты не считаешь минуты. Мы здесь этим и заняты – расточительством, которое лечит.
– И за тротуарами приехала, – вступает Питер. – Не смейся. Тротуары – это уважение к пешему человеку. Санур уважает тех, кто идёт. Идущему всегда есть куда прийти.
Мы молчим – хорошая пауза лучше любой цитаты.
– Мы, – вдруг говорит Джон, – не «пенсионеры». Это слово в Европе значит: «выбывшие». Мы – прибывшие. Мы прибыли в место, где из тебя больше никто не делает проект. Где ты снова – человек, а не должность. Где можно быть смешным, неуместным, сентиментальным, где можно в шортах и с татуировкой обсуждать «Братьев Карамазовых» и проигрывать спор лысому коту, который всегда ложится на правильную страницу.
– Внуки, – добавляет Мария, – собирают ракушки с нами. Понимаешь? Они на коленях рядом с нами, а не напротив нас. Мы не перед ними, мы – с ними. Это редкая архитектура возраста – без лестниц.
– И мы по-прежнему любим риск, – подмигивает Питер. – Вчера я выпил самбал, не спросив, острый ли он. Это был поступок.
Смех – как костёр. Согревает не только говорящих, но и тех, кто рядом. На горизонте лодки превращаются в точки, потом в мысли, потом исчезают. Мы сидим, как будто у нас есть на это право ничем его не подтверждать.
Поздно вечером мы медленно идем домой – по тем самым тротуарам, которые так удивили меня впервые. Санур – теплый район. Он не обещает чудес – он выдаёт их мелкими купюрами. Здесь пенсионеры с татуировками и короткими шортами спорят о музыке и экономике, здесь дети выпускают черепах к морю, здесь в порту каменные рыбы дежурят, как стражи прилива, здесь отели на первой линии помнят, что море – не декорация, а старший родственник. Здесь всё – близко: аптека, рынок, кофе, лагуна, и – люди.
Я останавливаюсь на минуту и записываю в телефон: «Санур – не конец, Санур – внятное продолжение». Рядом, в теплой темноте, слышу, как Питер тихо перебирает струны – для себя, для воздуха, для всех, кто завтра придет сюда завтракать и смеяться.
И думаю: мир держится не на громких историях и не на тех, кто кричит о своей молодости, – он держится на тех, кто изо дня в день умеет отдавать: время, ухо, шутку, ладонь. Их не видно на глянцевых обложках, и они не пишут манифестов, но именно они открывают и закрывают маленькие каналы, чтобы жизнь текла равномерно, – как здесь, в Сануре, где океан каждое утро исправно дописывает за нас нашу главу.
– Завтра в шесть, – говорит Джон, уже уходя, – тот же стол, тот же ветер, тот же смех. Не опаздывай. Здесь за это не ругают – здесь тебя просто начнут ждать. А это, согласись, куда приятнее.
И это «ждать» – самое точное описание Санура: маленький район у океана, зелёный, ходовой, с тротуарами, с портом, с фермою черепах, с отелями на первой линии, с водой без волн, где детям – безопасно, а взрослым – наконец-то спокойно. Район, в котором старость незаметно переименовали в последнюю молодость – и никто не стал против.
Грузовик удачи
Аэропорт Нгурах-Рай на Бали – это не просто ворота. Это увертюра. Ты сходишь с трапа, и влажный тёплый воздух, пахнущий солью и благовониями, кладёт ладонь на затылок: «Ну вот и дома». Под высокими потолками – резные панели с танцующими апсарaми, на стенах – яркие балийские орнаменты, стекло фасадов разомкнуто в зелёный сад: гибискусы, бугенвиллия, пальмы, будто аэропорт не вырубил тропики, а деликатно впустил их внутрь. Персонал улыбается так, словно встречает старого друга. Шорох чемоданных колёс по плитке сливается с негромким «Taxi, mister? Transport, miss?». Рай начинается буквально с трапа.
В тот день к этой музыке добавился чужой, скрежещущий инструмент: визг шин, хрип полицейских сирен и сухой треск ломающегося дерева.
Старенький грузовичок, дребезжа всем, чем только мог дребезжать, вкатился на парковку, перед этим снес шлагбаум и, не успев совладать с собственными габаритами, носом вписался в бетонную колонну. Двигатель кашлянул, выплюнул серый дым и замолк. Водитель – белый парень, глаза круглые, как у совы днём, – попытался открыть дверь со второй попытки.
– Документы, – сухо произнес офицер. – И объяснения.– Mister, keluar! Выходите! – охранник уже бежал.
Парень сглотнул, посмотрел на свои трясущиеся ладони и выдохнул одно:
– Я… опаздывал.
Куда – оставалось без ответа. И это «куда» еще предстояло догадать.
Пятнадцать минут назад Sunset Road был похож на реку, в которой течения идут навстречу. Десятки байков подмигивали зеркалами, такси с освежителями «Ocean Breeze» терпеливо протискивались, минивэны везли семьи и чемоданы. По обочине торговец кокосами, заткнув за пояс мачете, кричал: «Kelapa muda!», рядом курьер с боксом «nasi goreng» на ремне вильнул от ямы – и тут белый грузовик, будто вынырнув из другой реальности, прошивал столбик за столбиком.
– Bule gila, – «Белый сумасшедший», – ответила мама, и обе засмеялись от нервов.Красный? Он проехал. Скутерист вывернул в сторону, уронил кофр, выругался и… сфотографировал: такое не каждый день увидишь. Девочка на заднем сиденье, прижавшись к маме, спросила: – Bu, ini film? – «Мам, это кино?»
– «Принято. Блок-пост к аэропорту. Шлагбаум держать до последнего».В рации полицейской машины шипело: – «Пост 45Е, у нас белый грузовик, манёвры опасные, водитель буле, берём хвост».
Грузовик вильнул, почти вынес стойку с качающимися на верёвках воздушными змеями, продавец схватился за сердце, потом за телефон – тоже снял сториз. Еще один красный. Еще один визг. Sunset терпел, как терпит днем жару – до тех пор, пока не вмешивается судьба с жезлом.
Шлагбаум у аэропорта опустился – и разлетелся тонкой щепой. Колонна сделала свою молчаливую работу. Рай на секунду затих. А потом загудел – уже другими голосами.
В участке кондиционер жужжал, как старый вентилятор; казалось, он не охлаждает, а просто держит паузу между словами. За столом – трое полицейских. Двое писали, третий молча смотрел. Парень сидел напротив, будто после долгого заплыва вытащенный на берег.
– Мне нужно было успеть.– Имя, фамилия? – Люк. – Гражданство? – Австралия. Перт. – Машина ваша? – …Нет. – Почему забрали?
– Куда? – поднял бровь старший офицер.
Люк вздохнул и уткнулся взглядом в пластиковый стакан с водой. Вода дрожала в такт его пальцам.
– Это… длинная история.
– Отлично, – офицер кивнул на часы. – У нас длинный день.
Началась история двумя днями раньше – в Перте. До полудня – пиво, после – джин. Кто-то, кажется, Ричи, произнес волшебную фразу:
– Парни, Бали рядом. Три с половиной часа. Полетели прямо сейчас. Отметим мальчишник как следует, в бич-клубе Чангу.
Идея, упав на стол, загорелась как спичка. Через шесть часов они уже стояли по колено в бассейне Финс, и музыка вкачивала в кровь синтетику счастья. Картинка – неон, мокрые доски настила, бокал, который всегда полон, океан от которого ночью пахнет железом.
Потом – ещё сутки, размытые, как лужи после дождя. Время в тропиках умеет ускользать так красиво, что ты благодаришь его – пока не нужно считать минуты.
Люк очнулся поздно. Комната – как после шторма. Голова – как аэропорт, в котором все рейсы объявили одновременно. Телефон мигал: Flight missed. Он посидел на краю кровати, пытаясь поймать мысль за хвост. В итоге поймал только одно слово: успеть.
Друзья? Спали, как выброшенные на песок киты. Такси? «Five minutes, mister» – что в балийском диалекте времени означало от пяти до сорока пяти. На улице, прямо под вывеской Warung Nasi Ayam, стоял старый грузовик. Ключ – в замке. Брелок дрожал на ветру.
– Бали, ты серьёзно? – спросил у воздуха Люк и, не получив ответа, прыгнул в кабину.
– На… важное.– Почему вы не остановились, когда вас просили? – вернул его в реальность офицер. – Паника. Глупость. И… – он впервые поднял глаза. – Я очень боялся опоздать. – На что?
– Важное – это не категория уголовного права, – сухо заметил второй полицейский, но в уголках глаз мелькнули смешинки.
– Позвоните. Но без историй.Старший посмотрел на телефон Люка. – Кому вы хотите позвонить? – Одному человеку. Это важно.
Люк набрал номер. В динамике щелкнуло.
– Я пытался успеть. К тебе. На… – он сжал ладонью лоб. – На свадьбу.– Эмма? Пауза. Гул в трубке. – Люк? Где ты? Почему ты не… – Я… на Бали. В полиции. – Где?! – Долгая история. Коротко: я вел грузовик. – Ты… что?
В участке кто-то откашлялся. Секретарша сделала вид, что уронила скрепку. Молодой сержант одернул кобуру, чтобы спрятать улыбку.
– Обещаю.– Люк, – в телефоне вздохнули, – у тебя было одно дело – прилететь вовремя. – Я знаю. Я идиот. – Идиот – это мягко. – Но я тебя люблю. Сильно. Длинная пауза. – Ладно, – сказала Эмма так, словно перерезала нитку. – Я прилечу. Не обещаю, что не убью, но прилечу. И мы поговорим. И… ещё. Больше никаких грузовиков. Никогда.
Он положил телефон на стол, как кладут вещдок. Секунда тишины.
– Ну вот, – старший офицер кивнул, – теперь у истории есть жанр. Романтическая комедия с элементами погони. Но, мистер Люк, мы всё равно должны говорить о серьёзном. Вы угнали машину, создавали аварийные ситуации на Sunset Road, снесли шлагбаум и поцеловали нашу колонну. Это – штрафы, компенсация, бумаги.
– Я всё оплачу. Всем. И извинюсь. И столб… э-э… колонну – отполирую.
Офицер впервые улыбнулся открыто.
– На Бали умеют прощать, – сказал он. – Но Бали ещё и бог времени. Его нельзя обгонять на красный. У нас не принято «сейчас быстро». У нас принято – вовремя.
Он встал, налил ещё воды и придвинул стакан.
– И да, – добавил, – передайте вашей Эмме, что свадьбу можно провести здесь. В аэропорт вы оба уже точно не опоздаете – он рядом. А грузовики мы вам выдавать не будем.
Дальше был рутинный, но важный марш-бросок по реальности. Люк вместе с офицером съездил к охране аэропорта – принёс извинения, оставил депозит на ремонт шлагбаума. Заглянул к дежурным механикам – те обречённо гладили колонну, как живую, и требовали фотографию виновника «для галереи». Заехал к продавцу кокосов – купил двадцать kelapa muda и помог прибить заново табличку, которую сдуло ветром с его же проезда. Подарил новый воздушный змей мальчику, чей змей сорвался, когда мимо пронесся белый грузовик-комета. На Sunset Road, казалось, все знали о нем, хотя видели всего минуту.
Под вечер он снова вышел к стеклянным фасадам Нгурах-Рай. Воздух пах тропическим дождем – он только что прошел полосой – и свежими благовониями. Внутри аэропорта все текло, как и утром: шорох колес, улыбки на стойке, «Transport, miss?». Рай снова звучал своей музыкой. И только в теле – легкая дрожь от пережитого, как вмятина на крыле: заметят не все, но ты знаешь – она есть.
Он стоял и странным образом впервые за эти дни ничего не делал. Не бежал, не извинялся, не обещал. Просто дышал. И пытался запомнить: в мире, где все пытаются «успеть», иногда главное – дождаться.
Эмма прилетела на следующий день. Без белого платья, с черными глазами, которые могли бы стрелять длинными очередями, если б влюбленность не ставила на предохранитель. Люк встретил ее у выхода – в шлепанцах, чистой хлопковой рубашке и с букетом белых орхидей, которые пахнут невесомо и обещают новую страницу.
– К свадьбе, – сказала тихо. – Но медленной. Как на Бали.– Ну, – сказала она, – жив. – Жив. Готов к казни или… к свадьбе. Что назначишь. Она посмотрела на него долго. Потом – на сад за стеклом.
Они расписались в маленьком banjar – общинном доме – с двумя свидетелями, которые материализовались из воздуха, как это бывает на острове, где нужные люди появляются вовремя. После церемонии офицер из участка, тот самый, что любил богов времени, подарил им деревянную табличку с выжженной фразой:
Едь медленно – уедешь далеко.Jalan pelan, sampai jauh.
А колонна на парковке аэропорта, которую он когда-то поцеловал бампером, получила новый слой краски. На ней кто-то маркером осторожно дописал сердечко. Никто не признался, кто.
Люк потом ещё не раз проходил мимо, бросая взгляд на гладкий бетон, и каждый раз ловил себя на улыбке. Рай, оказывается, начинается не только с трапа. Иногда он начинается с того, что ты наконец научился останавливаться.
И да – с тех пор никаких грузовиков. Только жизнь на зелёный.
Сокровища КАТУ
В Липецке был ноябрь, и серое небо сливалось с серыми домами.
Мы сидели в душном офисе, пили холодный кофе из пластиковых стаканчиков и ждали конца рабочего дня, когда Светлана вдруг сказала:
– Ребята… помните, я три года назад ездила на Бали?
Игорь, оторвавшись от монитора, хмыкнул:
– Конечно. Ты там научилась стоять на голове и есть траву на завтрак.
– Не только, – ответила Света, загадочно улыбаясь. Она достала телефон и открыла фото: пожелтевшая карта, странные символы, рисунки гор, линии, ведущие к отметке в районе Кинтамани.
– Что это? – спросила Лена, уже откладывая в сторону бумаги.
– Это снимок из старой книги, – Света говорила тихо, будто боялась, что нас подслушают. – Когда я была в Убуде, встретила местного йога. Он рассказал легенду про сокровища КАТУ и показал карту. Говорят, золото спрятано у подножия вулкана Батур, и найти его могут только те, кто не боится идти до конца.
Макс, наш главный скептик, покачал головой:
– Золото, вулкан, тайны… Свет, ты серьёзно?
– А чего мы теряем? – Света приподняла брови. – Липецк, офис, холодная зима… или джунгли, вулкан и настоящая охота за сокровищем.
Мы переглянулись.
Игорь встал первым:
– Ладно. Черт с ним. Летим.
Через неделю мы уже сидели в открытом кафе Семиньяка.
Солнце жгло кожу, пальмы раскачивались над узкими улочками, байки проносились мимо так близко, что казалось, их можно потрогать. Воздух пах кофе, солью и дымом от благовоний.
Света развернула телефон на столе. На карте линия шла от Убуда через рисовые террасы, храмы и деревни прямо к озеру Батур .
– Здесь находится затопленный храм, – объяснила она, указывая на отметку. – Если верить йогу, именно там ключ к тайнику.
Лена скептически усмехнулась:
– Ну да, конечно. Легенды, карты, тайники. Чувствую себя героиней дешёвой игры.
– Ты просто пока не в духе, – улыбнулась Света. – Подождешь, пока мы золото найдём, и настроение появится.
Мы выехали в шесть утра на четырех байках.
Сезон дождей уже начался. Тропики напоминали живую машину, которую никто не контролирует: дождь падал стеной, лужи скрывали глубокие ямы, грязь налипала на колеса.
Первая авария случилась через полчаса.
Макс заехал в лужу и исчез в ней по пояс. Байк лёг на бок, вода хлынула в ботинки.
– Великолепно! – прокричал он, выбираясь из грязи. – Если золота не найдем, хотя бы накупаемся!
Все смеялись, кроме Лены.
– Света, гений, в сезон дождей искать клад… браво!
Света ехала первой, пряча карту под дождевиком:
– Держите шлемы крепче, будет весело!
Дорога вилась среди рисовых террас, петляла по узким тропам, уходила в горы.
На серпантинах байки скользили, моторы ревели, а дождь лил так сильно, что казалось, вода падает из всех направлений сразу.
У подножия Батура дорога закончилась.
Дальше нужно было идти пешком. Байки поднимались только до первой станции – дальше начиналась скользкая тропа, где корни деревьев торчали из земли, а камни были покрыты мхом.
Мы оставили байки у маленькой будки, заплатили местному сторожу и пошли вверх.
Дождь превратил тропу в поток грязи. Мы хватались за ветки, скользили, падали, поднимались снова.
На одном из подъемов Лена сорвалась и поехала вниз, увлекая за собой Игоря. Они оба оказались в лужах, измазанные глиной, но живые. Мы смеялись, хотя дыхание уже сбилось.
– Если тут золото, оно того стоит, – выдохнул Макс, помогая Лене подняться.
К вечеру мы добрались до озера Батур.
Над водой висел пар, и сквозь туман виднелась статуя, наполовину погруженная в воду. Это был затопленный храм, отмеченный на карте.
Мы зашли в воду по колено, проверяли каменные плиты, трещины, ниши. Света делала фотографии на телефон, сверяя символы на карте с рисунками на статуе.
– Смотрите, вот эти знаки совпадают! – кричала она.
– Свет, если тут правда что-то есть, это будет безумие, – ответил Игорь.
Мы искали до темноты.
Ни золота, ни ключа, ни потайных ходов.
Мы сняли бунгало в Кинтамани, с видом на вулкан.
Внутри – тонкие стены из бамбука, соломенная крыша, маленькие матрасы на полу. Горячей воды не было.
Всю ночь шёл дождь, стучал по крыше, как барабанный бой.
В темноте бесконечно громко пели цикады, их звон казался оглушающим. Мухи летали над лицом, садились на руки, уши, шею.
В три ночи петухи начали петь. Их крик раскатывался эхом по горам и не умолкал до самого утра. Сон был невозможен.
– Если это ад, то выглядит он вот так, – пробормотал Макс в темноте.
Мы смеялись, никто из нас не спал.
Утро встретило нас паром и запахом мокрой земли. Мы вернулись к храму и пошли дальше вдоль берега, где по легенде должен был быть вход в пещеру.
Дождь снова начался.
Мы пробирались через заросли, скользили по мокрым камням, резали руки о корни.
На одном из спусков Игорь сорвался и едва не ушёл в воду, Макс поймал его за руку в последний момент.
– Спасибо, – выдохнул он.
– Тебе повезло, дружище, – ответил Макс. – Здесь глубина метров десять.
Вторая попытка найти тайник оказалась тщетной. Карта молчала.
Вечером мы добрались до маленького кафе на берегу озера в котором водилась рыба Гураме там были их фермы. Гостеприимный владелец поймал нам ее и прямо при нас жарил на углях.
Мы сидели грязные, мокрые, уставшие, но еда была такой вкусной, что мы ели молча.
Света вдруг положила вилку и сказала:
– Ребята… помните, я говорила, что карту мне показал йог?
Мы кивнули.
– Так вот… он сказал, что легенда может быть мифом. Возможно, никаких сокровищ нет.
Повисла тишина.
Игорь уставился на нее:
– Ты хочешь сказать, что мы два дня лезли по горам и купались в грязи ради сказки?!
Света улыбнулась устало, но глаза блестели:
– Если бы я вам не показала карту, мы бы сидели сейчас в Липецке. В офисе. Пили холодный чай и смотрели на серое небо.
Мы снова замолчали.
А потом Макс поднял стакан арбузного сока:
– За то, что мы здесь.
Мы чокнулись и смеялись до слез.
Мы так и не нашли золото КАТУ.
Но в ту ночь поняли:
сокровища – это не карта и не золото.
Это дороги, где грязь по колено.
Это тёплый дождь и холодные ночи в горах.
Это цикады, петухи, крики и смех.
Это друг, который ловит тебя за руку у обрыва.
Это ощущение, что жизнь можно прожить по-настоящему, а не ждать выходных.
И именно ради этого стоило подняться на Батур.
Балийская теория
Первые четыре дня они провели в Нуса-Дуа, в отеле Hilton на первой береговой линии.Марина и Степан прилетели на Бали в начале сухого сезона, когда влажность ещё ласкова, а воздух пропитан ароматом франжипани и скошенной травы.
белый песок, океан цвета топленого молока, который у берега лежал тихо, без волн, словно дышал вместе с ними; длинные лежаки под соломенными зонтами, легкий бриз, напоенный солью и солнцем.Это было похоже на маленький рай:
Марина бродила босиком по песку, собирая крошечные раковины, смывая ноги в тёплых волнах, а Степан лежал под зонтом, листая ленту новостей и неохотно отрываясь, чтобы сделать пару фото.
– Ладно. На сутки могу сделать тебе такой подарок. Чтобы потом не ворчала.– Степ, а давай потом уедем в лоно природы? – предложила она за завтраком, глядя, как золотое утреннее солнце отражается в бокале с манговым соком. – В смысле? – поднял он взгляд от телефона. – Ну, уйдем в джунгли, в тишину, вдвоем. Без связи, без людей. Я нашла одно бунгало на вершине горы. Там только мы, облака и зелень. – Ты серьезно? – он скривился. – Джунгли? Изоляция? Мне там даже Wi-Fi не поймать. – Ну… хотя бы на день. Он задумался, потом ухмыльнулся:
Она любила такие моменты – когда воздух вокруг становится густым от предчувствий.Марина улыбнулась, чувствуя, как внутри просыпается ожидание чего-то большого, нового, еще неведомого.
По карте это было всего 100 километров, но здесь, на Бали, такое расстояние превращается в целое путешествие.На следующее утро они арендовали маленькую красную машину и загрузили в багажник пару рюкзаков. Их маршрут лежал в сторону Булеленга, на север острова.
Слева и справа открывались горизонты воды, над ними низко пролетали самолеты, заходящие на посадку в аэропорт Нгурах Рай.Дорога сначала была легкой, быстрой: новая скоростная трасса парила прямо над океаном.
Запах жареных «горенгов» тянулся от уличных палаток, байки проносились мимо, как снаряды, дети бежали по обочинам, размахивая пластиковыми пакетами, будто флагами.После скоростной трассы начался совсем другой Бали. Они въехали в Денпасар – шумный, густонаселенный, настоящий, без открыток и глянца.
Каменные ворота с резьбой и статуями демонов охраняли дома, крыши покрыты старой черепицей, а вокруг, насколько хватало глаз, раскинулись рисовые поля.Дальше дорога уходила в сердце острова: деревни сменяли деревни.
Мимо проносились рыбацкие деревушки, тени пальм падали на капот, и по радио играла лёгкая балийская поп-музыка, которая казалась невесомой, как воздух.
– Посмотрю, когда интернет появится, – усмехнулся он.– Посмотри, какая красота! – Марина высунулась в окно, ловя пальцами ветер. – Ага, красота, – буркнул Степан, пролистывая сообщения в телефоне. – Ты хоть разок просто посмотри.
Внутри у неё всегда жила мечта делить такие моменты – запах дороги, шум ветра, вкус свежих фруктов – с кем-то, кто умеет чувствовать мир так же остро.Марина вздохнула, но промолчала.
Сочная зелень трепетала под ветром, а кокосовые пальмы кивали, как мудрые старики, видевшие слишком много сезонов дождей.
Здесь никто не спешил, время казалось вязким, текучим, как теплый мед.На каждой узкой улочке Марина ощущала другой ритм жизни.
– Степ, ты чувствуешь? – спросила она, когда они проезжали мимо храма, украшенного подношениями.
– Чувствую, что у меня интернет пропал, – сухо ответил он.
Но внутри все больше нарастало странное чувство: остров что-то готовит.Она снова промолчала.
Карта показывала зеленое пятно джунглей и тонкую белую линию дороги, которая казалась веной, ведущей прямо в сердце острова.Дорога становилась все уже и круче. Красная машина задыхалась на поворотах, мотор жалобно гудел, а навигатор уже несколько раз терял сигнал.
– Марин, сколько еще ехать? – раздраженно бросил Степан, убавляя громкость радио.
– Минут двадцать, максимум. Смотри, вот поворот, потом через деревню и мы почти у цели.
– Да твою деревню уже два часа жду! – Ты сам согласился.– Согласился… но только на сутки, – пробормотал он.
Там, где сливаются горы и море, казалось, начинается другая планета.Марина решила промолчать. Ее взгляд был прикован к горизонту, где между облаками уже виднелись зеленые хребты и кусочек океана.
Птицы пели так громко, что казалось, джунгли разговаривают сами с собой.Они оставили машину у дороги – дальше путь шел пешком по тропинке, петляющей между зарослями бамбука и гортензий. Воздух был густой, влажный, пах зеленью и мхом.
И вдруг тропа вывела их к бунгало.
Ветер приносил сладкий аромат цветов, перемешанный с запахом зелени и горного воздуха.Марина остановилась. Домик стоял на вершине холма, окруженный тысячами голубых гортензий, которые рассыпались вниз по склону, словно лужи небесного цвета.
Ни звука цивилизации – только шум листвы, стрекот цикад и далекий рокот волн.На террасе висела широкая сетка-лежак, натянутая над обрывом.
– Красиво? – Марина рассмеялась. – Это же рай.– Ну, тут красиво, – нехотя признал Степан.
Навстречу им вышел хозяин домика – сухонький дедушка с загорелым лицом и глазами, в которых смех жил сам по себе.Он улыбнулся и протянул ключи:
– Завтра утром привезу вам завтрак. – А вайфай здесь есть? – спросил Степан, даже не взглянув на него. Ваян хмыкнул и сказал по-английски, чуть растягивая слова: – Tida ada. Only relax.И, развернувшись, скрылся за тропой.
Это звучало как приказ острова: «Отпусти всё. Здесь есть только ты, небо и земля».Марина улыбнулась.
Солнце провалилось за облака, и мир затопила густая синяя тьма.Сумерки наступили быстро, словно кто-то щелкнул выключателем.
Через секунду ударил гром, и ливень обрушился на дом, барабаня по крыше так, будто тысячи барабанщиков одновременно играли балийский гамелан.Внезапно небо раскололось вспышкой молнии.
Степан ходил по комнате, раздраженно проверяя телефон: – Связи нет. Супер. Просто супер.
– Ты хоть раз попробуй просто послушать дождь, – тихо сказала Марина.
– Я приехал отдыхать, а не в пещерный век возвращаться! – бросил он и вышел на террасу.
Перед глазами открывался черный океан, молнии вспыхивали над горизонтом, и ей казалось, что весь мир слился в одно дыхание.Марина молча закрыла за ним дверь. Она легла в сетку, натянутую над обрывом, и обняла подушку.
Часа через полтора Степан сообщил, что едет обратно «в цивилизацию». Марина даже не спорила.Осталась одна.
В комнате пахло сырым деревом, чайными листьями и чем-то пряным, смолистым.Снаружи бушевал ливень, ветер трепал занавески, молнии выхватывали силуэты деревьев из тьмы.
Ощущение одиночества было таким плотным, что можно было коснуться его рукой.Сердце билось быстро. Мысли роились, как насекомые: -А вдруг сойдет оползень? А вдруг крыша не выдержит? А вдруг тут водятся змеи?
Марина замерла.И вдруг из угла комнаты раздался странный звук: низкий, раскатистый, будто кто-то шептал на чужом языке.
Он смотрел на неё огромными глазами и негромко «пел»:Она повернула голову – и увидела большого зеленого геккона на стене.
– Токке… токке… токке…
– Спасибо, что пришёл ко мне, дружок.Марина улыбнулась сквозь слёзы:
Ей снился странный сон:В ту ночь она уснула рядом с гекконом, слушая, как дождь убаюкивает дом.
Он улыбался и держал ее за руку, и в груди распирало чувство абсолютного счастья.Она плыла по океану в маленькой лодке с белым парусом. За ухом у нее был красный цветок гибискуса, а рядом сидел мужчина, лицо которого она не могла разглядеть.
На террасе, укрытый каплями дождя, стоял Ваян – хозяин бунгало. В руках он держал плетеную корзину с завтрашним завтраком.Марина проснулась от стука в дверь. Воздух был влажный, тёплый, пах цветами и свежей землёй – словно джунгли за ночь выдохнули все свои тайны.
И вдруг внутри неё что-то дрогнуло.– Селамат паги (доброе утро), – сказал он с широкой улыбкой. – Селамат… – растерянно ответила Марина, прикрывая глаза от мягкого солнечного света. – Все хорошо? – Ваян слегка наклонил голову.
Слова сами вырвались:
– Мой друг ушел вчера…
– Не переживай. – Он произнес это медленно, с особой теплотой.
—Если кто-то уходит – значит, он не твой путь.А если что-то твое – остров вернет его к тебе.На Бали никто не бывает один.
Пахло сладко и остро одновременно, словно сама земля приготовила этот завтрак.Он оставил корзину, в которой лежали банановые блины, жареный омлет, тропические фрукты и бутылочка свежего сока манго.
Есть место, где океан разговаривает с людьми. Я покажу тебе.– Ешь завтрак и поехали, – сказал Ваян, хитро улыбнувшись. —
– Держись крепко. Здесь дороги – как реки после ливня.Марина задумалась, но согласилась. Она быстро оделась, заплела волосы и вышла на тропинку, где блестели капли дождя. Ваян достал старый скутер, протянул ей шлем и сказал:
После ночного шторма воздух был пропитан ароматом фруктов и земли, а каждый луч солнца отражался от капель росы, превращая лес в живой калейдоскоп.Они покатились вниз по горной дороге, извивающейся среди влажных листьев и упавших цветов франжипани.
Легкость, свобода и запах океана наполняли ее так, будто остров вливал в нее новую жизнь.Марина чувствовала, как ветер бьет ей в лицо, и впервые за долгое время смеялась без причины.
Над морем висел легкий туман, и горизонт выглядел как нарисованный акварелью.Через полчаса они выехали к маленькому заливу. Берег был усыпан кораллами и мелкой галькой, на песке стояли несколько деревянных лодок с цветными парусами.
Смуглое лицо, широкая улыбка, волосы темные и влажные, словно после купания.У старой хижины-кафе под пальмовой крышей сидел парень, что-то записывая в потрепанный блокнот. Услышав шум мотора, он поднял голову.
– Здравствуйте, Марина, – ответил парень… на чистом русском.– Это Кетут, – представил его Ваян. – Сын моего брата. – Привет, – сказала Марина.
– Если хочешь, я покажу тебе океан так, как его видят только местные, – сказал он, глядя прямо в глаза. – Сегодня хороший день. Может, повезет увидеть дельфинов.Она моргнула, думая, что ослышалась. – Ты… говоришь по-русски? Кетут рассмеялся: – Да. Я учился в Москве и работал там. – Вот это да…
Будто Бали знакомил ее с кем-то, кого она уже знала раньше.Марина почувствовала, как что-то дрогнуло внутри. Не предчувствие.
Через несколько минут они уже сидели в маленькой деревянной лодке.
Волны мягко покачивали их, лодка резала гладкую воду, оставляя за собой легкую белую пену.
про дух острова, про священные горы, про древние легенды о том, как души животных и людей связаны водой.Кетут ловко управлял лодкой и рассказывал про Бали:
Каждая волна как будто что-то шептала, каждый порыв ветра говорил с ней.Марина слушала и чувствовала, что океан – живой.
– Смотри, – Кетут указал рукой вперёд.
Стая дельфинов шла параллельно лодке, их движения были синхронны, как дыхание.Сначала она увидела только всплески. А потом – серые спины, стремительно режущие гладкую воду.
– Здесь – можно все, если просишь с уважением.– Хочешь поплавать с ними? – спросил Кетут. – Это… можно?
– Держись за нее, я поведу медленно.Он протянул ей маску и трубку, помог надеть ласты и показал веревку, привязанную к лодке.
Марина вдохнула и шагнула в воду.
Она слышала их звонкие ультразвуковые сигналы, похожие на смех.Океан был теплым, как дыхание живого существа. Прозрачная бирюзовая толща открывала мир, полный света и движения. Под ней пронеслись три дельфина, потом еще два.
океан, воздух, солнечный свет, она сама.Будто мир обнял ее невидимыми руками.В тот миг она вдруг почувствовала, что все вокруг соединено:
Слезы счастья смешивались с соленой водой, и никто уже не мог отличить их друг от друга.
Кетут помог Марине подняться в лодку, укрыл полотенцем, протянул воду. Она пыталась сделать глоток, но горло перехватило – слезы счастья бежали сами по себе, а улыбка расползлась до ушей.Океан еще долго дышал в груди – тихо и глубоко, как будто внутри поселилась волна.
– Это нормально, – сказал он по-русски. —Иногда океан говорит с людьми громче, чем они привыкли слушать.
Свежая рыба – тунец и дорадо – зашипела на сковороде, в миске переливалась «самбал матах» с лаймом и лемонграссом, рис пахал тёплым паром.На берегу, у крошечного кафе под пальмовым навесом, уже дымился мангал. Ваян подмигнул и куда-то отлучился, а они с Кетутом сели за деревянный столик, на котором от соли выцвела краска.
– Да. Два года. Учился, работал, переводил, скучал по морю, – он улыбнулся.– Ты правда жил в России? – Марина держала ладони вокруг пиалы с чаем, прогревая пальцы.
– Спасибо. Русские – хорошие слушатели, когда молчат, – подмигнул Кетут. —Но ты слушаешь даже, когда говоришь.—Зимой там небо как железо. Здесь другое – как теплая вода. – У тебя прекрасный русский, – сказала она и смутилась собственной серьезности.
Внутри стало тихо. Такого «тихо» у нее давно не было.Они ели совсем горячую рыбу, запивали ее арбузным соком, и каждая пауза между фразами казалась осмысленной, как такт в музыке. Марина ловила себя на том, что забыла про бессонную ночь, про обрывки мыслей, про то, как доберется до аэропорта, если все внезапно закончится.
– Тогда поехали. Сегодня дорога – мягкая после дождя.– Покажу тебе окрестности? – спросил Кетут, когда солнце поднялось выше. – Хочу.
У ворот храмов дымился благовонный дымок, и его тягучая сладость смешивалась с пахучей зеленью.Они ехали на байке по узким улочкам, где вода лежала зеркалами, отражая облака. У обочин сидели женщины в ярких саронгах с корзинками «кананг сари» – подношениями из банановых листьев, цветов и риса.
– Тогда приходят дожди. Или тишина. Бали всегда учит.– Это кананг сари, мы оставляем их каждый день, – объяснял Кетут. – Чтобы помнить, что мир держится на балансе: между небом, людьми и землей. – А если баланс потерять?
Слова ложились в нее, как теплые камни на дно.Марина задавала миллион вопросов. Про Ньепи – день, когда весь остров замирает и слушает себя; про Ого-Ого, страшных гигантов накануне Ньепи, которых сжигают, чтобы тени не цеплялись к людям, про три хита карана – гармонию между богами, природой и людьми.
Марина держалась за Кетута и думала, что, может быть, смысл дороги – ощущать, как мир передается через ладони.Дальше – дорога сузилась до тропы, где байк брел осторожно, как зверек. Они миновали деревушку, в которой мальчишки играли в пластиковый мяч, а старики мерили время в тени мангов. Проехали мост, что скрипел под колесами – под ним торопливо бежала коричневая, живая вода.
К полудню небо очистилось. На поворотах открывался океан – очень близкий и необычайно далекий, как взгляд человека, которого еще не знаешь и уже узнаешь.
– Если позволишь, – кивнул он.К закату Кетут привез ее домой – к бунгало среди тысяч голубых гортензий. Воздух стал янтарным, склоны затихли, сетка-лежак на террасе звала лечь, как на ладонь. – Зайдешь на чай? – спросила Марина, и голос ее прозвучал неожиданно уверенно.
– Ночь будет ясная, – сказал КетутОна поставила на стол ароматный красный чай в маленьких чашках и блюдце с розовыми кусочками питахайи.
Геккон на стене оповестил свое присутствие низким «ток-ке, ток-ке», словно поставил подпись под вечерним договором.Они укутались в пледы и сидели на террасе, свесив ноги в темноту. Снизу шел далекий шум океана, сверху – звезды, как рисовые зерна в черной миске неба.
– Не «правильно». Честно.– На Бали туристы давно придумали одну теорию, – сказала Марина, чувствуя, как слова сами находят форму. – Если пара прилетает и души не подходят – остров их разводит. А тех, кто готов к любви, он соединяет. – Теория мне знакома, – ухмыльнулся Кетут. – Но мне больше нравится практика. В практике все зависит от того, как ты смотришь. – Как смотреть – правильно?
Про то, как тяжело молчать, когда внутри звенит страх, и как просто становится жить, когда чувствуешь рядом дыхание другого человека.Они разговаривали до полночи – про моря, где нет зимы, и города, где нет океана.
Иногда они замирали, слушая ветер, – он проходил сквозь гортензии, как память сквозь сердце: тихо, но ощутимо.
Она не ответила. Спрятала телефон обратно, как прячут в песок вещь, которая больше не нужна у воды.В один из таких промежутков Марина заметила, что телефон снова ловит связь. На экране – несколько сообщений от Степана: короткие, раздраженные, без «как ты?».
– Тогда Бали тебя понял, – сказал Кетут и улыбнулся так, что от улыбки стало светлее, чем от звёзд.– Я сегодня, кажется, встретила себя в океане, – сказала она. – И что сказала себе? – Что можно жить мягче. Не ломать, а переставлять.
Покачивалась сетка-лежак, ракушки на крыше звенели от каждого порыва, геккон время от времени подтверждал своим «ток-ке», что ночь в силе.До рассвета они не сомкнули глаз: чай сменял кофе, смех – тишину, тишина – истории детства, в которых море всегда было рядом, даже если его не было.
Марина поймала себя на мысли, что не помнит, когда в последний раз утро пришло к ней изнутри, а не снаружи.Когда запела первая птица, горизонт уже теплился персиковым светом.
– Утром, – сказал Кетут, вставая, —
я вернусь за тобой, и мы поедем на новую экскурсию.
Снизу, из глубины сада, кустарники тихо шуршали, словно перелистывали чью-то новую главу.Он попрощался у тропы, обещая вернуться после первых лучей. Марина осталась на террасе – теплый плед, прохладный воздух, руки, пахнущие манго и морем.
Марина проснулась поздно, около 10 утра, от легкого стука в дверь.
Сонная, еще не разобравшись, где сон, а где реальность, она подошла к террасе и открыла створку.
На пороге стоял Кетут.
Он держал в руках букет, собранный на местном рынке: розовые и кремовые розы, белые лилии, веточки орхидей. Цветы пахли свежестью утреннего дождя, а листья банана обрамляли всю композицию, придавая ей тропическую пышность.
– Селамат паги, Марина, – улыбнулся он.
– Доброе утро… – пробормотала она, пытаясь пригладить волосы.
Кетут протянул букет и сказал по-русски:
– Я знаю, что у вас принято дарить цветы красивым девушкам.
Марина рассмеялась, принимая букет:
– У нас так делают, да. Но это первый раз, когда мне дарят такие красивые.
– На Бали цветы – это слова. Они говорят то, что сердце не решается произнести.
Она смутилась и кивнула, пряча взгляд.
Через несколько минут они уже сидели на террасе.
На столе Кетут поставил две маленькие чашки с копи бали – густой, сладкой, почти вязкой, как мед, черной кофейной эссенцией.
Аромат жареных зерен смешивался с запахом влажных цветов и свежей зелени.
– Марина, я хотел тебе кое-что предложить, – начал Кетут, облокотившись на перила.
– Слушаю.
– Я открываю новое кафе в Ловине. Мы начали готовить меню, обустраиваем интерьер. Много туристов приезжают туда, и я хочу, чтобы им было уютно и красиво.
Он немного замялся и добавил:
– Ты дизайнер. У тебя вкус. Хочу, чтобы ты посмотрела и… может быть, дала пару советов.
Марина задумалась.
Ловина – район, где океан тихий, пляжи чёрные от вулканического песка, а дельфины встречают рассвет.
Звучало заманчиво.
– Когда едем? – улыбнулась она.
– Сейчас, – ответил Кетут и подмигнул.
Они выехали на байке в сторону севера.
Дорога петляла между холмами, и джунглями.
Слева в тумане стояли пальмы, их стволы уходили в небо.
Справа раскинулись рисовые поля, залитые водой, как зеркала.
На каждом изгибе дороги открывался новый мир:
тропические сады с орхидеями, храмы с резными воротами, где женщины в белых саронгах оставляли подношения духам.
Запах воздуха менялся каждые пять минут – то жасмин, то влажная земля, то аромат копченой рыбы, готовящейся в варунгах вдоль дороги.
– Красиво, да? – спросил Кетут, оборачиваясь.
– Красиво – слишком слабое слово. Здесь… как будто остров сам дышит, – ответила Марина.
– Бали дышит, – кивнул он. – Но он ещё и слушает.
Через полтора час они приехали в Ловину.
Солнце уже стояло высоко, и океан сверкал в лучах, переливаясь серебром и синим стеклом.
Кетут привез ее к небольшому дому с деревянными ставнями.
Во дворе сидели его родители и сестра, чистили рыбу и нарезали зелень.
– Это Марина, мой друг из России, – представил он ее по-балийски.
Родные улыбнулись и пригласили к столу.
Марина помогала готовить салат, и сестра Кетута принесла ей традиционный саронг.
– Подарок, – сказала она на ломаном английском.
Марина смутилась, но приняла подарок с благодарностью.
Кетут показал ей здание будущего кафе: деревянные балки, терраса с видом на океан, светлые стены, аромат свежего кокоса в воздухе.
На стенах уже висели первые наброски интерьера.
– Что думаешь? – спросил он.
Марина прошлась по залу, провела пальцами по шероховатой столешнице и ответила:
– Нужно больше воздуха, света, ткани. Туристы любят дыхание океана даже в интерьере.
– А меню? – Кетут разложил на столе листы с набросками блюд.
– Добавь больше фруктов и овощей, больше «инстаграмности», – сказала она, улыбаясь.
– Инстаграмность? – рассмеялся он.
– Да. Туристы не только едят. Они хотят сохранять моменты.
– Кетут, а что для тебя счастье? – спросила Марина.
– Счастье? – он улыбнулся. —Это когда утром просыпаешься и знаешь, зачем откроешь глаза.
А для тебя?
Она задумалась и тихо ответила:
– Не искать себя. Просто быть.
Он кивнул:
– Тогда Бали тебя выбрал.
Они долго сидели молча, слушая, как цикады перекрикивают друг друга.
Мир вокруг будто замер.
Поздно вечером Марина вернулась в свой номер.
Лежа на кровати, она смотрела на потолок и впервые за долгое время чувствовала ясность.
Мысли о Степане – о его холодных сообщениях, сухих упреках и вечном недовольстве – растворялись, как рябь за горизонтом.
Он называл ее эгоисткой, не догадываясь, как она провела те дни одна, среди тишины гор и запаха мокрой земли. Ему было всё равно. Но ей – впервые нет. В ее груди стало просторно, как будто кто-то распахнул окно навстречу ветру.
Голова была полна новых мыслей, легких, как облака над долиной. Он улетел домой один. А она – осталась. Осталась на месяц, на острове, где впервые за долгое время почувствовала: жизнь – ее собственная.
Она начала работать онлайн, помогала Кетуту с запуском кафе, вместе они выбирали цвета ткани, блюда, украшения на террасе.
Дни текли медленно и насыщенно, как река после дождя.
Через месяц, в вечер теплого бриза, Кетут привел ее на главную площадь Ловины.
Небо горело багрянцем, на фоне заката монумент с дельфинами сиял, отражая последние лучи солнца.
Вокруг звучала живая музыка, в прибрежных кафе играли гитаристы, смеялись дети.
Кетут встал перед ней на одно колено, достал небольшую резную шкатулку из тикового дерева и открыл ее.
Внутри лежало кольцо с маленьким сапфиром.
– Марина, останься. Не на месяц. Не на год. Останься… со мной.
Сердце ее стучало громче музыки.
Ветер качал волосы, а за их спиной тихо бился о берег теплый океан.
Марина улыбнулась и прошептала:
– Да.
С тех пор прошло три года.
Марина больше не чувствует себя туристкой.
Она – часть Бали.
Часть его рассветов, его ветра, его праздников и молитв.
Часть семейных ужинов с рисом, приготовленным на открытом огне.
Часть шумных ночей, когда океан говорит громче мыслей.
В их доме на террасе висит гамак,а рядом в кашпо цветет розовый гибискус, который Кетут посадил в день их свадьбы.
Их дочь играет с соседскими детьми и разговаривает сразу на двух языках – русском и балийском.
А Марина каждое утро открывает ставни, вдыхает запах океана и улыбается.
Иногда, поздними вечерами, они приезжают на главную площадь Ловины,
к монументу с дельфинами,и садятся прямо на тёплые камни, слушая, как океан перекатывает волны.
Марина говорит:
– Знаешь, я никогда не думала, что моя жизнь будет такой.
А Кетут отвечает:
– Ты не выбрала Бали. Это он выбрал тебя.
И это, наверное, и есть главный секрет острова:
он видит глубже наших желаний и даёт не то, что мы просим,а то, что нужно нашей душе.
Легкие смертельные деньги
По мотивам реальных событий на Бали,все имена и детали изменены
Кута по вечерам похожа на ярмарку моря и электричества. Скалящиеся вывески баров, запах жареных креветок и бензина, соленый ветер, который приносит с пляжа шум прибоя и счастливые крики серферов. За высокими стенами вилл – совсем другой ритм: шепот кондиционеров, глухие басы вечеринок, всплески в бассейнах, где отражаются пальмы и дроны, зависшие, как любопытные стрекозы.
В этой декорации появилась троица австралийцев: Liam, Josh и Brandon. Молодые, самоуверенные, с одинаковым загаром и одинаковым ощущением, что мир сделал им скидку. Вилла – две белые колонны у входа, фальш-греческая симметрия и полированный бетон. Внутри – проектор, на котором шли бесконечные хайлайты серф-съемок и криптографики, снаружи – бассейн, из которого они звонили в Австралию: «Слышишь? Это рай шумит».
– Мы будем жить красиво, – сказал Лиам в первую ночь. – Главное – не забывать улыбаться, когда тебя снимают.
У них получалось.
У каждой виллы есть секрет. На этой – дверь под лестницей, на которую никто не обращает внимания. Спустись – и попадаешь в маленькую страну белых ламп, вытяжек и ровных столов из нержавейки. Ряды канистр, коробки с реактивами, маски, перчатки, крышки, в которых застыл запах химии. Шумит вентиляция, шипят фильтры.
– Аккуратно с этим, – бросил Джош, затягивая респиратор. – Здесь мы не герои инстаграма. Здесь – цифры.
– Расслабься, – Лиам проверил тумблеры и часы. – Мы просто меняем агрегатное состояние денег.
Они общались со «своими» в закрытых чатах: шифрованные каналы, одноразовые ники, простые инструкции – «заказ принят», «закладка готова», «деньги пришли». Расчёты – в криптовалюте курьеры – с сумками доставки и улыбками на скорость. Остров, который привык к ритму туристического счастья, не замечал за стеной другой ритм – механического перемалывания чужих жизней.
– Быстро, бесшумно, – повторял Брэндон, раскладывая на столе пакетики, как будто карту мира. – И – без следов.
Следы были везде: в фотографиях, где они открывали шампанское, в сторис, где мерцали яхты,в счетах, где суммы перестали помещаться на экране.
С утра – байки с золотистыми шлемами, в обед – яхта до Нуса-Пениды. Девушки в белых рубашках поверх купальников, музыка, которая бьется о волну, как чайка, и эту волну с ленты видно лучше, чем вживую. Лиам стоял на носу, снимал себя и океан. Капитан улыбался своему морю и их глупости.
– Это ведь все игра, – говорил Джош, протирая очки от брызг. – Как в казино, только мы крупье.
– В казино крупье не думает, что он бог, – заметил капитан. Его не услышали.
В другой уикэнд – вертолёт до Ломбока. «Вызвать проще, чем поймать такси на Легиане», – шутил Лиам. Под ними – рифы, изумрудные чаши бухт, маленькие лодки, как семечки. В инстаграме это выглядело как рекламный ролик: «Как жить». В реальности пахло керосином, а в рот забивалась пыль, когда вертолет садился на поле у частного хелипада.
Они сорили деньгами, как если бы печатали их у себя в подвале. В каком-то смысле так и было.
Жизнь виллы казалась кино, пока через нее не начал прослушиваться другой саундтрек – терпеливый, монотонный, невидимый. Сосед-датчанин, у которого окна выходили на их стену, пожаловался арендодателю: «Запах странный. И шум ночами». Пара барменов, у которых Лиам любил брать стол на «первую линию», пересказывали слухи: «Ребята из “той белой” – слишком шумно живут для программистов». На острове все быстро становится общей историей.
В полиции ДВСН (наркотики) на столе появилась тонкая папка: «возможная лаборатория, туристическая зона». Там же – скриншоты из закрытого канала, куда «подсадили» агентскую муху, платежи по крипто-кошельку, привязанному к одному и тому же айпи, и снимки с дронов – как морская болезнь на экране: вилла, люди, коробки.
– Они думают, что стены выше закона, – сказал офицер. – Но у нас времени больше.
Это была обычная ночь. Бас из дальнего клуба, бессмысленные разговоры у бассейна, короткие вспышки сторис, совершенно одинаковые лица. В подвале тикали таймеры, в духовой шкаф с нержавейкой уходил теплый шум. Лиам поднялся наверх, открыл дверцу бара и долго глядел на ряды бутылок, как на награды.
– Знаешь, – сказал он Брэндону, – самое странное в деньгах – как быстро они теряют вес.
– И как тяжело потом вспоминать, что в них было весомого, – отозвался тот.
Дверь разнесли за секунду до полуночи. Шлемы, щиты, команды, металлический блеск фонарей. Воздух пах пылью и морем – нелепо чистой, как в рекламном ролике.
Джош застыл, повернувшись к лестнице, будто ещё мог закрыть своим телом вход в подвал. Брэндон выронил телефон, и экран, упав, засветил фотографии с яхты – белую линию пены и руку, тянущуюся к солнцу. Лиам догадался раньше всех. Он выпрыгнул за стену – в соседский сад – и нырнул в тень, откуда виден был океан. Он бежал, пока не ступил на темный песок Куты, где волна медленно поглощает следы.
Побег был как в плохом сериале: чем больше паники, тем дороже билеты. Он купил маршрут «Денпасар – Бангкок – дальше как получится». Он не сомкнул глаз в отеле рядом с аэропортом, в голове трещала реклама свободы: «Еще чуть-чуть – и ты уже не здесь».
В Бангкоке он по-подростковому гордился тем, как легко растворился в толпе: шорты, худи, бейсболка, кроссовки без шнурков и безвкусная сумка-бананка, которую никто и никогда не проверяет.
– Passport, please.
Двоим офицерам даже не пришлось смотреть по сторонам. Они знали, кого ищут – уведомления от индонезийской стороны уже пришли. Холодный зал паспортного контроля, зеленые мониторы, короткая фраза по рации. Лиаму вежливо предложили пройти «на пару минут». Минуты растянулись в часы.
Через сорок восемь часов он вернулся туда, откуда бежал, – экстрадированный в Денпасар, в том же худи и с тем же ощущением, что реклама свободы была снята для кого-то другого.
Балийский суд пах пылью, бумагой и благовониями. На скамье для публики сидели журналисты, которые уже написали свои заголовки, и несколько людей, которые еще вчера улыбались Лиаму у бассейна.
Судья зачитывал обвинение: организация и содержание лаборатории по производству наркотиков, сговор, распространение, использование коммуникационных платформ для сбыта, финансовые операции, направленные на сокрытие происхождения средств. Формулировки звучали сухо, как камень.
Адвокат попытался уцепиться за соломинку: «не было оружия», «никто не погиб». Прокурор ответил: «Мертвые бывают не только с пульсирующей раной. Мертвые бывают через год, когда дети из соседних районов перестают ходить в школу».
Джош и Брэндон получили по двадцать лет. Лиам – пожизненное.
Он не заплакал. Ему казалось, что плакать имеет смысл, если есть кому показать это, – а теперь не было смысла в показе.
Тюрьма на Бали – это не кино с голубоватым фильтром. Это бетон под босыми ступнями, жара, которая дышит в затылок, ночью – слишком много тел на слишком маленькой площади. Камера на двадцать человек, тонкие маты, деревянные нары, железные миски с рисом и вонючими супами. Иногда крысы, которые не боятся людей. Солнце, которое не проникает вглубь, зато раскаляет железные решётки.
– Сколько дали? – спросил сосед с татуировкой птицы на ключице.
– Слишком много, – ответил Лиам.
– Здесь «слишком» – стандартный размер.
Библия на индонезийском, Коран на арабском, молитвенный чётки, стихи, записанные на обрывке газеты. У каждого свой способ удерживать себя в одной точке, когда дни похожи на одинаковые плитки пола.
Иногда Лиаму приносили передачи – одежду, сладости, сигареты. Иногда – письма. Обычно без обратного адреса. Один мальчик из Куты написал: «Мой брат умер в прошлом году. Если вы сделали то, что говорят, я вас ненавижу». Подпись: Ari. Лиам долго смотрел на тонкую бумагу, потом аккуратно сложил ее вчетверо и положил в книгу, которую не читал.
Про виллу никто уже не вспоминал. На её месте тихо поселились новые туристы. Они снимали друг друга в бассейне и выкладывали фото, никто не знал, что в подвале раньше стояли лампы, а в воздухе плавал синтетический запах. Стены виллы умели держать чужие тайны, фотографии умели стирать минувшее.
Сосед-датчанин отвечал, если его спрашивали: «Да, там было что-то. Нет, я не хочу об этом говорить». Он стал чаще ходить серфить на закате – как будто вода может отмыть память.
Иногда по ночам Лиам слышал, как где-то за стеной спорят на индонезийском, и думал, что спор – это роскошь свободных. Он пытался вспомнить, когда в последний раз чувствовал себя честным. «Наверное, до того, как понял, что деньги можно делать быстрее, чем взрослеть».
В день, когда в тюремный двор залетел чей-то детский воздушный змей, оторванный ветром – он поднял голову и впервые за долгое время улыбнулся. Ему подумалось, что все самое легкое летит туда, где ему не место. Деньги, слова, самолеты, надежды. Все улетает, если внизу нет фундамента.
Остров тем временем жил своей жизнью. На утро после приговора в Куте пахло кофе, дождем и жареным рисом. Серферы шли к волне, загорались вывески баров, туристы снимали рассветы на дроны.
А если кому-то показалось, что счастье – это легкие деньги, остров отвечает достаточно жестко: легко приходит только то, что легко уходит. И чем легче это приходит, тем тяжелее запирается за тобой дверь.
Этот рассказ – не морализаторство, а предупреждение. Законы Индонезии о наркотиках одни из самых строгих в мире. Жизнь в шлепанцах у бассейна может кончиться камерой без окна быстрее, чем долетит сторис до подписчиков. Если ты приезжаешь на остров за светом – не неси сюда тьму. Бали не прощает тех, кто путает роскошь с высотой. Тут другой закон: высота – это глубина совести.
Шоколадна фабрика
Влажный воздух обжигал легкие, солнце пробивалось сквозь листву тропического леса, а пальмовые кроны танцевали над головой, словно гигантские зеленые паруса.
Алекс и Лера познакомились всего три месяца назад – и вот они здесь, на Бали, вдвоем. Их мир был наполнен случайностями, которые выглядели как судьба.
– Если мы найдем эту виллу у океана, я обещаю, что это будет наш рай, – сказал Алекс, поправляя шлем глянув на карту в телефоне.
– Рай? В джунглях, где интернет пропадает каждые три минуты? – Лера засмеялась, но в ее глазах блестел азарт.
Мотор байка урчал, пока они пробирались по узкой дороге среди непроходимых тропиков. Влажные листья блестели, словно покрытые стеклом, а из чащи доносились крики обезьян. Наконец дорога исчезла вовсе, превратившись в тропу, усыпанную кокосами.
И вдруг – глухой удар.
Огромный кокос рухнул с двадцатиметровой высоты и разбился о землю в метре от них.
– Чёрт! – выдохнул Алекс. – Еще немного, и нам бы пришлось звонить в страховую!
– Уходим! – Лера схватила его за руку. – Здесь опасно!
Они побежали по узкой тропинке. Пальмы шумели, словно дышали, а сверху глухо гремели падающие орехи.
И вдруг, когда силы почти покидали их, перед ними открылся ослепительный свет океана. Зелень резко разошлась, и тропинка вывела их к побережью.
Берег был диким, словно забытый людьми рай. Черный песок жег ступни, а шум волн смешивался с криками птиц. И вдруг среди зарослей они заметили старую фабрику: домики, построенные из бамбука и тростника, половина деревянного корабля над обрывом, казались частью пейзажа.
– Это что… отель? – прошептала Лера.
– Или фильм про Индиану Джонса, – ответил Алекс, вытирая пот со лба.
Дверь одного домика скрипнула, и навстречу вышел мужчина с широкой улыбкой и загорелой кожей. На его соломенной шляпе сидел маленький попугай.
– Welcome to Charlie’s Chocolate Factory! – сказал он, и воздух будто наполнился ароматом какао и свежих фруктов.
Внутри бамбукового павильона царил прохладный сумрак. На длинном деревянном столе стояли стаканы с ледяным шоколадом, украшенные кусочками мяты и кокосовой стружкой. Напиток пах тропиками и солнцем.
– Попробуйте, – сказал мужчина, протягивая стакан. – Здесь, в этих джунглях, мы выращиваем какао уже двадцать лет. Мой отец, Чарли, купил эту землю и построил фабрику, когда здесь был лишь песок и океан.
Холодный шоколад растаял на языке, и мир вокруг замер. Лера улыбнулась:
– Кажется, я только что нашла рай.
Перед фабрикой стоял странный дом – выстроенный в форме старого пиратского корабля. Корму обвивали лианы, нос «корабля» смотрел прямо в океан.
– Это похоже на декорации «Пиратов Карибского моря», – засмеялся Алекс.
– Нет, это лучше, – Лера уже поднималась по лестнице.
С верхней палубы открывался вид на бескрайний океан, где солнечные блики играли на волнах, а лёгкий бриз приносил запах соли. Они фотографировались, смеялись, стояли в обнимку, словно капитан и его штурман, открывающие новый мир.
Чуть дальше к морю свисали огромные качели, привязанные к вековым пальмам. Алекс сел первым, а Лера толкнула его – и он взмыл так высоко, что казалось, пальцы ног коснутся облаков. Затем она сама взлетела, волосы развевались, сердце замирало от восторга.
– Представляешь, если бы так выглядела наша жизнь? – крикнула она сверху.
– Она так и будет! – крикнул он в ответ.
На закате они кормили голубей у берега. Птицы слетались, садились на плечи, трепетали крыльями. Солнце окрашивало океан в золотые и пурпурные оттенки, а их сердца были наполнены планами, мечтами, надеждами.
Лера взяла его за руку:
– Давай пообещаем, что вернемся сюда.
– Не просто вернемся, – ответил Алекс, – а построим свою историю здесь.
Через два года они вернулись – уже не как туристы, а как жених и невеста.
Чарли помог организовать свадьбу на берегу. Балийцы украсили пляж гирляндами из цветов, деревянными факелами и тканями цвета океана. Звуки гамелана смешивались с шумом прибоя.
Лера шла по песку босиком, в легком платье цвета слоновой кости, а Алекс ждал ее под аркой из бамбука и орхидей.
– Сегодня я выбираю тебя, – сказала она.
– Я выбираю тебя каждый день, – ответил он.
В тот момент пальмы зашумели громче, волны взлетели выше, а голуби, как тогда, взмыли в небо.
Они снова качались на тех же качелях, теперь уже муж и жена, а холодный шоколад был холоднее и слаще, чем когда-либо.
Иногда жизнь делает странные повороты.
Они приехали искать виллу, но нашли свой дом – место, где джунгли встречаются с океаном, а случайные дороги становятся судьбой.
Хранители дождя
Лодка шла не по воде – по звуку. Мотор старого «Ямахи» кашлял, как дедушка после табака, и каждый кашель отдавался в деревянном брюхе суденышки, будто тот вздыхал. Индийский океан вокруг был цветом свинца; к западу – ни одного паруса, ни одного света, только низкие облака, распластанные над линией горизонта, и белые шрамы прибоя на внешнем рифе. Впереди виднелась полоска тёмно-зелёной земли – Сиберут, самый большой из островов Ментавай.
Я – Клеменс, европейский писатель, когда-то уверенный, что мир можно уложить в главы и абзацы. Когда-то – пока не понял, что есть места, где язык – всего лишь мокрое перо за ухом у человека, который ищет дождь.
– Hati-hati, – сказал рулевой Аман Рузи, не отрывая взгляда от волн. – Осторожно. Маганган – течение.
Мы бросили взгляд туда, где кромка рифа разомкнулась на миг и показала живую пасть. Лодка вздрогнула, как человек, который вдруг вспомнил, что забыл закрыть дверь. Потом – всё. Воздух стал солёным и густым, брызги пахли известью кораллов. Мы пересекли губу лагуны и вошли в заводь, где вода была почти черной от отражений мангров.
На причале из неровных досок нас уже ждали: мальчишки с копьями для рыбы, женщина с корзиной, где под листьями банана прятались розовые мидии, и высокий, сухой как лук шаман – сикереи – в ожерельях из плетеных волокон и семян. Его татуировки – тонкие линии и спирали – выглядели как карта места, где я еще не бывал.
– Manua punen? – спросил он. Праздник?
– Tamu. Гость, – ответил за меня Рузи.
Меня повели в ума – большой дом на сваях, сердцевину общины. Теплое дерево скрипело, как если бы каждое полено помнило историю, из которой его вытащили. Внутри пахло дымом, пальмовыми волокнами, сушеной рыбой и сдобренными травами – теми, что висят под навесом, как четки.
Я приехал «снимать книгу» – так, по крайней мере, звучала формулировка в письме издателю. «Самые красивые и самобытные племена Индонезии», «люди леса», «удивительные тату», – клише шли строем, как туристы по кофейной плантации. Но уже в эту первую минуту я понял: если я начну перечислять очевидное, то напишу не про них – про себя. А я устал от собственного голоса.
Ночь в ума – как баюканье. Дождь лег на крышу, и дом загудел тихим ульем. В дальнем углу двое мужчин вырезали из легкого, как семечко, дерева корпус будущей лодки – каноэ с аутригером, плавающей ногой. Женщины чистили маниок, дети заплетали из листьев пальмы ровные полосы, каждая полоса – как строка, что держится без клея, только на терпении. Дым от очага выходил сквозь щели, делая воздух вкусным и густым. На стене висели старые ножи, отшлифованные временем; на балках – плетеные обереги из корней.
Сикереи сидел напротив меня, на голубом коврике из циновки; в руках у него была пучка листьев. Он улыбался медленно, как человек, который отлично знает, что время – не нитка, а ткань.
– Смотри, буле, – сказал он негромко, называя меня «белым», как их предки называли первых голландцев. – Эти линии – показал на свои татуировки. – Не украшение. Это… как твой блокнот. Только внутри. Чтобы не забыть, как идет дождь.
Здесь дождь – больше, чем вода. Это язык, на котором разговаривают лес и море, и переводчики у него – несколько стариков и один мальчик, который пока беспомощно улыбается, но уже умеет слышать.
Утром меня взяли с собой «проверять воду». Двое подростков, смеясь, поднимали и опускали ручьи в деревушке, задвигая глиняные заслонки в узких каналах, чтобы рисовые лоскуты – их тут мало, в основном саговые пальмы и огороды, – «пили» равномерно. Но, в отличие от балийского субака, это было проще, грубее – как если бы лес и люди здесь договаривались между собой без бумажных протоколов, просто дыханием.
– Здесь все вместе, – сказал Аман Рузи, шагая по вязкой тропе. – Если у одного нет рыбы – едят у соседа. Если у соседа заглох мотор – несут его лодку. Зато если кто-то забывает делиться – лес не даёт ему зверя. Лес видит.
Я смотрел, как на берегу двое малышей учатся делать стрелы. Острие они вымакивали в темной смоле из коры – я слышал, что где-то используют яд из дерева, похожего на антиарис токсикария, но никто не произносил этого вслух. Слова здесь вообще произносят скупо: влага сама говорит за людей.
Меня привезли на маленькое озерцо среди торфяной низины. На поверхности лежала тень от орла – огромного, как детская мечта быть капитаном корабля. На дальнем берегу я заметил носорога-птицу – рогатого буера, который пролетел, хлопая крыльями, будто каждое движение стоило ему средней грозы. Обезьяны, которых я бы в Европе назвал «мартышками», здесь кричали, как забытые скрипки.
Я записывал все – и сразу понимал, что записи – это, конечно, важно, но иногда смешно. Язык снова упирался в собственную кожу.
На третий день меня позвали на punen – праздник. «Духи леса любят танцы не меньше людей», – сказал Рузи и улыбнулся как по секрету. Село очистило площадку – даже не площадку, а просвет в пальмах, – и разложило бамбуковые настилы. Женщины выложили на листья банана подарки для предков: жареную рыбу, вареные яйца, сладкий рис в корзинках, спелые джекфруты, ломтики лепешки. Мужчины натянули на лучины тонкую шкуру – это был барабан, который отозвался глубоко, как если бы ударил в живот лесу.
Сикереи появился, как появляется дождь: никто не видел, откуда, но все вдруг поняли – он уже здесь. На его голове была корона из листьев и перьев; на груди – ожерелья, пахнущие дымом и соком растений. Он провёл ладонью по воздуху – и дети замолчали, как ручьи, которые вдруг закрыли заслонкой.– Сегодня просим лес помнить о нас, – произнес он и посмотрел на меня. И просим нас помнить о лесе.
Начались танцы – не синхронные, как в туристических шоу, а такие, где каждый находит свой шаг внутри общего ритма. Женщины двигались, как море на мелководье; мужчины – как ветки, которые знает ветер. В какой-то момент ко мне подошёл мальчик, взял за руку и, смеясь, втащил в круг. Я чувствовал себя так неуклюже, как только может чувствовать себя человек, который пытался всю жизнь попасть в правильный ритм, не поняв, что ритм – это ты сам. Мои шаги были неправильными, мои руки – деревянными. Но никто не смеялся. Танец принял и разжевал меня, как манго.
После танца, под треск насекомых, шаман позвал меня на обряд исцеления. Не для меня – для молодого рыбака, которого «не отпускал» сон: тот видел под водой белых рыб, что манили его в глубину. Сикереи зажег смолу, воздух наполнился терпкой горечью. Он шептал – не заклинания и не молитвы: вещи, которые рыбака, возможно, не научили вовремя. «Не иди один», «Смотри вверх, когда ныряешь». Он провел пучком трав над телом, моросил на него водой из половинки скорлупы. В какой-то момент певучее бормотание стало похожим на плач – тихий, древний, как если бы плакал лес за всех, кто хоть раз уходил из него без оглядки.
И тут я понял, что не просто «смотрю», как в музеях. Меня вписали в их круг, как вписывают в семейное фото того, кто, может быть, и не родня, но уже – больше, чем знакомый.
Дни пошли без названий. Я помогал тянуть сетку, тащил бамбук, учился вылавливать крабов руками из крохотных пещерок в серых сгустках приливного ила – это была самая детская радость из всех, что со мной случались: нащупать твердую, шершавую спину; понять, что жизнь сопротивляется; тянуть и смеяться от страха быть щипнутым. Мы ели на полу, над большой тарелкой; пальцы пахли перцем и морем. Вечером старики рассказывали истории – их истории всегда начинались одинаково: «Когда лес был моложе…», – и всегда заканчивались так, будто и не заканчивались вовсе, а просто уходили в ночь.
Я принес им лекарства – то, что просил доктор из города: перевязки, антибиотики, обезболивающее. Я не герой в этом месте; я – курьер. Но, когда у ребенка спал жар, меня благодарили так, как будто я собственноручно остановил шторм.
Самое важное произошло на шестой день.
Меня позвали внутрь леса – за ручей, за линию мангров, к сухому месту, где стоял «дом слов». Это был небольшой навес из листьев и ветвей, под которым лежал камень. На камне – рисунки. Очень простые: лодка, три рыбки, изогнутая змея, обведенная ладонь. Мне сказали: «старое», и я не стал спорить. Сикереи сел напротив, положил ладонь на ладонь и тихо начал говорить. Его слова я не понял; понял – другое: на лицах тех, кто слушал, появилась тень-улыбка, как когда узнаешь человека по походке в темноте. Что-то древнее в этом лесу узнает нас до имен. И если долго сидеть рядом, ты поймешь: мир обрабатывает тебя, как дерево, пока ты не станешь гладким, чтобы из тебя можно было что-то сделать.
Тем вечером мы сидели на крыльце, и сикереи, глядя в темноту, сказал:
– Ты приехал писать про нас. Напиши про себя.
– Про себя?
– Про то, что ты искал здесь. Не людей в разрисованных кожах. Ты искал тишину, которая слышит. Ты искал, где не надо быть сильным, чтобы тебя не бросили. Ты искал дом, где тебя не измеряют вещами. Ты искал, где вода течет не из крана, а потому что ей надо течь.
Он поправил ожерелье, под пальцами звякнули маленькие семечки.
– И напиши еще, – добавил он. – Что, если ты уйдешь и забудешь – лес тебя простит. Но ты сам себя – нет.
В ночь перед отъездом пошел большой дождь. Он шел не сверху – со всех сторон. Удары по крыше напоминали шаги множества людей, которые долго шли рядом и наконец пришли. Мы втроем – я, Рузи и его старший сын – сидели, подперев подбородки, и слушали, как дом плывет. В чашке дымился сладкий чай, рядом потрескивали дрова. Соседи заносили сухие дрова и старые сети, женщины смеялись, кто-то пел без слов.
– Почему ваши тату – такие? – вдруг спросил я у Рузи, показывая на его предплечье: там чернела аккуратная спираль и шли в стороны лучи – как солнце, нарисованное ребенком.
– Чтобы не забыть. – Он улыбнулся. – Здесь – путь реки, здесь – путь ветра. А это – дом моих родителей – лучи, как оказалось, были крышей ума с палками-сваями. – Если уйду на другой берег – вспомню, как возвращаться.
– А если… – я замялся. – Если тебя не станет?
– Тогда мои дети будут помнить. – Он календарно кивнул. – Память – это не то, что в голове. Это то, что делают руки.
Слова упали и утонули, как бамбук, который всегда сначала тонет, а потом всплывает.
Утром лодка была легкой, как улыбка. Солнце выбралось из облаков и оказалось не белым – желтым, как школьный мел. Мы прощались: женщины повязывали вокруг моего запястья узкий браслет из волокон; старики пожимали руку крепко, почти болезненно; дети свистели в ракушки, их звуки были похожи на смех над морем.
– Jangan lupa, bule, – сказал сикереи. – Не забывай. И возвращайся не с камерой – с руками. Он показал на сухую лодку, которую надо было доделать. – Руки – это лучшее, что человек может приносить.
Лодка прошла внешний риф, нас качнуло. Океан снова стал свинцовым – но теперь я знал: это не про тяжесть, это про глубину. Я достал блокнот, и слова вдруг пошли без насилия: не про «самобытность» и «самые», а про то, что жизнь держится не на громких маркерах, а на тихих ремесленниках дождя; не на лайках, а на тех, кто каждое утро открывает и закрывает невидимые заслонки, чтобы вода доходила до всех.
На Суматре, в порту, я купил нож – простой, с твердым лезвием и рукоятью из дерева, выполированной чужими руками. Дома, в Европе, я буду резать им хлеб. Иногда пальцы будут вспоминать пятна на ладони Рузи, и я буду знать: память – в том, что делают руки. И ещё – в том, что мы удерживаем от забывания.
А издателю я напишу так:
«Вы хотели книгу о самых красивых и самобытных. Я привез вам историю про людей, для которых дождь – не погода, а обязанность. Про острова, где дом держится на сваях, а община – на договоре, который подписан не ручкой, а привычками. Про шаманов, чьи тату – это не институт стиля, а библиотека, которую читают пальцами. И – про одного европейца, который хотел взять, а научился быть должным: лесу, воде, людям и себе вчерашнему».
В самолете я закрою глаза и услышу тот барабан – не инструмент, а сердце ума. И пойму, что все эти годы я искал не «дальнюю экзотику» – ближнюю простоту. И что иногда, чтобы услышать собственный голос, надо уехать туда, где люди говорят шепотом – и очень редко впустую.
Письмо из Тораджи
Автобус из аэропорта Сулавеси полз вдоль зеленых склонов, будто осторожно трогал пальцем ребра острова. К вечеру дорога взобралась в прохладу, и воздух стал пахнуть сосной, мокрым камнем и кофе. Алексей приник лбом к стеклу: крыши домов в виде лодок – выгнутые, словно крылья гигантских птиц, – всплывали и исчезали между холмами; на открытых площадках сушились шелухи кофейных ягод, дети катали друг друга в корытах, а над всем этим вился легкий дымок – негарь, а запах, в котором смесь гвоздичного табака, жареного риса и времени.
– Добро пожаловать в Тораджа, – сказала Дина, его проводник и переводчик, когда автобус наконец остановился на маленьком автовокзале Рантепао. – Здесь горы хранят память лучше людей.
Она улыбнулась – светло, без попытки произвести впечатление – и протянула бутылку с водой. У Дины были внимательные глаза человека, который умеет слушать. Для репортера это находка.
– Успеем к семье? – спросил Алексей.
– Успеем. Сегодня последний день перед Rambu Solo’. Завтра начнут строить павильоны на ранте.
Он записал незнакомые слова в блокнот. Когда-то его учили: «Пиши так, чтобы читатель чувствовал ладонью дерево, а не читает слово «дерево». Тораджа сама словно просила о такой работе – ладонью по дереву, щекой к камню, носом в дым.
Дом семьи, куда их привела Дина, назывался тонгконан. Он стоял на толстых столбах, как на ногах древнего зверя, а крыша выгибалась к небу, будто вспоминала море, откуда пришли предки. Фасад был весь в резьбе – чёрный, красный и белый узор: геометрии, рога буйволов, спирали водоворотов, будто поднятые из реки. Под фронтоном висели настоящие рога – ярус за ярусом, свидетельство прошлых церемоний.
Во дворе под навесом пахло смолой и пальмовым вином. Женщины скатывали рис в длинные цилиндры, завязывали их в листьях банана – для завтрашних гостей. Мужчины строили бамбуковые павильоны – легкие, как каркасы птиц. На соседней площадке подростки тренировались в дощатых носилках: держали ритм, поворачивали, и днище носилок звенело, как дерево под дождем.
– Внутри – она, – тихо сказала Дина. – В доме мертвые живут как больные. До «больших проводов» – Rambu Solo’ – они «еще с нами». Семья кормит их, разговаривает, чистит комнату. Жалюзи всегда приоткрыты – чтобы слышать двор. Это… чтобы понимать, что жизнь рядом.
Алексей кивнул. Внутри он был готов к чему угодно, но сердце все равно дернулось.
Комната была чистой и прохладной. На низкой платформе стоял гроб – простой, лаковый, тот самый «первый». На крышке – белая ткань, на ткань положены ленты с узором дома, рядом – тарелка с рисом и кружка сладкого чая. В углу – бутылочка с формалином и сухие травы: здесь мертвых бальзамируют и хранят в доме месяцами, иногда годами. Дина шепотом объяснила:
– Позже ее переложат в «правильный» гроб – резной, из железного дерева. Это как одежда для пути: повседневная – для дома, праздничная – для дороги.
– Как ее звали? – спросил Алексей.
– Нэ’ Лелла. Мать дома. Ее имя будут произносить еще долго, – сказала Дина. – У нас нет «похорон» в европейском смысле. Есть долг, который копят годами: буйволы, свиньи, павильоны, люди. Когда долг собран, долг возвращают миру. Тогда душа идет в горы к предкам.
У изголовья сидел старик – муж или брат, не спросишь. Он курил гвоздичную сигарету – дым был сладким и пряным – и тихо говорил на диалекте. У ног лежала внучка, девочка лет семи, она держала в руках воздушного змея. Алексей поймал себя на невозможной мысли: «какая правильная тишина». Тишина не «похоронная», а тишина уважения – как в библиотеке, где знают, что слово весит.
– Завтра будет шумно, – сказала Дина. – Сегодня – чтобы посидеть рядом.
Ранте, поле для церемонии, к утру стало похожим на декорацию большого спектакля. По кругу стояли временные дома для гостей – ланда, бамбуковые, прозрачные. В центре – высокий помост для носилок и «праздничного» гроба, рядом – загородки для буйволов, вычесанных, как породистые кони. Белые, пегие, чёрные – у каждого своя цена, у белого, тедонг беланга, – особая: один такой равен ста свиньям и целому году накоплений. На траве уже лежали вязанки пальмовых листьев – потом из них сделают ковши для соуса, тарелки для риса, мостики для теней.
– Смотри внимательно, – предупредила Дина. – Ты журналист. Ты привык держать дистанцию. Здесь лучше держать уважение.
По периметру стали собираться люди: родственники в черном батике, соседи в красно-черном, старейшины в белом. Приехали дальние – целые кланы, двоюродные и троюродные, и каждый привез подарок: кто свинью на бамбуковом шесте, кто мешок риса, кто деньги в конверте. Все записывалось в толстую тетрадь – зачитывал юноша с серьезным лицом. Потом эти долги вернут – на их церемонии. Жизнь здесь – не рыночная сделка, жизнь – огромная бухгалтерия взаимности.
К полудню заиграли флейты. Носилки с «домашним» гробом четырнадцать мужчин подняли, как торт, и понесли к помосту. Носилки качались, и мужчины подшучивали друг над другом – но силу держали неожиданную, телесную, как в танце, где хрипит земля. Перед помостом старейшина поднял ладонь: остановка. Женщины подняли и развернули длинную ткань – узор дома – и устроили нечто вроде ворот. Под этими воротами нэ’ Лелла проходила «из дома» в «дорогу».
На помосте стоял другой гроб – резной, с крышкой, украшенной цветком папоротника и буйволиными рогами. Его сверкающий лак казался ещё тёмнее на фоне дневного света. Трое мужчин с осторожностью переложили тело. Тут же один из старших сыновей, прижав к груди тесак, произнёс речь – не про смерть. Про долг, семью и то, что «она только ушла вперед». Потом – короткая молитва, и крышку закрыли.
– Теперь ее путь начался, – сказала Дина. – Все, что дальше – про нас. Про то, как мы проводим.
Дым поднялся столбом. Заработали ножи. Несколько буйволов повели в загородку – важные, дорогие, выхоленные. Алексей сжался – он понимал, на что смотрит, но глаза все равно отказывались принимать. В Европе сцена была бы невозможной. Здесь это – дар предкам и социальная валюта, входной билет души туда, где нет недолгов.
– Сколько их будет? – спросил он.
– Столько, сколько семья может «поднять». Два – уже серьезно. Десять – громко. У вождей – двадцать, сорок, – пожала плечами Дина. – Чем выше долг, тем выше громкость памяти. Со стороны можно спорить. Здесь спорят тоже. Но никто не скажет, что это пустое. Кровь – это связано с жизнью. А мясо – для всех. Видишь, уже кипят котлы? Сегодня будет великий обед.
Они стояли у края поля, и Алексей, записывая, внезапно почувствовал, как со всех сторон на него движется жизнь: жар солнца на шее, липкий дым на руках, детский смех за спиной, сухая ладонь старика, который перекладывал табак в бумажку, и – да, – кровь, густая, теплая, не на экране, а на воздухе, которой они все дышали. Это был тот редкий момент, когда профессия – увидеть и назвать – сталкивалась с чем-то, что надо прожить.
Той же ночью, когда музыканты разошлись, а в бамбуковых домиках забормотали люди – не спали, говорили – Дина привела Алексея к дому резчика. Внутри пахло стружкой и маслом. На стене висели незавершённые тау-тау— деревянные фигуры умерших, что глядят с балкончиков скальных могил. Лица – не портреты, а память: ноздри, лоб, линия губ; главное – взгляд, серьезный, чуть отстраненный, будто «оттуда».
– Это для нее? – спросил Алексей.
– Нет, – улыбнулся мастер. – Для дяди Ламбе. Его положат в скалу через месяц. А это… – он достал из ящика старый конверт, пожелтевший и удивительно плотный, – для тебя.
– Для… меня? – переспросил Алексей, решив, что опять недопонял.
– Для «русского, который придет и будет слушать», – сказал мастер. – Так велел один человек. Он жил у нас – много лет назад. Михаил Сергеевич. Белый, упрямый, смеялся громко. Умер десять лет назад. Письмо оставил у тонгконана, чтобы передать. Я храню. Ты пришел – я отдаю.
Алексей осторожно принял конверт. На нем было выведено «Для того, кто спросит у горы». Внутри – лист бумаги в клеточку, «в тетрадку», ровный, старомодный почерк. Усевшись на пороге, под лампу на керосине, он прочел:
«Если ты это читаешь, значит, ты был достаточно упрям, чтобы доехать до места, где мир – рукопись, а не экран.
Приехал я сюда чужим и остался – человеком. Впервые увидел смерть без визга. Здесь мертвые – не чужие. Они живут дома. Их кормят, с ними говорят, их «переводят» из одного ложа в другое, как из повседневного в праздничное. Да, здесь режут буйволов. Да, здесь иголкой времени подшивают долги к сердцам. Но это все – про нас, живых.
Я много лет чинил мосты – и понял, что мост нужен не только через реки. Здесь учишься строить мосты через молчание. Между «уже не» и «еще да».
Если тебя пугает кровь – не смотри на ножи, смотри на руки, раздающие мясо соседям. Если тебя пугает слово «смерть» – сядь на пороге рядом с теми, кто шьет ленты для гроба, и ты услышишь смешки и сплетни. Они – здесь. Мы – здесь. Горя нет в самом факте ухода. Горе – в бедности нашей памяти.
Я буду стоять на балконе, где тау-тау глядят в долину. Узнаешь меня по смешной брови – резчик не вытерпел и оставил мою. Посмотри на меня и не опускай глаз.
Запомни: горы принимают тех, кто умеет возвращать долг. Это не про буйволов. Это про время. Мы пришли сюда и берем у мира воздух и хлеб, ласку и дело. Наш долг – вернуть миру смысл.
Если ты журналист, – не пиши о «дикости». Напиши о порядке.
Михаил Сергеевич, который больше не спешит».
Конверт пах не пылью – кофе, смолой и табаком. Алексей почувствовал, как на глаза поднимается вода. Он не знал Михаила Сергеевича, но был уверен: тот смеялся громко.
– Он был вашим? – спросил Алексей.
– Он был наш. А теперь – гор. – Мастер кивнул на горную гряду в темноте. – У нас так. Кто слушает – тому дом.
На следующий день Rambu Solo’ вошел в ту фазу, которую в путеводителях называют «кульминацией». Ленты заняли свои места, как строки на странице, носилки стояли, как утверждение, и все происходящее казалось одновременно театром и правдой. Алексей поймал себя на странной мысли: «Вот это – способ держать время». Не удерживать, не «законсервировать» – удерживать, как плотина воду, чтобы выпустить ее туда, где она будет нужна.
Под вечер, когда мясо уже разошлось по домам, когда на ранте остались мальчишки с бумажными змеями и собаки, ищущие кости, семья пригласила Алексея на «последнее сидение». В доме у «праздничного» гроба было прохладно. На полу лежали ковры, пахло свежей смолой и рисом. Два человека – сын и племянник – аккуратно подняли гроб: завтра его повезут к скале.
– Пойдешь? – спросила Дина.
– Пойду. До конца, – сказал Алексей.
Они шли по тропе, которая казалась длиннее, чем есть, потому что каждый шаг был словом. Скала встретила их свистом ветра и белыми балкончиками – там, где на каменной стене висели галереи тау-тау. Потом, позже, Алексей узнает названия: Лонда, Лемо, Кете Кесу’… Сейчас он просто поднимал голову и видел деревянные взгляды. Они были не «жуткими» – внимательными.
Дыра в скале – лианг – была закрыта дверью с резьбой. Ее сняли. Внутри прохладно, сухо, пахнет камнем и древесной пылью – не могила, а кладовая времён. В углу уже стояли длинные сундуки – эронг – старые, потемневшие, и новый, светлый. Люди молча передали гроб из рук в руки, как ребенка. Закрыли дверь. На балкон вывели новый тау-тау: лицо женщины серьёзное, губы мягкие, руки сложены – не молитва, а приветствие.
Алексей стоял на тропе и вдруг увидел его – «смех бровью»: мужская фигура в старой, треснувшей шляпе, с приподнятой левой бровью. Михаил Сергеевич. Он смотрел прямо – и чуть насмешливо. И Алексей понял: письмо – было не только для него. Письмо было для всех, кто ещё умеет смотреть.
– Ты видишь? – тихо спросила Дина.
– Вижу, – ответил он. – И слышу.
– Что?
– Как горы дышат, – сказал он и впервые в жизни подумал, что такое «хорошая смерть».
Через неделю он все еще был в Торадже – писал, слушал, пил крепкий местный кофе в маленьких варунгах, где мужчины вязали верёвки и обсуждали цены на буйволов, и вдруг услышал новое слово: Ma’nene. Праздник «обновления тел». Это не «ужас», как любят писать сайты; это – встреча. Северные деревни, август, люди вынимают старые гробы из скал, чистят кости, меняют одежду, смеются, плачут, фотографируются рядом – не из мрака, из любви. Он не успевал – Ma’nene был в другом времени. Но мысль о нем отзывалась в письме, как эхо: «обнови память».
Ему хотелось остаться. Но редакция ждала материал. Он собрался: записные книжки, диктофон, конверт с письмом – он сделал копию и оставил под тонгконаном; оригинал, как просил мастер, «пусть идет с тем, кому был написан».
На прощание Дина отвела его в маленькую лавку, где продавали «ничто» – сухие травы, бусы, резные ложки. За прилавком сидела старуха. Она положила на стол связку узких лент сару.
– Возьми. Для того, кто «переходит». Свяжешь на руке, когда будет очень шумно внутри, – сказала Дина.
– Спасибо. Я… – Он запнулся, не находя слов. – Я приехал писать про «похороны». А уезжаю с уроком про живых.
Дина пожала плечами:
– У нас так. Уходящие учат оставшихся жить. И еще: здесь все – не шоу. Если пишешь – не делай из нас «ужас». Делай мост.
В самолете – обратно в Макассар – Алексей открыл ноутбук. Пальцы готовы были накатать знакомое: «экзотическое, шокирующее, древнее». Он остановился. Стер. И начал писать так, как просило письмо.
Он писал, что Rambu Solo’ – не «кровавая традиция», а система взаимных долгов и общинной памяти, где смерть – не финал, а точка пересечения, в которой сходятся забота, экономика, искусство, занятость, кухня, резьба, музыка, вера. Что дома-птицы, тонгконаны, – это не «деревянные шале», а генеалогии, вырезанные на фасадах. Что тау-тау – не «жуткие куклы», а договоренность между нами и временем: «Смотри на меня и не забудь, как меня звали». Что в доме мертвые – «как больные»: им оставляют рис, чай, открывают жалюзи, и это не «суеверие», а способ научиться разговаривать с молчанием.
Он писал о том, как женщину переложили из первого гроба – «домашнего» – в «праздничный», и как этот жест похож на смену одежды в путь; писал, как в тетради записывали долги подарков, чтобы их вернуть; писал, что кровь – это не шоу ради камеры, а дорогая валюта, которую община превращает в еду, в гостеприимство, в «спасибо» и «помню». И что мучительно легко судить со своего дивана – и очень трудно молчать, когда деревня делает то, что считает правильным сотни лет.
Он вставил куски письма Михаила Сергеевича – не как «находку», а как голос, который шел рядом все это время: «Мост нужен не только через реки». И добавил от себя: журналистика тоже бывает мостом. Или ножом. И ответственность – выбирать.
Перед посадкой он выглянул в окно. Горы Тораджа лежали глубоко, как спины больших зверей, дышащих в такт облакам. И ему показалось, что на одном склоне, где белели каменные двери лиангов, стоит деревянная фигурка с приподнятой бровью и смотрит прямо сюда, на серебристое брюхо самолёта, в котором человек с чужим языком и чужим паспортом пытается написать свою правду.
– Михаил Сергеевич, – сказал Алексей почти вслух, – я услышал. И принял долг.
Он привязал на запястье тонкую ленту сару – как напоминание: когда будет «очень шумно внутри», горы умеют говорить только тише.
И впервые за долгое время почувствовал не «материал сделан», а «сделан шаг». Короткий. Но в нужную сторону.
Спустя год он вернулся. Не как корреспондент, а как человек, у которого есть дело. Привез оттиски своей книжки – не продается, «для своих» – и несколько десятков черно-белых фотографий: тонгконаны, руки резчиков, лица женщин, ленты на крышке, скамейки на ранте, мальчишки с воздушными змеями. Он отдал снимки в дом, где теперь тау-тау Нэ’ Леллы глядит в долину, и долго сидел на пороге, где когда-то «в доме жил больной».
Рядом приземлился мальчишка и серьезно спросил:
– Ты вернешься еще?
– Если горы позволят, – ответил Алексей.
Мальчишка кивнул, как взрослый:
– Тогда мы тебя будем ждать. У нас здесь все так – когда кто-то уходит, остается место для «потом».
В тот вечер Алексей впервые увидел, как солнце тонет именно за тем краем, где на склонах как нотная строка стоят балконы тау-тау. И понял, что у письма есть продолжение. Оно пишется не пером и не в клеточку – оно пишется тем, как ты возвращаешь миру смысл.
И если горы действительно читают, то одна из них, наверное, ненадолго приподняла бровь.
Сингкаванг
Сибирь. Октябрь. 2009 год.Голые деревья стояли как скелеты. Дождь бил по стеклу, серое небо давило сверху.
Его компания обанкротилась.Михаил сидел у окна опустевшего офиса. На столе – стопки папок, счета, уведомления, письма из банка.
Под бизнес он брал кредит на коммерческое помещение, лизинг автомобилей, кредитные линии для оборотки. Все было логично и правильно, пока рынок рос. А потом – кризис. Заказы исчезли, партнеры отвернулись, а банки остались.
Семнадцать лет вместе – и вот повестка из суда.В тот же месяц, когда фирма рухнула, жена подала на развод.
Развалился бизнес, ушла жена. Жизнь решила выбить почву из-под ног одним махом.Михаил смотрел на нее и не чувствовал злости. Только пустоту.
Вечером во вторник в дверь постучали. Сначала тихо, потом сильнее.Прошла неделя тишины. Михаил почти не выходил из квартиры.
– Миха, открывай! Я знаю, что ты дома. Давай, не ломайся.
– Да иду я…
На пороге стоял Леха – друг с института, шумный, прямой, с глазами, которые всегда смеялись.
– Ты чего даже не позвонил? – сказал он, шагая на кухню. – Потерял работу, стал холостяком – и молчишь? Ты что, совсем рехнулся?
– Неудобно. Да и… думать надо. Как долги отдавать.
Леха достал из кармана сложенные купюры.
– У меня тут триста баксов с прошлых времен. Бери. Не отдавай. И не спорь.
– Тихо! Это не милостыня. Это поддержка. Не чужие мы друг другу.– Лех… да я…
Эти деньги не решали проблему, но стали для него символом: он не один.Михаил впервые за неделю улыбнулся.
И он решил – будет бороться.
Просыпался в пять утра, ложился за полночь. Работал, договаривался, ехал на встречи.Следующие три года Михаил жил, как в холодной реке: все время греб против течения. Он пробовал новое – запускал сервисные услуги, торговлю стройматериалами, аренду техники.
Клиенты отменяли договоры, банки поднимали ставки, налоги давили, какНо все рушилось.
каменная плита.
Пока однажды не решился на риск.Он держался.
Он даже почувствовал вкус надежды.Занял крупную сумму в долларах у знакомых. План выглядел верным: закупить партию компьютерного оборудования за границей и перепродать с маржой. Рынок техники рос, спрос был огромный.
А потом пришел 2014 год.
Новости сообщали: «исторический максимум».Рубль посыпался, как карточный домик. Весной доллар стоил 33. Осенью – 50. В декабре – прыгал к 80.
его долг в рублях вырос в три раза.А для Михаила это означало:
То, что он мог бы отдать год назад, теперь стало недосягаемым.Он сидел ночью на кухне, уставившись в распечатку. Числа прыгали перед глазами, будто издеваясь.
– Лех, тут не держаться надо. Тут… уезжать. Здесь меня просто похоронят.Леха звонил, уговаривал: – Мишаня, держись.
Уехать. Работать. Закрыть долг. Жить.И тогда Михаил понял: если он хочет выжить и начать заново, нужно рвать связи с прошлым.
Вылет был ночью. В кармане – паспорт, билет и несколько сотен евро. За спиной – вся его прежняя жизнь, собранная в один рюкзак.
Хуже уже не будет. Значит, дальше только вверх.В самолете Михаил смотрел в иллюминатор. Под крылом мерцали огни России, таяли в темноте. В груди было пусто и страшно, но где-то глубоко внутри звучала мысль:
Испания встретила его жарким воздухом и запахом кофе на вокзале. Никого знакомого, никакой поддержки. Только телефон с номерами посредников и пара адресов.
– Ты русский? – спросил другой рабочий на ломаном английском у стройплощадки. – Здесь нужен человек. Пойдем.
Пять дней в неделю он работал на стройке. Два дня – подрабатывал разнорабочим: таскал мебель, разгружал ящики на складе.Так началась его новая жизнь: бетон, кирпич, леса.
Вечером возвращался в комнату, снятую у старика-испанца, и падал на кровать, не раздеваясь. Тело болело так, будто по нему прошелся каток.
Однажды он позвонил Лехе по скайпу.
– Отдых? – Михаил усмехнулся. – Лех, я отдыхаю, когда сплю. И то не всегда.– Ну как там? – спросил друг, щурясь в камеру. – Работаю. Семь дней в неделю. – Ну ты и псих. – Долг сам себя не отдаст. – Ты хотя бы отдыхаешь?
– Главное, брат, не забывай, что жизнь – это не только долги.Они помолчали. Леха посмотрел в камеру и сказал:
Михаил не ответил. Но слова застряли в голове.
А на счету появились первые накопления.Два года пролетели, как в тумане. Каждый день – одинаковый: стройка, еда на бегу, сон. Но долг был закрыт.
Однажды он сел вечером на скамейку в парке Мадрида. Легкий ветер, запах апельсинов, смех людей. И вдруг – тишина в сердце. Тяжесть, которую он носил все эти годы, чуть-чуть отпустила.
Может, пора думать о семье? – мелькнула мысль.
И через пару недель увидел ее.Он достал телефон, зарегистрировался на международном сайте знакомств. Сначала без веры, просто ради интереса.
Марию.
Большие, карие, теплые. На фотографии девушка смеялась, закидывая голову назад, а на фоне было море. Подпись: Maria. Indonesia.Он листал анкеты машинально. Улыбки, фотографии на фоне котов, детей, автомобилей. Все одинаковое. И вдруг – глаза.
Михаил нажал «написать».
– In Singkawang, Borneo. My hometown. And thank you :)– Hello. Beautiful photo. Where is it? Ответ пришел через два часа:
Мария писала о своей семье: родители держат маленькую лавку, у нее есть сестра, они вместе помогают матери. Любит бегать на рассвете,и обожает готовить рыбу на углях.Они начали с простого: где живут, чем занимаются. Постепенно сообщения становились длиннее.
– Да. В России и теперь в Испании. Но это только работа. А жить – я все еще учусь.– А ты? – спросила она однажды. – Я строю дороги. – Roads?
Она прислала смайлик с подмигиванием.
– You Russian, but funny. I understand.Иногда язык мешал: Михаил путал времена, писал с ошибками. Но Мария смеялась мягко:
Каждый вечер он ждал ее сообщений. но чем дальше шла переписка, тем отчетливее упирались в одно слово: расстояние- больше 12 000 километров.
– I want. But I need legal work there. Without it I cannot stay.– Why not visit Indonesia? – написала Мария.
Ответ был один и тот же: «Иностранцам нельзя работать без специальных разрешений; вакансия для граждан Индонезии».Михаил начал рассылать резюме по всей стране: Джакарта, Сурабая, Бали, даже маленькие турфирмы и девелоперы, выставил новое резюме на всех доступных ему порталах.
И вдруг – письмо-Китайская корпорация предлагала контракт руководителя строительного участка в Папуа–Новой Гвинее – высокая зарплата и , проживание за счет компании. Это не Индонезия, но в одном участке мира, в нескольких перелетах от Джакарты. Быть гораздо ближе к Марии, чем из Европы, и легально зарабатывать в валюте.
А что я теряю? – подумал он. – Если с Марией не получится, останется опыт и деньги. Если получится – я уже на краю ее мира.
Он выбрал билет с пересадкой в Джакарте на два дня, и Мария прилетела к нему на свидание. При встрече он волновался, как ребенок перед походом к стоматологу – сердце стучало где-то в горле, ладони липли, мысли скакали.
Она стояла в зале прибытия – легкое голубое платье, волосы собраны в пучок, глаза теплые, как утро на берегу. В руках – бумажный стаканчик с остывшим кофе. Увидев Михаила, Мария рассмеялась – легко, звонко, как будто в этот момент все тревожное растворилось в воздухе.
– Ни за что, – улыбнулся он. – Просто боялся, что не поверишь, если я все-таки приеду.– Ну наконец, – сказала она, – я уж думала, ты сбежал.
Они вышли из аэропорта. Джакарта шумела, жила, дышала горячим воздухом и запахом бензина. Улицы кипели – мотоциклы проносились, словно искры, торговцы кричали. Такси медленно пробиралось через поток, а за окнами мелькали вывески, мечети, красные фонари и уличные кафе.
Вечером они сидели на набережной, ели креветки с острым соусом и смотрели, как солнце опускается в мутно-золотое море. Мария рассказывала о своем городе, Михаил – о России и холоде, от которого хотелось сбежать навсегда. Они смеялись, перебивая друг друга, словно боялись упустить время.
– Кажется, она у меня уже есть, – ответил он тихо.Когда стемнело, Мария достала из сумочки тонкий браслет из белых бусин и надела ему на руку. – На удачу, – сказала она.
И он понял, что это свидание не случайно. Что, возможно, где-то там, за облаками, судьба улыбнулась им обоим.Она посмотрела на него – и в ее взгляде было что-то такое, чего Михаил не видел уже много лет: чистое, простое человеческое тепло.
Утро в Джакарте начиналось с медленного дыхания города – и звуками молитвы. Сквозь сероватое небо пробивался первый свет, отражаясь в лужах и стеклах такси. Михаил и Мария шли рядом к терминалу, молча, словно не желая спугнуть последние минуты вместе.
– Да. Там меня уже ждут. – Он улыбнулся коротко, но взгляд его оставался серьезным.– Как быстро пролетело время – констатировала она, не поднимая глаз.
– На время, – мягко сказал Михаил. – Я поеду, встану на ноги, немного заработаю – и либо сам прилечу к тебе, либо куплю билеты, чтобы ты приехала.Мария остановилась, посмотрела на него – в ее лице не было ни упрека, ни страха. Только тихая печаль человека, который умеет принимать. – Значит, опять разлука.
– Я верю тебе, – ответила она. – И если не будет писем – все равно буду знать, что ты помнишь.Она улыбнулась – та, редкая, настоящая улыбка, от которой у него сжималось горло.
Мария развязала ленту и увидела внутри тонкую брошь из перламутра, в форме маленького цветка – Я купил ее еще в Испании, – сказал Михаил. – Просто не знал, как подарить. А потом понял, смущаясь добавил он.Он достал из внутреннего кармана маленький бархатный мешочек. – Это тебе.
– Не "кто-то", – сказал он. – Я.Она провела пальцем по гладкой поверхности, и глаза ее наполнились блеском. – Спасибо. Пусть она напомнит мне, что кто-то там, за горами, думает обо мне.
– Все будет хорошо, Мария. Я не исчезну. Просто сейчас – начало.Они стояли посреди людского потока, и время будто остановилось. Когда объявили посадку, он взял ее за руки, задержал взгляд – не как перед расставанием, а как перед обещанием.
Она кивнула. Без слов. Просто верила.
Когда Михаил шел к выходу, Мария все еще стояла, держа брошь на ладони. Солнце пробивалось сквозь стеклянную крышу аэропорта, играло бликами на металле, и казалось, что внутри цветка зажглось крошечное пламя.
А где-то в небе между Джакартой и Папуа он понял: впервые за долгое время он действительно не один.
Первые дни в Папуа–Новой Гвинее были как удар влажным жаром: воздух густой, зелень почти черная от плотности листьев, ночи – с криками птиц и гулом насекомых, будто вокруг работали тысячи маленьких моторов.
Местные смотрели настороженно: почти нагие тела, мачете в руках – не жест угрозы, а продолжение быта. Но чужаков здесь мерили тихо и долго, как взвешивают камень в ладони. Лагерь поставили в стороне от деревни: палатки, генератор, контейнер с инструментом. Они строили дорогу сквозь джунгли – тонкую, хрупкую нитку, призванную соединить разрозненные поселки с остальным миром.
– Не показывай пальцем. Не смотри пристально на женщин. Приветствуй старших. И помни: здесь мир держится не только на законах, но и на духах, – вполголоса объяснял переводчик, шагая рядом.
Для цивилизованного человека это казалось дикостью, абсурдом, но для них – естественным порядком мира.Для Михаила всё происходящее выглядело как путешествие во времени. XXI век, смартфоны, спутники – и вдруг здесь, в глубине Папуа, люди по-прежнему живут так, будто не знают ни электричества, ни государства. Их законы – табу и страх, их суд – совет старейшин у костра.
В стране до сих пор действовали нормы о «колдовстве», и в связке с суровой практикой правоприменения и древними обычаями за «черную магию» могли приговаривать к самой жесткой мере – казни. Для чужака это звучало как легенда, но здесь легенды иногда становились протоколами и приговорами.
На третьей неделе до него дошла весть, от которой по спине побежали мурашки.
Однажды на закате, когда свет уже гас над рекой, в лагерь почти бесшумно вошли семь коренастых, полуголых мужчин. В руках у них блеснули мачете, а на лицах застыло что-то темное, зловещее. Тишина мгновенно опустилась на лагерь – даже птицы будто стихли. Главный, с татуировками на груди и шрамом через щеку, что-то коротко сказал переводчику. Тот побледнел, глаза его метнулись к Михаилу.
– Здесь все серьезно, – тихо произнес он. – Когда кто-то умирает, община ищет причину. И порой – виновного.
– Ты шутишь? – выдохнул Михаил. – XXI век же.
– Они считают, что это ты принес зло. Хотят казни.Переводчик отвел взгляд.
В соседней деревне за один день умерли двое – болезнь, несчастный случай, никто не знал. И теперь эти мужчины стояли у костра, сжимая мачете, решая судьбу чужака.
И вдруг – мысль, не из учебников, а из инстинкта.У Михаила зазвенел воздух в ушах. Все произошло быстрой замедленностью: лица, лезвия, тени костров.
– Скажи им, – ровно произнес он, – что если они отрубят мне голову, я заберу их души с собой. Они ошибаются – и будут отвечать перед своими духами.
Старший опустил взгляд. Мачете медленно ушли вниз. Люди растворились в темноте.Тишина. Перевод. Переглядывания. Секунда, две, десять.
Он сел на землю и впервые за долгое время позволил себе дрожать.
Он был почти рядом с ней, и это давало силы.Через три месяца лагерь перенесли ближе к цивилизации: генераторы стабильно шумели, лавка продавала рис, фрукты и немыслимо острый перец. По вечерам, открывая чат с Марией, он думал: если бы не эта безумная фраза – меня бы уже не было.
Михаил встретил Марию в жарком прибрежном городке, где воздух пах морской солью и папайей. Они гуляли вдоль кораллового пляжа, ступая босиком по песку, шептавшему под ногами, словно помнившему древние времена. Михаил учил ее плавать – осторожно, будто держал в ладонях само доверие. Она смеялась, брызгала в него водой, и страх уходил, растворяясь в океане вместе с волнами.Прошло полгода, прежде чем они снова увиделись – на этот раз в Папуа.
Никаких признаний не требовалось – все было ясно без слов. Они понимали: дальше – только вместе. Михаил покупал ей билеты всякий раз, когда удавалось выкроить время между экспедициями, и каждая их встреча становилась отдельной вселенной, где не существовало ни расстояний, ни часов.
Они говорили о будущем – не строили планов, а будто писали его дыханием. Радовались каждой минуте, как последней, и каждой – как первой.
Контракт в Папуа–Новой Гвинее закончился. Михаил собрал чемодан и впервые за долгое время почувствовал легкость: он выжил, накопил деньги, и теперь мог позволить себе то, ради чего терпел все эти два года.
– I miss you. Come to my home, – написала Мария.
Не Джакарта, не мегаполис, а маленький город Сингкаванг на западном Калимантане. О нем Михаил почти ничего не знал, только что там живет ее большая семья. Он купил билет, и сердце билось так, словно это был прыжок в пропасть.
Сингкаванг встретил его влажным воздухом, запахом пряностей и, голосами уличных торговцев и разноцветными фонарями, развешанными вдоль дорог. Михаил сразу понял – это совсем не Европа. Здесь другие ритмы, другая энергия. И он был единственным белым во всем городе. Люди оборачивались, улыбались, здоровались, иногда дети тянулись дотронуться до руки – как будто проверяли, настоящий ли он.
Но самое главное – семья Марии. Они приняли его так, словно он был давно потерянным родственником.
– Selamat datang. Добро пожаловать. – Мама Марии надела на него цветочную гирлянду.
Отец хлопнул по плечу, как будто Михаил был его сыном. А братья и сестры Марии смеялись, помогали тащить чемодан, засыпали вопросами: откуда он, что любит есть, холодно ли в его стране.
– Ты привыкнешь. Здесь еда горячая, как жизнь.На длинном деревянном столе стояли блюда: жареная рыба, рис с пряностями, острые соусы, свежие манго. Михаил ел осторожно, но все оказалось вкусным, а Мария только смеялась:
И в тот вечер, сидя среди шумной семьи, Михаил вдруг понял: он не чужой. Он впервые за много лет почувствовал, что находится дома.
– Здесь все знают друг друга. Здесь важно не то, сколько у тебя денег, а какой ты человек.Позднее, когда все уже разошлись по комнатам, они вышли на улицу. Небо было черное, густое, как бархат, и над ним рассыпались тысячи звезд. – Ну и как тебе мой город? – спросила Мария. – Я… будто попал в другой мир. И он мне нравится.
– Тогда я хочу стать частью этого мира.Михаил посмотрел на нее и улыбнулся:
И впервые он подумал, что все годы страха и лишений были нужны, чтобы привести его сюда, к этой девушке, в этот маленький город, где он – единственный белый, но не чувствует себя чужим.
Прошло несколько месяцев , Михаил все больше привязывался к этому городу: шумные улицы, где пахло лапшой и сладким чаем; старые храмы с драконами на крышах; рынок, где можно купить все – от сушеной рыбы до красочных тканей. И, конечно, Мария.
Сингкаванг встретил утро, как встречают праздники – мягко и торжественно. Над крышами домов, увенчанных резными орнаментами, поднимался дым от ароматных благовоний. Соседи с самого рассвета украшали двор Марии: развешивали ткани золотистого и зеленого цветов, вплетали в гирлянды свежие цветы жасмина и кананги. Из дома доносился запах риса, приготовленного на кокосовом молоке, и тихий говор женских голосов.
Она – дочь Сингкаванга, мягкая, как утро после дождя, с глазами, в которых отражался океан.Сегодня был их день – день, когда Мария и Михаил соединяли свои судьбы. Он – русский, седой от солнца и дорог, человек, прошедший полмира.
За день до церемонии состоялся malam berinai – вечер благословений, когда руки невесты украшали красным узором из хны. Это был символ очищения и женской силы. Мария сидела на низкой подушке, скромно опустив глаза, а вокруг нее подруги пели старинные песни. Михаил присутствовал лишь в соседней комнате, почтительно наблюдая. Для него все это было новым, но в этой строгости и красоте он чувствовал особую гармонию.В доме Марии, как и заведено у малайцев Самбаса, всё происходило по традиции.
Рядом стояли серебряные чаши с водой и лепестками, зеркало, расческа, благовония и свечи – всё, что должно сопровождать переход пары в новый мир.В день свадьбы, еще до полудня, гостей начали встречать у ворот. Мужчины в саронгах и батиках, женщины – в ярких кабая, усыпанных вышивкой. Перед входом стояли два стула, покрытые белыми тканями, на которых потом посадят жениха и невесту. На столе лежали подносы с яйцами, украшенными цветами – символами зарождения новой жизни.
Мария вышла из комнаты медленно, под звуки традиционного пения – zapin melayu. На ней было платье глубокого золотого цвета, расшитое бисером и нитью, а на голове – легкий платок с тонкой вышивкой. Михаил ждал её у стульев, одетый в малайскую рубаху baju melayu и чёрный головной убор songkok.
Затем начался обряд умывания – “mencuci kaki dan tangan”. Старая женщина, хранительница семейных традиций, окропила их руки водой с цветами, произнося молитвы о чистоте сердца и долголетии союза.Когда они сели рядом, старейшина произнес слова благословения.
– Пусть, как это яйцо, ваш союз будет целостным и полным жизни, – сказал он.После этого старейшина взял одно из украшенных яиц и аккуратно коснулся им ладоней жениха и невесты.
Мария чуть улыбнулась, а Михаил кивнул, стараясь уловить смысл слов. Он не понимал языка, но чувствовал все сердцем.
– Теперь это не просто память, – сказал он тихо. – Это знак, что я нашел дом.Затем наступил момент обмена дарами – “balas-balas hadiah”. Мария подала ему шелковый платок, а Михаил достал из кармана маленькую бархатную коробочку и открыл ее. Внутри лежала та самая перламутровая брошь, что он когда-то подарил ей в Джакарте.
Толпа замерла, а потом раздались аплодисменты и радостные возгласы.
После церемонии начался пир – kenduri pernikahan. Во дворе стояли длинные столы, уставленные блюдами: ароматный рис nasi minyak, острые креветки в соусе чили, тушёная рыба, курица с пряностями и сладкие десерты из рисовой муки и кокоса. Дети бегали между гостями, а старшие мужчины сидели в тени, обсуждая удачу жениха, которому судьба подарила дочь Сингкаванга.
– Привыкай, теперь ты один из нас, – сказала она.Михаил пытался пробовать всё, но острое жгло нёбо. Мария смеялась и подливала ему сладкий чай, чтобы снять жар.
– Сегодня не просто свадьба. Это встреча двух миров, двух рек, что слились в одно течение. Пусть ваш путь будет долгим, и пусть Древо жизни помнит ваши имена.Когда солнце клонилось к закату, зажглись фонари. Женщины танцевали tari zapin, а старейшина снова поднялся и сказал:
– У нас говорят: когда любовь приходит с океана – ее уже не остановить.
Позже, когда гости разошлись, Михаил и Мария остались вдвоем во дворе. В небе горели звезды, цикады заполняли тишину, а издалека доносился запах ладана. Михаил взял ее за руку и сказал: – Я не думал, что человек может быть таким счастливым.
Они стояли под звездным небом, среди цветов и фонарей, а вокруг них шелестели листья мангового дерева – словно сама природа благословила этот союз.
Потом появился и сын, Антошка. И Михаил, уже свободно говорящий на индонезийском, смеялся, когда дети поправляли его акцент.Скоро у них родилась девочка. Михаил, впервые держа на руках маленькую Веронику, не мог сдержать слез. Все, что было раньше – долги, банкротство, развод, Папуа, страх – вдруг потеряло значение.
Они построили дом в Сингкаванге— просторный, с садом, где росли манго и джерук. Вечерами семья собиралась на террасе, и Михаил слушал, как где-то вдалеке поют цикады и доносится шум моря.
Он вспоминал холодный Сибирский октябрь, серое небо, разбитые мечты и безысходность. И сравнивал это с настоящим: тропической ночью, женой, детьми и домом, полным смеха.
И если хватает мужества переждать бурю, однажды можно расцвести там, где даже не мечтал оказаться.Тогда он понял: иногда жизнь рушит нас не для того, чтобы уничтожить, а для того, чтобы пересадить – как дерево в новую почву.
Магия острова Гили
Океан был гладким, как зеркало, только иногда его рассекали белые гребни волн. Лодка, на которой плыли Макс и Катя, казалась бумажной игрушкой на фоне этой бесконечной воды. С берега уже доносился звонкий лай собак и крики детей, а в воздухе пахло солью и жареной рыбой.
Гили встретил их неторопливостью. Здесь не было машин – только велосипеды и повозки с лошадьми, звон колокольчиков на шеях которых вплетался в музыку прибоя. Дороги – песчаные, дома – маленькие, утопающие в зелени. На горизонте величественно возвышался вулкан Агунг, иногда прячась за облаками.
Их вилла оказалась скромной, но уютной: бамбуковая мебель, белый песок в саду, гамак, качающийся на ветру. Всего пятьсот метров до океана – и шум волн ночью казался дыханием самого острова.
– Здесь как в раю, – сказала Катя, забравшись в гамак.
– Слишком хорошо, чтобы быть правдой, – усмехнулся Макс, и слова его повисли в воздухе, словно предвестие.
Днем они ездили на велосипедах вокруг острова: пальмовые рощи, песчаные тропинки, запах влажной земли. Туристы валялись в гамаках у кафе, украшенных ракушками, которые звенели на ветру как хрупкие колокольчики.
Вечером жизнь перемещалась к океану.
На пляже зажигали фонарики, на песке ставили пуфы, а между двумя пальмами натягивали экран – кинотеатр под открытым небом. Люди смотрели фильмы, запивая их свежими соками и коктейлями, а фон для каждой сцены создавали шум прибоя и запах соли.
Катя записала в дневник: «Здесь время растворяется, и кажется, что мир создан только для того, чтобы мы жили без тревог».
Эта ночь была особенно теплой. Они сидели на террасе, слушали, как стрекочут цикады, и делились планами. Макс мечтал завтра пойти на снорклинг, Катя – купить еще одну пачку местных украшений из ракушек.
– Давай всегда будем возвращаться сюда, – сказала она.
– Или никогда отсюда не уезжать, – ответил он.
Они заснули под шелест листвы и далекий шум океана, не подозревая, что утро принесет страннейший опыт их жизни.
Катя проснулась от криков петухов. Она выглянула на улицу – и застыла. Виллы не было.
На ее месте – пустой песчаный берег, кусты и хаотично разбросанные их рюкзаки.
– Макс! – закричала она.
Он выбежал следом, глаза его округлились:
– Что за черт?..
Они бродили по округе, звали хозяев, заглядывали в соседние дворы – но все исчезло. Ни дома, ни сада, ни гамака. Только горячий песок и пустота.
– Может, нас обокрали? – прошептал Макс.
– Вместе с домом?! – голос Кати дрожал.
Они сидели на рюкзаках, смотрели на океан и чувствовали, как страх завладевает каждым вдохом.
Весь день они бродили по острову. Каждый шаг казался неверным.
Казалось, что люди смотрят на них странно, будто что-то знают, но молчат.
– Видела? – шепнула Катя. – Женщина в кафе сказала «еще одни».
– О чем она? – нахмурился Макс.
Они спрашивали дорогу, показывали фотографии виллы, но получали лишь уклончивые ответы. Словно никто не хотел говорить.
Ночью они не решились возвращаться к тому месту. Заснули прямо на пляже, под шум волн и тысячи звезд.
Утром к ним подошел хозяин ближайшего кафе. Мужчина с седыми волосами и мягкой улыбкой.
– Вы испугались? – спросил он.
– Где наш дом? – почти закричала Катя.
– Ваш дом стоит на месте, – спокойно ответил он. – Просто вы его не видели.
Он объяснил: вечером они ели грибы. Традиционное угощение, которое продают туристам на Гили под видом «магии острова». Галлюцинации бывают такими реальными, что исчезают целые дома, а океан шепчет чужими голосами.
Макс и Катя переглянулись. Все внутри оборвалось – от стыда, от облегчения, от осознания того, как близко они были к безумию.
Они вернулись на место. Вилла стояла. Гамак качался на ветру, дверь была приоткрыта, на столике валялись их вещи.
Катя тихо сказала:
– Все было здесь. Только не в нашей голове.
Макс вздохнул и, впервые за два дня, рассмеялся.
– Пожалуй, кино под пальмами лучше, чем такие фильмы.
Огонь под водой
Когда земля еще не знала своих очертаний, остров Бали лежал плечом к плечу с Явой, как два близнеца, соединившие дыхание в одном сне. Меж ними текла только река, над которой летали птицы с красными крыльями. В те времена магия была повседневностью: деревья говорили, а ветер мог менять судьбу.
На южном склоне будущей горы Агунг жил брахман по имени Сидхи Мантра – человек, чья молитва могла заставить дождь остановиться. Люди приходили к нему за защитой, а он учил их слушать дыхание земли. В его доме хранились древние свитки – тонкие пальмовые листья, на которых огнем выжигались мантры.
У Сидхи Мантры был сын, Маник Ангкеран, юноша смелый и красивый, но с горячей кровью. Он любил блеск золота, музыку и азарт. Часто по ночам он тайно пробирался в деревню играть в кости с купцами, ставя на кон все, что имел.Однажды удача отвернулась.
– Великий Наг, мне нужна твоя сила.Чтобы вернуть проигранное, Маник решился на отчаянное – обратился к дракону-хранителю Наге Басуки, что жил в огненных недрах Агунга. Он спустился по каменным ступеням к источнику и позвал:
– Ты сын того, кто хранит законы огня. Что принесешь взамен?Из глубины поднялся жар, и земля дрогнула. Голос прозвучал, как раскат молнии:
– Клятву, – ответил Маник. – Я отдам все, если смогу спасти честь семьи.
– Возьми столько, сколько сможешь унести, – сказал Наг, – и больше не возвращайся.Дракон выдохнул облако пара. На камне перед Маником лежало золото, сверкающее как расплавленная лава.
Но когда юноша поднял сокровище, в нем проснулся голод. Он захотел большего – и протянул руку к самому сердцу пещеры. В тот миг вспыхнул огонь, такой яркий, что не осталось ни крика, ни тени.
Сидхи Мантра почувствовал утрату и пошел на гору. Слезы его падали на лаву и превращались в камни. Он молился сутками, пока Наг не смилостивился:
– Возьми сына обратно.Твоя любовь сильнее огня. Но плата должна быть: между вами и нами проляжет граница.
Брахман провел посохом по земле, и под ногами разверзлась трещина. Огонь запел, и вода поднялась из глубины. Так появилась проливная нить между Явой и Бали, а Маник Ангкеран остался на западной стороне, вечно служить дракону.
С тех пор люди говорят: между огнем и водой – граница, но сердце одно.
Прошли века. На Бали выросли города и поля, но память о драконе не исчезла. Люди приносили подношения в пещеры и источники, где слышался гул подземного дыхания. Так родилась вера в Дэви Дану – богиню воды, сестру огня. Ее храмы поднимались у озер и рек, а каждое утро женщины клали к ее ногам корзины с цветами и рисом.
Среди тех, кто берег древние обряды, жили люди Бали Ага – горные племена в деревнях Тенганан, Труньян, Сембируан. Их дома стояли лицом к востоку, улицы шли строго по оси солнца. Они говорили на языке, старше санскрита, и верили, что дух предков живет в каждом камне.
Утром мужчины поднимались к священному дереву, привязывали к ветвям полоски ткани – просьбы, которые не нуждаются в словах. Женщины ткали ткань Gringsing, окрашенную двойным ikat, чтобы узор защищал от зла. На празднике Usaba Sambah танцующие юноши бросали копья в землю – знак, что жизнь, как ствол баньяна, уходит вглубь, но не ломается.
Когда спрашивали: «Откуда пришли ваши предки?»
Старейшины отвечали: —« Мы не пришли. Мы – часть горы.»
В один сезон засухи люди забыли принести богине воду. Реки обмелели, рис не взошел, и на Агунге снова загремел гром. Тогда старик из Тенганана спустился к озеру и позвал Дэви Дану. Из воды поднялась женщина в венке из лотосов. Ее глаза были цвета глубины.
– Вы перестали слушать, – сказала она. – Вы берете, но не делитесь. Вода – дыхание, ее нельзя держать.
Старик упал на колени, и на следующий день над полями прошел дождь. С тех пор люди завели правило: каждая деревня должна открывать заслонку канала только на толщину пальца. Так родился субак – священный союз воды и человека.
Жрецы собрались у храма и зажгли лампы из кокосовых орехов. Огонь отражался в воде, и пламя дрожало, словно разговаривало с озером.Но легенда не кончилась. Однажды ночью, когда над Агунгом сияла полная луна, земля вновь дрогнула. Люди думали – начнется извержение, но гора только дышала, как существо, которое просыпается после долгого сна.
Они смотрели друг на друга – вода и огонь, брат и сестра, два дыхания мира.Из глубины поднялась Дэви Дану, в венке из свежих лилий. А из кратера показался Наг Басуки – его тело сияло как расплавленный металл.
– А когда научился строить, – ответил Наг, – стал забывать, кому принадлежит сила.– Когда человек научился молиться, – сказала богиня, – он стал просить слишком много.
Его камни помнят жар недр и прохладу источников, а в алтаре всегда лежат два подношения – рис и зола, чтобы напоминать: все, что живет, рождается из огня под водой.Они коснулись друг друга, и из этого прикосновения родился пар, густой, как облако. В нем сплетались звуки воды и пламени, и оттуда возник первый храм – Пура Бесаких, стоящий до сих пор на склонах Агунга.
Перед смертью он сказал ученикам: – Я видел, как человек может разделить континенты, но не должен разделять сердце. Между нами и богами – не стена, а дыхание. Слушайте его.
Сидхи Мантра умер в глубокой старости.
Легенда гласит, что когда его тело сожгли, пламя поднялось прямо вверх, не касаясь ветвей деревьев. А утром на пепле выросли цветы, которых никто прежде не видел – лепестки были золотыми, а в центре мерцала прозрачная капля, похожая на слезу.
Они растут там, где земля когда-то горела, и их запах напоминает дым и дождь одновременно.С тех пор балийцы называют их сари апи – огненные цветы.
Женщины кладут на плетеные листья рис, цветы и каплю масла, и дым от ладана поднимается к небу, как память о первой встрече между драконом и богиней.Прошли тысячелетия. Бали менялся – приходили новые веры, новые языки, но в каждом доме по утрам все так же загорается маленький огонь и ставится подношение воды.
Когда над горами начинается туман, старики шепчут детям:
– Это Наг Басуки снова обнимает Дэви Дану. Они спорят о нас – о людях, которые забывают благодарить.
И остров вспоминает, как впервые получил имя – Бали, земля дара и равновесия.И каждый раз, когда дождь возвращается после засухи, говорят, что это не просто дождь. Это слезы Сидхи Мантры, упавшие на землю, где когда-то пролегла граница между огнем и водой.
Летопись под солнцем
Когда самолет коснулся взлетной полосы, Рада почувствовала, будто под крылом дрогнула сама земля. Воздух Бали был тяжелым, пропитанным солью, и чем то непривычно знакомым. Все казалось густым и близким – даже небо, как будто наклонилось рассмотреть прибывших. Она вышла на раскаленный бетон и впервые за долгое время почувствовала странное – не ожидание, а узнавание, как будто уже была здесь раньше, во сне или в другой жизни.
Эта надпись, известная как Prasasti Blanjong, стала ее целью, оправданием командировки, но глубже – чем-то вроде личного долга.Она прилетела не за отпуском. В ее багаже не было купальников и пляжных платьев – только блокноты, книги и копии древних надписей. Рада была историком языков, и последние месяцы ее работа вращалась вокруг одной загадки: где и когда появилось имя «Бали». Все источники вели к одному месту – маленькому храму в Сануре, где на каменном монолите почти тысячу лет назад вырезали надпись на двух языках – древнеяванском и санскрите. На ней впервые упоминалась земля под именем Bali Dwipa – «остров подношения».
Может, из-за того, что последние годы она жила в хаосе чужих текстов и комментариев, и теперь хотела увидеть первоисточник не на экране, а под рукой, под солнцем.Она не знала, почему ее так тянет туда.
У выхода из аэропорта ее ждал мужчина лет шестидесяти – в белой рубашке и черных сандалиях. Он держал табличку с ее именем и смотрел не прямо, а чуть мимо – так, как смотрят люди, привыкшие наблюдать тени, а не лица.
– Доктор Рада? – уточнил он с мягкой улыбкой. – Да, – кивнула она.
– Меня зовут Пак Агус. Я помогу вам увидеть то, что нельзя просто показать.
Она не сразу поняла, шутит ли он. Но уже через полчаса, когда старый минивэн свернул с трассы и погрузился в зелень деревьев, стало ясно – он говорит буквально.
Пак Агус приложил ладонь к груди, поклонился, и они вошли.Храм Пура Бланджонг стоял в тихом дворе, где пахло мокрым песком и цветами франжипани. Не было ни туристов, ни продавцов сувениров – только старик-хранитель, который спал на циновке у ворот.
Буквы, вырезанные на камне тысячу лет назад, казались живыми. Они светились влажным отблеском и, когда на них падал солнечный луч, будто двигались.В центре двора возвышался камень-столб, обвитый бело-золотой тканью. На его поверхности, потемневшей от времени, Рада увидела ряды мелких резных знаков. Она знала эти строки по научным статьям: в них говорилось о царе Шри Кесари Вармадеве, правителе IX века, который утвердил власть над южной частью острова и впервые упомянул Бали как отдельную землю. Но видеть их вживую было совсем иным опытом.
– На Бали все говорит, – ответил он. – Но не всегда на языке слов.– Эти знаки, – сказал Пак Агус, – оставил человек, который хотел не просто заявить власть. Он закрепил память. – Они как дыхание, – шепнула Рада. – Камень говорит.
Она заметила трещину у основания столба, аккуратно залитую раствором. Хранитель храма рассказывал, что ее заделали после землетрясения в 1970-х. И в этом – простая истина: даже камень здесь требует ухода.
– Вы искали первое слово, – произнес Пак Агус. – Оно не только в этой надписи. Оно – в том, что мы делаем с ней потом.
– Вы видите эти поля? Это не просто рис. Это живой договор. Мы называем его Subak. Люди здесь делят воду не по силе, а по очереди. Это старая система, старше большинства наших храмов.На следующее утро они выехали на север, к Убуду. Машина скользила среди террас, где вода стояла зеркалами, отражая облака. Воздух был густой, но холоднее, чем у моря. Пак Агус сказал:
– У каждого участка – свой голос, – говорил он. – Вода проходит, как дыхание через тело. Если один держит слишком долго – другой задыхается. Поэтому у нас есть правило: открывать заслонку на толщину пальца. Не больше. Не меньше. Так живет мир.Рада слушала, как он объясняет простыми словами то, что в научных статьях называли «интегрированной ирригационной философией». Но в его устах это звучало как поэзия.
Рада записала в блокнот: «Мера – как форма молитвы».Они остановились у канала. Старик в белом саронге поднял деревянную задвижку, и тонкая струя побежала дальше – к нижним террасам.
В каждом дворе горел маленький дымок ладана – запах был сладким и горьким одновременно, как воспоминание о чем-то утраченно-светлом.Путь вел все выше. Дорога к горе Агунг шла через деревни, где женщины сидели у порогов и плели подношения из кокосовых листьев.
– Наши старейшины говорят: когда Агунг спокоен – люди в ладу. Когда сердится – значит, баланс нарушен.– Агунг – не просто гора, – сказал Пак Агус. – Это ось. Сердце острова. Она соединяет небо и землю. Он помолчал и добавил:
Рада остановилась, чувствуя, как внутри все замолкает.Они поднимались к храму Бесаких, где каменные ворота раскрывались в небо, как страницы древней книги. По обе стороны ступеней стояли фигуры богов с тканями на талиях – черно-белая клетка символизировала дуальность, свет и тень. На площадке перед главным святилищем монахи раскладывали подношения: рис, цветы, фрукты, ароматные палочки.
– Сюда приносят все, что хотят удержать. А потом отпускают. Вот почему храмы всегда открыты ветру. Здесь нет стены между человеком и миром.Пак Агус говорил тихо.
Рада подумала, что на ее родине люди строят стены, чтобы защититься. Здесь – чтобы ветер мог войти.
Дальше дорога вела к северо-востоку, к старой долине, где под нависающим холмом скрывался бронзовый барабан, которому более двух тысяч лет. Его называли Луна Педженга. Он висел под крышей небольшого святилища, чуть потемневший от времени, и казался живым телом, дышащим низким звуком, даже когда вокруг стояла тишина.
– Его сделали в те времена, когда бронза считалась голосом богов, – сказал Пак Агус. – Мы не знаем, кто отлил его. Но он был отлит из одного куска – без швов. Никто больше не смог повторить. Рада подошла ближе. На поверхности барабана спиралью шли рельефные круги – будто следы дождя на песке. – Почему «луна»? – спросила она.
– Потому что светится ночью, – улыбнулся Пак Агус. – Иногда, когда горит ладан, кажется, будто в темноте всплывает лицо. Старики говорят, что это дух времени, который хранит память о первых людях Бали.
Рада положила ладонь на металл. Он был прохладным и гладким. На миг ей показалось, что из глубины поднимается едва слышная вибрация, как от далекого пения.
Позже они поехали в Клунгкунг, где на площади стоял старый павильон Керта Госса. Его потолок был покрыт росписями: яркие сцены воздаяния, герои, демоны, небесные птицы.Рада смотрела на древние краски и думала, что справедливость, нарисованная на потолке, выглядит честнее, чем написанная в кодексе. Пак Агус объяснил: – Здесь судили людей. Но когда поднимали глаза, видели не судей, а то, что ждет их поступки.
Женщины ткали ткань Gringsing – двойной икат, где рисунок задавался еще до ткачества. Они говорили, что ткань защищает от дурного глаза, потому что в ней нет ошибки.Вечером они прибыли в горную деревню Тенганан – одну из старейших на острове. Здесь жили потомки народа Бали Ага, сохранившие обычаи, предшествующие индуизму. Дома стояли рядами, улицы шли строго по оси восток-запад.
– Мы ткем не для украшения, – сказала старейшина. – Мы ткем время. Каждый узор – как дыхание предков. Рада спросила:– А если ошибиться?
– Тогда узор ломается, – ответила та. – И судьба тоже.Рада смотрела, как одна девушка тянет нить, другая красит ее натуральным красителем из коры, а третья медленно перебирает узор.
– Это место помнит, как рождаются острова. Под этой водой – застывший огонь. Поэтому здесь всегда горячие источники.На рассвете они спустились к озеру Батур – огромной чаше, спрятанной в кальдере древнего вулкана. Вода была темно-синей, неподвижной, и над ней висел пар, как дыхание земли.
– Сюда приходят не для омовения, – сказал Пак Агус. – Здесь прощают себя. Вода не требует слов.Они подошли к бассейнам, где в тишине поднимался пар. Женщины сидели по краям, разговаривая едва слышно. Рада опустила ладонь в воду – она была горячей, но мягкой.
Она слушала, как поднимается пар, и понимала, что камень, вода, ткань и знак на древнем столбе – все это части одного дыхания. И это дыхание – не религия, а память.
В последний вечер, уже перед вылетом, Рада сидела на террасе у моря. Вдалеке играли гамеланы – будто дождь из металла. Пак Агус принес две чашки чая, поставил одну перед ней и сказал:
– Теперь вы знаете, что значит имя нашего острова?
– Bali – значит «подношение», – ответила она. – Но, кажется, не богам, а миру.Она посмотрела на горизонт, где солнце медленно касалось воды.
– Верно. Здесь все построено на отдаче. Даже имя – подарок.
«Каждое утро остров делает подношение солнцу, и солнце отвечает тем же».Рада улыбнулась. В ее блокноте на последней странице осталась короткая фраза:
История острова была не прошлым, а действием, которое повторяется каждый день: поднять заслонку воды, зажечь ладан, сложить подношение, сказать «спасибо».Когда самолет наутро поднялся в небо, Рада смотрела вниз, на остров, который медленно уменьшался, но не исчезал. Внизу светились рисовые поля, ленты дорог, храмы, а в центре – гора, чья тень ложилась на озеро, как подпись под древним письмом. Она поняла, что нашла не происхождение имени, а смысл его продолжения. Так писалась летопись под солнцем – без чернил, без книг, без финала.
Священное Древо Бали
Сколько точно лет этому дереву – не знает никто. Местные жители лишь предполагают: его семя взошло задолго до появления первой письменности на острове.
Сегодня в мире сохранилось лишь несколько подобных великанов. О некоторых человечество знает, другие – по-прежнему скрыты глубоко в джунглях, на вершинах гор, где ветер разговаривает с духами.
Ведающие люди говорят, что такие деревья соединяют мир живых и мир мертвых, и что через них можно прикоснуться к знанию, которое хранит сама Земля. Они – живые архивы планеты. Каждое дерево знает больше, чем любой мудрец; видело все, помнит все. Между ними тянется невидимая сеть – как древний природный интернет, доступный лишь тем, кто умеет слышать тишину.
Когда-то, в доисторические времена, до Великого Катаклизма, Землю покрывали гигантские леса, где стояли исполинские деревья, корнями уходящие в глубины континентов. Но после ядерной зимы – о которой упоминают древние манускрипты – уцелело лишь несколько. Остальные люди срубили, спасаясь от холода. Те, что выжили, шаманы разных народов взяли под защиту, как последних свидетелей гармонии. Они молились у их подножий, соединяя энергию мира, чтобы вернуть Земле равновесие.
Эти деревья стали узлами силы. Через них шли молитвы, мысли и сны – мгновенно, на любую даль. Они передавали вести между континентами быстрее ветра, но только через тех, кто был способен услышать их дыхание.
Говорят, именно благодаря их корням, объединенным под землей, мир смог возродиться после тьмы. Души миллионов погибших во время всеобщей войны не нашли дороги в иной мир и застряли среди ветвей этих деревьев, передавая оставшимся советы – как выжить, как жить, как помнить.
Луиза изучала историю древних цивилизаций и по университетскому обмену приехала из далекой Аргентины на Бали – проходить практику. Для нее это был не просто остров, а живая энциклопедия культуры, верований и ритуалов, место, где прошлое не умерло, а продолжает дышать в каждом храме и камне.
Учеба подходила к концу. Все шло легко, вдохновенно, словно сама земля помогала ей. Пока однажды ночью не раздался звонок.
Позвонила соседка бабушки, и сообщила что ту увезли в госпиталь в тяжелом состоянии. Бабушка – это единственная родная душа Луизы, которая воспитывала ее с пеленок, и других родственников у нее не было, либо она о них не знала. Перелет из Бали домой составлял более 40 часов , и стоил колоссальную сумму денег. Соседка успокоила Луизу и попросила не предпринимать никаких действий, так как учеба в приоритете, и эти слова просила передать бабушка.
Луиза была послушной внучкой, она молилась за здоровье бабушки до утра, и с первыми лучами солнца едва смогла уснуть.
Весь день она ждала позитивную смс, но только на следующее утро получила сообщение
– Крепись милая, бабушка больше не с нами. Все документальные дела с госпиталем я улажу. Кремацию назначили на завтра.
Даже в наш скоростной век ни одна авиакомпания не смогла предоставить самолет, который бы успел привести ее попрощаться с бабушкой. Горе накрыло тяжелой титановой пеленой Луизу. А через неделю защита диплома. Лететь сейчас обратно и бросить учебу – бабушка бы не оценила.
На помощь пришел наставник Луизы Пак Ари.
Ты хороший прилежный студент, и я понимаю твое горе и твою невосполнимую утрату. Понимаю, что душа твоя мечется и не знает как поступить.Но послушай меня. Наши близкие когда уходят на небо, их душа еще несколько дней остается на земле, чтобы проститься с близкими и иногда оставить им послание. Если ты не против- я могу отвести тебя к Священному дереву , и ты попробуешь связаться со своей бабушкой.
А разве у меня есть на это полномочия? Я ведь не шаман.
Здесь не нужны полномочия- здесь нужно открыть свою душу и заставить разум замолчать.
Я буду вам очень благодарна Пак Ари, даже если ничего не получится – я все же попробую. Мой скепсис промолчит – обещаю.
Дорога до дерева заняла чуть больше часа. Узкая лента асфальта петляла между редких маленьких деревень, где у обочин сушился рис, а дети махали проезжающим байкам. Воздух был густой, пах бензином, а над зелёными холмами плавали тяжёлые облака.
Но любоваться этой красотой Луиза не могла – все ее мысли возвращались к тому, что она бросила свою бабушку и даже не смогла с ней проститься. Внутри стояла тишина, похожая на чувство вины, – глухая и вязкая, как тропический воздух.
Ее мозг отказывался назвать это существо просто деревом. Перед ней возвышалось нечто столь древнее и величественное, что казалось, сама земля выдохнула его из своих недр.Мыслительный поток оборвался вместе со звуком мотора, когда она наконец увидела его.
Пышная крона уходила в небо, касаясь облаков, а ствол был таким широким, что напоминал тело спящего брахиозавра – гиганта мезозойской эры, застывшего в покое среди рисовых полей. На мгновение Луизе показалось, что она стоит перед живым существом, дышащим, спящим, но чутким к каждому прикосновению ветра.
Первое ощущение – будто она попала в затерянный мир Конан Дойля. Огромная древняя махина стояла одна, как страж времени. Вокруг – тишина, в которой слышались лишь стрекот кузнечиков, шелест пальм и далёкий зов птицы. Ветер мягко касался кожи, и всё вокруг казалось нереальным – словно граница между прошлым и настоящим стерлась.
Что мне делать – неловко спросила она Пак Ари
Поклонись ему , закрой глаза , и поговори со своей бабушкой так, как будто она стоит здесь рядом с нами.
Минуты три Луиза собиралась с духом, поклонилась дереву, села у его подножья и закрыла глаза. Сколько прошло минут или часов она не смогла вспомнить. Очнулась от того, что Пак Ари легко ее взял за плечо
–Девочка, нам пора уезжать, стемнело.
Луиза встала с колен, вытерла океан соленых слез с лица, и молча последовала за учителем.
-Всю дорогу до ее дома они молчали. Да, она не сильно верила в спиритуалистику, и что обычный человек может запросто пообщаться с духом родственников, но в глубине души теплилась эта надежда, и вот она разбилась на миллион осколков, как и ее сердце.
-Возьми эти благовонья, зажги перед сном одну и помолись. И не терзай себя. А завтра я жду тебя в университете.
Луиза так и поступила, зажгла палочку, помолилась, выпила кружку ледяного зеленого чая и легла спать. Царство Марфея забрало ее к себе молниеносно.
Сон был реалистично настоящим. Луиза стояла у священного дерева, а рядом с ней ее любимая бабушка в белом платье с яркими васильками на нем.
-Ты звала меня, моя милая. Я пришла. Не горюй по мне, мой век закончился, а твой только начался.
– Но бабушка- вскрикнула Луиза
-Не перебивай меня. Слушай внимательно, – повторила бабушка. – Я пришла ненадолго. То, что ты видишь – не сон. Это память, которая открылась тебе через Древо. Оно хранит тропы между мирами.
Ветер зашевелил листья, и Луиза поняла: даже в сновидении дерево было живым – оно дышало вместе с ней. Из-под его корней поднимался свет – мягкий, золотистый, как отражение свечи на воде.
– Ты жила среди людей, которые ищут ответы в книгах, – сказала она тихо. – Но есть знания, что нельзя прочесть, их можно только почувствовать. Когда человек теряет связь с землей, он начинает терять себя.Бабушка стояла ближе. От нее пахло ванилью и теплым хлебом – тем запахом, которым всегда встречал ее детство.
– Ты хочешь сказать, что я должна остаться здесь? – спросила Луиза.
– Нет, милая моя. Остаться нужно не в месте, а в состоянии. Тот, кто находит покой внутри, несет дом с собой куда бы ни шел. Бабушка улыбнулась, и в ее глазах отразилась вся тропическая ночь.
Сквозь кроны слышался странный шелест – словно кто-то шептал тысячи голосов сразу.
– Что это? – спросила Луиза.
– Это те, кто ушел, – ответила бабушка. – Души, что задержались у дерева, пока не будет произнесено их имя с любовью. Они помогают тем, кто ищет путь.Тонкий свет вокруг становился все ярче.
Бабушка коснулась ее ладони. Кожа была теплой, как у живого человека.
– Когда я уходила, я волновалась, что ты останешься одна. Но теперь вижу – ты не одна. У тебя есть сердце, которое слышит. Береги его. Не бойся быть мягкой – мягкость – это тоже сила.
– Я виновата, что не успела к тебе. Что не простилась…
– Ты простилась. Когда плакала ночью у окна – я была рядом. И теперь мне нужно идти.Луиза опустила глаза, не в силах сдержать слезы.
– Если когда-нибудь ты снова потеряешь путь – иди к Древу. Оно знает дорогу домой…– Нет! – крикнула Луиза. – Пожалуйста, еще минуту! Но бабушка уже медленно растворялась в сиянии. Ее слова звучали все тише, как эхо.
Луиза проснулась.
Она долго лежала, пытаясь понять – это был сон или нечто большее. И вдруг заметила: на подушке лежал лепесток. Маленький, тонкий, с едва заметным голубым оттенком. Пах он не дымом, а дождем – как будто кто-то только что принес его из-под небесной кроны.Комната была наполнена запахом благовоний. Пламя свечи на столе едва трепетало.
В груди стало тихо.
Утром, когда она пришла в университет, Пак Ари сразу все понял, не задавая вопросов.
– Ты видела ее – сказал он. Луиза кивнула.
– И теперь ты знаешь, что дерево выбирает не всех. Оно отвечает только тем, кто приходит не с просьбой, а с любовью.
Луиза улыбнулась сквозь слезы. Впервые за много дней ей было спокойно.
Он протянул ей небольшой мешочек из пальмовых волокон.
– В нем земля из-под корней, храни ее. Когда уедешь домой – посади под окном любое дерево. Пусть оно будет твоим мостом.
Через две недели она защитила диплом – о доисторических верованиях Юго-Восточной Азии – и получила высший балл. Перед отъездом она снова поехала вглубь острова, к священному дереву. На этот раз – одна.
Дорога была та же, но все вокруг казалось другим: зелень ярче, воздух прозрачнее, птицы громче. Она чувствовала – ее здесь ждали.
Когда подошла ближе, ветер тронул ветви. В их шелесте она различила знакомую интонацию: не слова, но смысл – «Не бойся идти. Все, что было, не потеряно. Все, что будет, уже растет».
– Спасибо, – сказала Луиза. – За то, что научили меня слышать.Она положила к корням белый камень и лепесток, который хранила все эти дни.
Дерево тихо зашумело, словно вздохнуло. И в этот миг солнце вышло из-за туч, осветив кроны и лицо Луизы.
Она улыбнулась – и почувствовала, что где-то высоко, в ветвях, кто-то улыбается ей в ответ.
– Все, что любишь, живо.И если в безветренную ночь подойти близко, можно услышать, как дерево шепчет сквозь листву:
Сражаться до конца
Юг Бали просыпался медленно. Между Сануром и Кесиманом туман лежал низко, как пар над рисом, и долгие арыки тянулись светлыми жилами, звенели бронзовые пластины у храмов, а женщины ставили у ворот корзинки из пальмовых листьев: рис, несколько лепестков, капля масла. Море шумело ровно, будто напоминало, что жизнь любит порядок, пока его не ломают.
Маде сидел у воды и смотрел в даль. На горизонте ст
