Читать онлайн Познавая своё Отечество. Путешествия по Северо-Востоку СССР бесплатно
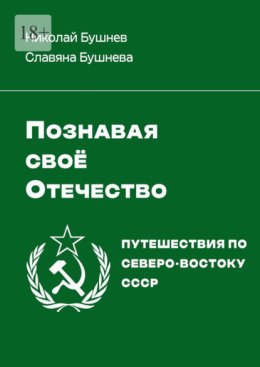
© Николай Бушнев, 2025
© Славяна Бушнева, 2025
ISBN 978-5-0065-7759-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
П О С В Я Щ А Е М…
Сопричастной к этим путешествиям
Татьяне Николаевне Бушневой —
моей жене… и моей маме…
Николай и Славяна
Предисловие
С точки зрения человека, жизнь – длинна, если он активно взаимодействует с четырьмя-пятью поколениями окружающих его людей.
А с высоты бытия человечества в целом, данная жизнь – МИГ.
В жизни, как утверждал поэт Николай Заболоцкий:
«… Два мира есть у человека:
Один, который нас ТВОРИТ,
Другой, который мы от века
ТВОРИМ по мере наших сил…»
Так вот, путешествия относятся к первому. Поэтому живите активно. Путешествуйте! Познавайте – прежде чем творить себя.
По большому счёту: человеческая жизнь – это ПУТЕШЕСТВИЕ, выпавшее на его долю. И неведомо легкое или трудное будет оно, но очень важно и желательно, чтобы оно было для человека познавательным, увлекательным и полезным.
Быстро пролетело много лет. Мне перевалило за восемьдесят. Как-то на глаза попались мои давние заметки и зарисовки, сделанные в походах и путешествиях в молодые годы. И мне захотелось окунуться в них. Я открыл папку…, и прошлогодней листвой зашелестели страницы дневников, погружая меня в воспоминания и размышления…
Лыжня в 1000 км
Начало пути
Вот и наступил долгожданный день. Позади остались многокилометровые тренировочные гонки и все волнения, и хлопоты, которых всегда в изобилии на пути от идеи до её воплощения.
Первый этап пробега, утверждённый райкомом комсомола, предстояло начинать втроём до соединения с комсомольцами из посёлков Ключи и Козыревска в сводный отряд Усть-Камчатского района.
У места старта, перед зданием Райисполкома, стоял фанерный щит с надписью:
«… Лыжня в 1000 км. Усть-Камчатск – Петропавловск. 16 января в 10 часов отсюда будет дан старт крупнейшего лыжного пробега Камчатки, посвящённого 100-летию со Дня рождения В. И. Ленина. Стартуют комсомольцы Усть-Камчатска: Николай Бушнев, Александр Волков, Виктор Солянов. Счастливого пути!»
Идею перехода мы с Виктором Соляновым изложили в Усть-Камчатском райкоме комсомола. Нас поддержали и стали организовывать как акцию областного масштаба. В начале желающих было много. Не теряя времени, мы с Виктором загодя начали тренировки. Пригрузившись рюкзаками, бегали по заснеженной тундре на 18—20 км от Усть-Камчатска, задавая себе перегрузки на выносливость.
К началу пробега от всех желающих нас осталось троё. Сотрудник районной газеты «Ленинской путь» Александр Волков, серьёзный парень. Его лицо всегда выражало озабоченность. Виктор Солянов – мой товарищ и напарник по работе – инженер Усть-Камчатского лесоперевалочного предприятия. Весной этого года он вернулся в родной свой Усть-Камчатск по окончании Ленинградской лесотехнической академии. Этот неукротим во всём: в говоре, в шутке и в силе. К тому же с хозяйской жилкой. При сборе только и слышно от него: «Идёшь на день – бери на три», «Не полопаешь – не потопаешь». С ним я в любое мероприятие.
Собрались в дорогу мы с Витькой основательно. Сухари, ватники, носки, а вместо гетр, поверх лыжных ботинок приспособили рукава от тулупов. Захватили и инструмент для походного ремонта лыж, аптечку и, конечно же, еды с запасом. Короче, рюкзаки увесистые.
Завтра утром – старт. У Райкома комсомола повяжут нам нагрудные ленты с изображением Владимира Ильича – символом юбилейного пробега – и на много дней в путь.
Н. Бушнев, В. Солянов
***
16 января 1969 года
Тянутся последние минуты. Набрасываем на плечи рюкзаки, пристёгиваем лыжи. Мною овладело волнение. Гляжу на своих спутников, но они ничем не выдают своего душевного состояния. Первый секретарь райкома комсомола Надежда Мартынова повязывает нам нагрудные ленты с изображением Ильича. Взмах флажка, и заскрипел снег под лыжами, заглушая последние напутствия товарищей. Со старта мы бодро пробежали по центральной улице посёлка и взяли курс на Нижнекамчатск в сторону белеющей гряды гор. С дальнего горного хребта уже сошёл румянец восходящего солнца. Тундровый снег в пятнах наста.
Идти по такому покрову чрезвычайно трудно – шагнёшь несколько раз и тут же проваливаешься в рыхлый ненастовый снег. Шаг-два и снова выбираешься на твердый островок наста.
Но с первыми силами мы упорно ломились по провальному снегу. Набитые рюкзаки давали о себе знать, и наш темп со временем снижался. Стали торить лыжню поочередно. А когда преодолели первые двадцать километром и стали приближаться к предгорьям вулкана Шивелуч, снег и вовсе стал рыхлым – убродным. Вот где пригодились-то наши тренировки, а Санек сдал: плетётся сзади.
Закрадывается мысль, что зря не взяли нарту, как комсомольцы сороковых, которые делали переход по этому же маршруту. На фотографии тех лет, что довелось мне видеть, запечатлены крепкие парни с винчестером и упряжкой собак, так сказать, в полном снаряжении.
– Втянемся – полегчает. Зато докажем возможность облегчённого пробега, – успокаивает Виктор.
Заброшенный посёлок Чёрный яр – некогда отделение рыбколхоза. Завалившаяся землянка у берега реки Камчатка, два ветхих домика да покосившийся жердевой забор, некогда разделявший усадьбы – всё что осталось от селения. Разводим костер у полуистлевшего рыбацкого кунгаса, торчащего из-под сугроба. Неподалеку с крутого яра свисает судёнышко с обветшалыми рублеными бортами из растрескавшихся брусьев. Над заметёнными остатками поселка этот катерок сиротливо темнеет, напоминая о минувшей деревянной эпохе Камчатского флота. Скоро и эти немые свидетели былого поглотятся рекою вместе с обрушивающимся берегом. Теперь речные катера не чета этим сорокосилкам. Новые катера Т-63 в сто пятьдесят «лошадок» ныне и плоты за 1000 кубометров уже делают. Виктор пробрался до судёнышка, похлопал по тёмным брусьям борта и заявил:
– Мне отец сказал, что портовики скоро получат трёхсотсильные буксиры, чтобы плоты больших объёмов таскать.
Я ухмыльнулся:
– Трёхсотсилки в нашей реке – смех. Смысла нет. Гидрология реки всё равно не даст увеличить объёмы плотов для сплава. Водность реки, её лимитирующие радиусы поворотов, глубины перекатов, а главное – условия ошвартовки плотов в низовьях реки, у нас на аванрейде, где действуют приливы и отливы океана.
В разговор вмешался Александр:
– Не забывайте, что река-то наша нерестовая. Вы и так, «дровосеки», её захламили, да ещё эти большие буксиры дно реки размывать станут. Воду мутить. Какое тут воспроизводство рыбы будет?
– Ну, навалились, ретрограды. Давайте-ка по кружке чая тяпнем за первую двадцатку пробега. Размялись изрядно: это не по лыжне бежать, – заметил Виктор.
Вскоре, забросив рюкзаки за спины, мы двинулись.
За Чёрным яром тундра кончалась, и нам пришлось прижиматься к лесистым холмам отрогов горного хребта.
Драгоценная старина
Войдя в холмы, поросшие причудливой каменной березой, мы направились по просеке вдоль столбов телефонной линии связи, то и дело вспугивая белых куропаток.
Телефонка рассекала березовые заросли, то скатываясь вниз, то поднимаясь по пологим холмам. Пройдя таким образом ещё около двадцати километров, мы подошли к старинному русскому селению Нижнекамчатску. Полтора десятка заброшенных домиков и остатки рубленной еще в 1827 году церкви – всё, что ныне осталось тут от бывшей «столицы» Камчатки. Занесенные снегом строения рассыпались на возвышенном берегу речки Радуги, впадающей в главную реку полуострова Камчатка. Напротив селения на другом берегу Камчатки приютилось среди гор озеро Ожабачье, великолепное своей красотой в любое время года. Соседство реки, гор и озер придает этой местности живописных вид. Пробираясь по сугробам, мы подошли к церкви, от которой сохранилась лишь часть стен и немного перекрытия. Добротно срубленные стены из окантованных крупных лиственничных брёвен почерневших от времени, которые были в глубоких трещинах. Даже такая она возвышалась над придавленными снегом развалинами домов и сараев селения, вызывая щемящую душу жалость к умирающему прошлому.
– Вот она – драгоценная старина. Эта церковь Успения Божьей матери, – блеснул познаниями журналист Волков и добавил, рассматривая стены. – Говорят, без единого гвоздя делана.
Усталость и сгущающиеся сумерки не дали нам детально обследовать церковь, и мы заспешили к жилью. Жилой дом оказался бытовкой связистов, которые неподалеку отсюда ремонтировали опоры воздушного перехода линии связи и обустроили этот дом для жилья. Чем ближе подходили мы к дому с дымящей трубой, тем сильнее чувствовалась усталость. У входа в дом парни из Усть-Камчатской рембригады кололи дрова. Хорошо нам знакомые, они весело встретили нас, засыпая вопросами и шутками.
– Здорово, Витёк! Куда это вас понесло?
– Санька, что-то у тебя очки заиндевели, однако, душновато тебе? Это не в устьях сидеть у моря, тут в долине – морозы. Сегодня уж за 20 градусов перевалило.
– Одичали вы тут, газет нет, так хоть приёмник слушать надо. Тогда и знали бы, куда мы идём, – ответил им Виктор.
Вместе с клубами морозного воздуха ввалились мы в жарко натопленное помещение: теплота, тусклый свет от движка, тарахтевшего у дома, сизоватый дым табака от курильщиков. Большой стол среди комнаты. Койки в два яруса и доброжелательность хозяев придавали особый уют. После ужина с крепким чаем силы заметно покидали нас. От рюкзаков плечи совсем онемели, руки трудно было поднять без боли. Обыденный разговор с ребятами сам собой перешел на бытность Нижнекамчатска. Я лежал на кровати, наслаждаясь горизонтальным положением, и блукал глазами по рассохшимся брёвнам стен, дощатому крашеному потолку и готов был уснуть, не принимая участия в беседах. Но тут я услышал разговор, который меня заинтересовал. Как ни лень, а я потянулся за блокнотом.
Плотный пожилой связист, сидевший рядом с Виктором, говорил ему:
– Раньше, паря, у нас в Усть-Камчатске церковь, что была при старом монастыре для увечных и пожилых казаков, слыла как самая богатая на Камчатке. Тогда она Успенской пустынью звалась. В ней было много позолоченных икон, крестов, еще со времен казаков-первопроходцев. Сказывали, что даже Иван Козыревский, когда монашил, то с Якутска сюда церковную утварь привозил. А вот эту церковь в Нижнекамчатске гораздо позже построили, но тоже богатая была. Ты знаешь, паря, мой друг, из рода священника Камчатки Лонгинова, мне сказывал, что ещё, когда уходили в плавание в Русскую Америку за пушниной, то промысловики да и купцы дорогие дары подносили этой церкви за благословение их на эти походы. Из разных городов: Иркутска, Тобольска, Москвы и даже из Киево-Печёрской лавры – сюда иконы привозили. Во как! Значимая была эта церковь, от того и богатая. А позже, как Аляску продали, всё тут стало хиреть. Народец отсюда убывал, и приход для церкви стал бедным. А уже после революции, когда монахи из Усть-Камчатской обители поняли, что старая власть уже не вернётся, они тайно наняли каюров лучших собачьих упряжек, ночью загрузили нарты драгоценной утварью и айда сюда в Нижний. Тут-то поглуше было, однако. Так вот, прикатили сюда, упряжки в церковный двор загнали, а каюров всех спиртом упоили. На утро те свои пустые нарты разобрали и в радости от хорошего их привечания, пустились обратно.
Вскоре иконы и утварь из этих церквей упаковали, и все служители церкви и монастыря покинули эту обитель. Может, с белогвардейцами на север отступили, а, может, где и прикопали ценный груз до лучших времён. Поди, разберись теперь. По приходу красноармейцев Чубарова в эти места, церковь оказалось пуста, службы в ней уже не было. Куда эти драгоценности делись, паря, до си неведомо. Однако, слышал, когда посёлок-то этот совсем захирел, то один из тех каюров переселился сюда из Устей, так и жил здесь до старости. Авось, чего и искал, кто знает, – закончил он и обратился к Виктору. – Ложись-ка ты, паря, отдыхать, вижу глаза-то посоловели.
Борясь со сном, я подумал: «Интересно… Даже сравнительно недавняя история края, а как занятна. Как бы поглубже историю Камчатки узнать и чего тут музей или заказник не устроить. Церковь-то совсем на дрова порастащат, а жаль. Камчатские Кижи для туристов устроить бы можно. Тем паче при такой вокруг природе».
По соседству Санька Волков, разморясь в теплоте бытовки, рассопелся невмочь:
«Спит, шельмец! С таким соседом и мне против сна не устоять», – мелькнула мысль, и я устроился поудобнее на провисшей панцирной сетке кровати. В голову лезли назойливые мысли о кладах, кладоискателях, но равномерное и протяжное посапывание уже и Виктора мою борьбу со сном сделало безуспешной, и я уснул.
Утром стояла солнечная и морозная погода. Я вышел из бытовки и еще под впечатлением от вечернего рассказа связиста окинул взором окрест заброшенного посёлка с прицелом, где же тут можно будет летом покопаться на удачу.
***
После плотного завтрака у ремонтников мы тронулись в путь. Тут, подальше от Тихого океана, мороз всё крепчал. Снег скрипел и повизгивал под лыжами, вскоре мы выкатились на лед реки Камчатки, где крутые лесистые сопки сжимают реку, и кроме как по льду на лыжах не пройдешь. Это место в народе называют «щёки». Тут река рассекает горный хребет Кумрач и вырывается из камчатской долины на просторы приморской тундры. В этой щели между гор часто дует ветер. И сейчас, морозный, он дул нам навстречу, обжигая лицо и забивая глаза позёмкой. Быстрой ходьбы не получилось. Часто приходилось прятаться от ветра в береговых скалах, чтобы отогреть окоченевшие колени и руки. Чуть отогреемся и пробираемся дальше. Ветер срывал остатки снега со льда и причудливыми волнами гнал его прочь. Лишенный снега, поблескивая на солнце, лёд иногда сменялся торосами – смерзшейся шугой, которую приходилось обходить.
Лыжи проскальзывали на льду, и мы буквально ползли навстречу пронизывающему ветру. И только в полдень, пройдя эту «трубу», вышли на простор и, свернув от реки к лесу, смогли развести костер. Набив котелки снегом, вскипятили столь желанный чай. Отдых добавил сил и настроения. Мы пошли легче, соблюдая ритм хода и чаще меняя ведущего. К исходу короткого зимнего дня добрались до местечка Камаки.
Здесь раньше находилось селение ительменов, а ныне стоит единственный домик связистов. Рядом с ним, у сарайчика, на привязи свора нартовых собак, которые всполошили окрест неистовым лаем на чужаков. Из дома быстро вышел хозяин:
– Цить, цить, – застрожился на них он и, выхватив торчащий из снега остол, пригрозил разъярённым псам. Сбросив рюкзаки и сняв лыжи, мы с огромной жаждой тепла прошли за хозяином. Линейный монтёр-обходчик Медведев Василий Терентьевич заговорил:
– Вот и гостей Бог послал, а то никто долго не наведывался. Совсем заскучал, только с собачками и говорю.
Черные курчавые волосы, посеребренные сединой, и разрезанное морщинами лицо выдавало его возраст, но походка и движения у него были еще легки. Подбрасывая дрова в печку, он приговаривал:
– Располагайтесь, согревайтесь. Сейчас картошечку под рыбку малосольную заварим, чайку закипятим.
И он из-под топчана выдвинул ящик с картошкой.
Тут Юра скомандовал:
– Саша, Коля, ножички в руки и на картошку. Так сказать, наряд вне очереди. А мы переоденемся, а потом вас сменим на хозработах.
Я с интересом рассматривал висевшую на стене медвежью шкуру. А ещё одна большего размера была разброшена на полу просторной горницы, в которой стояло четыре кровати. В прихожей, рядом с печью, на стене висели шкурки соболей, натянутые на правилки для просушки. За ужином разговорились.
– А в Камаках я с 41 года живу и телефонку эту сам строил в 34-ом. Так с тех пор и работаю монтёрам, а душой я охотник. Участок у меня большой – 30 километров. Пока пройдешь, что-нибудь да присмотришь. Вот и сегодня пару соболишек добыл. Морозная погода хороша для промысла, а то как запуржит, то и знай, что переставлять капканы из-под снега, только время тратить, – говорил он, поглядывая на нас, разморённых теплом и ужином.
Он вышел из-за стола и, будто извиняясь, заговорил вновь:
Обдирка соболя, рисунок автора
– Мне еще этих двух соболишек надо успеть сегодня ободрать, а вы располагайтесь, кто на кровати, кто на полу, на шкуре. Пока умоститесь, я и управлюсь.
Хозяин подкрутил фитиль на керосиновой лампе, чтобы поярче светило. Из котомки, стоявшей в углу у печи, достал двух черно-бурых соболей. Принёс тонколезвенный нож, какие-то ремешки, изготавливаясь к делу. Я из любопытства подсел к нему, глядя, как он вытянул вдоль лавки свою ногу, за её ступню привязал ремешок и им же, прихватив уже ободранную головку зверька, ловко принялся снимать шкурку с соболя, будто выворачивая чулок. При этом он, не умолкая, рассказывал и рассказывал обо всем, видимо, наскучавшись в одиночестве. Говорил, как давным-давно расформировали этот посёлок, что дети и внуки его в Усть-Камчатске, а он один тут, потому как привык жить вдали от цивилизации, и что содержит в порядке свой участок линии связи, и что имеет кучу грамот за хороший труд.
Утром, когда мы изготовились к выходу в путь, из двери дома с клубами тёплого воздуха вышел Василий Терентьевич с охапкой сушеной рыбы – юколы. Раздав корм собакам, подошёл к нам ещё раз напутствовать:
– Морозы-то крепчают ежедень, на то они и Крещенские. Вон на термометре -40. Ну, вы поняли, что напролом вам идти не надо. Тут по раздолью река да протоки петляют, много озёр, наледи со скрытыми пустотами во льду. Морока и опасно. Идите вдоль сопок по окаёму долины. Там сбиться негде. Тундрочки-перелески, тундрочки-перелески. Главное, к горам особо не жмитесь. Справа увидите лысую гору, она как булочка, за ней сразу в низинке тополёчки. Это берег реки Каванаки. В тополёчках будет след, самочка набегала. Он на речку и выходит. По той Каванаке пойдёте, она на Куражье озеро выведет, где завсегда карася берут. Балаганы там есть, и нартовые следы прямо к посёлку Ключи и выведут.
По рассказу, чётко представив весь маршрут, мы двинулись, вдохновляясь главным ориентиром, вздыбившимся над всем окрестом обширной долины, Ключевским вулканом, поблескивающим на солнце ледниками. Там под ним и есть наша цель – посёлок Ключи.
Бежим легко, видно, уже втянулись. Весь день слепит почти негреющее солнце, а мороз кусает щеки и нос. День к закату, а мы всё петляем меж перелесков. Теперь-то стало ясно, что ту «булочку» нам не сыскать. Все здешние сопки, как булочки, а речушек, заметанных снегом, мы уже прошли десятка два. Определи под снегом: Каванака она или нет. А со следами вообще хохма: ведь мы в следах, как говорит Виктор «ни ухо, ни рыло». След соболя от заячьего отличим еще, а самочка то или самец, кто их разберёт. Да и следов тут уйма. Витька уже полдня ржёт над тем, как мы купились на сказ Терентьевича.
Сейчас он разыграл Саньку, нагнувшись над следом соболя, завопил.
– Нашёл! Нашёл, как различить след.
– Как?! – кинулся к нему Волков.
– Если пробежала, то она. Коли пробёг, значит – он, – расплылся в улыбке шутник.
Январский день быстро угасал. Красное солнце тонуло в морозной пелене. Вскоре стемнело. На чёрном небе засветили звёзды. Одна из них висела прямо над кратером вулкана. Её мы приметили ещё в сумерках, и сейчас она была для нас, в полном смысле слова, путеводной. Ориентируясь на неё, мы незаметно вошли в холмистые отроги Харчинского хребта. Идти в темноте по ощетинившимся лесом холмам крайне трудно. И только надежда о теплом пристанище толкала нас вперед. Ночевать в лесу на снегу и при таком морозище не хотелось. Подъемы и спуски совсем измотали нас. И вот наш путь упёрся в крутой лесистый склон горы. Чтобы не заплутать совсем, решили дождаться утра.
– Что нам стоит дом построить? – подбадривая нас, Виктор проворно скинул рюкзак под склонившуюся березу. – Вот здесь будет наш бивуак, – потом отстегнул с пояса топорик и вновь заговорил: – Ну вот, облегчённая ходьба вроде бы ничего, попробуем теперь и облегченную ночевку.
– Нодью бы сделать, – предложил Волков и стал снимать лыжи.
– Для этого надо бы засветло присмотреть суховатую леснину. Придётся у костра куковать, – ответил Солянов, натягивая поверх лыжных ботинок рукава от старого тулупа.
Мы извлекли из рюкзаков теплые куртки и как могли утеплились. Потом спешно надрали бересты, нанесли суховатых сучьев, но костер из промороженной насквозь древесины плохо разгорался. Неуверенное пламя согревало только морально. Мороз бесцеремонно пробирался за воротник, пальцы рук и ног коченели. Согревались мы заготовкой дров маленьким походным топориком с резиновой ручкой: отчаянно валили березки, рубили их на чурбачки и размельчали на щепы, чтобы давать пищу привередливому в морозном безветрии огню. Видя, как Виктор по-хозяйски мостил у костра ложе из принесенных еловых веток, Александр предложил:
– Значит так, парни. Следим друг за другом. Не дай Бог уснём – это всё…
– Да я не для сна. На снегу же не усидишь, – и принялся заваривать чай.
Со временем костёр оседал всё ниже и ниже в снег, образуя вокруг себя снежную яму. К утру она была глубиною больше метра. Пока Волков, в свою очередь, рубил дрова, мы с Виктором уже в который раз разливали по кружкам крепко заваренный чай. Умостившись в вытаявшей яме и прихлебывая его из горячих кружек, Солянов заметил:
Ночёвка в снежной яме
– Пока чай пьешь, вроде бы, и спина не мёрзнет.
– Возьми галету, – предлагаю я.
– Уво-о-оль, от них уже весь рот в ошмотьях. Так что не задабривай. Твой черед рассказывать чего-нибудь.
Вдруг затих стук топорика, мы встрепенулись.
– Санька, спишь? – крикнул Виктор.
– Нет, топорик – из рук да в снег. Ищу.
Мы всячески исхитрялись, чтобы не погас костёрчик, который грел нас лишь морально, а обогревались, в основном дымом, клубящимся в яме. То и дело, как выстрел, раздавался треск размерзающихся стволов берез.
Вспомнили о спирте. Но, понимая, что это верная гибель в данной обстановке, даже не стали дискутировать на эту тему. Бесконечно долго длилась эта напряженная и, казалось, нескончаемая ночь. С рассветом мороз становился жестче и, когда чуть развиднелось, мы покинули клубящуюся дымом яму.
***
После бессонной ночи выживания, озябшее тело не хотело работать. С большим усилием давались нам первые шаги. Придавленные рюкзаками и холодом, мы безрадостно смотрели на седые от мороза кусты, деревья, горы. Когда обошли сопку, под которой ночевали, то обалдели. За ней, укутавшись туманом, скрывалась узкая незамерзающая часть реки Камчатки, так называемая, пропарина. И нам предстояло делать крюк в 2—3 километра, обходя ее, чтобы перейти на другой берег реки. Там, напротив нас, привольно раскинулся желанный посёлок Ключи. Сразу за посёлком устремилась в небо Ключевская группа вулканов. Над кратером Ключевской сопки в морозное небо тянулся дымок. Сопка курилась, как и все дома в посёлке.
– Хорошо, что мы в темноте не вышли к реке. В морозном тумане могли бы не заметить этой пропарины, – рассудил Александр.
– Да… отвёл Боженька, – заметил Солянов.
По льду перешли реку и, приближаясь к посёлку, мы, всё чаще оттирая то нос, то щёки, увидели бегущих навстречу нам лыжников. Это ключевкие комсомольцы: Юрий Афанасьев, Василий Моросюк и Виктор Савинский.
– Вот они, пропащие! Мы вас вчера вечером ждали. Ну и видуха у вас, – подъезжая, сказал Юра, комсорг Ключевского ДОКа.
– Что-то, Витя, схуднул и осунулся, даже тощее носатого Кольки стал. Видно, вес-то сбросил за эти деньки? – заметил Василий и добавил. – Ну как вы ночью-то? Ведь морозище тут у нас второй день под пятьдесят давит.
– Да с таким вот начпродом, не то что исхудаешь, ноги протянешь… Ведь надо же всю ночь на фляжке со спиртом просидел. Мёрзнем, а не дает. У него снега зимой не выпросишь, – кивая в мою сторону, отшутился Виктор.
– Ну и хорошо, что не дал, а то бы до сих пор вы там в лесу песни распевали, – похлопывая нас по плечам, ответил Василий.
Василий Моросюк, мой друг, одногруппник по институту. Мы вместе прибыли на Камчатку по направлению. Вася часто бывал у меня в Усть-Камчатске и тоже сдружился с Виктором Соляновым. Взбодрённые встречей, съев по полплитке шоколада, мы бодрее побежали по проторенной лыжне с ключевскими парнями. Лишь после нескольких километров пробега с раннего утра, я стал ощущать и чувствовать в ботинках пальцы ног. «А что бы было, ни возьми мы с собой рукава от тулупов?» – невольно подумалось мне.
На следующий день решили отдохнуть, чтобы подлечить подмороженности и потертости. Из сдвоенных лыжных шапочек смастерили себе маски для лица, вырезав в них проемы для глаз и рта – получилась хорошая защита от морозного ветра. Покрасовавшись друг перед другом в этих масках, мы довольные решением этой проблемы, убрали их в рюкзаки.
– Ну вот, парни, я так и думал, что нас с подмороженными мордами в город Петропавловск без намордников не примут, – заулыбался Солянов.
Юрий организовал нам экскурсию по старейшему на Камчатке ключескому Леокомбинату, основанному в 1932 году. Тогда этот комбинат снабжал бочковой клёпкой, ящичной тарой и малыми деревянными суденышками всю рыбную промышленность полуострова.
За прошедшие годы предприятие окрепло, увеличились объемы производства. Деловито, с надрывом гудели лебедки на лесобирже, ворочая пачки бревен, лязгали транспортеры. Тонко звенели циркулярные пилы тарного цеха. Сипло пыхтели паровые котлы электростанций, озвучивая трудовой ритм комбината.
После экскурсии в актовым зале комбината организовали нам встречу с комсомольцами. Они дружно поддержали наш почин к дате вождя Пролетариата и утвердили в поход с нами своих достойных комсомольцев.
Пополнили наш отряд три человека. Юрий Афанасьев – секретарь комсомола предприятия, которого на собрании мы выбрали командиром нашего сводного отряда, Виктор Савинский – крановщик пристани. Черноволосый коренастый добродушный человек. По возрасту он был старше всех, и это не осталось без внимания: его тут же окрестили походной кличкой «дед». И Володя Губин – электрик ключевского ДОКа – худощавый смуглый с белозубой улыбкой парень недавно достигший совершеннолетия. Это и решило его участие в пробеге.
***
Мы вышли из Ключей уже усиленной группой. Дорога извивалась по неглубоким лощинам, между увалов среди редколесья.
Леса в районе Ключей будто просветленные березняками. Здесь нет мрачных чащоб с непроходимыми зарослями. Кряжистые причудливые в обхват березы, растрепанные частыми ветрами, просторно расположились среди густого подлеска. Только в низинках сухих речек, встречаются тополя-богатыри да с шершавой корою чозения. К полудню мороз заметно сдавал, снег сверкал и искрился на солнце. Наш путь постепенно огибал подножие группы вулканов, и было невозможно оставить без внимания великолепный вид этих гигантов. Между Ключевской сопкой и вулканом Плоский просматривался острый пик вулкана Камень. Это вторая по высоте вершина полуострова Камчатка.
На привале Юрий с удовольствием поделился с нами своими познаниями:
– Ключевская сопка намного моложе вулкана Плоский, который считается потухшим. Действовал он еще в доледниковый период. Видите, с виду он невысок, а подниматься на него мало кто решается. Острые каменные гребни, отвесные стенки, ледопады – вот тебе и безобидная с виду вершина. А знаете, кто первый поднялся на вершину сопки? – Данила Гаусс еще в 1788 году. Ительмены на огнедышащие горы никогда не ходили.
Увлеченные рассказом, мы теснились у костра, попивая чаёк. Передохнув, покатили дальше.
В гостеприимной семье
Ближе к селу Майское увалы стали покруче. Быстрого бега не получалось. Стала сказываться усталость у ребят, бегущих первый день. Солнце спряталось за горы, и стало быстро темнеть. Влажная от пота наша одежда превращалась в покрытый инеем панцирь. До села оставалось немного, но силы были на исходе. Карабкаясь на очередной заснеженный подъем, Савинский остановился.
– Мне эти «Амурские волны» изрядно надоели. Может, ляжем в дрейф, капитан? – обратился он к Юрию.
– Дед, кончай дрейфить. Тоже мне «морской волк». А раз так, то волка – ноги кормят, – отпарировал Афанасьев.
Может и вправду тормознем, ведь «движки» запарим, землепроходимцы несчастные! – завопил Володя Губин.
Пришлось сделать привал. Быстрый темп в первой половине дня себя не оправдал. В Майское вошли поздно вечером. В конторе совхоза только сторож. Уставшие, толпились мы у входа, пока Юрий безуспешно накручивал в сторожке местный телефон.
Из дома напротив вышла моложавая энергичная женщина и подошла к нам.
– Ребята, а ну быстро ко мне в дом. Что же это вы на таком морозище. Господи, да еще и в ботиночках. Быстро, быстро! – скомандовала она.
Анастасия Васильевна Андреева, экономист совхоза, и её муж Александр Алексеевич, терапевт, радушно приняли нас. У Анастасии Васильевны оказались «золотые руки». Разместив нас в одной из комнат, она с неимоверной быстротой стала заполнять стол разными закусками. Жарче затопилась печь. Не успели мы отойти от мороза, как на большой сковороде зашкварчали жареные пирожки. Немного времени – и целый таз отдающих жаром пирожков стоял на столе.
– А теперь к столу. Отведайте-ка. Сейчас согреетесь, и понесло же вас в самые морозы. Вон что со щеками-то понаделали. Да как же это вы пешком-то. До города аж. А ты-то совсем малец, но туда же! – Обратилась она к Губину. – Я бы своего в жизни не пустила, – приговаривала она, придвигая ближе к нам тарелки с борщом. Ошеломленные таким для нас поворотом дела, мы принялись за еду, удивляясь искусности хозяйки и гостеприимству этой семьи.
Наутро, распихав нам по рюкзакам оставшиеся пироги, хозяева тепло проводили нас в дорогу, и я подумал: «Надо же, так добродушно встретили и проводили, как родных. Точно! На Камчатке народ – золото».
Нерестовое озеро – колыбель жизни
От Майского до Козыревска не более 30-ти километров, поэтому шли не спеша – в накат. Первый привал сделали на развилке дорог. Быстро развели два костра, дабы разместить все «котелки»: жестяные трехлитровые банки из-под томатной пасты. В них снег намного быстрее таял, чем в стандартных алюминиевых котелках, и превращался в клокочущий кипяток. Крепко заварив чай, мы разливали его в рядок поставленные кружки, не скрывая удовольствия от такой оперативности.
Узкая, плохо прочищенная дорога от реки уходила к рыбразводу. Это – станция по изучению и разведению рыбы лососевых пород. Домики для обслуживающего персонала прижались к берегу Ушковского озера, в которое вдавались сооружения на сваях. Прогибающиеся скрипучие мостки позволяли попасть в любое место под навесом, где находились погруженные в воду десятки лотков с тысячами икринок рыб. Незамерзающее озеро – естественный инкубатор. На берегу лежали штабелем замороженные тушки зимнего кижуча, отдавшего свою икру для науки. Тушки эти приготовили для отправки в совхоз на кормокухню. Целую лекцию выслушали мы от влюбленного в свое дело директора рыбразвода:
– Превращение икринок в мальков происходит за 4—5 месяцев. Весь жизненный цикл у кижуча составляет всего полтора года, а самый продолжительный у кеты: длится около шести лет. По чешуе лосося можно определить возраст рыбы, – увлеченно рассказывал он.
– Значит, чешуя лосося вроде бы паспорт, – встрял вездесущий Виктор.
– А озеро наше знаменито еще тем, что здесь в 1963 году обнаружена древнейшая стоянка человека – обитателя Камчатки. По раскопкам ученые установили, что костры древнейших рыболовов и охотников на мамонтов горели здесь около 150 тысяч лет назад, – продолжал директор.
– Жаль, что не летом сюда попали, посмотреть бы раскопки, – вслух искренне пожалел я.
– Приезжайте, археологи каждой год здесь работают.
Остаток пути до Козыревска мы только и говорили о рыбах и дикарях.
– Рыбразвод звучит солидно, но уж больно тут убого. Наверное, толку с него мало. Лишь гольцов откармливают этими мальками. Ведь молоди надо прошмыгнуть через все озеро, чтобы попасть в реку Камчатку и по ней выйти в океан для нагула. А озеро кишит гольцами – хищниками для них. Чего бы не устроить лоток или трубу какую для мальков, а не выпускать их через озеро, – рассудил Виктор.
– Как же так? С годами важность этого дела возрастает не только для Камчатки, но и для всей страны, а убожество рыбразвода почему-то много лет неизменно. Правда, «сдвиги», есть за последние годы в посёлках появились объявления, которые приглашают рыболовов-любителей на безвозмездный отлов в озере жирного гольца. Становится ясно, что даже такое необходимое для страны дело умудряются делать формально, для галочки в статотчет, – сделал вывод журналист Александр.
По таёжному краю
Козыревск – посёлок, увековечивший память о казаках-землепроходцах Камчатки Степане и его сыне Иване Козыревских. Селение Козыревск раньше находилось у устья реки Козыревки при впадении ее в многоводную Камчатку. Позднее хозяйственные переселенцы перенесли селение ниже по течению Камчатки, на крутой неподмываемый яр, поближе к нерестовому озеру.
Ныне Козыревк – сердце лесозаготовок Камчатки. С 1930 года здесь начались промышленные заготовки. И ныне, куда ни глянь, вокруг всюду лес. Рубленные дома и здания, у каждого двора высокие поленницы дров, заготовленные впрок. На лесоскладе высятся штабеля бревен, то и дело из тайги лесовозы ЗИЛы и МАЗы – подвозят пачки хлыстов – словно попадаешь в какое-то деревянное царство.
Разместили нас в спортзале средней школы, а вечером мы уже были на встрече. Аудитория собралась что надо. Шустрая, краснощёкая гвардия школьников буквально засыпала нас вопросами.
– По сколько километров проходите в день?
– На каких лыжах идёте?
– Не холодно ли?
Но несмотря на непоседливость, они слушали нас внимательно. В Козыревке к нашему отряду присоединились еще два комсомольца. Дизелист электростанции Геннадий Верёвкин – среднего роста, черноглазый с впалыми щеками. Весь его облик источал силу и уверенность в себе. Геннадий принадлежал к типу людей, которые больше слушают чем говорят. А Виктор Тен – самый молодой участник перехода (ему еще не было восемнадцати лет) методист производственной гимнастики леспромхоза. Сухощавый, небольшого росточка, Виктор и на вид мало подходил к должности, которую занимал. Но дело своё знал.
От Козыревска до следующего посёлка Атласово напрямик по «телефонке» 80 километров. Мы, Усть-Камчатцы, решили заменить лыжи, так как наши «дровишки» стёрлись так, что снизу оголились шурупы от креплений.
Рано, почти затемно, начинается рабочий день в леспромхозах. И в 7 утра мы уже бежали по лесовозной дороге в сторону Крахчинского лесоучастка, а навстречу нам шёл первый груженый лесовоз. Рассвело, когда мы вкатили на Крахчу. Так называемый, лесосклад издали был похож на муравейник. Трещали передвижные электростанции. Жужжали электропилы, бригады рабочих распиливали хлысты леса на брёвна. Раздетые, несмотря на мороз, они ловко орудовали крючьями, взваливали эти кругляки на подсанки, в которые запряжены мохнатые от инея большемордые лошади. Повсюду неслись окрики, брань на особо ретивых коней.
Разгоряченные люди и лошади, не стоящие на месте, окутаны паром, чуть розовеющим в первых лучах солнца. Я с удивлением смотрел на захватывающую трудовым азартом работу бригад.
– Ну дела… Лошади на сортировки леса! Вместо транспортеров. А как же бревнотаски хотя бы без программного управления? Я-то думал, что лошадки – это каменный век нашей промышленности. После этого стоило ли дивиться старой технологии работ, которую нам с Виктором пришлось увидеть в Ключевском лесокомбинате. До сих пор в ушах – визг и звон циркулярных пил тарного цеха, лязганье транспортёров, надрывное гудение лебедок лесобиржи и пар от паровых котлов электростанций – своеобразный оркестр пережиткам прошлого.
Неподалёку от ямы, в которой горели отходы от хлыстов, бытовка мастера. В ней жарко от печурки. Пожилой мастер Грозов – практик, знаток лошадиных сил и леса – своими практичными знаниями открывает нам глаза на многое. Хоть и сомневаюсь я в чем-то, но вроде бы он прав. Мне невольно наворачивалась мысль: «Как же велика разница между технологиями книжными и теми, что наяву. Неужто и впрямь, как говаривают, «забывай индукцию, дедукцию, а выдавай продукцию»?
***
С Крахчи бежим по просеке «телефонки», которую ограничивает островерхий лиственничный лес, изредка посеребренный березами. В таком однообразии время тянется долго. Снег тут без наста, рыхлый, чаще меняемся торить лыжню. После очередной чаевки раскрасневшийся Виктор Солянов встал за ведущего и мощно взламывая снег, навязал очень быстрый темп. Вытирая испарину со лба, «дед» кричит Юрию Афанасьеву:
– Командир, уйми этого «красного буйвола»: ребят козыревских загоним. Ведь не втянулись ещё.
Далее лес стал отступать к горам, и мы вырвались на простор тундры. В народе ее называют «Шурупники». Огромное безлесое пространство уходило под самые отроги вулкана Толбачик, белый конус которого подпирал небо. Какая бы ни была многоснежная зима, здесь, за вулканом, снега выпадает самую малость. Видимо, Толбачик своею громадой прикрывал эти места от господствующих зимних ветров, приносящих пурги. Из-за малости снега прошлогодняя трава путала лыжи. Уклоняемся от прямого пути, выискивая больший снег, бежим вдоль кустарников. Обогнув очередные заросли увидели с десяток мирнопасущихся одичавших лошадей. Длинногривый табун стремглав понесся в сторону малоснежной тундры под вулкан. Рыжеватый простор Шурупников, громада вулкана Толбачик и скачущий табун – экзотика да и только!
Дикий олень и Камчатка совместимы, а дикие лошади как-то не вяжутся с моим представлением о Камчатке, но факт.
Припоминаю разговор с мастером Грозовым, который жалел, что лошадей почти всех извели. Осталось в леспромхозе всего пять десятков, а раньше был табун в 500 голов. На Шурупниках круглый год и выпасали их до 3—4 летнего возраста, а потом оттуда брали лошадей в работу: «Знать, не всех выбрали» – подумал я.
Петляние по провальным снегам в тайге и по косматой тундре Шурупников, изрядно вымотало нас. К концу дня особенно чувствовалась разница от того, какой ты идешь по лыжне – первым или восьмым. Первому всегда труднее.
По пути прошли несколько заброшенных посёлков (бывшие лесоучастки 30—40 годов). Полуистлевшие бревенчатые бараки с перегородками комнат из жердей. В каждой такой клетушке жила семья переселенцев, приехавших осваивать Советский Дальний восток.
Тяжелое зрелище: покосившиеся стены, проваленные крыши, зияющие пустотой зеницы окон. Какая-то тоска и печаль давят, когда смотришь на места, откуда ушла жизнь. А тут еще невезуха: у меня сломалась лыжа. Пришлось соединить «русским клеем» – гвоздями, которые удалось выдрать из развалин барака. Так и брел – одна лыжа короче другой.
Вечерело, когда мы из зарослей пойменного леса буквально вывалились на накатанный зимник. До Атласово оставалось недалеко. Густой лес по обе стороны дороги казался темной зубчатой стеной, но восходящая луна напрочь разбивала это представление. Большая и красноватая, она будто заблудилась в ночном лесу и безуспешно пыталась выбраться из паутины веток.
Ночью, гремя насквозь промороженными куртками, мы вкатили в Атласово. Посчитали: за день по бездорожью протопали 86 километров. Рекорд, не рекорд…, хотя мастера спорта из пробега «Метелица» за день бежали и поболее, но у них тропа, по сравнению с нашей таёжной – асфальт.
***
Поселок Атласово – центральная усадьба Камчатского леспромхоза. Это самый молодой поселок лесорубов. Дома – коробки из бруса и брёвен, похожие друг на друга, стоят в строгих рядах улиц. Чувствуется стандарт типового проекта, отчего поселок кажется менее уютным, чем другие.
Поселок относится к Мильковскому району. От Атласово наш путь будет только по зимней автотрассе, ведущей до районного центра – села Мильково. Теперь – прощай, мягкая лыжня. В беге по жесткой, промороженной и скользкой автодороге, наверное, руки будут важнее ног.
Розовым морозным утром мы вышли из Атласово. Через три часа бега. Дорога наша вдруг запетляла по зарослям елового леса. Зеленые кроны, заваленные снегом, причудливые пни, солнечные лучи, кое-где пробивающиеся в темноту леса – сказочная красота. Хотелось верить, что места эти нехоженые, заповедные, как вдруг из-за поворота вылетают один за другим грузовики и, мчась по трассе, увозят на себе эту красоту виде лесопродукции. В полдень свернули на лесовозный «ус», чтобы попасть на деляну к лесорубам почаевать.
Треск движка электростанции, урчание бульдозера, сизые дымки стрекочущих бензопил – всё это как-то не вяжется с заснеженным безмолвием тайги. Три рубленых вахтовки и вагон – столовая сгрудились у тепляка – крытой траншеи для стоянки тракторов. Страсть как хочется посмотреть работу вальщика леса в деле. Да, и всё хочется обсмотреть.
В Усть-Уамчатске лишь тундра, такого не увидишь. Трактор-трелевщик захлебываясь от рыка, натужно переползал чрез заснеженную валёжину. Он вытаскивал пачку длиннющих хлыстов на волок. Поблескивая гусеницами, подмял под себя небольшую березку и, крутнувшись в сторону, ткнулся в молодую ель. Когда рассеялось облако снежной пыли, слетевшей с кроны красотки, ели как не бывало. «Зря он так, жаль такую елку», – пожалел я.
Мастер леса Фролов Яков Павлович – практик. Приветливый дядька, он своим рассказом о технологии лесозаготовок немного успокоил меня. Оказывается это у них технология такая – условно-сплошная рубка. Для возобновления леса на делянах они оставляют куртины зрелого леса – семенников. Может, это мне с непривычки к делам лесозаготовителей, но видок после такой технологии – жуть! Не зря говорят «лес рубят – щепки летят». Всё же ёлку он мог и не давить, – размыслил я, всё ещё сожалея о таёжной красотке.
Лишь во второй половине дня от лесорубов из заснеженной лесосеки мы вновь вышли на автостраду. Юрий заметил:
– Парни, много времени и сил потеряли на лесных сугробах. По дороге будем нагонять время, чтобы к вечеру быть в Мильково, – и обратился к Виктору. – «Красный буйвол», веди первым, да без рывков, а то я гляжу, ты резервную плитку шоколада уже догрызаешь.
Наши опасения о беге на лыжах по промороженной дороге не напрасны. Была большая нагрузка на руки, удерживающие равновесие на скользких местах. Лыжи часто разъезжались в стороны, проскальзывали под ногами, нарушали темп хода. Уже на подходе к Мильково «дед» Савинский, неудачно скользнув, упал и сломал лыжину. Как мы ни мудрили, но использовать её дальше было невозможно. Можно было бы его отправить на попутке, но дорога из Атласово в Мильково, официально ещё не существовала, и по ней редко пробиралась грузовики снабжения УРАЛы, либо бензовозы, завозя топливо для дизельных электростанций поселений. Поэтому ждать у дороги попутки, это как «ждать с моря погоды». Пришлось ему идти на одной лыжине. И на редкость выносливый крепыш Савинский почти 10 километров «проскакал» до Мильково.
Районный центр – большое село, и нас там ждали. Уже в сумерках поселили в Доме Культуры, в большую комнату с двумя кирпичными круглыми печами-галандками. Умаявшись за дорогу, вскоре мы уже спали в тепле на раскладушках.
Следующий день выдался опять морозным. Заиндевевшие тополя, хвосты дыма над трубами домов и котельных придавали селению уютную притягательность. Над нами, чуть не касаясь верхушек тополей, со стрекотом планировала «Аннушка» и садилась сразу за селом, подняв шлейф снежной пыли. Сразу чувствовалось, что это районный центр.
Интересная судьба выпала на долю Мильково. Это единственное селение Камчатки, основанное ни охотниками, ни рыболовами или лесорубами, а крестьянами с берегов Лены, которых переселили сюда в середине 18 века. Глубокие корни у мильковского земледелия. Кроме того, в те далекие времена мильковчане с большим искусством выделывали ткани из волокон крапивы. Вот что писал об этом Карл Фон Дитмар, путешествующий по Камчатке в 1852 году: «При нашем посещении деревни Милковой, мы видели немало очень удачных образчиков крапивного полотна. А двум девушкам даже вручили премии, присланные Санкт-Петербургским Экономическим обществом. Для одной из них назначена брошка, для другой – серьги: брошь и серьги золотыя с гранатами. К нашему удивлению обе отказались от подарков, мотивируя свой отказ тем, что их костюм не вяжется со столь богатыми украшениями».
Скромность коренных жителей Камчатки, камчадалов, и сейчас заметна.
Вечером в этом же районном Доме Культуры состоялась встреча с молодежью райцентра. После обмена докладами о делах комсомольцев Мильковского и Усть-Камчатского районов тут же за высокие производственные показатели в Социалистическом соревновании отличившимся вручали грамоты и подарки. Мильковский – ведущий сельскохозяйственный район на полуострове. После концерта художественной самодеятельности комсомолки пригласили нас остаться на танцы. Мы, сославшись на ранний выход в путь, отказались и ушли в свою комнату перебирать рюкзаки, готовясь в дальнейший путь. До нас доносилась бодрящая музыка, и Виктор Солянов обратился к Савинскому:
– Слышь, «дедусь», может пойдём покажем им настоящего «джазу».
– Ага, с такими обветренными мордами всех девчат распугаем. Завтра на трассе натанцуемся, – возразил тот.
– А ты и сегодня несколько вёрст отплясывал, как кузнечик скакал на одной ножке. Я даже боялся, как бы твоя толчковая нога из задницы не выдернулась, – ухмыляясь, продолжал Солянов.
– Вот, балабол, неугомонный, – отмахнулся Савинский.
К перевалу
На следующий день мороз заметно сдал, облегчая нам ходьбу на новых лыжах, которые нам предоставил местный райком комсомола. Первый привал сделали на берегу реки Камчатки, у места первого русского острога Верхнекамчатск, основанного тут в 1697 году Владимиром Атласовым.
– Вот она, резиденция сборщиков ясака! – высокопарно заявил Волков, показывая на бугристую местность, заметённую снегом, и продолжил. – Представляете: вот тут частокол, там – колокольня. А… как смотрится?
– Нет! – категорично отрезал Виктор. – Вон там к речке пивбар с пельменной поставь, Сашенька, – с деланной серьезностью ввернул Солянов.
Ребята засмеялись, Александр махнул рукой и произнес:
– Дикари, что с вас возьмёшь. Бродите по своей земле, а толком не знаете и не хотите знать историю. Вы хоть слышали, что реку Камчатку ительмены называли – Уйкоаль. Слышите? Как красиво звучит! А вот солнце – Коачь, заря – Завина…
– Ладно, не кипятись, Саня, давай кружку, а то кипяток стынет. Кое-чего и мы знаем, – вступил в разговор Афанасьев.
– Сейчас будем проходить речку Грешную. Почему так называется? – не унимался Волков, и мы заинтересованно поглядели на него. – То-то! Да потому, что на её берегу приводили в исполнение приговор всем виновным в камчадальском бунте, который возглавлял Федор Харчин в 1731 году. Много тогда камчадалов и казаков кнутом посекли, а кого и повесили по приказу подполковника Василия Мерлина. Вот с тех пор эта речка и место зовётся Грешной, – пояснил Александр.
– Ну ты даёшь, Саня, где ты начитался всего этого? – удивленно произнес Cавинский.
– Работа такая, почитывать приходится, – ответил тот.
Втянулись, идем бодро, легко. Без захода в селение Шаромы и Пущино мы заметно приближались к безлесной унылой долине, высокогорной Гональской тундре. Она является своеобразным перевалом всей Камчатской долины, то есть водоразделом полуострова. С этой тундры река Камчатка бежит на север, а река Белая устремляется на юг полуострова.
Во все времена года здесь дуют ветра. Летом они несут холодную влажность океана, а зимой – снежные тучи, причины свирепых пург в этих местах.
Ю. Афанасьев, В. Солянов, Н. Бушнев
Чем ближе мы продвигались к тундре, тем заметнее отступал мороз. С юга в долину наползала серая мрачность. Дорога потянулась вдоль горного Валагинского хребта, изрезанного каньонами, и всё дальше втягивала нас к главному перевалу Камчатки. Постепенно дорога стала прижиматься к Ганальскому хребту. Горные востряки этого хребта снежным огромным валом нависали над автострадой, по которой нет-нет да и пролетали работяги-грузовики. Погода заметно портилась. Вершины востряков стали кутаться в наползающие на них тучи. Перевалив очередной небольшой увал, мы увидели у обочины дороги грузовик с раскрывшимся бортом, а сбоку вывалившиеся из него трубы и швеллера. Шофёр, моложавый юркий парень, буквально бросился к нам:
– Парни, может, поможете? – развёл руками он и добавил. – А-то все торопятся, да и решись кто – такие балочки вдвоём не забросишь. Боюсь, запургую тут. Вон лохмы какие наползают.
– Разомнёмся малость, – отстёгивая лыжи, обратился к нам Юрий.
Словно муравьи, облепив швеллер, мы с усилием вталкивали его в кузов машины. Раскрасневшись от натуги, «дед» упрекнул водителя:
– Перегруз у тебя. Вот и крюк борта не выдержал. Рвач ты, паря. А жадность губит.
– Какая жадность?! Краном бросили всю упаковку сразу да и погнали за ворота. Жми быстрее, в СМУ план горит, – отговаривался шофер.
После загрузки металла водитель, скрутив борта проволокой, заспешил в Мильково. Ветер стал усиливаться, пронизывая нас насквозь. Закружились редкие снежинки. «Дед», покрутив головой по сторонам, недовольно заметил:
– Кабы не эта машина, до поселка без пурги успели. Водила сказал, что до селения с десяток километров ещё будет.
– Ну, парни, придётся гнать во всю прыть, пока погода не разбушевалась. Погнали! – скомандовал Юра.
Вскоре под завывания и свист сорвалась снеговая завеса. Она налетела и закрутилась в бешеном ритме танца беснующегося шамана. Будто взбунтовавшись, ветер плотно залеплял влажным снегом наши одежды и лица. Всё бело: ни гор, ни неба. Дорогу заметало на глазах, перемёты и встречный ветер затрудняли ходьбу. Заметно потемнело. Вокруг лишь круговерть снега. Опасаясь сбиться с дороги, держимся кучно. Сквозь снежные заряды пурги мы, то и дело всматриваясь, с трудом определяем приметы, заметённой обочины дороги. Одолевала мысль: «Как же не проглядеть поворот, когда за 3—4 метра не видно «ни зги». Холодной змеёй заползал в душу страх: можем проскочить спасительный поселок дорожников.
Влажный ветер заметно остужал нас. Почти не чувствуя конечностей рук и колен, через ощутимые перемёты снега на дороге мы шли, движимые теплящейся надеждой и силой воли, упираясь палками, напрягая зрение и слух.
И вдруг, почти рядом, сбоку от нас, залаяла собака. Вторя ей, затявкала другая, третья… Сразу же, перевалив через сугроб обочины дороги, мы заспешили на лай и уткнулись в барак дорожного участка селения Ганалы. Полузаметенный, с залепленными липким снегом стенами, он был незаметен даже вблизи, хотя стоял почти у дороги. Одно окошко его чуть желтело от света керосиновой лампы. Сбоку от барака – дощатый сарай такой же заметенный, из которого и доносился лай нартовой своры собак, поистине наших спасительниц. Не подай они голос, каким-то чудом учуяв нас, мы точно прошли бы мимо. И неизвестно что могло бы случиться с нами, уставшими, и напрочь озябшими, в этой жесточайшей снежной кутерьме.
Снимая у входа в барак лыжи, от радости даже перестали чувствовать холод в промокших одеждах, мы были благодарны судьбе.
Сторож дорожного участка, удивленный нашему появлению, впустил нас в спасительный приют и завел в комнату, где обычно ночуют экипажи дорожной техники. Он подбросил дров в печь, сваренную из двух железных бочек, и указал нам на жерди, висевшие у печи:
– Тут одёжку промокшую развесите. У нас всё предусмотрено. Но движок электростанции включать не буду, он и на домики в посёлок ток даёт, а сейчас-то, видишь, дурь какая. Провода, однако, пургой в шмотья уже растрепало. Тут завсе так. Пока отогреваетесь, счас чаю вскипячу. А утро вечера мудренее.
Пурга завывала всю ночь, содрагая стены. Сон долго не шёл, и в голове снежным роем кружились впечатления и переживания прошедшего дня. Испытав на себе серьезную опасность столь свирепой пурги, я невольно подумал о шофёре: «Хорошо, что мы вовремя ему помогли. Как бы он, бедолага, пережил в этой щелястой и неутепленной кабине ГАЗона? Я-то знаю, что отопительные печи там слабые, а бензина жрут много. Пурги здесь и по трое суток бывают…» От этой мысли у меня холодок пробежал по спине. Я отогнал эту мысль, как навернулась другая: «Как придём в селение Малки, там магазин есть. Надо не забыть шоколада подкупить. А-то Витька – сладкоежка после Мильково свой запас „НЗ“ на полпути уже схомячил, а к концу пути, когда в пургу вошли, силёнки-то на исход пошли. Пришлось ему полплитки своего „НЗ“ отдать, – дружбан ведь». Так в борьбе с мыслями, согревшись в постели, я уснул.
Утром сторож, растапливая печь, заметил:
– Повезло вам, пурга-то, однако, сдувается. Я-то думал, дня-два, как минимум, нос наружу не высунешь. Ан-нет, проходит, – и добавил. – На плите ведро с водой, она ещё тёплая, а умывальник вон в углу висит, ковш рядом. Печь разгорится, можете пищу подогревать, посуды тут много. В том углу шкаф. А я пойду на коммутатор связи схожу, узнаю, что с погодой и когда трассу расчищать начнут.
Мы уже доедали разогретые консервы из серии «завтрак туриста», как вернулся сторож и довольно заявил:
– Точно, по трассе пурги нет. Из Малок вышли шнекороторы и один грейдер чистить дорогу. Так что к концу дня будут здесь. Мне скучать тут не дают. С обеда начну для них ночлег подготавливать.
***
К обеду пурга окончательно стихла, и мы, в сухих одеждах, отдохнувшие, изготовились в путь. Под лучами солнца окружающая белизна слепила. Пурга поработала на славу. У входа в барак со столба гирляндами свисали залепленные мокрым снегом обрывки проводов. Поодаль, у сарая с собаками, под непосильной ношей липкого снега, горбатилась одинокая каменная берёзка. Наши разноцветные свитера и куртки оживляли окружающее нас белое царство зимы. Наконец, мы выбрались на дорогу и остановились, озадаченные увиденным. Плотные перемёты снега на дороге сменялись выдувками, которые оголяли дорогу почти до гравия.
