Читать онлайн Тамара. Роман о царской России бесплатно
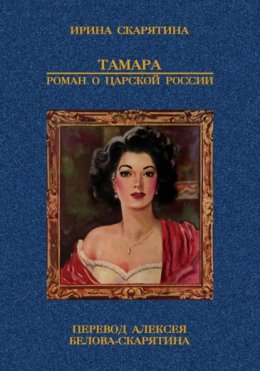
Посвящается Мариетте Мартинес Уилмот.
Фотография Ирины Скарятиной с суперобложки оригинального американского издания 1942-го года романа Ирины Скарятиной "Tamara. A Novel of Imperial Russia"
"На тёмный хмель летит мотылёк,
На светлый клевер – пчела,
Но к цыганской крови цыганскую кровь
Отвеку судьба вела …"
Редьярд Киплинг, "Цыганская тропа"
(в переводе Василия Павловича Бетаки)
Первое поколение
Сатрап и его цыганка
В лето 1830-ое от Рождества Христова, в губернии Орла, в уезде Архангела, близ села Преображения Господня, проживал крупный помещик и крепостник, князь Яков Дмитриевич Стронский. Его современники наградили его прозвищем "Сатрап" – не только благодаря его обширным владениям и несметному богатству, но и из-за властных, надменных манер и не в меру расточительных прихотей, неизменно удивлявших, потрясавших, зливших, будораживших или восхищавших его вечно любопытных соседей, большинство из коих втайне ему завидовало, открыто перед ним заискивало, а за его спиной пыталось, хотя и совершенно безуспешно, подражать его пусть эксцентричному, но столь аристократичному образу жизни.
Гигантского роста, широкоплечий и крепко сбитый, он ступал по земле, коей владел в столь необъятных размерах, высокомерной походкой, с гордо поднятой большой головой и густой гривой седых волос, развевавшейся на ветру. "Мой ветер", – так всегда он его называл, ведь на многие вёрсты вокруг тот дул над "его" полями, принося с собой сладкий запах диких цветов, свежескошенного сена и созревавшего зерна либо острый дух прелой земли, грибов и торфяного дыма – смотря какое время года.
В любую погоду, в сопровождении двух своих старых ищеек, Соболя и Тайги, он обожал совершать по лугам и лесам дальние прогулки, а ещё лучше – проскакать верхом на своём лоснящемся белом жеребце по кличке Казбек, который с грохотом нёсся по округе тяжёлым галопом, а затем замедлял свой бег до величественного аллюра, коли путь лежал через одну из многочисленных деревень, окружавших парк усадьбы красочным кольцом из теснившихся изб с соломенными крышами, зелёных грядок капусты и делянок ярко-жёлтых подсолнухов.
Иногда, будучи в добром расположении духа, он останавливался, дабы сказать принадлежавшим ему "душам" несколько снисходительных слов, а также бросал оценивающий взгляд на какую-нибудь миловидную деву либо молодую замужнюю бабу, от чего та покрывалась румянцем, и ёрзала, и нервно прыскала в кулачок, или же, опустив глаза и пылая щеками, теребила уголок своего передника, ибо прекрасно знала, что означали сии пламенные взоры и что ей никуда не скрыться, коль она действительно пришлась по нраву её властелину. Если ж настроение было дурным, то он, ревя что есть мочи, придирался ко всему и вся, тогда как жеребец ржал и бил копытом оземь, а насмерть перепуганные сельчане переминались вокруг молчаливо и смиренно.
Его кроткая, бесцветная жена, княгиня Вера Семёновна, давно почила, предположительно при родах ("но на самом деле от разбитого сердца из-за его неверности", как шептались тогда люди); его многочисленные дочери – сыновей Бог не дал – выросли, вышли замуж и разъехались по всей стране, и ни одна женщина не украшала его стол в течение многих лет. Правда, когда в своём огромном доме в Стронском он давал один из своих знаменитых званых обедов, на который съезжались губернаторы, архиепископы, генералы и даже высокопоставленные чины из Москвы и Санкт-Петербурга, напротив него сидела его пожилая кузина, Марфа Степановна, и в своём строгом платье из чёрной тафты, чепце с оборками и тяжёлых золотых украшениях придавала сему событию подобающее достоинство. Но то были единственные случаи, когда она допускалась к его столу, и как только отбывал последний гость, она тоже уходила, исчезая за дверью маленького белого домишки, ютившегося в дальнем конце парка, где и жила в уединении и полном забвении, пока за ней снова не посылали.
Излишне упоминать, что её никогда не приглашали поприсутствовать на частых неофициальных банкетах, коими так славился Яков Дмитриевич и где вместо губернаторов, архиепископов и высокопоставленных чиновников пировали и бесчинствовали его собутыльники – соседи-помещики со всей губернии – в компании красивых деревенских девушек из числа специально перед этим согнанных, отсмотренных и тщательно отобранных его помощниками за их привлекательность и богато изогнутые формы. Князю Якову Дмитриевичу и его друзьям не нравились худышки – напротив, они требовали, чтобы зазнобы были приятно пухленькими, "чтобы было, на что посмотреть и за что подержаться". Их темперамент должен был быть страстным, "бурным и жгучим", их речи – острыми и смешными, а их ответы – быстрыми, словно молния, поскольку, по словам этих ценителей, ни одна по-настоящему соблазнительная бабёнка никогда не должна была совершать непростительный грех "лазания за словом в карман".
На этих оргиях, что иногда тянулись дни напролёт, по очереди играли два "домашних" оркестра; на огромной сцене, возведённой в конце банкетного зала, выступали состоявшие исключительно из крепостных оперные, балетные и театральные труппы; количество съедаемых яств было гигантским, а вина текли рекой из погребов, которые постоянно пополнялись изысканными старыми винтажами Европы. Именно тогда Яков Дмитриевич был в полном расцвете сил, и его гости вновь и вновь пили за здоровье хозяина дома, "единственного и неповторимого Великого Сатрапа уезда Архангела", венчая его виноградной лозой и исполняя вокруг него странноватые пляски, кои, по их твёрдому убеждению, являлись дионисийскими.
Но внезапно, после многих лет такой шумной и разгульной жизни, Яков Дмитриевич впервые почувствовал себя старым и усталым, и в тот же день, когда было сделано сие потрясающее открытие, в припадке ярости выгнал из дома своих весёлых сотоварищей, приказал девушкам вернуться в их родные деревни, собственноручно запер на все замки винный погреб, послал за своим поваром Филькой и впредь запретил тому готовить любые жирные и сытные блюда.
"Молоко, каши и яйца – вот всё, что я теперь буду есть", – топнув ногой, гневно заорал он, хотя слуга, и так склонившись перед ним в позе глубокого почитания, успокаивающе бормотал: "Слушаюсь, Ваше Сиятельство, всё будет так, как Вы прикажете. Не беспокойтесь. Отныне только молоко и каши для Вашего желудочка, наш Благодетель, наш Господин".
Так началась новая глава в жизни князя Якова, в которой он питался скромно, пил лишь молоко, причём в основном козье, часами молился на коленях, ударяясь лбом об пол, изучал "Жития святых" и, к изумлению своего лакея Трофимки, носил рубище из конского волоса, "дабы усмирить желания своей грешной плоти", как он однажды в сильном порыве самоуничижения объяснил потрясённой и огорчённой Марфе Степановне, считавшей подобные разговоры неподходящими для своих старых ушей. И в довершение всех своих добровольных неудобств он спал на голом полу рядом с роскошной, низкой, широкой и необычайно мягкой кроватью, которую специально для него изготовили из кудрявого клёна его личные столяры, устлав её пухом многочисленных лебедей, плававших по озеру перед домом.
Теперь, вместо диких и сомнительных персонажей, только дородный деревенский поп, отец Дорофей, составлял ему компанию, выпивая бесчисленные стаканы обжигающего некрепкого чая, в который он время от времени бросал полные ложки малинового варенья, обильно при этом потея (ибо таков был обычный и весьма полезный эффект горячего чая с малиной) и рокочущим голосом, который разносился далеко по парку, несколько нервно увещевая своего дорогого духовного сына продолжать его продвижение по прямому пути праведности, который тот столь мудро, нет, столь вдохновенно избрал. Нервозность, которую отец Дорофей тщетно пытался скрыть, объяснялась тем, что никто и никогда не знал, что мог внезапно вытворить Яков Дмитриевич. Он был одинаково способен как бить себя в грудь, посыпать голову пеплом из трубки и обильно оплакивать свои грехи, так и, испустив громкий рёв ярости, ударить в грудь или, что ещё хуже, по зубам своего собеседника, пусть даже тот и был его духовным наставником, естественно, с самыми болезненными и неприятными последствиями. Поэтому неудивительно, что отец Дорофей старался использовать всю дипломатию, на которую был способен, и, образно говоря, с большой осторожностью катил по тонкому льду, отделявшему его от катастрофы. Потом, когда наконец святому человеку разрешалось удалиться после множества благословений и низких поклонов, тот радостно и поспешно возвращался в безопасный уют своего дома, к успокаивающему обществу своей верной старой попадьи Матроны Ивановны, покорно, без единого звука протеста, родившей ему девятнадцать поповских детей.
Оставшись один, Яков Дмитриевич потягивался и зевал, а затем посылал за своей пожилой кузиной Марфой Степановной и заставлял её часами сидеть подле него, пока та вязала и тихим певучим голосом наговаривала бесконечные сказания про два Иерусалима (Палестину и Небеса) и про странствующих по всей святой Руси в поисках религиозного утешения паломников. Постепенно, видя, что Яков Дмитриевич заинтересовался, Марфа Степановна стала приводить к нему некоторых из этих скитальцев, чтобы те могли лично поведать свои истории Благодетелю (разумеется, уже никак не "Сатрапу") уезда Архангела, в результате чего вскоре, ко всё возраставшему изумлению невидимых, но бдительных соседей, искренне надеявшихся, что Яков Дмитриевич должен был когда-нибудь справиться со своим чудны́м поведением и образумиться, вся местность наполнилась святыми мужами и жёнами, странниками и пилигримами, всяческими ущербными, известными как калеки и блаженные, то есть "счастливые юродивые Христа ради". А посреди всех них выделялась величественная фигура Якова Дмитриевича, теперь худая и измождённая от диеты, бессонницы и (хотя он ещё не осознавал этого) скуки, и он тихим и смиренным голосом вещал слова доброты, братской любви и ободрения своим странным посетителям.
В то же время влияние на него некогда малозначимой Марфы Степановны становилось всё сильнее и сильнее, пока люди не покачали понимающе головами и грустно не промолвили: "Она ещё его прижмёт, она его совсем задавит, уродливая старая курица". И мало-помалу скромная, "никому не нужная и забытая", стала всемогущей и принялась править Яковом Дмитриевичем железной рукой.
Затем, столь же внезапно, как и началась, вся эта удивительная святость прекратилась, и Яков Дмитриевич опять вступил в новую и, увы, скандальную фазу своего существования. Случилось это так.
В одно дивное летнее утро, когда он мрачно расхаживал взад-вперёд по своей любимой акациевой аллее, которую никому и в голову не пришло бы попирать, он с удивлением заметил, что на другом её конце появилась женщина, медленно направлявшаяся к нему статной, ровной, спокойной и неторопливой походкой. С первого же взгляда Яков Дмитриевич понял, что та молода, но уже замужем, ведь традиционный крестьянский платок был повит вокруг её головы, а не завязан под подбородком, ниспадая треугольником на затылок, как это было принято у незамужних. А приглядевшись, его опытный глаз определил – и, увы, он тут же испытал неожиданный трепет запретного, а стало быть, греховного удовольствия от сего открытия, – что молодка была настоящей красавицей, не только гибкой и стройной, но и широкоплечей, с высокой упругой грудью и соблазнительно округлыми бёдрами, призывно и вызывающе покачивавшимися при каждом её шаге. Пока она шла по дорожке, он не спеша и с одобрением рассматривал её золотистую кожу и румяные щёки, её длинные веерообразные чёрные ресницы, обрамлявшие скромно опущенные веки, её широкие брови – соболиные, как их принято называть, – её прямой короткий нос с очаровательной приплюснутостью на самом его кончике и довольно широкий, но красиво изогнутый рот. Когда же она спокойно подняла на него свои очи и стало ясно, что те миндалевидны и черны как смоль, он восхищённо цокнул языком, как делал всегда, когда ему действительно что-то нравилось, и тихо пробормотал себе под нос: "Царевна, лебёдушка … Яков, братишка, тебе повезло". Но вслух он лишь небрежно спросил: "А ты кто такая, моя красавица? Я тебя раньше здесь не видел. Ты приезжая?"
"Меня зовут Доминика, Ваше Сиятельство, я новая жена Акима, старшего кучера", – тихо ответила та, и голос у неё был низким и бархатистым.
"Она, несомненно, хорошая певица", – подумал Яков Дмитриевич и вновь испытал трепет удовольствия, ведь ему несказанно нравились такие голоса, что могли сочно и проникновенно исполнять меланхоличные русские народные песни или дикие и мелодичные цыганские напевы.
О да, ей бы нужно петь для него и научиться доставлять наслаждение различными прочими способами! А он бы одевал её в ярко-красные или жёлтые сарафаны и дарил бы ей огромные золотые серьги, что звенели бы, раскачиваясь и сверкая при каждом движении её прелестной головки. А на её сильную, загорелую шею он бы повесил тяжёлое дикарское монисто из золотых и серебряных монет, или, возможно, были бы лучше кораллы и жемчуг? Да, они бы ей подошли – они подошли бы к её губам и зубам …
Но как только он начал впадать в сентиментальность, ход его счастливых мыслей резко оборвался. Святые угодники! Разве она не сказала, что была замужем за Акимом? Ох, да ведь это было ужасно, это осложняло дело самым что ни на есть неприятным образом. Кто угодно, только не Аким! Он по-настоящему любил Акима. Ведь разве они не являлись товарищами по играм с тех пор, как были ещё карапузами, потом мальчуганами, и позже, в бурные годы отрочества и юности? Да даже в зрелом возрасте и в этот унылый период успокоения, постничества и добродетельного прозябания их столь своеобразная дружба сохранялась и продолжалась – своеобразная потому, что, в конце концов, они были на удивление неподходящей парой – где он, князь Яков Дмитриевич, могущественный Сатрап, и где Аким, его личный кучер и покорный крепостной. Он же совсем забыл, что Аким, отпросившись у него, уехал за сто вёрст, чтобы привезти молодую невесту после того, как его прежняя жена Пульхерия, упокой Господь её душу, усохла и скончалась три зимы назад.
И вот теперь сия молодка, красавица, стояла перед ним в это дивное летнее утро, словно картина в красивой раме из пушистых зелёных ветвей, белых акаций и брызг солнечного света. Что могло быть прекраснее и живительней после того, как он столь долго смотрел на ведьмино уродство Марфы Степановны и на её чудны́х протеже, "счастливых безумцев"?
И внезапно, охваченный одним из тех приступов гнева, которых он сам так боялся, Яков Дмитриевич топнул ногой и, будто разъярённый бык, заревел на Доминику, смирно стоявшую в позе полной покорности, потупив очи и безжизненно опустив точёные ручки: "Ступай, куда шла, девка! Что ты тут встала? Давай, давай, проваливай!"
Но когда та, оставшись абсолютно невозмутимой при столь неуместном проявлении злобы, низко поклонилась и удалилась всё той же спокойной и исполненной достоинства походкой, он в изумлении глядел ей вслед, ведь обычно бабы разбегались, как испуганные зайцы, стоило ему лишь повысить голос и велеть убираться с глаз его августейшей особы.
"Что за баба!" – восхищённо пробормотал он, а затем, чувствуя себя добродетельным и счастливым оттого, что не предпринял никаких уродливых заигрываний с привлекательной молодой женой Акима, продолжил свой путь по акациевой аллее по направлению к конюшням. Пересёкши огромную лужайку овальной формы и подойдя к белому портику, который так эффектно украшал центр длинного низкого здания, он, как водится, застал там Акима, уже готового доложить обо всём, что случилось за минувшие сутки в том мире лошадей, который так много значил для них обоих.
Яков Дмитриевич скучал по Акиму, когда тот отправился, как выяснилось, за новой невестой. Ведь его помощник, второй кучер Сидор, был никудышным глупцом, по сути, ослом, что боялся заговорить и даже взглянуть на своего хозяина. Однако теперь, когда Аким вернулся, всё снова пришло в порядок.
Приземистый и толстый, с круглым, похожим на полную луну красным лицом, старший кучер, облачённый в длиннополый, до самых колен, туго затянутый поясом тёмно-синий суконный кафтан, с седыми волосами, аккуратно разделёнными точно по центру пробором и щедро умащёнными маслом из его святой лампады, взвешенно и в мельчайших подробностях поведал Якову Дмитриевичу все новости дня в той полупочтительной-полуфамильярной манере, на которую только он осмеливался в общении с Сатрапом. Однако, к его сильному смятению, князь Яков слушал не с обычным пристальным вниманием и интересом, кои он всегда проявлял по отношению к своему избранному холопу, а выглядел озабоченным и рассеянным.
"Это всё та старая баба-яга, Марфа Степановна, что сделала его таким", – сердито подумал Аким и, дабы подбодрить хозяина, произнёс, заговорщицки подмигнув (так как знал, что тот будет доволен): "И напоследок, Ваше Сиятельство, я приберёг для Вас самую лучшую весть. Сегодня утром Красотка подарила нам роскошного и крепкого жеребёнка – вылитый его папаша, Казбек, такой же лоснящийся и атласный".
"Прекрасно!" – воскликнул Сатрап, на секунду отвлёкшись от своих мыслей. Но в следующий миг, к ещё большему смятению Акима, вдруг яростно заорал: "Болван! Дурень! Эфиоп, абиссинец – когда же ты покажешь мне свою благоверную, а, старый грешник? Ты что, позабыл все приличия и манеры? Должна она быть представлена своему Барину или нет? Что с тобой, молодожён?" И он с такой насмешкой выделил последнее обращение, что Аким уставился на него с недоумением и смутной тревогой.
"Что ж это такое, что терзает старого Ирода?" – подивился он и тут же громко запричитал: "Наш Батюшка, наш Благодетель … что ж, я приведу к Вам свою бабёнку сегодня же, сей же час, коли таково ваше княжеское повеление. Всю правду скажу, как перед Богом, – тут он осенил себя широким крестным знамением. – Я не сразу привёл её в Большой дом по той причине, что тщательно учил, как вести себя в присутствии Вашего Сиятельства, наш милосердный Господин. Она нигде не бывала, бедняжка, и ничего не знает. Однако ж если Вам доставит удовольствие взглянуть на простую, непритязательную девку, у которой нет достойных обсуждения манер и, уж конечно, внешности, о которой стоило бы упомянуть, я …"
"Полно, полно, старый ты хрен, – перебил его Яков Дмитриевич, радостно ухмыляясь при внезапном потоке сбивчивой лжи и вспоминая лучезарную красоту, коей восхищался менее часа назад. – Приходи сегодня же после обеда и приводи свою некрасивую и невоспитанную молодку. По крайней мере, над ней можно будет посмеяться, а это всегда помогает моему пищеварению!"
При виде вмиг так резко повеселевшего Сатрапа – неизменно верный признак какой-то новой чертовщины, – пришла очередь Акима всерьёз встревожиться и заподозрить неладное.
"За всем этим что-то кроется", – бубнил он себе под нос, задумчиво и неспешно пересекая двор, после того как проводил Якова Дмитриевича до ворот. И вдруг, словно громом поражённый, остановился. "Боже мой! – закричал он, тогда как его лицо приобрело апоплексический оттенок, а на лбу выступил холодный пот. – Я понял, понял! Какой же я дурак! Почему ж я сразу об этом не подумал? Он видел её, он хочет её заполучить … но – он яростно сглотнул и сжал кулаки, – это та баба, которую он никогда и пальцем не тронет, чёртов нечестивец, антихрист!"
И подумать только, что он, Аким, всегда помогал своему барину во всех его любовных похождениях, тайно похищая молодых крестьянок, отрывая их от их деревень, их домов, их семей, заставляя их кричать и рыдать от ужаса! Что ж, вот она, наконец, его кара … "Но не так, не так, Господи, нет, нет, нет – спаси и сохрани нас, грешных, защити …" Он дико посмотрел в бледно-голубое небо, словно надеясь на благосклонное знамение, а затем застонал от отчаяния, так как прямо над его головой кружил огромный ворон-падальщик, вестник дурного предзнаменования и смерти. Объятый ужасом, он кинулся бежать и, достигнув конюшни, протиснувшись сквозь кучку разинувших рты молодых конюхов и ворвавшись в здание, поднялся по шаткой лестнице в свою каморку рядом с сеновалом.
В полдень, к вящему изумлению Марфы Степановны, Яков Дмитриевич гневно наотрез отказался от лёгкого обеда из молока и яиц, который всего несколько часов назад так тщательно для себя заказал. Вместо этого он настоял на том, чтоб ему принесли обед для прислуги, и впервые за много недель поел наваристых щей со сметаной и жирного мясного пирога, а также выпил множество рюмок водки и разных вин. А стоило Марфе Степановне попытаться возражать, чтоб вернуть его на путь воздержанности и скромности, как он заорал на неё с такой яростью, что перепуганная старая дева рухнула в кресло, полумёртвая от испытанного ужаса и трясущаяся, как осиновый лист.
Когда ж Яков Дмитриевич, откушав, выходил из столовой, безумно довольный своим превосходным обедом и, соответственно, в наилучшем расположении духа, дворецкий Панкратий доложил, что Аким Петрович с невестой находятся теперь на террасе и ожидают хозяйского соблаговоления их принять.
"Ах, да, верно! Я чуть было не забыл, что приказал молодожёнам явиться", – обронил князь Яков, похлопывая себя по атласному, канареечного цвета жилету, который теперь приятно округлился, и бросая взгляд в большое зеркало, висевшее у двери на террасу. Явно оставшись довольным своим великолепным отражением, он неторопливо вышел туда, где бок о бок, облачённые в свои лучшие наряды, со склонёнными головами и почтительно опущенными плечами застыли новобрачные. И по такому случаю Аким опять умастил волосы маслом, да так, что они стояли торчком, словно пара белых крыльев, обрамляя его лицо, блестевшее ещё сильнее, чем раньше, ведь он отскрёб его со своим лучшим воскресным мылом. Доминика, даже более красивая, чем утром, была теперь наряжена в красный сарафан ("Ровно то, что ей и нужно", – одобрительно подумал Яков Дмитриевич), ярко-жёлтую косынку да бесчисленные бусы всех цветов радуги. Мерцающим каскадом те покрывали её шею, мягко позвякивая в такт ритмичному движению вверх-вниз её полной, упругой груди и сверкая на солнце короткими игольчатыми вспышками, то серебряными и золотыми, то фиолетовыми, голубыми и зелёными. Обеими руками она держала деревянный поднос с вырезанными на нём словами старинной русской пословицы: "Хлеб-соль ешь, а правду-матку режь". Но вместо хлеба и соли там красовался сладкий пирог с рассыпанными вокруг него "свадебными конфетами" в алой бумаге.
"Милости просим, угощайтесь", – в один голос промолвили Аким и Доминика, склонясь так низко, как только могли. И тут же, выпрямившись во весь рост, Доминика отошла от мужа, сделала пару шагов вперёд и, ещё раз поклонившись, протянула поднос Якову Дмитриевичу. На несколько секунд она подняла лицо, её бездонной черноты глаза пристально взглянули в его, и в жилах Сатрапа вновь закипела кровь.
"Храни тебя Бог, моя голубка", – сказал он тихо – так, чтобы только она могла его слышать.
Густо покраснев и снова отвесив поклон, она отступила назад и, опустив свой взор, заняла прежнее место рядом с супругом.
"Что ж, Аким, ты выбрал достойную бабу, в этом нет сомнений! Но почему ж ты солгал мне, чёртов негодяй? Где та некрасивая и невоспитанная девка, о которой ты мне талдычил?" – добродушно воскликнул Яков Дмитриевич, передав поднос дворецкому Панкратию, и похлопал своего старого кучера по плечу, подмигивая, фыркая и цокая языком.
"Ох, нечестивец, ох, старый пройдоха! Положил свой дурной глаз на мою бабу, мою чаровницу, мой крымский виноград!" – свирепо думал Аким. Однако снова поклонился, улыбнулся и попытался подмигнуть в ответ в почтительно-шутливой манере.
"Ну, позвольте узнать, какие свадебные подарки вы оба хотели бы получить? – спросил Сатрап, внезапно почувствовав себя добрым и щедрым. – Как насчёт новой волчьей шубы, Аким, и красной шёлковой рубахи с кавказским поясом, отделанным серебром и бирюзой? И чтоб у тебя был собственный добрый конь с новым седлом для верховой езды? И корзина с вином? И что бы ты ещё пожелал?"
"Благодетель, Яков Дмитриевич, Ваше Сиятельство", – вскричал Аким, бросаясь в ноги хозяину, дабы выразить свою благодарность и энтузиазм, но в то же время кусая губы, трясясь от злобы и думая: "Ах ты ж, грешник, ты меня ещё и подкупаешь! Я знаю тебя, и мне знаком этот взгляд! Ох, горе мне, ох, как же я несчастен!"
Для наилучшей демонстрации невинной нежности Яков Дмитриевич, подняв своего старого слугу, трижды его обнял и облобызал, будто на дворе было пасхальное утро.
"А Доминика, что же ей подарить? – поворачиваясь к ней, продолжил он. – Как насчёт жёлтого шёлкового сарафана с золотыми серьгами и ожерельем в тон? Настоящее золото, а?"
"Благодетель, Батюшка родимый, – настала её очередь упасть ничком, прижавшись лбом к земле и обхватив руками его ноги. – Как мы можем отблагодарить Вас за всю Вашу милость, наш Заступник?"
Сатрап аккуратно помог ей подняться, позволив своей руке на мгновение задержаться на её нежной, гибкой талии. Затем кончиками пальцев приподнял её подбородок с ямочкой и сочно поцеловал в губы. Словно окаменев, Аким уставился на них в безмолвном ужасе. Однако, должно быть, глаза его выдали, так как Яков Дмитриевич, внезапно нахмурившись, отвернулся и отрывисто кинул: "Теперь вы можете идти, а я уж прослежу, чтобы вы получили подарки. Ступайте, я устал. Довольно!"
Стоило им уйти, как Марфа Степановна, заворожённо наблюдавшая за этой сценой, глубоко вздохнула, покачала головой и, собрав вязанье, направилась к своему маленькому белому домишке в парке. Ибо она тоже, как и Аким, знала подноготную этого Сатрапа и понимала, что она больше не нужна, что её краткое правление завершилось.
"Мудрая старуха", – одобрительно пробормотал князь Яков, надумав и ей преподнести достойный подарок. Подарки являлись таким благословением, думал он, ведь они неизменно сглаживали ситуацию и, подобно золотым булыжникам, вымащивали ему дорогу в рай.
Бежали дни, но Доминики нигде не было видно. Аким запер её в своей каморке над конюшней и запретил даже выглядывать в окна.
"Ты только моя, и я не хочу, чтобы кто-то ещё на тебя пялился", – заявил он, лишь только они вернулись из Большого дома. И остался очень доволен, когда Доминика послушно сказала: "Хорошо, Аким Петрович, как прикажете, вы здесь хозяин". После этого она принесла деревянную рамку для своей работы и стала вышивать рушник, который намеревалась подарить церкви.
Тем временем Яков Дмитриевич, словно влюблённый юнец, самым недостойным образом шлялся по лесам и полям, надеясь хоть где-нибудь увидеть мельком Доминику. Однако тщетно. Нигде ни единого следа её присутствия, ни даже трепета вдали её подола. В итоге, не выдержав, он спросил Акима, где тот прятал свою благоверную.
"Дома, где и должна сидеть любая хорошая жена, Ваше Сиятельство", – прозвучал краткий ответ. И тут же Аким сменил тему, перейдя к рассказу о необычной болезни, поразившей несколько лошадей. Неожиданно, в течение одной ночи, две лучшие кобылы пали, а четверо молодых жеребят занедужили. Яков Дмитриевич внимательно слушал, поглаживая свою бороду, как делал всегда, погрузившись в глубокие думы. Потом вдруг улыбнулся ("Как старый кот", – подумал Аким, с тревогой глядя на него, так как радоваться, по сути, было нечему) и несколько раз кивнул головой, будто был очень собой доволен.
"Дружок, – наконец промолвил он мягким, убедительным тоном, заставившим Акима вздрогнуть, поскольку тот хорошо знал, что сие предвещало некую проделку, – меня только что осенила идея, поистине счастливая мысль, которая тебя сильно порадует. Не перебивай меня, и я поведаю тебе, что придумал".
Аким сцепил на животе кисти рук, выжидательно выставив вверх один большой палец.
"Ты, кто так искренне любит наших лошадей, – продолжил Сатрап, – и должен стать их спасителем от сей таинственной и внезапной напасти, что может оказаться для всех них гибельной. Помнишь Захара-Знахаря, ветеринара, который принадлежит графу Василию Ивановичу, обитающему в соседней тульской губернии?"
Аким кивнул, и Сатрап сделал паузу, чтоб перевести дух.
"Так вот! У него большой опыт, и он спас множество животных, когда все остальные знающие люди считали их обречёнными. Помнишь те дни свиной холеры, когда хрюшки дохли как мухи? Спас он или не спас многих из них?"
"Помню! Спас", – пробормотал Аким, угрюмо ответив на оба вопроса и нервно гадая, к чему тот клонил.
"А когда большая часть коров отделилась от стада и забрела на поле с молодым овсом, сжевав там его так много, что они стали надуваться, как воздушные шары, наполненные газом? Ты помнишь, как Захар-Знахарь проколол им желудки, дабы выпустить газ, прежде чем они лопнут?"
Аким вновь кивнул, выставив вверх второй большой палец.
"Да ведь он спас тогда почти сотню коров – половину нашего стада. Жаль, что затем ему пришлось вернуться к своему хозяину так далеко от нас! Жаль, что я не смог его купить. Но нет, старый граф отказался от моего предложения. 'Я буду рад одолжить его тебе, когда он тебе понадобится, – собственноручно написал мне он, – но продавать его – никогда, ни за что на свете! Я бы скорее продал одного из своих никчёмных сыновей …' Только представь!
Что ж, Акимушка, я желаю, чтобы ты немедленно поехал за Захаром-Знахарем. Поспеши же, лети так быстро, как только способен мчать тебя наш самый резвый конь, и в пути не задерживайся. Это вопрос жизни и смерти", – радостно заключил Сатрап, и довольное выражение его лица явно противоречило трагичности сказанного.
И, прежде чем несчастный Аким успел выдавить хоть слово протеста – ибо он сразу раскусил этот трюк так же ясно, как человек видит солнце сквозь лёгкое облако, – Яков Дмитриевич деловито приказал конюхам седлать самого сильного и быстрого жеребца в конюшне, да-да, его личного Казбека, и в мгновение ока привести Акиму Петровичу для отправки в дорогу. Затем быстро черканул несколько фраз на клочке бумаги и протянул тот Акиму.
"Отдай эту записку графу. Вот тебе немного денег, и в путь!" – крикнул он, когда конюхи прибежали обратно, ведя Казбека под уздцы.
"Но Доминика, моя жена … Я же должен сказать ей … Нам же нужно попрощаться перед тем, как я надолго уеду", – в отчаянии причитал Аким.
Но Сатрап только фыркнул: "Твоя жена? Чушь! Как тебе не совестно, остолоп?! Разве я только что не сказал на чистом русском языке, что это вопрос жизни и смерти? Только осёл станет думать о жёнах и прощаниях в такое время, когда на карту поставлены жизни, возможно, пятисот лошадей! Мчись, и скатертью тебе дорога. С Богом!" – выкрикнул он обычное напутствие отъезжавшим.
"С Богом", – пробормотал незадачливый Аким, вспрыгивая на Казбека, который уже нетерпеливо танцевал, бил копытом и вставал на дыбы, готовый полететь вперёд со скоростью стрелы, выпущенной из лука.
Конюхи отпустили уздечку, за которую его держали, и отскочили в стороны как раз вовремя, чтобы не быть изувеченными. Раздалось громкое ржание, фырканье, стремительно удалявшийся топот, и жеребец унёс всадника прочь в облаке пыли.
"Бедный Акимушка! Ему потребуется не меньше трёх дней, чтоб туда съездить", – пробормотал Сатрап, самодовольно поглаживая бороду и снова улыбаясь, как кот перед блюдцем со сливками. Затем он повернулся к одному из конюхов.
"Сейчас же приведи сюда Доминику, – приказал он. – Я сам сообщу ей эту новость".
А когда через пару минут она прибежала, наспех накинув на плечи и голову ярко-красный платок, с разрумянившимися щеками и часто вздымавшейся грудью, Яков Дмитриевич подумал, что никогда в жизни не видел столь прекрасной женщины. И его сердце забилось быстрее, пульс участился, а в ушах раздался звон, подобный звуку тысячи колоколов.
Вслух же он только сказал: "У меня для тебя печальная весть, Доминика – твой муж уехал на несколько дней. Я послал его в поместье графа Василия, чтобы привезти Захара-Знахаря. Наших лошадей нужно спасать – они тяжело больны, и только Захар сможет им помочь".
И вновь, как и в прошлый раз, она на мгновение подняла свои очи и пристально вгляделась в его. Но он тут же заметил, что в этих бездонных омутах не было и тени грусти, а только пляшущие искорки веселия и смеха.
"Сегодня же вечером, в десять, в летнем домике у реки", – прошептал он, а затем, резко повернувшись на каблуках, пошёл прочь.
Летний домик, компактный и круглый, состоявший из дюжины колонн натурального камня, увенчанных бронзовым куполом, был расположен на высоком утёсе, откуда открывался вид на извилистую реку и за ней бескрайние холмистые луга, простиравшиеся до самого горизонта.
Построенный начинающим архитектором-итальянцем, которого Сатрап во время одной из своих зарубежных поездок много лет назад встретил на римском чердаке и привёз с собой в Россию, сей домик являлся точной копией древне-римского святилища и потому официально звался Храмом Венеры, а неофициально – просто Венерой, коротко и ясно.
И именно там Сатрап тёплыми летними ночами часто проводил долгие часы до рассвета, пируя с несколькими избранными друзьями, тогда как неподалёку, скрытый в благоухавших цветущих кустах, оркестр негромко наигрывал его любимые мелодии, и молодые девы, одетые в прозрачные туники (а иногда и без оных), мягко танцевали вокруг них в лунном свете. В отсутствие же луны даже более фантастический эффект создавали римские свечи. Иногда вверх и вниз по реке проплывали подсвеченные баржи с певцами и аккомпаниаторами на цитрах и гитарах, а на противоположном берегу непрерывно гремели фейерверки. Ещё дальше, на лугах, сотни жителей деревень наблюдали за этим зрелищем, затаив дыхание и восхищаясь его красотой, но в то же время с сердцами, полными страха.
"Это же прибежище дьявола", – испуганно шептались они, осеняя себя крестным знамением и бормоча молитвы.
Затем: "Гляньте, гляньте", – кричали они, стыдясь, когда девы сбрасывали свои туники и исполняли срамные пляски, несомненно, придуманные в преисподней.
"Ох, неужели это моя Таня … моя Машунька … моя Вера … творит такое, чтобы доставить удовольствие этим бесам? – стонали их несчастные родители. – Неужели мы привели их в этот мир для подобного позора? О, Боже Всемогущий, прости и помоги нам!"
И они искренне надеялись и молились о знамении, возможно, об ударе с Небес молнии, который разрушил бы этот грешный домик Венеры вместе с Сатрапом и всеми его друзьями, избавив их дочек, несчастных белых голубок, от участи худшей, чем холера.
Но только однажды за все эти годы Господь проявил Свой гнев. Это случилось особенно жаркой ночью, когда ни одно дуновение прохладного ветерка не шевельнуло зеркальную гладь реки или высокую траву на спящих лугах. Огромная чёрная туча, взявшаяся, казалось бы, ниоткуда, закрыла собой луну. Вдруг сверкнула ослепительная вспышка, раздался трескучий грохот – Небеса разверзлись, и в ослепительном сиянии крестьяне увидели славу Его.
"Это Он, Господь наш! Наконец-то настал Судный день!" – кричали они, падая ниц, а молнии всё сверкали, и гром всё гремел, отдаваясь эхом, словно залпы тысячи пушек. Но через пять минут всё было кончено: молнии и гром прекратились, дождя будто и не бывало, и страшная туча ушла восвояси, вновь открыв их глазам греховную прелесть луны.
Хотя вокруг Храма Венеры и били молнии, опьянённые вином гуляки веселились и потешались над стихией, и пир жизнерадостно продолжался.
Но крестьяне были довольны, ведь Бог проявил гнев Свой – Он был на их стороне.
Когда конюшенные куранты пробили половину десятого, Доминика, закутавшись с головы до пят в необъятную чёрную шаль, открыла дверь своей комнатушки и, прислушиваясь, замерла. Она различала все знакомые ночные звуки конюшни: редкий ленивый топот и сонное фырканье лошадей, взмахи их длинных хвостов, случайные удары их крупов и ног по дощатым перегородкам их стойл. Склонившись над дубовыми, почерневшими за долгие годы перилами, она ощутила, как в ноздри ударила поднимавшаяся плотными волнами привычная острая вонь. В тусклом свете масляных ламп, висевших через равные промежутки в длинном проходе меж стойл, она могла разглядеть свежеуложенные подстилки из золотистой соломы, бледно-зелёное сено в яслях, широкие блестящие спины ухоженных лошадей. Кто-то из них ел, жуя старательно и неспешно, словно наслаждаясь каждым пучком; многие спокойно дремали, низко склонив головы, а некоторые лежали на соломе и крепко спали. Лишь стойло Казбека было пустым.
Сонный конюх дремал на стуле возле запертых входных ворот. Больше никого не было видно. Перекрестившись и ещё плотнее натянув шаль, Доминика, бесшумно и резво сбежав по шатким ступенькам, выскользнула через маленькую боковую дверку в ночную тьму. Луны не было, только сонм звёзд, что показались ей необычайно большими и яркими. Затаив дыхание, она заскользила по длинной дорожке, время от времени останавливаясь, вглядываясь во мрак впереди и прислушиваясь к малейшему звуку. Но всё было спокойно. Только где-то вдалеке лаяла собака и ухал филин. Дрожа от возбуждения, она то делала несколько тихих шагов, то замирала, то снова двигалась вперёд, пока наконец не добралась до самого угла здания, где начинались кусты и деревья. Там, под прикрытием густой листвы, она бросилась бежать, хорошо зная узкую тропинку, которая вела к акациевой аллее и к утёсу, где стоял Храм Венеры. В голове у неё стучало, и сердце учащённо билось. Впервые в жизни ей стало страшно, словно за каждым деревом таилась опасность.
"А что, если Аким Петрович на самом деле вовсе никуда не уехал? – подумала она. – А что, если он вернётся? Он ведь убьёт меня! Я знаю, что убьёт". И тут она рассмеялась. "Ну и что с того! – громко и вызывающе воскликнула она. – В конце концов, двум смертям не бывать, а одной не миновать!" Её голос эхом разнёсся в ночной тишине, и сразу же в ответ из Храма Венеры, который был теперь совсем близко, послышался низкий протяжный свист. Ещё десяток шагов, и меж деревьев показались высокие колонны. Две сильные руки притянули её к себе, и нетерпеливый голос Сатрапа произнёс: "Ну, наконец-то, моя красавица! Почему так долго?"
Однако прежде чем она успела ответить, что на самом деле пришла вовремя, церковные колокола в деревне отбили полный час и сквозь ночную тишь донёсся голос сторожа-обходчика: "Слу-у-ушай, десять часо-о-ов, всё споко-о-ойно".
Старые ищейки, Тайга и Соболь, подошли обнюхать подол Доминики. Затем, довольные тем, что её узнали, они улеглись у входа и, будто сфинксы, уставились немигающим взором в пространство, лежавшее перед ними.
"Доминика, Домнушка, золотце моё, я так долго этого ждал", – прошептал Яков Дмитриевич, обнимая её за плечи и привлекая к себе. Но быстрым, нетерпеливым движением она его оттолкнула и повернулась к нему лицом, уперев в бока руки.
"О, нет, так не пойдёт! Все вы одинаковы, – воскликнула она. – Что князь, что крепостной, вы хотите лишь одного – добиться моей любви, а потом быстро променять на другую. Но я не Ваша рабыня, Ваше Сиятельство, я свободна".
"Что значит свободна, а, дочь сатаны? – взревел Сатрап во вспышке гнева. – Может, ты и явилась из ада, но, насколько я знаю, ты вышла замуж за моего крепостного, Акима. Так что теперь ты тоже моя крепостная и принадлежишь мне душой и телом, и я могу делать с тобой всё, что пожелаю".
"О, нет, – ответила она, запрокидывая голову и вызывающе заливаясь смехом. – Я Вам не принадлежу! Я принадлежу только себе и своему народу".
"Твоему народу? Что ты имеешь в виду, баба?"
"Я имею в виду, что я цыганка, поскольку и моя мать – цыганка, и я рождена ею в таборе и там воспиталась и выросла".
"Цыганка? Девка, зачем ты мне лжёшь! – заорал Сатрап, совсем выйдя из себя. – Да ты ведь даже не похожа ни на одну из тех проклятых эфиопок! О чём ты говоришь? Что ты мелешь? Взгляни на свою кожу! Она вовсе не такая, как у них! Она не тёмная, а золотистая от загара … Ну, что с тобой такое? Ты с ума сошла? Пьяна? Как ты смеешь шутить со мной так беспардонно?"
"Мой отец был гаджо, то бишь русским – вот почему у меня такой цвет кожи, – тихо ответила она. – Но тем не менее, кто бы мой отец ни был, я цыганка и свободна как ветер, могу идти, куда захочу, и делать то, что пожелаю! Если кто мне понравится, я буду его. Если же нет, то меня ни за какие деньги не купишь".
Её голос зазвучал зычно и звонко, и ищейки беспокойно шевельнулись и зарычали.
"Пусть Вы и князь, – продолжила она, сверкая очами, – но мой народ самый древний в мире. Он странствовал по земле задолго до того, как кто-либо из вас родился. Мы никому не принадлежали и никогда не станем принадлежать! Но что вы знаете о нас, кроме того, что у нас тёмная кожа, мы живём в палатках и скитаемся по всему миру по собственной воле? …"
"Да! Даёте лживые предсказания судеб, крадёте всё, до чего могут дотянуться ваши грязные руки и наводите на невинных христиан свои злые чары, – перебил Яков Дмитриевич, сердито трижды сплюнув через левое плечо, дабы отогнать любую порчу, которую она могла на него навести. – Чума на тебя, девка! Если б я только знал, что в тебе течёт цыганская кровь, я бы тут же вышвырнул тебя из своих владений, дочь проклятого рода!"
Но Доминика только снова рассмеялась. "Не так быстро, Батюшка родимый, Сокол своей Отчизны!" – прошептала она, подвигаясь к нему поближе. Он чувствовал тепло её тела, в то время как странный, незнакомый аромат окутал его со всех сторон.
"Не смей проделывать со мной свои цыганские штучки!" – пробормотал он, но его гнев уже исчез.
"Чёрт бы побрал эту девку, но она прекрасна, – подумал он, невольно любуясь ею, будто породистой кобылкой. – А этот огонь в её глазах! …"
В любом случае, это было что-то новенькое, что-то необычное! Дьявол её подери – она была полна сюрпризов! То скромная и сдержанная, с опущенными очами и девичьим румянцем – сплошь мёд и сахар, – а то, без единого слова предупреждения, вспыльчивая юная ведьма, превращавшаяся из крестьянской девушки в дикую цыганку! И именно тогда, когда он меньше всего этого ожидал, когда думал, что она вот-вот растает в его объятиях, если не с радостью, то, по крайней мере, из чувства полной покорности. Но это было намного лучше. О, святые отцы, да! Яков Дмитриевич восхищённо прищёлкнул языком, и кровь забурлила у него в жилах. Уже давно он не чувствовал себя столь возбуждённым.
"Что ж, если она хочет поиграть – быть посему, – весело решил он. – Пусть эта лошадка покажет, как умеет гарцевать. На такое стоит посмотреть – честь ей и хвала за то, что заставила меня так себя чувствовать! Да ведь я снова молод" … И он неожиданно расхохотался и крикнул: "Танцуй, цыганка, и спой для меня – докажи, что не лжёшь и достойна своего табора. Давай …"
И он принялся медленно и ритмично хлопать в ладоши, напевая известную цыганскую мелодию.
При этих звуках Доминика тихонько вскрикнула и, сорвав с себя чёрную шаль, легко выбежала на середину Венеры. Мгновение она стояла совершенно недвижимо, запрокинув голову, закрыв глаза и опустив по бокам руки. А затем по её телу пробежала дрожь. Её веки, словно отяжелевшие от долгого сна, медленно поднялись и загадочная полуулыбка целиком изменила выражение её лица. Её плечи стали двигаться вверх-вниз – раз, другой, снова и снова, в такт с ритмичными хлопками Сатрапа. Ещё пара секунд, и она, едва двигая бёдрами, заскользила по кругу, хотя в то же самое время всё её тело от талии и выше, дрожало, как в лихорадке. Необычный эффект состоял в том, что одновременно исполнялись как бы два разных танца: в одном из них участвовали только её ноги, плывшие особенным, скользившим образом по мраморной поверхности пола Венеры, в то время как в другом её плечи, грудь и вытянутые в стороны ладонями вверх руки не переставали дрожать со всё нараставшей частотой по мере того, как темп танца безумно ускорялся.
Всё бойчее и бойчее хлопал в ладоши Сатрап, всё быстрее и быстрее летела по кругу Доминика, пока единственным, что он мог ещё видеть, были её развевавшиеся юбки и сверкание бус и серёг.
"Довольно! – закричал он, внезапно прекратив и опускаясь на мраморную скамью, обессиленный, будто плясал он сам. – Хорошо, девка, ты умеешь танцевать! А теперь успокойся и пой".
Когда же, завершив последний оборот, с взметнувшимися вокруг неё широкими юбками она опустилась отдохнуть у его ног, он склонился над ней, гипнотически глядя прямо в её глаза, будто главный таборный певец, призывавший свою смуглую примадонну взять её первую ноту. Затем, когда она полностью восстановила дыхание, он запел знаменитую старую цыганскую песню.
И Доминика мгновенно подхватила её, медленно покачиваясь в ритме знакомых слов взад и вперёд. В её типично цыганском голосе зазвучали глубокие, пульсирующие ноты, и по спине Сатрапа побежали мурашки восторга. Возбуждённые мысли, будто потоком, хлынули сквозь его мозг.
"Она цыганка, в этом нет сомнений – она совершенно точно не лжёт. Никто, кроме цыганки, не мог бы так петь и танцевать. Но разве кто-нибудь когда-нибудь слышал о белых цыганках? Она словно белая ворона. Ну, может, и не совсем белая, ведь, в конце концов, она золотиста. Впрочем, как и все деревенские девки летом. Ох, что за баба! … Откуда ж она только взялась? Зачем появилась в моей жизни? Что всё это значит? …"
Однако Доминика уже закончила свою песню и вопросительно смотрела на него снизу вверх.
"Нравится ли моему Господину моё пение? Оно доставило ему удовольствие?" – застенчиво спросила она без малейшего следа своей прежней дерзости. В этот миг она казалась совсем юной, просто маленькая девочка, сидевшая на полу с растрёпанными волосами и сиявшими ярко глазами, всё ещё слегка учащённо дышавшая после недавних усилий.
"Оно прекрасно, Домнушка, – вновь наклоняясь к ней, пробормотал он, – мне понравилось, и ты будешь петь для меня ещё не единожды. А теперь давай-ка поднимись, сядь сюда и поведай мне о себе".
Он взял её за руки и усадил на скамью, снова почувствовав тепло её тела и аромат необычных духов.
"Кто ты? – придвигаясь к ней поближе, прошептал он. – Почему ты оставила свой народ и вышла замуж за Акима, крепостного, старого, бедного да к тому же некрасивого? Наверняка ты могла бы найти в своём таборе кого получше".
"Сейчас я расскажу вам всю правду, мой Господин, ибо настало подходящее время", – медленно, словно взвешивая каждое слово, ответила она.
Взошла полная луна, и в этом свете её лицо казалось бледным, а глаза – огромными и бездонными. Он заметил, что теперь в них не было огня, а лишь выражение глубокой печали.
"Боже мой, как же ты изменилась! – удивлённо промолвил он. – Ведь теперь ты стала похожа на Сибиллу, жрицу в языческом храме". Он мягко засмеялся. "Да, вот кто ты – юная жрица Храма Венеры … или – добавил он с внезапной тревогой, – возможно, всё-таки ведьма. Кто знает?" И суеверно осенил себя крестным знамением.
Но Доминика серьёзно покачала головой. "Нет, я не ведьма и не та, кем Вы меня до этого назвали. Я всего лишь цыганка, вот и всё. Но сейчас, прямо сейчас, я пришла в ключевую точку своей судьбы".
"Твоей судьбы?" – недоумённо воззрился он.
"Я имею в виду то, что было предсказано мне при рождении, и нынче же вот-вот произойдёт", – спокойно ответила она, и Сатрап почувствовал, как по его телу пробежала холодная дрожь. На этот раз, однако, она была вовсе не приятной. Напротив, она походила на то, что испытываешь, когда "гусь идёт по твоей будущей могиле".
"И что же это, позволь спросить, такое?" – саркастически поинтересовался он, в то же время думая: "Эта девушка бесценна. Одно сильное ощущение за другим. С ней не соскучишься".
"Моя судьба велит мне выйти за Вас замуж, – с достоинством ответила она, – и время для этого почти пришло".
Яков Дмитриевич ахнул и побагровел. "Замуж?! – вскричал он. – Ты выйдешь за меня замуж? Я на тебе женюсь?" От изумления он не мог подобрать каких-либо других фраз.
Она снова кивнула, и её серьги зазвенели.
"Да, это предначертано звёздами, и это сбудется. Вы женитесь на мне, и я рожу Вам сына и дочь".
Рассерженный и даже разъярённый, но вместе с тем потерявший от изумления дар речи, князь Яков мог только смотреть на неё неверящим взором.
"Не злитесь на меня, о, Благодетель мой, и я Вам всё объясню, – продолжила она своим низким, певучим голосом, словно декламируя. – Вы помните певшую в московском таборе цыганку Стешу?"
"Стешу? Ну, да, – взволнованно воскликнул Сатрап, – конечно, я очень хорошо знал её двадцать лет назад. Никто не мог петь лучше Стеши. Она часто для меня пела. Какой же у неё был голос! Какая красота! А как она умела танцевать! Я никогда не видел ничего подобного, даже у тебя, моя голубка".
"Расскажите мне о ней побольше", – нетерпеливо попросила Доминика.
"Что ж, есть о чём порассказать. О Стеше можно было б написать целую книгу. Мужчины сходили по ней с ума и бросали к её ногам золотые монеты! Вечер в таборе, когда выступала Стеша, стоил, поверь мне, кучу денег! Она стала богатой и знаменитой и могла бы, если б захотела, выйти замуж за любого из графов, князей и даже членов царской фамилии. Но нет, ей не было до нас никакого дела. Она лишь смеялась, поддразнивала и ускользала от нас, когда мы думали, что наконец-то её поймали.
Как же мы бились за неё! – продолжил он, пока Доминика зачарованно смотрела на него мечтательными глазами. – Двое бедняг даже покончили с собой, несчастные дурни – пожилой генерал и молодой корнет. Однако скандала не случилось ни разу, так как табор охранял её, будто стая ястребов, защищая от любой опасности. Её почти никогда не оставляли одну. На заднем плане всегда виднелся Алёша либо кто-то ещё – чаще всего Груша, дряхлая 'старейшина табора'. Святые отцы! Как же мы ненавидели Грушу! Она была страшна как смертный грех, отвратительнейшая старая ведьма из когда-либо существовавших, и неизменно вставала у нас на пути. Мы приглашали Стешу поужинать, или покататься на тройке, или прийти на какой-нибудь праздник, а за её спиной, как зловещая тень, постоянно маячила Груша, настоящая баба-яга, сгорбленная, скрюченная и морщинистая, как подмороженное яблоко, однако с пронзавшими тебя глазами, которые ничего не упускали, глазами, которые невозможно было забыть. И она садилась в углу, сердито взирая, словно сова, и почти не произносила ни слова. Лишь время от времени она кидала Стеше что-то на их языке, но этого было довольно. Что бы она ни процедила, это осаживало Стешу, будто уздечка. Однажды мы даже попытались напоить старуху сонным зельем, но, как ты думаешь, это помогло? Нет, ничего не вышло! Та выглядела даже бодрее, чем прежде, – говорю же, она была колдуньей".
Доминика рассмеялась. "Я помню Грушу, когда была ещё голопузенькой крохой. Говорят, ей, когда она умерла, было целых сто двадцать лет. И именно она предсказала мою судьбу. Она ведала судьбу каждого, и всё, что она ни предсказывала, всегда сбывалось".
"Это потому, что она была ведьмой, как мы и догадывались! – воскликнул Сатрап. – Мы решили, что она похитила Стешу. Однажды они обе исчезли, и больше мы их никогда не видали. Выяснить что-либо в таборе нам не удалось, но молва разнесла, что Стеша сбежала с молодым помещиком из какой-то дальней губернии. И даже Груша не сумела остановить её, а возможно, и не пыталась. Кто мог постичь игры её порочного старого разума? Люди гутарили, что помещик тот, явившись в Москву лишь на пару недель, однажды вечером случайно увидел Стешу и сразу же в неё влюбился. Что ж, в этом не было ничего необычного. Самое удивительное заключалось в другом – что она также влюбилась в него и они, как считают, вместе сбежав, поженились".
"Это правда, – серьёзно произнесла Доминика. – Я знаю, поскольку Стеша – моя мать, а молодой помещик, как Вы его назвали, являлся моим отцом. Да, они полюбили друг друга и сбежали. И именно Груша им помогала. Она сказала, что это их судьба. Они были счастливы, действительно счастливы, как говорит моя мать. Но табор был зол. Там все возненавидели его за то, что он украл их Стешу. Так или иначе, он недолго прожил. Менее чем через год его нашли плывшим по реке мертвецом. Никто не знал, что случилось, однако догадаться нетрудно".
Глядя в темноту, она замолчала. "А что было потом?" – нежно взяв её за руку, спросил Сатрап.
"А потом родилась я, и моя мать вернулась в табор. Вскоре она вышла замуж за его вожака Алёшу и принесла ему много детей, но меня она всегда любила больше них всех. Именно она поведала мне о моей судьбе, которую предсказала после моего рождения Груша: что я выйду замуж за мужчину, по возрасту годящемуся мне в деды, но который будет богатым и могущественным князем".
При этих словах Сатрап усмехнулся. Он больше не сердился на неё. Напротив, во всём услышанном было нечто весьма приятное. А почему нет? Красивая молодая цыганка, умевшая петь и танцевать; та, кто могла бы его развлекать и наконец занять место, которое его бедная жена Вера Семёновна – да пребудут с ней Небеса – уже очень давно оставила вакантным. Да, почему бы и нет? Он обучит девушку хорошим манерам, "отполирует" её и отправится с ней за границу, а затем, когда она будет готова, когда превратится в "законченное творение", он привезёт её в Санкт-Петербург и представит в свете и при Дворе. А какой может разразиться скандал, когда там узнают правду! Это может быть забавно, что-то новенькое, ради чего стоит жить и вновь сделать своё существование осмысленным и волнующим!
"Но зачем, чёрт побери, ты тогда вышла замуж за Акима?" – спросил он.
"О, это просто, – серьёзно ответила она. – Два года назад он увидел меня в таборе, когда мы здесь проезжали. Мне было тогда четырнадцать, и он поклялся, что женится на мне, но моя мать сказала, что я ещё слишком юна. Итак, два года спустя он приехал за мной и сдержал свою клятву. И вот я здесь".
"И всё же я не понимаю, почему ты согласилась за него выйти", – настаивал Яков Дмитриевич.
"Потому что моя мать хотела, чтоб я была рядом с Вами. Она знала, что Вы – моя судьба. Аким был только ступенькой на этом пути. Бедный Аким Петрович!" – вздохнула она.
"А как же табор и все твои люди? Как вообще они могли позволить тебе выйти за него замуж?"
"О, они тоже знали о моём предназначении. Они ничего не могли поделать. 'Чему быть, того не миновать'. Вот и всё. И слово моей матери имеет для них большой вес. Она могущественна. Кроме того, они говорят, что я не чистокровная цыганка, и это тоже имеет значение".
"Но, Боже правый, – воскликнул Сатрап в притворной тревоге, так как и в самом деле эта мысль нравилась ему всё больше и больше. – Ты действительно веришь, что я женюсь на тебе – цыганке?"
"А что мешает, Ваше Сиятельство? Коль цыганка молода и красива и сможет подарить Вам сына? Мы знаем, что именно этого Вы всю свою жизнь и желали. А сын будет прекрасным и сильным, с огнём, текущим по жилам …"
"И цыганской кровью в придачу! Нелепица! – закричал Сатрап. – А кроме того, что с Акимом?"
Та пожала плечами, и глаза её наполнили слёзы. При виде подобного зрелища Яков Дмитриевич почувствовал, что его сердце смягчилось, словно таявшее масло.
"Не смотри так печально, голубушка, – прошептал он, заключив её в объятия и целуя сладко пахнущие пряди. – Помнишь пословицу: 'Перемелется – мука будет'? Так и в жизни: думаешь, что дорога впереди будет неровной и трудной, а она оказывается гладкой, как аккуратно расстеленная скатерть. Пусть будет так и у тебя, княгинюшка".
При этом последнем волшебном обращении Доминика вздрогнула и с тревогой взглянула на него, чтобы понять, не насмехался ли он. "Я дам ему пощёчину, если он будет надо мной издеваться, не посмотрю, что князь, – в отчаянии подумала она. – Буду царапаться, кусаться и, может быть, пырну его, гадкого старика, ножом! Но нет, святые отцы, нет! Он сказал серьёзно … Он не шутит, не шутит! Княгинюшка! Ох и судьба-судьбинушка!" Поддавшись внезапному порыву чувств, она, восторженно обвив руками шею Якова Дмитриевича, страстно поцеловала его в губы.
"Вот! – торжествующе прошептала она. – И это только начало. Ох, как я буду любить Вас! Я покажу Вам, как может любить цыганка. Только дождитесь женитьбы".
"Нечего ждать!" – возбуждённо взревел Сатрап, подхватил её на руки и проворно понёс к знаменитой мраморной скамье, покрытой мягкими подушками и известной по всей округе как "Прокрустово ложе" (хотя, разумеется, крестьяне не имели ни малейшего понятия, что сие означало на самом деле).
Но в этот миг, суливший столько удовольствий, достойных самой Венеры, собаки с пронзительным радостным лаем вскочили и побежали вниз по ступенькам в близлежащие заросли, словно желая поприветствовать кого-то, кого они знали и были рады увидеть. Сатрап и Доминика, прислушиваясь, сразу встревоженно замерли. Воцарилось безмолвие. Затем сквозь тишину тёплой, благоухавшей ночи, самой романтичной ночи на свете, донеслись безошибочно узнаваемые и слишком неприятные звуки – глухой голос, тяжёлое дыхание и хруст сухих веток под ногами … В следующую минуту на пороге Храма Венеры возник Аким с исказившимся от ярости лицом, растрепавшимися волосами, что были обычно гладкими от масла, и глазами, налитыми кровью …
"Смотрите, кто пришёл, – невозмутимо заметил Сатрап. – Могу я поинтересоваться, как это столь быстро тебе удалось вернуться?"
"Ты дьявол! … А ты блудница! – выдохнул Аким хрипло. – Я убью вас обоих!" Он бросился на Сатрапа.
"Зверь! Антихрист! – закричал он. – Молись о прощении своих грехов! Вот и настал твой час! И я тот, кто принёс тебе Божью кару".
Но Сатрап, огромный и мощный, был уже готов к нападению. С гневным криком он обхватил Акима своими крепкими ручищами и стал стискивать его в объятиях, как разъярённый медведь сжимает свою жертву. Низенький и тучный, несчастный Аким отчаянно извивался в тщетной попытке освободиться, вопя: "Смерть антихристу! Смерть, смерть!"
Однако ж чем больше он вопил и извивался, тем пуще сдавливала его первобытная медвежья хватка. Боровшиеся кружили по Храму Венеры, кренясь и раскачиваясь, матеря и проклиная друг друга, тогда как Доминика, скорчившись за "ложем Прокруста", быстро бормотала подходящие к этому случаю безотказные цыганские заклинания; сбитые же с толку собаки усугубляли неразбериху и суматоху, преследуя сцепившихся и наскакивая на них, истошно лая и рвя на них одежду. Воздух в Храме Венеры и вокруг него был наполнен зловещим шумом пыхтения и топота, ругани и воплей, рычания и лая, а ещё рвущейся добротной, в поместье выделанной ткани. Не смолкало и беспрерывное журчание цыганской ворожбы, и уже вскоре та стала действовать. Ибо, без сомнения, сама судьба Доминики вмешалась, чтобы положить конец сей неприличной потасовке.
Всё случилось с поразительной быстротой, в эффектной череде кратких и взрывных действий, резких, будто молния. Когда клыки разгорячённого Соболя вонзились в бедро Сатрапа, тот, взвыв от боли, на секунду ослабил хватку. Аким мгновенно выхватил нож … Доминика вскрикнула. И тут уже распорядилась её судьба. Ведь в этот решающий момент Аким, споткнувшись об ищейку, упал со ступенек, увлекая за собой на траву и Сатрапа. Снова заключив друг друга в объятия и отчаянно борясь, они покатились вниз по склону к самому краю утёса, на котором стоял Храм Венеры, – сначала неторопливо, потом, понемногу набирая скорость, всё быстрее и быстрее. Но как раз в ту секунду, когда Доминика в безумном ужасе решила, что сейчас они оба навсегда исчезнут, забрав и её судьбу с собою, Сатрап отпустил Акима и, ухватившись за старый, но крепкий куст, который, по счастью, он сам посадил много лет назад, чтобы укрепить землю от обрушения в реку, вцепился в него изо всех сил, повиснув над бездной с дико болтавшимися ногами. А горемыка Аким, чья дородность, по сути, и стала причиной его смерти, продолжал катиться к роковому краю. Его тело в последний раз мелькнуло над обрывом, а чуть позже в воде раздался громкий всплеск. И снова всё вокруг стихло. Только лунный свет безмятежно играл на зыбких, всё расширявшихся кругах, что вскоре достигли противоположного берега.
Такова скандальная история о том, как мой прадед по отцовской линии Яков Дмитриевич женился на моей прабабушке-цыганке. Потому что, конечно, и она, и полезный старый кустарник сумели спасти его от страшной участи Акима, благополучно позволив вернуться обратно на твёрдую землю.
И на следующий же день, как только тело Акима было найдено плывшим вниз по реке, Сатрап выразил бескрайнее изумление и глубокую скорбь по поводу безвременной кончины своего старого верного друга. К удовлетворению всех местных жителей, он устроил великолепные похороны, на которых они с Доминикой были главными скорбевшими, облачёнными полностью в чёрное, с подобающе понурыми спинами и заплаканными глазами.
"Взгляните на их горе. Взгляните, как они убиваются", – одобрительно шептались сельчане, в то же время стараясь не выказывать своё радостное предвкушение предстоящих первоклассных поминок.
Но позже их одобрение сменилось явным смятением, когда пару месяцев спустя Яков Дмитриевич с большой помпой обвенчался с Доминикой в деревенской церкви – на что его друг-архиепископ выдал вдове особое разрешение – и, не медля ни минуты, уехал с ней в неизвестные дальние страны.
Именно тогда и возникло множество различных предположений и слухов относительно внезапной и загадочной кончины Акима. Почему же Казбек в ту роковую ночь вернулся к конюшне без седока? Что Сатрап написал в той записке старому графу Василию, которую Аким вёз с собой? И как мог Аким, будучи с детства хорошим пловцом, утонуть? Может, кто-то столкнул его в воду? А вдруг его отравили или умышленно умертвили, а затем уже бросили в реку?
Десятки фантастических баек стали сказывать о таинственной смерти Акима – придумок, которые чем дальше, тем сильнее заставляли кровь стыть в жилах и волосы вставать дыбом. Ведь многие в конюшне помнили, с каким вожделением смотрел Сатрап на Доминику, когда та ещё была женой Акима.
Как ни странно, судьба Доминики сложилась, как и было предсказано. Она родила ему сына Фёдора, моего деда, известного как Дедуся, а следом за ним дочь Домну, и, верный своему слову, Сатрап провёл с ней несколько лет за границей, где дал ей положенное образование и осуществил её "полировку". Затем он привёз её в Санкт-Петербург и представил "граду и миру". Её смуглая красота произвела настоящий фурор, но никто так и не узнал, что она была цыганкой. Ибо князь Яков, старый грешник и плут, каким-то образом сумел создать впечатление, что она дочь безвестного мелкого помещика из некоей дальней провинции (что отчасти, конечно же, было правдой), и сие объяснение, как видно, представителей высшего света устроило. Со временем она стала одной из королев общества, известной как "единственная и неповторимая, несравненная княгиня Доминика", славившаяся своей красотой, остроумием и, что важнее всего, культурным и политическим салоном.
И лишь двадцать лет спустя, когда молодой царевич – а не кто-либо иной! – отчаянно влюбился в юную Домну, дочь Доминики, и фактически решил тайно на ней жениться, старая история Акима и цыганки была внезапно отрыта и публично возвращена к жизни. Разразился грандиозный скандал, и Доминика с дочерью сбежали в Париж из Санкт-Петербурга – Сатрап к тому времени уже несколько лет как умер. Именно там Домна вскоре вышла замуж за безденежного, но любезного молодого француза и через несколько месяцев умерла при родах. Доминика же позднее вернулась в Стронское и жила там в уединении до самой своей кончины.
Я собрала воедино подробности бурного романа моих прадеда и прабабки, взятые из старого дневника и многочисленных писем их родственников и друзей тех лет, что нашла в семейном архиве.
И с тех пор меня мучает вопрос, насколько мои наследственность, окружение и традиции помогали мне или мешали? Была ли я, Тамара, действительно свободна, вступая на тропу своей жизни, или имела неразрывную связь с той стезёй, что предназначила мне моя судьба?
Второе поколение
Викторианцы
Моя двоюродная бабушка по линии матери, княгиня Наталья Григорьевна, для которой Род значил всё, была типичной рассказчицей старой школы. Престарелая и тщедушная, полулёжа в своём шезлонге в гостиной перед скромным и бесшумным камином (так как терпеть не могла ни трескучее, ни ревущее пламя), она часами плела макраме, мягким и тихим голосом нанизывая друг на друга длинные прекрасные истории о разных членах любимого клана.
И с тех пор, как себя помню, я сидела всегда у её ног на белоснежной медвежьей шкуре и слушала зачарованно. Сначала, когда я была маленькой, её рассказы являлись простыми и детскими, касаясь лишь ранней юности различных наших с ней родственников; позже, по мере моего взросления, и её изложение становилось всё более зрелым. В конце концов однажды – точнее, прямо накануне моей женитьбы – она торжественно вручила мне тонкую рукопись, мелко исписанную её собственным, старомодным и чётким почерком.
"Тамара, дитя моё, – писала она выразительно, – я посчитала это более ценным, чем любой дар из самоцветных камней, серебра или золота. Тут лишь некоторые из семейных историй, которые я вновь и вновь тебе рассказывала и большинство из которых ты, без сомнения, уже наизусть помнишь. Но на память следует полагаться не так сильно, как на письменное слово. А потому я писала для тебя это день за днём, понемногу, с тех пор как поняла, что ты – моё единственное прошлое. Ведь семейные традиции, даже почитание предков – это огонь, который всегда должен гореть в твоей душе, и, когда меня не станет, ты будешь нести тот факел, что я тебе сейчас передаю. Но помни, что ты никогда не должна идеализировать или осуждать, поскольку в истории семьи, как и в истории народов, ничто не бывает однобоким. Ты найдёшь там, как и везде, и хорошее, и дурное. Брызги золотого света и омуты кромешного мрака, разделённые длинными серыми полосами. И следует радоваться свету, восхваляя добродетели, которые тот несёт, и скорбеть во мраке, молясь о прощении тех, кто согрешил. Когда-нибудь и ты, Тамара, поведаешь эти предания своим детям, а возможно, и добавишь к моим записям свои собственные, чтоб они могли их прочесть. Я наблюдала за тобой, дитя моё, и вижу, что ты также, как я, любишь и мечтать, и жить в прошлом. Так что, хочется верить, и ты когда-нибудь – кто знает? – решишь воспользоваться этой летописью нашего рода".
И вот теперь, спустя годы, та лежит открытой на моём столике. Её тонкие, хрупкие листы слегка пожелтели, однако до сих пор хранят слабый, еле уловимый запах духов, коими пользовалась её составительница в то давнее время.
Приведу историю, которую двоюродная бабушка Наталья записала в несколько высокопарном стиле того периода о своей старшей сестре, моей бабушке по матери, Александре.
Как тебе, Тамара, прекрасно известно, мой отец и твой прадед, князь Григорий, был одним из самых выдающихся людей России и признан таковым ещё при жизни. Ведь уже тогда труды по современной истории посвящали десятки вдохновенных страниц той славе, которую он принёс своей стране как сравнимый лишь с великим Суворовым военный гений. Он, будучи ещё совсем молодым во время известной кампании 1812-го года, отличился сильнее других и даже способствовал поражению Бонапарта. С тех пор его никогда не подводили талант и удача, и вехами его жизни стали победы, положенные им к ногам любимой России, – стратегические успехи, проявление личной храбрости на полях сражений, завоевание городов, обширных земель и высокогорий.
Император в знак благодарности – за то, что сии победы во многом украсили величие его правления, – осыпа́л твоего прадеда всеми мыслимыми наградами: орденами, титулами, украшенными драгоценными камнями шпагами, миллионами рублей, дворцами и поместьями, постоянными повышениями в званиях, – и оказывал ему царские почести везде, где тот появлялся на публике.
Воистину, тот был любимцем богов, ведь его семейная жизнь стала столь же счастливой и успешной, как его военная карьера. Когда ему было уже тридцать девять, он обвенчался с княжной Тамарой Дорадзе, юной кавказской красавицей, являвшейся потомком знаменитой грузинской царицы Тамары. Как ты, разумеется, знаешь, именно поэтому и тебя, дитя моё, назвали Тамарой. В этом браке родились три дочери: двойняшки Аннетт и Александра, а чуть позже и я, Наталья.
Отец наш, обожая Александру, баловал её необычайно, поскольку та была столь же прекрасна, сколь невзрачна была её двойняшка, и являлась такой же властной, какой застенчивой и кроткой была другая. К сожалению, он выказывал свои предпочтения так явно, что Александра с раннего детства ни в чём не имела отказа и, осознавая своё на него влияние, изрядно попортила жизнь всем домочадцам.
"Обычная оторва, однако добрая и сердечная", – написала о своей маленькой подопечной её английская няня, мисс Ха́рриет, по возвращении домой в Лондон.
"Ин пети́т фи волюнтэ́р и каприсьёз куа́к бьен белль и парфуа́ шармо́нт1", – записала в своём дневнике мадемуазель Жакье́, французская гувернантка.
И: "Жёли́ ком он кёр, ми тре дифиси́ль, ансипорта́бле мем, мон шер ами́2", – жаловалась на неё твоя прабабушка в конфиденциальном письме своему мужу.
Мать, няня и гувернантка – все они придерживались абсолютно похожего мнения, но всё же сей "невыносимый ребёнок", если вёл себя наилучшим образом, обладал немалым обаянием и чрезвычайно приятными манерами, а потому, несмотря на то, что во многом являлся ходячим ужасом, они нежно его любили, отдавая должное притягательности. Лично я тогда была слишком мала, чтобы выносить хоть какие-то суждения.
В ту пору не существовало "школ юных леди" для этих сестёр-двойняшек, и их образование являлось исключительно домашним. Чтение и письмо на русском, английском и в основном на французском (поскольку он был в России самым модным языком в те годы); чуточку арифметики; поверхностные знания по истории, а также литературе Европы; но больше танцев, пения, рисования и вышивания – вот, собственно, все предметы, что преподавались в классной комнате двойняшек. Бывали ещё уроки игры на фортепиано, хотя и не воспринимавшиеся слишком серьёзно, и юные девы "в четыре руки" исполняли в основном немецкие лидеры и вальсы своими достаточно проворными, пусть и не особенно точными пальцами. Да, они уже считались хорошо образованными юными леди в том возрасте шестнадцатилетия, когда их официально представили в свете и великий Винтерхальтер3 написал их портреты в белых платьях с лазурными лентами и с венками из плюща на миниатюрных блестящих головках. Те портреты лучше всяческих слов показывали невзрачность Аннетт и красоту Александры. Ибо, хотя знаменитый художник, очевидно, старался любезно передать достоинства первой – её густые чёрные волосы, прекрасные руки и плечи, – он не смог, проявив честный подход к делу, изменить её крупный крючковатый нос, широкий рот и мелкие глазки-бусинки. Но всё ж ему удалось подчеркнуть мягкость характера и интеллигентность этого неказистого личика и каким-то таинственным образом сделать его тоже довольно интересным и стоящим внимания.
Рисование же красоты Александры, несомненно, доставляло Винтерхальтеру истинное удовольствие, и тот в полной мере позволил себе отдать должное её огромным чёрным очам, точёному носику и крошечному рту в виде бутончика розы, коим так в те дни восхищались. "Ин буш он кёр4", – так это тогда называлось – полуспесивость-полуулыбка с непередаваемым выражением строптивости, озорства и ребячливой дерзости. Её локоны выглядели необычайно живыми, и в целом лицо создавало впечатление юной девы, что полна жизни и желания беспредельно ею наслаждаться. Это был опасный портрет во многих отношениях, ведь в нём не содержалось каких-либо секретов и он с первого же взгляда показывал слишком многое. Но твой прадед счёл, что художник добился разительного сходства, и повесил сие творение над массивным письменным столом в кабинете, где мог любоваться им сколь душе угодно.
Справедливости ради стоит отметить, что не востребованный им образ Аннетт взяла себе твоя прабабушка, заслуженно разместив его над своим секретером, где, с любовью смотря на него и тихонько вздыхая, бормотала: "Ма повр, повр пети́т5 …" Но её материнская жалость оказалась в итоге неуместной, так как именно Аннетт заключила удачнейший брак – намного более счастливый – и дожила до глубокой старости в окружении детей и их многочисленных отпрысков.
В течение долгих лет Александра выйти замуж не соглашалась, отказывая раз за разом достойнейшим соискателям и объясняя своим расстроенным родителям, что лишь по настоящей любви обвенчается.
"Мне всё равно, умру я или нет старой девой, – заявляла она снова и снова. – Почему я должна выходить замуж только ради самой женитьбы?"
"Но, шери́6, посмотри на Аннетт – она счастлива, а он умён и богат …"
"А также и стар, и уродлив, – ехидно завершала Александра. – У них будут очень некрасивые дети, ведь оба они вот какие …" – и она состраивала гримасу, дабы показать, что под этим подразумевала.
Но всё ж таки она свою сестру-двойняшку нежно любила, не позволяя никогда и никому (кроме себя самой) говорить о той в своём присутствии в пренебрежительном тоне. К примеру, был гадкий случай, когда у сильно заблуждавшегося молодого человека хватило дурного вкуса сравнить внешность сестёр в качестве комплимента, предназначенного Александре. До этого момента она благоволила ему больше прочих, и общество уже шепталось и кивало, что это всё же может привести к их браку, который к тому же был бы весьма подходящим. Но при вышеупомянутых сбивчивых фразах бестактного юноши Александра сразу же резко вскочила на ноги и с горящим взором и пылающими ланитами повелела тому, указав на дверь, сей же час покинуть её помещение и впредь боле не сметь появляться поблизости.
"Как он мог допустить саму мысль о том, что ему дали право хоть что-нибудь пробурчать против моей дорогой Аннетт, да к тому же в моём присутствии! – возмущённо вскричала она, когда фалды злополучного поклонника в волнении и с бешеной скоростью улетучились за белыми с золотом дверями её будуара. – Сама мысль о том! Хамство и грубость, невозможная неотёсанность! …" – и она топала миленькой ножкой, бушевала, а после расплакалась и никак не могла успокоиться до тех пор, пока крошка Аннетт, обомлевшая и перепуганная, но и донельзя гордая тем, что сестра защитила её честь столь решительно, не утёрла той жгучие слёзы и ласково не утешила.
Позже один молодой великий князь открыто заявил о своей любви к Александре – ей минуло тогда двадцать два года (Аннетт же была замужем уже четыре) – и даже предложил ей пожениться, разумеется, морганатически, поскольку, пусть её кровь и была чистейшей из чистейших – намного "голубее", чем у претендента, – она всё же не являлась членом царских или королевских семей, что делало их положения неравными. И снова, сверкая очами, надменная и напряжённая, она резко ответила по-французски: "Девушка с моей фамилией не выйдет замуж ни за великого князя, ни за прислужника", – и, повернувшись к нему спиной, прошла через всю длинную бальную залу с гордо поднятым подбородком и пылающим ярко румянцем.
"И что же, Господь всемогущий, теперь-то с ней случилось?" – недоумевали люди, однако довольно скоро все узнали причину. Ведь кто-то из стоявших рядом услышал разговор великого князя с обиженной им Александрой, и рассказ о её вспышке гнева со скоростью лесного пожара стал распространяться в свете, пока наконец не достиг ушей самого императора. Однако он лишь рассмеялся и сказал твоему прадеду, что у того на редкость дерзкая доченька.
Но вот, когда Александре исполнилось уже двадцать восемь и все при Дворе стали рассматривать её как следующую кандидатуру на место постоянно находившейся при императрице фрейлины и придворной дамы – должность, что по традиции занимали незамужние аристократки, дожившие до тридцати, то есть старше обычного брачного возраста, – вдруг, ко всеобщему изумлению, та безумно влюбилась в князя Михаила Рановского, адъютанта самого императора.
В то время он был ещё молод, всего-то тридцать два года, высокий, красивый, серьёзный, весьма хорошо образован, по сути, настоящий учёный, достаточно амбициозен, да к тому же крайне талантлив. Поистине мужчиной был неординарным, поскольку не только учился и получил учёную степень в Сорбонне – что было вовсе не свойственно состоятельным молодым русским из придворного круга, – но и показал себя искуснейшим пиитом, с изяществом и лёгкостью писавшим катрены и сонеты по-французски, да ещё переведшим Данте со столь грандиозным успехом, что сей перевод был одобрен и официально использовался Французской академией как лучший образец того времени!
Странно, что подобный тип мужчины пришёлся по душе капризной, сумасбродной Александре; возможно, её очаровал большой контраст между ними. Так или иначе, её любовь к нему – первая и единственная – была, безусловно, настоящей и продолжалась, не угасая, до самой её смерти.
Никто так и не узнал, влюбился ли Михаил тоже в эту властную маленькую красотку или просто счёл её подходящей супругой для амбициозного эстета, стремившегося сделать блестящую карьеру. Ведь у неё была громкая, прославленная в веках фамилия, сравнимая лишь с его собственной, её личное состояние было весьма впечатляющим, а положение при Дворе её родителей – самым что ни на есть высоким. Но каковы бы ни были тогда его мотивы, он сделал ей предложение, и оно было с радостью принято. Венчались они торжественно в присутствии царя и царицы в дворцовой императорской церкви. На следующий же день, проведя свою первую брачную ночь в гигантском особняке Михаила в центре Санкт-Петербурга, они двинулись сразу в Италию в массивной и громоздкой "Берлине" – своей парадной карете, запряжённой целой восьмёркой.
О том, что те дни в Италии были для Александры поистине счастливыми, можно судить по её восторженным письмам родителям и двойняшке, в которых она с жаром и подробностями писала об удивительной доброте к ней Михаила и о том, как он угадывал или предвосхищал все её малейшие желания, снимая для их пребывания только самые красивые виллы, пусть даже и на неделю (поскольку не позволил бы ей останавливаться в отеле), и показывая ей страну, как мог сделать только поэт и истинный ценитель Италии.
"Я действительно живу в раю Данте, – писала она, – и я знаю, что Михаил тоже счастлив, так как взялся вчера переводить избранные любовные сонеты Петрарки, ведь, согласно его словам, нынче он точно знает, что тот, создавая их, чувствовал".
В другой раз она приложила к письму оригинальное стихотворение, которое он написал специально для неё и посвятил "А тэ боз ё7".
Они всё дольше и дольше задерживались в Италии, поскольку император милостиво продлевал отпуск своему молодому адъютанту. Но в конце концов всё же вернулись в столицу России, где шестнадцатого апреля у них родилась Марина, твоя будущая мама.
В течение нескольких лет всё, видимо, шло хорошо, ведь письма и дневники Александры свидетельствуют о том, что та была по-настоящему счастлива и довольна семейной жизнью.
"Мон шер и бьен эйми́ Мише́ль8", – неизменно называла она своего мужа, а дочь: "Ма пети́т фи адорэ́9".
А потом что-то произошло, одно из тех трагических, хотя и кажущихся незначительными событий в жизни, которые способны изменить весь ход её в течение нескольких минут. Это случилось однажды ближе к вечеру, когда мисс Харриет, няня Марины, как водится, привела ребёнка в кабинет князя Михаила и оставила её там с ним на отведённый им час общения наедине. Марина любила этот час, потому что отец разрешал ей играть с его коллекцией драгоценных и полудрагоценных камней – забава, которая её увлекала и являлась незабываемой. У него были два больших стеклянных шкафа, заполненных этими прекрасными камнями – целые их ряды на лотках, аккуратно разложенные в миниатюрные коробочки, обтянутые белым бархатом. Там имелись и бриллианты, и изумруды, и рубины, и золотые самородки, и восхитительные кусочки нефрита и хрусталя. Он доставал лоток и позволял Марине играть с камнями столько, сколько ей хотелось, однако при одном условии, что та потом разложит их назад в коробочки, которые им точно соответствовали.
В другое время он читал ей стихи – порой свои собственные, порой русских, французских или итальянских поэтов. Либо же тихо играл на пианино в тех сумерках, когда лампы ещё не были зажжены и поленья слабо тлели в глубоком тёмном камине из резного дуба. А ещё, находясь в весёлом расположении духа, он вдруг затевал разнообразные игры, любимой из которых были "Африканские следопыты", когда он набрасывал поверх себя тигровую шкуру и, свирепо рыча, повсюду рыскал, Марина же с серебряным мелким ружьём, притом настоящим и в драгоценных камнях, преследуя зверя, кралась за ним в полутьме необъятного кабинета среди его толстых гранитных колонн.
И вот в указанный злополучный день, когда они мирно расселись на медвежьей шкуре перед уютно горевшим огромным камином, в комнату, к удивлению Марины, вплыла прелестная молодая дама, закутанная с головы до пят в соболиную шубу, с румяными щёчками и кучей снежинок, покрывавших её соболиную шапку.
Михаил в изумлении вскочил и воскликнул: "О, моя дорогая, вам не следовало сюда являться!" – но в то же время выглядел странно довольным и взволнованно поцеловал её ручки в перчатках.
А прекрасная дама, рассмеявшись, сказала: "Михаил, всё в порядке, я зашла лишь на минутку. Она сейчас с императрицей, ведь я оставила их вдвоём лишь полчаса назад".
Марина задумалась, кто б мог за этим "она" скрываться, а князь нахмурился и промолвил: "Прошу, моя дорогая, только не при ребёнке".
Дама вновь рассмеялась, а затем пристально воззрилась на Марину. "Так вот кто стоит между нами – сия очаровательная кроха!" – пробормотала она через мгновение.
А Марина озадачилась ещё больше, так как вовсе, разумеется, не стояла между своим отцом и этой дамой! Напротив, она осталась сидеть одна у камина, да к тому же будучи сильно возмущённой тем, что её – уже взрослую шестилетку – обозвали "очаровательной крохой".
Дама ещё несколько минут тихонько пообщалась с Михаилом, затем, послав воздушный поцелуй Марине, безумно грациозно удалилась, оставив позади шлейф приторных духов, а также одинокую фиалку, что выпала из чу́дного букетика, приколотого к её красивой шубе. А князь, сопроводив до двери свою загадочную гостью, вернулся к дочери необычайно молчаливым и спокойным, хотя глаза его сияли, как сапфиры, с которыми они как раз играли, когда вошла вдруг Незнакомка и прервала сию забаву.
"Кто она?" – робко спросила Марина, поскольку ещё не знала этого непривычно тихого настроения своего папы, а потому немножко опасалась прервать его необъяснимое молчание.
Михаил, вздрогнув, посмотрел на неё так, словно совсем забыл, что она всё ещё находилась рядом, а потом медленно промолвил: "Это моя подруга, Марина. Но твоей маме она не по нраву, а потому, будь добра, не рассказывай ей об этой неожиданной гостье. Ведь я и правда не ждал её визита", – добавил он больше для себя и снова погрузился в свои думы.
Впервые за свою короткую жизнь Марина в присутствии отца почувствовала себя страшно неуютно, а потому была очень рада, когда спустя пару минут мисс Харриет, тихо открыв дверь и сказав: "Тебе пора, дорогая", – увела её ужинать в детскую.
Марина никому не рассказывала об этом визите в течение долгого времени – пока не умерли оба её родителя – и лишь тогда поведала мне эту историю.
Но её мать каким-то образом о незваной посетительнице прознала, а потому злилась и бушевала.
"Это ж та женщина, Михаил! – яростно кричала она, топая ногой. – О, я знаю всё, что между вами происходит! Всё! Не думай, что я слепа и глуха! Ты влюбился в неё в тот самый вечер, два года назад, на придворном балу, когда та впервые появилась в обществе Петербурга. 'Ля бель Грекь10', – ты называл её, когда мы ехали домой. Ты восхищался её статной красотой, которая заставила тебя думать о богинях Олимпа. Потом ты сказал мне, что она столь же умна и высокообразованна, сколь прекрасна. Ме уи́!11 Она, видите ли, также писала стихи и могла помочь тебе с переводом греческой классики! Это же было лишь началом – первым поводом для твоих частых к ней наездов".
"Это было правдой", – пробормотал Михаил, но Александра продолжала.
"Позже ты сказал мне, что это моя вина, что ты читал свои стихи не мне, а ей, поскольку, видите ли, я всегда зевала, как кошка, и жаловалась, что поэзия меня усыпляет. 'Сет ассомо́н12, убийственно скучно', – вот в каких моих словах ты меня обвинил. Ну, и что, если я, разок зевнув, и сказала подобное? Разве это такой уж великий грех?"
"Что ж, это не слишком вдохновляет, ма пети́т13", – заметил Михаил, но Александра снова отмахнулась.
"Ведь ты прекрасно знаешь, что мне гораздо приятнее слушать, как ты говоришь, чем как декламируешь бесконечные вирши людей, умерших тысячи лет назад! И совсем другое дело, когда ты читаешь свои собственные – мне это всегда нравилось. Особенно когда ты посвящал сонеты мне. Но эти новые любовные стихи, что ты недавно сочинил, – думаешь, я не понимаю, что они не для меня, а для неё? Почему я должна их слушать? Зачем терпеть пытку, оскорбление? И в довершение всего ты приводишь её в наш дом и позволяешь нашему ребёнку видеть её и даже с нею разговаривать. О, мон ами́14, ты столь простодушен и наивен! Она желает тебя, и она тебя получит, поскольку, являясь охотницей – я поняла это с первого взгляда, – стремится отловить тебя, а меня уничтожить!"
Михаил выслушал эту тираду молча, не сказав ни слова больше в свою защиту, однако с этого часа их отношения полностью изменились.
И странная ревнивая нотка закралась в дневник Александры – странная потому, что была направлена не только против её мужа, но и против её ребёнка.
"Михаил обожает Марину и совершенно нелепо относится к ней как к своей конфида́нте15", – появилась там первая жалоба, записанная её витиеватым и мелким почерком. А через пару дней: "Он любит дочь и доверяет ей больше, чем мне. Я вижу это так ясно". А позже снова: "Мне тяжело наблюдать, как мой собственный ребёнок занимает предназначенное мне место в сердце супруга". И больше она не называла его "мон шер и бьен эйми́", а Марину – "ма пети́т фи адорэ́".
В те же самые дни твоя прабабушка написала своему мужу следующее: "Ко мне наведалась мисс Харриет. Она призналась мне – о, очень осторожно! – что по какой-то неведомой причине Александра, абсолютно недвусмысленно ревнуя Михаила к своей дочке, решила вымещать на ней свою досаду. Вот, к примеру, она смотрит на Марину и бросает (однако лишь в присутствии Михаила): 'Прансе́с, вуз ет лед16', либо 'как же вы глупы … как неуклюжи', либо даже хлеще 'покиньте комнату, мадемуазель, я так устала от вашего противного лица'. Ну, и немудрено, что в результате Марина разражается рыданиями, а Михаил во гневе убегает, хлопнув дверью. Быть может, Вы, мон шер и бон Грегуа́р17, лучше объясните Александре её ошибку. Она Вас обязательно послушает".
И, получив сие, твой прадед незамедлительно составил Александре пространное письмо, в котором строго упрекал её за чрезвычайно неестественное поведение по отношению к собственному чаду.
"Я не могу тебя понять, дочь моя, – писал он. – И что с того, что Михаил её действительно обожает? Заставляет ли это его любить тебя меньше? Ты потеряешь своего супруга, ма бон ами́18, если не будешь прятать сии необъяснимые чувства. Я молюсь, чтоб ты образумилась. Следуй примеру собственных родителей: разве я всегда не преклонялся перед твоей бон и шер мер19 и не восторгался так же своими дочерями? Тебе ли то не знать – тебе, которую, признаюсь, я искони любил, пожалуй что, сильнее, чем дорогих Аннетт и Натали. И любовь нескольких представителей семьи друг к другу не только возможна, но и естественна. А вот твоё поведение в последнее время не является таковым. Поэтому я ещё раз умоляю тебя, моя горячо любимая Александра, измени своё отношение к супругу и маленькой дочке, и ты получишь благословение нашего лё Бон Дьё20 и твоих любящих, хотя и откровенно не одобряющих происходящее родителей.
Твой преданный отец,
князь Григорий"
Вызывает сомнение, оказало ли сие письмо хоть какое-то благотворное воздействие, поскольку Марина, с грустью рассказывая мне о той ранней поре своей жизни, которую, к великому сожалению, она помнила уж слишком чётко, говорила, что её мать с каждым днём становилась всё более нетерпимой. Единственными счастливыми часами ребёнка были те, что он проводил наедине с отцом, но почему-то даже они не оставались прежними, и Марина с незнакомой ей доселе болью в сердце замечала постоянные перемены в облике Михаила – сегодня новая морщинка, завтра ещё парочка седых волосков. Тем временем Александра жила беспокойной жизнью, к несчастью, больше, чем когда-либо, не доверяя мужу и ребёнку. Дважды в день мисс Харриет одевала Марину в белое шёлковое платьице с голубыми лентами, завязанными на плечах и волосах в виде бантов-бабочек, и спускалась с ней в гостиную матери.
"Вот и Ваша дочь, Княгиня", – говорила она, делая реверанс на пороге, а затем удалялась, оставляя Марину с ней вдвоём.
"Вёне́ иси́, Мадемуазе́ль21", – требовала Александра, и Марина на цыпочках подходила к ней и несмело прикладывалась к её кисти. Однако та потом горько смеялась и восклицала: "Вы что, не знаете, как целовать руку, не касаясь её своим носом? Да ведь он, как змея, холодный! Я бы хотела, чтоб вы его грели, прежде чем ко мне прикасаться!"
Хотя, очевидно, Александра никогда своим родителям не жаловалась и не пыталась оправдать себя в их глазах, разъяснив им истинную причину своего столь странного поведения, она в конце концов дошла до того, что по-настоящему свою малышку-дочь возненавидела, считая ту сообщницей Михаила и, следовательно, своим врагом. Ведь разве её девочка не присутствовала при том, как сия отвратительная гречанка осмелилась ворваться в дом Александры и последовать за Михаилом в его кабинет? О, если бы только Марина поведала ей о том визите! Если бы только открылась ей и рассказала, что случилось на самом деле! Всё сложилось бы абсолютно иначе. Тогда бы Александра почувствовала, что дочери можно доверять, что она не их друг, а её. Но этого не произошло, и в сколь же трагичной ситуации она оказалась: муж, влюблённый в другую женщину, и вставшая на его сторону дочь. В своём гневе и отчаянии она, похоже, напрочь позабыла о возрасте Марины.
Но тут нежданно сия малоприятная проблема дошла до своей кульминации. В драматичном письме Александре (по-видимому, ему не хватило смелости поделиться с ней этим лично) Михаил признался в своей любви к восхитительной греческой богине.
"Сможешь ли ты когда-нибудь простить меня, ма повр пети́т22, – писал он, – ты, любившая меня так горячо и бывшая столь верной. И от всего сердца я благодарю тебя за эту любовь – самый прекрасный и царственный дар, какой только можно вообразить. И поверь мне, я тоже любил тебя и продолжаю любить, хотя, возможно, иначе – больше как брат или нежный друг. Однако та, новая любовь вошла в мою жизнь и сбила меня с ног. Более двух лет я пытался бороться с ней, убежать от неё, победить и позабыть это помешательство. Но оно сильнее меня! Оно одолело меня, и я понял, что не смогу тебе лгать. Я никогда этого не делал. Если ты помнишь, всякий раз, когда ты упоминала о ней, я молчал, но никогда не лгал. Самое малое, что я могу сейчас сделать, – это сказать тебе правду и отдаться на твою милость. Что бы ты ни решила предпринять, я это приму. Однако я заклинаю тебя помнить об одном: наша маленькая Марина должна быть избавлена от твоего столь несправедливого гнева, ведь она никогда не делала ничего дурного и никоим образом не проявляла по отношению к тебе предательства. Только один раз она видела ту, другую, и то не по своей либо моей воле. О, моя дорогая, что мы можем теперь сделать? Как мы будем дальше жить вместе, если моя новая любовь встала между нами?"
В коротенькой записке, которую Михаил носил в нагрудном кармане до самой своей смерти, супруга ответила ему с неожиданным спокойствием и достоинством: "Друг мой, любовь имеет первостепенное значение, а потому давай будем следовать велениям любви. Она поддержит меня в моём одиночестве и, я молюсь о том, приведёт тебя к ещё бо́льшим вершинам".
В тот же вечер она приказала спешно упаковать её чемоданы и до восхода солнца, не попрощавшись с Михаилом, отбыла в Париж, взяв с собой Марину и мисс Харриет. Они уехали в той же запряжённой восьмёркой коней карете, в коей она и Михаил путешествовали в свой медовый месяц, случившийся шесть лет назад. Теперь же за ними в двух каретах поменьше следовали её личная горничная, шеф-повар и пара-тройка прочих слуг. Впереди сего каравана был пущен курьер, в обязанности которого входил выбор самых подходящих гостиниц, устройство для всех спальных мест и заказ наиболее приемлемой пищи. Примерно каждые четыре часа они с цоканьем въезжали в селение или город, чтобы поменять свои взмыленные упряжки на свежие, предусмотрительно и тщательно отобранные вездесущим Порфирием Степановичем – тем самым проворным и вечно исчезавшим посыльным.
Ночь за ночью они останавливались в придорожных отелях, временами настолько забитых, что там находилась лишь одна свободная кровать для Александры, тогда как мисс Харриет и Марина отдыхали либо на диванах, либо на креслах, что были составлены вместе, либо даже на перинах, кинутых на пол. А как-то в одной польской корчме Марину уложили на столе для бильярда, однако только после того, как постояльцы сыграли перед сном в "пирамиду". Тот случай, что, должно быть, обрадовал её и позабавил, она потом никогда не забывала, подробно и с наслаждением не раз смакуя анекдот о нём в последующие годы.
Приехав же в Париж, они остановились в знаменитом на весь мир "Отель де Франс", заняв там королевские апартаменты, для оплаты коих, по словам Александры, требовалось "продать свои глаза".
По ночам, совершенно не в силах заснуть и чувствуя себя ещё более несчастной, она расхаживала взад-вперёд по своей спальне, заламывая руки и рыдая в голос, в то время как Марина в своей детской, что находилась прямиком над нею, заслышав ужасающие звуки, старалась сразу же заткнуть пальцами уши, сжимаясь и дрожа под одеялом. Вот тогда она мне и послала по-детски жалобное краткое письмо, написанное большими и кривыми буквами, которое я здесь и привожу:
"Многоуважаемая и любимая Тётушка Наталья,
Пожалуйста, помогите нам. Будьте добры, приезжайте к нам. Маме так грустно. Она целый день бегает по городу, а потом всю ночь плачет. Она умрёт, если никто не поможет. Я знаю, что Бабушка не может оставить Дедушку, а у Тёти Аннетт родился ребёнок. И Папа больше не хочет нас видеть. Вы сможете к нам приехать? Пожалуйста, пожалуйста, дорогая Тётушка Наталья, спасите мою Маму. Низко кланяюсь и с уважением Вас обнимаю.
Ваша любящая племянница,
Марина"
В то время я ещё не вышла замуж, хотя уже была обручена с твоим двоюродным дедушкой Иваном. Я помню, как бросилась к своим родителям с письмом от бедной маленькой Марины и страшно умоляла их немедленно меня к ней отпустить. Конечно, они так и поступили. Итак, я отбыла в своей карете в сопровождении мадемуазель Жакье и парочки служанок, а наш проверенный немолодой курьер Порфирий Степанович, как водится, помчался на день раньше, чтобы готовить всё для будущих ночёвок.
Ситуация в Париже оказалась именно такой, как описала Марина. Днём Александра, измождённая и худая, бродила по магазинам, каталась верхом и посещала вечеринки, а по ночам мерила шагами свою спальню, рыдая и заламывая руки. Казалось, ничто из того, что я могла сказать и сделать, не было способно ей помочь. То было отчаянное положение, и одному Господу известно, чем бы всё это завершилось, как вдруг пришло известие, что Михаил умер в Санкт-Петербурге от пневмонии.
Мне не дано забыть, какой эффект произвела эта новость на Александру. Та словно бы освободилась от злых чар, терзавших её душу днём и ночью. Да, она опять была убита горем, однако в более привычном смысле. Исчезли отчуждение, и горечь, и унизительное чувство, что супруг смог променять её на вертихвостку. За краем гроба Михаил вновь стал её избранником, и мужем, и единственным мужчиной, которого она когда-либо любила. Теперь она опять, гордо вскинув взгляд, могла беседовать о нём, ведь больше не являлась покинутой женой, ненужной и нежеланной, а стала впредь вдовой – законной половиной, что носила его фамилию и стала матерью его ребёнка. И после смерти он был полностью прощён и навсегда остался лишь её "Мишелем".
Эта перемена, в свою очередь, повлияла и на её отношение к Марине. Вновь она называла ту "ма пети́т фи адорэ́" и нежно, как и ранее, дарила материнскую любовь единственному чаду. Однако её сердце было разбито, и, несомненно, она осознанно искала смерти. Примерно через месяц, в Христово воскресенье – был дивный, но прохладный день, к тому ж с коварным ветром – она, надев весеннее льняное платье, выбежала без пальто наружу … Спустя пять дней она тоже умерла от пневмонии. Её тело отправили в Москву и там похоронили рядом с мужем в Новодевичьем монастыре в его семейном склепе.
Я забрала Марину с собой в Санкт-Петербург, и, выйдя замуж, взяла её жить с нами. Она была чудесной девочкой, заботливой и нежной, хотя и пронёсшей сквозь всю свою жизнь отсвет глубокой печали. Однако иногда бывала взвинченной и нервной, а изредка случались вспышки гнева, но их она позднее научилась почти что идеально подавлять; лишь пара пятен рдела на щеках, если она злилась, но сие происходило крайне редко. И столь же редко говорила грубые слова, показывая ангельскую кротость. А повзрослев, невероятно расцвела и в восемнадцать обвенчалась с князем Всеволодом Стронским – твоим отцом, Тамара, являвшимся в то время гвардейским офицером, весёлым, обходительным и милым. Но это уж совсем иная драма, которую она, надеюсь, когда-нибудь сама с тобой обсудит
Таков был старомодный и высокопарный рассказ Натальи. Но она оказалась права. Однажды, когда я была уже замужем и отчаянно несчастна, моя мать поведала мне историю моего рождения. Я полагаю, она думала, что этим поможет мне решить мою проблему, чего, разумеется, не случилось, так как наши казусы были столь же различны, как и два вовлечённых в них мужчины, её и мой мужья. Но подробный рассказ вкупе со сдержанными и выверенными версиями доктора Руковского и старой Фроси дали мне ясное понимание того, как появилась я на сцене.
Третье поколение
Девяностые
Марина Стронская была, мягко говоря, расстроена. Вытянувшись во весь рост на низкой и широкой кровати, на которую, несмотря на своё "состояние", вот уж без малого полчаса назад как самым неосмотрительным образом бросилась, она теперь лежала там в плачевном виде викторианской скорби. А у её постели, заботливо склонив над ней свои пожилые встревоженные лица, стояли её личная горничная Фрося и семейный врач, доктор Руковский. Молча они укрыли Марину её любимой голубой шалью, и поглаживали её по плечам, и ласкали её руки, и пытались разогнуть её сжатые в маленькие, ритмично бившие по кровати кулачки пальцы. Однако всё было тщетно. В том редком порыве гнева, что был для неё совершенно необычен, она оттолкнула стакан с успокаивающими лаврово-вишнёвыми каплями домашнего приготовления, которые врач умолял её выпить, и сорвала со лба платок, смоченный одеколоном, – неизменное Фросино средство первой помощи от всех болезней, – и отправила закупоренный пробкой-короной зеленоватый стеклянный флакон с нюхательной солью в полёт через всё помещение, и тот остался лежать в самом дальнем углу, по дороге разбив изящную, переливавшуюся всеми цветами радуги венецианскую вазу, и напугав до истерики щебетавшего и трепетавшего Маэстро, почтенную канарейку с гор Гарца, и возбудив легко вызываемое любопытство чёрно-золотистой кривоногой таксы Либер Генрих, сразу же понюхавшей содержимое открывшегося флакона, а затем громко чихнувшей и возмущённо потёршейся своим длиннющим носом о мягкий ворс шелковистого ковра.
"Княгиня Марина Михайловна, если б Вы только выпили эти капли, то сразу бы почувствовали себя лучше", – уговаривал Доктор мягко и убедительно, а Фрося, встав у кровати на колени, стала увещевать самым заискивающим голосом: "Я умоляю Вас, Голубка моя, моя славная Княгинюшка, сделайте так, как просит вас Господин, наш истинный Джентльмен, Доктор. Вы просто обязаны перестать рыдать таким неподобающим образом. Это опасно, это неправильно. Посмотрите, как трясётся Ваш бедный маленький животик! Коли Вы не желаете пожалеть себя, то пожалейте хотя бы нерождённого ребёнка, невинную овечку, небесного ангела. Иначе Бог будет очень недоволен и накажет Вас, моя маленькая Мамулька. Так что я умоляю Вас, прекратите же это немедленно".
Но Марина Михайловна не обращала ни на кого из них ни малейшего внимания и, сотрясаясь с головы до ног, продолжала всхлипывать.
"О, если б мы только могли остановить этот нервный припадок и заставить её немного расслабиться, – прошептал, озабоченно нахмурив лоб, доктор Руковский. – Он крайне вреден для неё, это реально так после столь ужасного падения. Как-никак пошёл уж восьмой месяц, а он всегда, знаете ли, опасен".
"Как насчёт того, чтоб привести двойняшек? Может, она хоть при них перестанет плакать", – прошептала в ответ Фрося, смахивая слёзы сочувствия, то и дело наворачивавшиеся и стекавшие по её морщинистым ланитам.
Но Доктор покачал головой. Нет, так не пойдёт. Ведь дети никогда не видели свою мать в таком плачевном состоянии. Это напугало бы их и стало б для них шоком, который мог оставить на всю жизнь самые неприятные впечатления.
"Нет, Фрося, если она в ближайшее же время не успокоится, я дам ей дозу чего-нибудь эдакого, что действительно её утихомирит".
Но в этот миг дверь медленно приоткрылась, и в узком проёме показалось полное и во все остальные дни румяное и весёлое лицо супруга Марины, князя Всеволода. Однако на этот раз лицо это было каким угодно, только не румяным и весёлым, и на нём застыло весьма жалкое выражение щенка-переростка породы сенбернар, которого вот только что застукали за крайне дурными проделками и который заведомо знал, что неминуемо будет наказан.
Бросив встревоженный взгляд на распростёртую на кровати фигуру, он приоткрыл дверь чуточку пошире и выразительно взмахнул руками, для начала указав на левую сторону груди, затем же в направлении потолка, дабы этой экспрессивной пантомимой дать понять и Доктору, и Фросе, что у него теперь разбито сердце и, Бог свидетель, что он абсолютно невиновен и готов на всё, чтоб оказать какую-либо помощь. Через мгновение открыв дверь ещё шире, чтобы проём смог пропустить его упитанное тело, он на секунду задержался на пороге, расставив свои руки так, словно балансировал на туго натянутом канате, а затем пустился осторожно, на цыпочках пересекать пространство комнаты, при этом на каждом своём шаге безбожным образом скрипя высокими, вплоть до колен, тяжёлыми, из хрома, смоляными сапогами. Благополучно преодолев всё расстояние, лежавшее между дверью и кроватью – что было сделать не так-то и легко из-за скопления миниатюрных "пуфиков", и столиков, и стульев, загромождавших спальню и стоявших на пути, – в конце концов он опустился на колени, и жуткий хруст его болезненных суставов напомнил треск торжественного фейерверка. Проделав это всё, он неуверенно приник губами к самому носку домашней туфельки сверкающего бронзового цвета своей супруги.
"Ах, Маринушка, Марина, дорогая моя Цыпа, ну, пожалуйста, позволь мне объясниться, – бубнил он ей подобострастно, и над его печально опущенными губами топорщились так неуместно свирепо выглядевшие пышные усы. – Ты поняла всё совершенно превратно, ма Мари́ш адорэ́23, – продолжил он, переходя на французский, который они всегда использовали в интимные моменты. – Это просто ошибка, ма шери́24. Ты только выслушай меня, и я донесу до тебя всю правду, и мы вместе над ней похохочем. О, как же мы, моя Сладость, станем смеяться – ты со своим милым 'хи-хи' и я со своим зычным 'хо-хо'".
При звуке его голоса Марина, полностью закрыв лицо руками, застыла неподвижно.
"Послушай, дело обстояло вот как, – откашлявшись, нервозно начал Всеволод, как только Доктор с Фросей тихо удалились. – Я тогда был в ванной и тут понял, что мне потребуется помощь, чтоб намылить спину. А ты прекрасно знаешь, что руки у меня не очень гнутся после того, как я переломал их, упав с того шального жеребёнка. Итак, я принялся звать Сашу и кричал, кричал, кричал, но, как обычно, сей осёл куда-то испарился как раз тогда, когда он был так нужен, – похоже, пил в кладовке свою шестьдесят седьмую кружку чая. (Да, к слову, он худший из лакеев, что у меня когда-то были, и я ему за сей конфуз башку его намылю – я стану так на него орать, что точно ты услышишь! – потом же он схлопочет штраф в размере жалования за месяц, а я тебе за эти деньги достану розовых кустов). Ну, и как раз в тот миг, когда уже я собирался сдаться и с бедной непомытой спиной вылезти из ванны, я совершенно случайно услышал, что в смежной комнате дурёха Лиза полирует оконные стёкла, распевая свою идиотскую песенку о влюблённых птичках. Ну, я и позвал её – знаешь ли, очень строго. Примерно так: 'Лиза, сию же секунду подойди сюда!' В конце концов, она уважаемая вдова, мать множества сопливых сорванцов. Почему в её присутствии мне должно быть стыдно? Я же не стыжусь, когда какая-нибудь квалифицированная медсестра увидит меня в ванной. (Помнишь, какой хорошенькой оказалась та, последняя, когда я был болен скарлатиной?) Так зачем беспокоиться о такой простушке, как Лиза? Итак, я снова крикнул: 'Иди же сюда, дура, и намыль мне спину!' И, разумеется, та прибежала и выполнила моё приказание. Я согласен, что было нелепо с её стороны так глупо хихикать, но она ведь всего лишь деревенская баба без всяких манер. Она, возможно, хихикает даже на поминках. А что касается меня, моя Любимая, ты же знаешь, как я боюсь щекотки! Достаточно тыкнуть в меня пальцем, и я начинаю смеяться. Ну, так как же я мог удержаться от смеха, когда та ткнула меня кусочком мыла прямо в рёбра? Честно говоря, это всё, что случилось. А потом вошла ты, Княгинюшка моя, и замерла на пороге, побледнев, будто полотно, и со сморщенным носиком, словно увидела или унюхала что-то мерзкое и отвратительное, и это было весьма по-детски с твоей стороны, моя Дорогуша, действительно по-детски. И мне следовало бы строго отругать тебя за это. Потом же, в довершение всего, ты вдруг решаешь убежать, поскальзываешься и падаешь прямиком на свой милый маленький животик. И теперь я спрашиваю тебя: что это за поведение?"
Так как Марина продолжала лежать неподвижно, голос Всеволода постепенно становился всё увереннее, пока наконец в его монологе не появились укоризненные нотки. "Да, всё идёт хорошо, – подумал он, очень собой довольный. – Но я должен ещё немного пожурить её и показать, как нелепо она ведёт себя из-за сущего пустяка".
Ободрённый её молчанием, он протянул руку и осторожно погладил её струившиеся по спине длинные светлые волосы. Однако от его прикосновения она, внезапно ожив, соскочила с кровати в вихре голубых ворсинок и встала, возвышаясь над ним, как огненная Немезида, уже не в слезах, а само воплощение негодования.
"Как ты смеешь прикасаться ко мне, как ты смеешь? – закричала она, топая маленькой бронзовой туфелькой с такой яростью, что в итоге с неё отвалился бант. – И какая ложь! Какая отвратительная ложь – ты, мерзкий грешник! Столь же порочный, как твой дед, тот старый Сатрап, тот старый сатир, чья дурная кровь течёт в твоих жилах! О, почему никто не рассказал мне о нём до того, как я вышла за тебя замуж? По крайней мере, я была бы готова …"
При упоминании о своём дедушке князь Всеволод, до сих пор стоявший на коленях, пристыжённо склонил голову и, по счастью, сумел подавить столь неподобающий в данной ситуации смешок.
"Но я рада, что наконец-то поймала тебя с поличным, – продолжила Марина, сделав глубокий вдох и нечаянно скинув шаль на удручённую коленопреклонённую фигуру, укрыв её ворсисто-голубым. – Застала тебя он флэгра́н дели́25. Теперь ты больше никогда не сможешь ни привирать, ни лгать, ни скармливать мне эти небылицы – никогда! Поскольку я, клянусь, отныне не поверю ни единому сказанному тобой слову!" – и осенила себя широким крестным знамением, поклонившись в сторону икон и как бы говоря: "Да будут они свидетелями этой клятвы!"
"Перестань лицемерить и вставай! Поднимайся со своих дурацких хрустящих колен! Даже это было пущено в ход – ты умеешь хрустеть ими, когда тебе нужно!" – не унималась она, вновь повернувшись к нему, когда он высунул голову из-под шали и умоляюще посмотрел на неё, надеясь, что она рассмеётся при виде столь жалкого зрелища, которое он из себя представлял. Но нет, ни тени улыбки, ни единой весёлой искорки в глазах! Увы, он видел, что тема его недавнего шокирующего поведения пока что не исчерпана. Напротив, теперь его выпроваживали вон.
"Уходи, ступай к своей Лизе и ко всем остальным девкам, с которыми ты так возмутительно себя вёл. Между нами всё кончено. О, я, разумеется, останусь здесь, но только ради детей. С этого момента мы будем жить раздельно. Делай, что пожелаешь, греши, как тебе заблагорассудится – мне теперь всё равно. Однако помни, что ты никогда не должен открывать мою дверь без стука, и больше не стучись ночью – в это время она всегда будет для тебя закрыта. А теперь иди, иди, пока я не позвала Доктора и Фросю, чтоб они тебя вытолкали".
Донельзя смущённый Всеволод вскочил на ноги и встал перед ней, больше чем когда-либо похожий на огромного опозорившегося щенка. Затем с глубоким рокочущим вздохом пробубнил: "Но должен же мужчина иногда хоть чуточку невинно пошалить! Небеса свидетели, Марина, что я ни разу не изменял тебе в полном смысле этого слова", – и, отвернувшись, покинул комнату с несчастным видом.
Когда спустя минуту Фрося, подслушивавшая у замочной скважины и не пропустившая ни единого слова, заглянула внутрь, чтобы посмотреть, как чувствует себя её княгиня, она сразу вскрикнула от испуга, поскольку, скорчившись на полу, лицом к ней, та лежала в глубоком обмороке, а растерянный Либер Генрих отчаянно тянул её за край подола.
"Доктор, Доктор, – заверещала Фрося, – идите скорее и посмотрите, что случилось! Ах ты, моя бедная Малышка! Совсем себя довела, и никто не сможет ей помочь, кроме Господа и нашего Господина Доктора".
В тот же миг громадный дом пришёл в движение. Сновали туда-сюда слуги, натыкаясь друг на друга, пока мчались взад-вперёд по коридорам, нагруженные различными необычными предметами: каркасом простой узкой железной кровати, жёстким матрасом, клеёнчатыми простынками, бадьями с горячей водой и бельём – стопками ароматного белья, которые горничные постоянно несли из большущих шкафов благоухавшей лавандой огромной бельевой.
В самом дальнем крыле дома семилетние рыжеволосые двойняшки Ванька и Танька мирно пытались играть, но, завидев встревоженные лица своих няни и гувернантки, сразу же забились в угол классной комнаты и тихими, приглушёнными голосами завели беседу о привидениях, грабителях и слизнях – тварях, что ползают по кроватям в ночное время.
"Ты только протяни в темноте свою руку, и точно дотронешься до одного из них, холодного, влажного и противного", – мрачно заверил Ванька донельзя перепуганную Таньку, смотревшую на него округлившимися от страха глазами. Наконец, не в силах больше терпеть, та издала душераздирающий крик, после чего Няня и мисс Бёрнс, английская гувернантка, вмиг вспомнив о существовании своих подопечных, накинулись на тех и, пусть и очень громко протестовавших, отправили в постель.
"Я не хочу ложиться спать! Там слизни", – отчаянно кричала Танька.
"Какие такие 'слизни'? Что за чушь?" – строго потребовала ответа Няня, и, когда дрожащими голосами им удалось ей всё объяснить, она хорошенько встряхнула каждого из них и приказала им прочесть в один голос русскую версию английского стишка:
"Как у кроватки четыре угла,
Четверо ангелов есть у меня:
Два, чтоб молиться, один – охранять,
Один, чтоб кошмарные сны отгонять".
Как водится, эти знакомые успокаивающие слова сделали своё дело, и через несколько минут Танька и Ванька крепко спали.
Вскоре и слуги тоже расположились для долгого, уютного и приятно волнующего бдения за предположениями, сплетнями и чаепитием, время от времени вознося к Небесам добрые молитвы и прося Господа помочь бедной страдающей рабе Его, великодушной княгине Марине, в час её мучений. Приглушёнными голосами они спорили: "А родится ли дитё сегодня ночью? … Ох, я так не думаю – самое раннее завтра утром … через два дня … через час … мёртвым … живым … уродливым от падения … необычайно красивым …" Споры не утихали.
Однако именно в ту ненастную ночь, когда вокруг дома завывал ветер, раскачивались голые деревья и дождь лил как из ведра, на свет появилась малышка, крошечная девчоночка, хрупкая и недоношенная, и, согласно выражению Фроси, "в любую минуту готовая улететь обратно на Небеса".
Но Доктор боролся всю ту тёмную ночь и многие последующие ночи и дни, когда все остальные уже потеряли надежду. А местный батюшка неутомимо настаивал на скорейшем крещении, чтобы маленькая душа могла с лёгкостью и уверенностью возвратиться в райские кущи.
"Когда ангел смерти придёт за ней и её личный ангел-хранитель поведает, что та была должным образом крещена, всё будет в полном порядке, – авторитетно заявлял он. – Но если она не будет крещена, если всё ещё, увы, будет являться язычницей, то ей ни за что не позволят пройти сквозь Золотые врата".
"Но, отец Трофим, уверяю вас, она не умрёт, она будет жить!" – возражал доктор Руковский, и священник в конечном итоге, хотя и с большой неохотой, уступил, взяв с Адама Осиповича (так величали Доктора) торжественную клятву, что тот сам окропит сию кроху святой водой во имя Отца, и Сына, и Святого Духа и наречёт христианским именем Тамара, если ему станет ясно, что та готовится вот-вот покинуть эту землю.
И каждый день владелец похоронного бюро, облачённый в свой мрачный чёрный сюртук, звонил в заднюю дверь огромного дома и, тайно допущенный в уютную кладовую своим старым другом, дворецким, выпивал невероятное количество чая, подслащённого клубничным джемом, и тихим, но полным надежды голосом рассуждал о разных достоинствах изящных маленьких гробиков, сделанных из розового либо красного дерева и богато обшитых стёганым атласом и гофрированным шёлком.
"Конечно же, всё это дело вкуса, – замечал он, задумчиво почёсывая свою жиденькую бородку, – но лично я бы в данных конкретных обстоятельствах настоятельно рекомендовал палисандр и белоснежный или, быть может, розовый атлас. Для новорождённой малышки княжеского происхождения в подобном сочетании есть нечто по-настоящему изысканное".
При этих печальных словах одна наиболее сердобольная служанка однажды горько разрыдалась и, закрыв передником лицо, громко всхлипывая, убежала.
Да, то выдались дни скорби и уныния, когда тень смерти мрачно лежала на доме, а кроха "готовилась улететь"; и Марина, бледная, вялая и худая, выздоравливала крайне небыстро; и двойняшки были подавленными и как-то неестественно тихими; и бедный, задыхавшийся от мук совести Всеволод бродил повсюду, как заблудшая душа. В своём стремлении совершить правильное покаяние, которое хоть в малой степени искупило бы все те напасти, что он невольно навлёк на свою семью, он серьёзно взвесил различные виды добровольных самолишений, такие как пост, ношение власяницы и сон на голых досках. Но поскольку ни одна из этих крайних мер, за которые так горячо ратовали монахи и святые (а однажды даже и его родной дед, Сатрап), судя по всему, не пришлась ему по душе, он в конце концов придумал собственный оригинальный способ, заключавшийся в отказе от ежедневных ванн.
"В ванне я согрешил и вне ванны я искуплю грех свой", – торжественно заявил он, очень довольный своим гениальным изобретением, кое, несомненно, являлось лишением, но всё же не слишком-то тяжким, поскольку Саше, втайне костерившему сей новый вид нежеланных упражнений, приходилось отныне энергично растирать его по утрам и вечерам, щедро смачивая водой с уксусом и одеколоном.
Медленно тянулись дни, и в своей затемнённой спальне, на той же широкой и низкой кровати, Марина, лёжа на спине неподвижно, как всем казалось, спала, но в то же самое время бодрствовала в своём собственном мире, где её разум произвольно блуждал по таинственному царству теней, лежавшему на границе сознания и беспамятства, бодрствования и сна, жизни и небытия. Снова и снова она испытывала странное, хотя и приятное чувство, будто бы её мягко, но насильственно тянет некоей неизвестной, непостижимой, невидимой магнетической силой из кровати через всю комнату к открытому окну, а затем ввысь – куда-то туда, в захватывающий полёт сквозь густой белый осенний туман и тёмные клубящиеся облака – всё выше и выше, пока наконец, оставив их далеко внизу, она не достигала фантастической сферы серебристо-голубого цвета, похожей лишь на лунную ночь, плывущую в космосе без какого-либо ландшафта, обрамляющего её, или земли, лежащей под ней, – полупрозрачную бледно-сапфировую ночь, чистую и сверкающую.
Внутри этой сферы она ощущала необычную лёгкость, будто её тело больше не имело веса, а двигалось мягко и восторженно ("Плыло или летело? Какой термин подходит больше?" – задавалась она вопросом), ведомое жгучим желанием ("Моего духа? Моей души?"), непреодолимым стремлением уноситься всё дальше и дальше по этому волшебному серебристо-голубому миру, мимо Луны ("Ах, какой огромной она будет – её свет наверняка меня ослепит!"), мимо планет ("Я должна быть внимательна, чтоб не пропустить свою Венеру, ибо разве я не родилась под её знаком"), мимо звёзд ("Наконец-то я увижу вблизи Плеяды и пройду по Млечному пути, используя каждую звезду как ступеньку") …
"Теперь всё это моё, вся вселенная принадлежит мне, я могу играть с ней, жить в ней, летать по ней. Ах, какое счастье! Прощайте, все и вся там, внизу, на этой тесной душной маленькой Земле. Я отправляюсь в вечность в грандиозном полёте, что никогда не завершится".
И каждый раз, в мгновение ока, одно и то же повторялось снова и снова. Далеко-далеко снизу, долетая по волнам эфира, поднимался тонкий жалобный плач – плач новорождённого младенца, – и этот слабый звук, более мощный, чем волшебное заклинание, разбивал сферу на атомы, словно разлетались осколки хрустального шара, и вырывал Марину из её голубого мира, снова возвращая на грешную Землю. Она летела всё ниже и ниже, словно падающая звезда, сквозь клубящиеся облака и белый осенний туман, всё быстрее и быстрее, её тело становилось всё тяжелее и тяжелее, пока, как ей казалось, с оглушительным стуком она не обнаруживала, что опять лежала на своей кровати, и Доктор озабоченно над ней склонялся, щупая пульс, и Фрося пыталась заставить её проглотить капельку лекарства, и отец Трофим читал молитву, и Всеволод стоял на коленях, жалобно зовя: "Маринушка, Радость моя, не оставляй меня сейчас!" В то же время новорождённый младенец, который всего минуту назад так жалобно плакал, теперь уютно расположился у неё под боком, мягкий и тёплый, тихонько булькавший от восторга.
Всё было кончено. Она вернулась к ним на скучную старую Землю, и ей приходилось всё начинать сызнова. "Ох, детка, ну зачем же тебе понадобилось меня возвращать? Я действительно тебе так сильно нужна? И какой же это был удар! Вы все видели, как я упала обратно в постель?" – смеясь, восклицала она – по крайней мере, ей казалось, что она громко кричала и смеялась. Но никто не отвечал, ведь они были не в состоянии расслышать её шёпот, и только Доктор, внимательно присмотревшись, замечал со вздохом облегчения: "Слава Господу, её губы шевелятся – через мгновение она придёт в сознание!"
Позже, немного окрепнув, она тихим, прерывавшимся голосом поведала Фросе об этих волшебных полётах. Но старушка пришла в неописуемый ужас.
"Ох, лишь ведьмы летают по ночам на мётлах. Да хранит Вас Господь, они ж за Вами охотятся. Но они Вас не получат. Я прогоню их. Прочь, прочь, порождения сатаны, оставьте в покое рабу Божью Марину и убирайтесь прочь, отродья преисподней".
С молитвами и заклинаниями она окропила Марину святой водой, повязала ей на шею, прямо под крестильный крестик, мешочек с чесноком и положила под подушку чудотворные мощи – коричневый и хрупкий сустав пальца давно почившей в бозе святой. Затем она попросила батюшку поспешить с "Очистительными молитвами", кои, согласно церковному обряду, возвращают всякую молодую мать в лоно Церкви после её родильного периода, когда её считают "нечистой", а также совершить Святое Причастие. И, хотя никто не мог понять, что случилось со старушкой (ведь та ни с кем не делилась тем, что рассказала ей Марина), все единогласно согласились – и Всеволод, и многочисленные друзья, и родственники, столпившиеся у палаты больной (поскольку Доктор не впустил их внутрь), – что Причастие будет для Марины самым наилучшим лекарством. Итак, после "Очистительного молебна" отец Трофим совершил все священные ритуалы, и, к радости и торжеству Фроси, Марина больше не летала ни в ту ночь, ни в другие.
Вместо этого из тьмы стали возникать широкие полосы света, на которых, как на больших пластинах волшебного фонаря, появлялись вереницы тех людей, что сыграли какую-то роль в её жизни, а также знакомые сцены, которые она ранее переживала, и вещи, которые она видела и делала. И она слышала голоса и музыку – всю ту музыку, которую желала, – и у неё, очарованной, возникало ощущение, что она плыла в тёплом, живительном море гармонии.
Но по мере того как она набиралась сил, видения эти, голоса и музыка становились всё слабее и слабее, пока и вовсе не исчезли. Мало-помалу она возвращалась к жизни, пока те недели после рождения Тамары не превратились в воспоминания о чём-то экстраординарном. К ней вновь вернулись её прежние заботы, и, хотя за прошедшее время она навсегда утратила в своём сердце что-то тёплое и милое по отношению к Всеволоду, её дни опять наполнились нескончаемой деятельностью, столь характерной для поздневикторианского периода девяностых годов в Санкт-Петербурге.
И наконец четвёртое поколение
Мелкая нищая скотинка
Я думаю, что способна вспомнить кое-что из того времени, когда мне было всего три года, но в этом, конечно же, нет полной уверенности. Эти смутные воспоминания и различные истории, рассказанные мне позже любящими взрослыми, очевидно, наложились друг на друга, сплетясь в тугой клубок, который трудно распутать. Что является моим личным воспоминанием, а что – одной из тех историй – кто теперь может сказать?
Однако я совершенно отчётливо помню, как шла по длинному красному ковру в Дворцовой церкви и как наклонилась, чтобы поднять обронённый кем-то ярко-жёлтый цветок. Радостно хихикая, я схватила свою находку, но мне тут же приказали её бросить.
"Нет, нет!" – стала громко протестовать я, но на меня решительно зашикали и велели идти дальше. Расстроенная и оскорблённая, я с ужасной неохотой рассталась с этим прекрасным канареечным чудом, о коем впредь никогда не забывала. На обратном пути я поискала цветок глазами, но, разумеется, тот уже исчез.
Возможно, он стал символом того, что потом так часто случалось в моей жизни, когда нечто чудесное встречалось на моём пути, находясь в пределах вытянутой руки, но лишь затем, чтобы быть быстро и бесповоротно потерянным навсегда.
Я так ясно вижу эту картину: огромный бело-золотой храм, длинную красную дорожку в центре, ведущую от широкой входной двери к алтарю, луч солнечного света и ярко-жёлтый цветок, ожидающий, когда его поднимут. Было очень трудно наклоняться в туго накрахмаленном батистовом платье, и мои узкие панталоны чуть не лопнули, а большой бант на задней стороне пояса от этих усилий даже упал мне на локоны. Но всё было тщетно.
"Брось и иди дальше", – неумолимо промолвил знакомый голос. И много раз в последующие годы мне казалось, что я слышу этот голос и те же самые слова: "Брось и иди дальше".
Я также помню, как упала в фонтан перед террасой. Наклонившись посмотреть, как там плавают золотые рыбки, я потеряла равновесие и упала в воду вниз головой. И в этом случае я вижу и ощущаю всё происходившее так живо: зеленоватый мраморный бортик, бешено мечущихся вокруг золотых рыбок, искрящуюся холодную воду и огромные загорелые руки выуживающего меня оттуда садовника. Затем же – ужасные эмоции от мокрой, прилипшей к моему маленькому телу одежды, а также резких и жгучих шлепков сзади, чуть пониже сочащегося пояса.
И я действительно помню свой первый снег, когда, одетая в розовое бархатное пальтишко, шляпку и войлочные валеночки до колен, я ступила в тихий, примолкший белый мир. Белое небо, белая земля, белые деревья, белые кусты и повсюду мягкое падение гигантских белых снежинок. Они цеплялись за мои ресницы, щекотали мне щёки, непрерывно ложились на муфточку, плечи и шляпку. В восторге я запрокинула голову и открыла рот, чтобы их ловить, но голос, который управлял тогда моим маленьким существом, тут же произнёс: "Нет, детка, нет. Не делай этого! Закрой рот и дыши только носом".
Позже я научилась трюку падения лицом вперёд с одновременным набиванием рта снегом или откусывания кусочка алмазной сосульки и держания его за щекой, пока тот не растает. Оба фокуса было совсем даже нелегко исполнить под неусыпным присмотром, но, о, какой же была моя радость, когда это удавалось.
Удивительно, как ощущения и звуки продолжают в нас жить. По сей день, если я захочу, я могу отчётливо услышать голос Няни, рассказывающей сказку тысячелетней давности, или Ваньку с Танькой, трещащих, словно сороки, или Папусю, заливающегося смехом, или Мамусю, нежно произносящую: "Послушай меня, дорогая моя детка, и я расскажу тебе историю, что случилась в незапамятные времена".
И мои пальцы так ясно, так чётко помнят прикосновения к давным-давно сгинувшим вещам: форму любимой маминой броши, которую она очень часто носила, её кольца, фактуру некоторых платьев; танцующие фигурки на моей бело-синей веджвудской чашке, из которой я пила горячее молоко; мою зелёно-золотую книжку с детскими стишками; тугой атласный бант на чепце Няни; жёсткие взъерошенные лохмы Ваньки и мягкие Танькины кудряшки …
Всякий раз, когда я хочу пробудить их, эти ощущения возвращаются, а вместе с ними оживает и прошлое, пусть даже всего лишь на несколько мимолётных мгновений.
Папуся, Мамуся, Няня, мисс Бёрнс – все те, кто окружал меня в детстве, возвращаются к жизни, как будто никогда меня и не покидали.
Няня, типичная старомодная русская пестунья, дородная, спокойная, сердечная и заботливая, хотя подчас и с проявлениями вспыльчивости, была мне, естественно, ближе всех, поскольку заботилась обо мне с момента моего рождения и до самого замужества. Выходец из хорошей и крепкой крестьянской семьи, проживавшей в нашем родовом селе Стронское, она сначала стала кормилицей Папуси, сразу после того, как его мать умерла при родах, а затем и его нянькой, оставаясь ею до тех пор, пока ему не исполнилось семь. После этого заботу о нём взял на себя гувернёр, однако Няня осталась в доме, и в её обязанности входило следить за тем, чтоб должным образом была заправлена его постель, нагрета ванна и почищены зубы, а ещё латать его одежду, штопать носки и выхаживать его, когда он хворал. Как только он умудрялся заболеть, она вновь брала на себя полноценный уход, перебираясь в его комнату со всем своим скарбом – в основном иконами, книгами и домашними лекарствами, – пока тот окончательно не поправлялся. Тогда она возвращалась в свою коморку, находившуюся через коридор напротив, постоянно держа дверь приоткрытой, чтобы отслеживать приходы и уходы своего любимого маленького Всеволода и быть уверенной, что всё в полном порядке. Если же она замечала что-то, что ей не нравилось, то выходила и поднимала шум.
Эта её коморка была нашим самым любимым помещением во всём доме. Украшенная иконами, перед коими горели синие, зелёные, красные и жёлтые лампады, мерцавшие в полутьме, будто огоньки на рождественской ёлке, она всегда была жаркой и таинственно пахла розовым маслом, ладаном, лавандой, одеколоном, чаем и карамелью, сдобренной соком ароматных груш. В главном углу под лампой с абажуром стояло глубокое кресло, а рядом на миниатюрном столике в гордом одиночестве лежала Библия.
"Никогда не помещай рядом с Библией какую-то другую книгу, – твёрдо говорила она, – и ни за что на свете не клади ничего поверх неё, потому что сие есть великий грех".
На другом столе побольше стояли во множестве томов "Жития святых" и прочие труды на религиозную тему, а также из области фольклора.
Всеволод обожал её, и постепенно она стала в Дедусином вдовствующем домовладении всемогущей. "Няня" для членов семьи и "Анисия Павловна" для всех остальных, она управляла течением домашней жизни отца и сына в своей сильной, спокойной, разумной манере, следя за тем, чтоб всё делалось так, как до́лжно. Ибо разве не поклялась она несчастной юной лежавшей на смертном одре княгине Ольге, что она, Анисия, будет заботиться о Всеволоде, как о собственном ребёнке, да поможет ей Господь Бог? И она добросовестно исполнила свою клятву, а когда тот женился, естественно, как само собой разумеющееся, взяла на себя полную заботу о его троих отпрысках: Ваньке, Таньке и Тамаре.
Будучи молодой неграмотной крестьянкой, когда впервые попала в дом Стронских, она очень скоро выучилась читать и писать. Потом же жадно впитывала всё, что попадалось ей под руку, и с годами её знания Библии, житий святых и бесчисленных русских сказок стали феноменальными. Она могла дословно цитировать длиннющие отрывки из Ветхого и Нового Заветов, в мельчайших подробностях описывать земной путь любого святого, о котором вдруг заходила речь, и часами рассказывать бесконечные сказки, коими легко можно было бы наполнить множество толстенных фолиантов.
Кроме того, она разработала ряд ежедневных ритуалов, которые мы, её подопечные, были обязаны неукоснительно исполнять. Если мы что-либо ненамеренно упускали из виду или, наоборот, пытались, немного схитрив, пропустить, она нас наказывала и, следуя здравому библейскому совету, щедро охаживала старой доброй розгой.
Первым делом с утра, перед тем как умываться и одеваться, мы должны были произнести молитвы – поначалу простые, например: "Господи, спаси и сохрани Папусю, Мамусю, Дедусю, Ваньку, Таньку и Тамару", – затем, по мере того как мы становились старше, более длинные и сложные. В семь лет мы уже должны были читать "Отче наш" и особые молитвы Святому Духу, Богородице, нашим ангелам-хранителям и святым покровителям. Они были рассчитаны по времени и произносились чётко и старательно – бубнёж и бормотание не допускались. За этим следовали шесть коленопреклонений, что означало раз за разом вставать во весь рост, вновь опускаться на колени и кланяться до самой земли, касаясь пола лбом. И если к нашим лбам прилипало немного жёлтого пчелиного воска, она бывала особенно довольна, поскольку понимала, что наши молитвы были искренними и полными религиозного рвения и пыла. После этого она окропляла наши головы святой водой и заставляла нас прочитать главу из Нового Завета, пару-тройку абзацев из Ветхого и полстранички из небольшой брошюрки под названием "Праведные мысли на каждый день".
Вечером мы должны были повторить те же самые молитвы, к которым добавлялась ещё одна, мрачноватая – "от внезапной кончины ночью". Затем нам следовало прочитать полстранички из другой брошюрки "Праведные сны на каждую ночь" и "проверить" свою совесть, стараясь припомнить до мельчайших подробностей все неправильные поступки, которые мы совершили за прошедший день. Увы, поскольку нам приходилось "проверять" себя вслух в её присутствии, мы неизменно снабжали её подходящей темой для проповеди, в коей наши греховные деяния подвергались суровому порицанию. Но на этом ритуал Няни завершался.
За ним следовал Мамусин.
Каждый вечер, уложив нас в постель, она наклонялась и очень тихо произносила по-английски: "Да благословит вас Господь" ("Год блесс ю").
"Да благословит вас Господь", – отвечали мы таким же тихим, почти шепчущим голосом.
"Да благословит вас Господь", – повторяла она чуть громче, выходя из комнаты.
"Да благословит вас Господь", – отзывались мы, повышая голос, чтобы она могла нас услышать из-за двери.
"Да благословит вас Господь", – уже почти кричала она, удаляясь по длинному коридору.
"Да благословит вас Господь", – горланили мы.
Наконец у двери, ведущей на лестницу, она выдавала так зычно, как только могла: "Да благословит вас Господь!" – так что эти слова эхом разносились по узкому проходу, и мы вопили в ответ: "Да благословит вас Господь!" – во всю мощь своих лёгких. Потом мы слышали, как закрывалась дверь, и понимали, что Мамуся пошла спускаться.
В этот миг Няня, стоявшая рядом с поджатыми губами и страдальческим выражением на своём старом лице, неодобрительно качала головой и бормотала: "'Котплескью, котплескью!' Что за варварская манера говорить так о нашем Господе Боге! Да простит Он Свою заблудшую рабыню Марину и её невольно впавший во грех мелкий выводок! 'Котплескью!' Кто вообще слышал о такой тарабарщине?"
С этими словами она задувала свечу, и день "мелкого грешного выводка" официально заканчивался.
Удовлетворённая сознанием того, что она надлежащим образом исполнила свой христианский долг, Няня была уверена, что теперь мы не подвергнемся слишком суровому приговору, если внезапно скончаемся в эту ночь, поскольку предстанем перед Всевышним пристойно, не с "рыльцами в пушку", или, другими словами, "чистыми душой и телом".
Мисс Бёрнс была совсем другим человеком. Худая и костлявая пуританка с вытянутым, "лошадиным" лицом, которое, по её твёрдому убеждению, было "красивым в профиль", она никогда не суетилась и не бежала, а двигалась медленно, с достоинством и слегка обиженным видом своего крупного носа, будто только что унюхавшего нечто неприятное. Хотя её нос и правда был слишком велик, она нисколько его не стеснялась и часто цитировала малоизвестную старую поговорку, что "большой хоботок милой мордочки не испортит".
Она неизменно носила простое чёрное шёлковое платье с брошью-камеей под горлом и длинную тяжёлую золотую цепь от часов, дважды обёрнутую вокруг её тощей груди и в особых случаях прикрывавшуюся обильно надушенными носовыми платками. Она редко смеялась и никогда ни к кому не проявляла особой привязанности. И всё же мы знали, что действительно были "её детьми", "её семьёй", и что Стронское, без сомнения, являлось "её единственным домом на всём белом свете".
Хотя ей тогда уже было за пятьдесят и она давно жила в России, приехав из Англии совсем юной, она наотрез отказалась изучать русский язык и с явным презрением смотрела на крестьян как на расу неприкасаемых мужиков, опасных, диких и приходившихся ближайшими родственниками волкам. В этом мнении она, по её же словам, окончательно утвердилась после прискорбного, всемирно известного эпизода, случившегося в Париже, когда Пастер попытался, однако, увы, слишком поздно, вылечить шестерых русских мужиков, которых покусал бешеный волк26.
"В самом деле?" ("Инди́д?") – было её любимейшим выражением изумления, и каждый раз, когда она была поражена, что происходило постоянно, она восклицала: "Инди-и-ид?" – произнося конец недоумённого вопроса на очень длинной и высокой ноте. Естественно, Ванька с Танькой тут же дали ей прозвище "Индид мисс Бёрнс", однако между собой мы называли её просто Ди́ди.
Когда она ехала по просёлку, ей всегда казалось, что кучер намеренно наезжает одной стороной экипажа на заросший травой край узкой колеи, и лишь затем, чтобы, как она утверждала, её позлить. И она сидела, уставившись в его невинную, ничего не подозревавшую спину и возмущённо бормоча себе под нос: "Здоровенный грубый глуп" (что означало "глупое животное").
Хотя и не говоря по-русски, она часто вставляла отдельные русские слова в свои английские предложения, смешивая всё это таким образом, что никто не мог понять, что имелось в виду, исключая тех, кто хорошо её знал. Железнодорожная повозка по-русски называется "вагон", но так как это слово пришло к нам из французского, мисс Бёрнс, к недоумению посторонних, говорила "вэгу-у-ун".
"Я проехалась с комфортом в вэгу-у-уне первого класса", – заявляла она, а удивлённые собеседники вежливо, но с тревогой спрашивали: "В чём, в чём вы сказали, мисс Бёрнс?"
"Пичка" – таков был её вариант слова "печка", и она величественно, частично жестами, приказывала дежурившему мужику подбросить в "пичку" ещё парочку поленьев.
Как ни странно, слуги понимали её ломаную речь лучше, чем кто-либо иной, и быстро исполняли так необычно сформулированные приказы.
Когда требовалось наложить компресс, она просила: "Пожалуйста, принесите мне 'припарка'", – опять-таки используя русское слово; или, не в силах отыскать, чем утеплить кисти рук, возмущённо кричала: "Где мои новые 'перчаткис'?"
Она принадлежала к религиозной группе людей, веривших, что никогда не умрут, и поэтому торжественно заявляла, что, когда придет её время, "она встретит своего Спасителя стоя".
Она терпеть не могла суеверий и давно враждовала по этому поводу с Няней, обвиняя старушку в том, что та учит "ди́ттис" (то есть детей) разнообразной языческой чепухе.
К её ужасу и огорчению, Ванька где-то подцепил отвратительную фразу, всякий раз, когда он её произносил, доводившую её до истерики.
"Нищая-скотинка-чёртова-старая-дура-будь-ты-проклята" ("Бе́ггар-бист-бла́ди-олд-фул-годда́м-ю"), – небрежно кидал он Таньке или мне абсолютно нормальным, обыденным голосом, который столь резко контрастировал со страшными словами, что от этого они звучали ещё более пугающе. К его явному удовольствию, каждый раз, когда он выдавал это в присутствии мисс Бёрнс, как просто обожал делать, она реагировала точно так же, как если б услышала подобное впервые: ахала, вскрикивала, в ужасе вытаращивала глаза и потом резко закрывала лицо костлявыми руками, чтобы скрыть выступавший на щеках стыдливый румянец.
"Ванька, ох, Ванька, это ужасно, ужасно! – причитала она со слезами в голосе. – Ты плохой, порочный мальчишка, как ты смеешь! Такие ужасные слова, да ещё в присутствии дам! Уходи сию же минуту и даже не смей ни с кем заговаривать, пока не вымоешь с мылом свой грязный рот. Ты слышишь меня? Уходи немедленно, пока я не пожаловалась нашему дорогому Папе".
"Да, мисс Бёрнс", – кротко отвечал он и исчезал за дверью, где и стоял в течение несколько минут. Затем возвращался с покаянным выражением лица и самыми смиренными извинениями, какие только мог придумать. Неизменно смягчённая столь трогательной готовностью встать на путь истинный, она говорила: "Очень хорошо, мальчик мой, на этот раз я тебя прощаю, но никогда больше так не делай".
"Никогда, мисс Бёрнс", – обещал он, умудряясь при этом выглядеть буквально воплощением раскаяния. Затем, когда она прощающе похлопывала его по спине, он разворачивался и кричал: "А что касается вас, Танька и Тамара, то вы обе нищие-скотины-чёртовы-старые-дуры-будьте-вы-прокляты!"
И снова мисс Бёрнс ахала и вскрикивала от изумления, и снова Ванька раскаивался, и его идиотская выходка так ни разу и не привела к осуществлению её угрозы пожаловаться "дорогому Папе" или "дорогой Маме".
Ванька даже как-то подбил Няню спросить мисс Бёрнс, что означает "бакабистблагиолфул", в результате чего между теми чуть было не случилась драка, поскольку последняя пребывала в твёрдой уверенности, что Няня оскорбила её намеренно.
Ко всеобщему тайному удовольствию, она неизменно в лицо называла наших родителей "Папа" и "Мама". И хотя сама вполне могла бы годиться им в матери, или даже практически в бабушки, она всегда вела себя с ними по-девичьи, как почтительно-игривая старшая дочь.
"О, Папа, можно ли мне выйти?" – спрашивала она, приподнимая бровь, или: "Пожалуйста, Мама, я бы хотела ещё кусочек ростбифа".
"В селе малом Ванька жил,
Ванька Таньку полюбил".
Из старинной русской народной песни
Хотя я горячо любила всех, кто окружал меня в ранние годы моей жизни, Ваньку с Танькой я буквально обожала. В моих глазах они были абсолютно совершенны – настоящие бог и богиня (если бы я тогда знала значение этих слов), которым нужно в восхищении поклоняться и безудержно подражать.
"Ванька-и-Танька сказали", – торжественно заявляла я, и что бы они ни говорили, для меня становилось законом, и ничто не могло этого изменить. Разумеется, те в полной мере эксплуатировали моё обожание и, пользуясь бесспорным преимуществом в возрасте (так как были на семь лет старше меня), проводили всё своё свободное время, которого, по счастью, у них было довольно мало, превращая меня в настоящую обезьянку. Они учили меня бессмысленным стишкам, поговоркам, песенкам, пляскам, загадкам и Бог знает чему ещё, чтоб потом ошарашивать ими наше старшее поколение, в отчаянии разводившее руками и, восклицая: "Тамара, никогда больше так не говори", – гонявшееся за двойняшками по всему дому. В итоге, пойманные и обвинённые в том, что сбили с пути праведного свою бедную сестрёнку, те выглядели невинно удивлёнными, утверждая, что глупышка Тамара абсолютно их не поняла.
Я была их посредницей, козлом отпущения для их розыгрышей и, к их дьявольскому наслаждению, в точности следовала их задумкам.
Однажды они подначили меня сделать предложение скромной незамужней даме лет пятидесяти от имени глухого пожилого джентльмена, коему было по меньшей мере семьдесят пять. Обе стороны —постоянные гости нашего дома – годами друг друга терпеть не могли, и моё предложение прозвучало как гром среди ясного неба. Но перед этим Ванька с Танькой отвели меня в сторону и после нескольких лестных замечаний, которыми они, как обычно, полностью меня покорили, детально проинструктировали, какие именно слова мне следует использовать.
"Видишь ли, этот пожилой джентльмен, Василий Иванович, настолько глух, что боится не услышать радостного ответа дамы, и ему было бы крайне неловко. Итак, он выбрал тебя, Тамара, своим послом. Это большое доверие и очень серьёзный и деликатный вопрос, – без тени улыбки сказали они. – Не каждая маленькая девочка удостаивается такой чести. Так что поторопись, пока ещё помнишь, какие именно слова он хочет, чтобы ты произнесла, а мы будем наблюдать за вами из-за этой колонны".
Дама, о которой шла речь, сидя на террасе, безмятежно вязала, когда, целиком осознавая важность своей миссии, я медленно приблизилась к ней твёрдой походкой, гордо подняв голову и выразительно, насколько это было возможно, выпятив грудь (или, вернее, живот).
"Глафира Петровна, я должна вам кое-что сообщить", – напыщенно начала я, стоя на одной ноге, словно аист.
"Да, Тамарочка, крошка моя, что стряслось?" – ласково спросила она, отрываясь от вязания и улыбчиво глядя на меня сквозь очки. Она очень меня любила, и мы вместе играли во многие игры.
"Это касается Василия Ивановича, – важно продолжила я, опрометчиво проигнорировав её в мгновение ока посмурневший взгляд. – Глафира Петровна, он любит вас и на коленях умоляет выйти за него замуж".
К моему изумлению, Глафира Петровна, всегда столь милая и добродушная, вскочила со своего места и, схватив меня за плечи, встряхнула так сильно, что мои локоны упали мне на лицо.
"Непорядочный человек! Злодей! Негодяй! Как он смеет, как он смеет … ?" – вскричала она, а затем, издав пронзительный вопль, неожиданно рухнула в своё плетёное кресло, тут же потеряв сознание. По крайней мере, она закрыла глаза, открыла рот и задышала столь тревожным образом, что я заорала: "Ванька! Танька! Она рассыпается на части! Скорее, скорее!"
Те выскочили из-за колонны и, сунув мне в руку бумажку, прошептали: "Всё в порядке. Влюблённые дамы всегда так себя ведут. А теперь беги в библиотеку и отдай Василию Ивановичу эту записку. Быстрее!"
Так резво, как только позволяли мне мои короткие ножки, я помчалась в библиотеку, где пожилой джентльмен читал газету. Поскольку он не мог расслышать ни слова, я потянула его за рукав, а когда он рассеянно пробубнил в бороду: "Что такое, дитя моё, что такое?" – я вручила ему записку, сопроводив её ликующими жестами, дабы показать, что его ждёт большая радость.
Наступила зловещая пауза, за которой последовали сдавленное клокотание и яростный крик.
"Что это? – взревел он, я же поспешно попятилась. – Глафира будет рада выйти за меня замуж? Кто, скажите на милость, просил о таком эту старую ведьму? Кто дал тебе эту писульку? Где она, эта чёртова дура? Дайте мне сдавить её тощее горло!"
Он, шатаясь, поднялся на ноги, его лицо побагровело, глаза вылезли из орбит, седая шевелюра буквально встала дыбом.
"О Боже, что с Василием Ивановичем? У него же удар!" – воскликнула Мамуся, в тревоге подбегая к нему. Она как раз вошла в библиотеку, чтобы стать невольной свидетельницей приступа старого господина. "Беги, Тамара, скорее … неси стакан воды … потом тут же позови Доктора!" Она расстегнула его воротник и хлопотала над ним, пока он судорожно хватал ртом воздух. Когда я вернулась с водой, ему, похоже, стало немного легче, и она принялась изучать записку.
"Это ты ему дала?" – сурово спросила она.
"Да, конечно, Мамочка. Ванька-и-Танька мне поручили. Это же любовная записка от Глафиры Петровны", – дрожащим голосом ответила я, пятясь к выходу из помещения.
"Та-а-ак, – протянула Мамуся зловещим тоном, который, как всем было известно, означал 'Наказание', с большой буквы 'Н'. – Та-а-ак, ещё одна из их идиотских выходок. Что ж, хорошо. Тамара, немедленно позови Ваньку с Танькой! Слышишь, сию же минуту!"
И я унеслась, радуясь, что избавилась от Василия Ивановича и его ужасного приступа. Но так нигде и не смогла найти двойняшек. Те бесследно исчезли, и до вечера никто не знал, где они. В конце концов после долгих поисков по всему дому их обнаружили крепко спавшими в своих постелях. Однако Папуся с рёвом разбудил их и, вытащив за волосы, устроил им страшную взбучку. Он кричал, кричал и кричал, в то время как в соседней комнате я спряталась под одеялом и, заткнув уши пальцами, молилась "царю Давиду и всей кротости его" о своей защите.
На следующее утро и Глафира Петровна, и Василий Иванович исчезли, а Ваньку с Танькой три дня продержали в их смежных комнатах на чёрном хлебе и молоке. По крайней мере, предполагалось, что у них не будет ничего, кроме хлеба и молока, но вышло совсем не так. Узрев меня на следующее же утро под своими окнами на лужайке, они приказали мне собрать все яблоки, и груши, и пирожки, и ещё любое вкусненькое, что попадётся мне под руку, а затем сложить всё это в корзинку и привязать к той верёвке, что Ванька спустит из своего окна, а затем поднимет назад с добычей. Естественно, я подчинилась, умудрившись наполнить для них даже не одну, а несколько корзинок большим количеством съестного и пригодного для питья, включая: пирожные, конфеты, печенье, мясное ассорти, десерты и сладкие напитки – всё это я стащила из холодильной комнаты, когда экономка поворачивалась к ней спиной. Мне несказанно везло, но в конце третьего дня она всё же застукала меня с полными руками краденых продуктов и донесла об этом Няне. Тогда уже наказали меня, заперев в моей комнате, но Ванька и Танька, которые к тому времени были выпущены из своего заточения, благородно пришли на помощь и сполна покрыли свой благодарственный долг, доставив мне таким же образом всё, до чего дотянулись их руки, – в основном кусочки торта и карамель. Я ими пичкалась и пичкалась, наотрез отказываясь, к огорчению Няни, есть чёрный хлеб с молоком. Встревоженная, она сообщила о моей "голодной забастовке" Мамусе, после чего меня незамедлительно освободили, правда, при том условии, что я буду трижды в день проглатывать ложку касторки и по тридцать раз кланяться иконам, прося: "Помилуйте меня, молю, помилуйте меня, ибо я много согрешила".
Ваньку с Танькой заставили написать в адрес Василия Ивановича и Глафиры Петровны покаянные послания, а затем отвезли просить тех о прощении лично.
Позже имел место шокирующий инцидент, когда не кто-нибудь, а сам губернатор оказался запертым в туалете около нашей классной комнаты. Это было скандальное событие, которое привело к катастрофическим для меня последствиям.
Эти туалеты, которые наш учитель итальянского тактично называл "ритира́та", а слуги, считавшие, что верно произносят английские слова, – "во́ттер глозе́тты", были самыми первыми в своём роде во всей губернии, чем мы по праву, пусть и скромно, гордились. Без фанфар и бахвальства, но тем не менее это было так: приятное, твёрдое осознание того, что эти современные инновации находятся в нашем распоряжении и что мы, бесспорно, являемся пионерами в данной области. Было приятно осознавать, что абсолютно всем гостям нравилось пользоваться нашими удобными "во́ттер глозе́ттами" и что, вероятно, они специально к нам заглядывали, чтобы провести в них долгие и полезные часы за чтением, курением и дневной дрёмой, так как те имели приятный обогрев и буквально благоухали благодаря приспособлению, прикреплённому на стене и называвшемуся озонатором. ("Озона-тор-тор-тор, из Парижа прямиком", – всегда напевали в его честь Ванька, Танька и я на мотив популярной песенки "Я тебя обожаю").
Туалеты были встроены в различные подходившие для этого и разбросанные по всему дому ниши, но в целях оптимизации водопроводно-канализационной системы архитектор расположил их как бы в виде сиамских близнецов, по два бок о бок и с неизменным соединявшим их оконцем, расположенным высоко под потолком. Бо́льшую часть времени эти оконца были открытыми, несомненно, для лучшей вентиляции, и, хотя ничего не было видно, можно было с лёгкостью расслышать, кто находился в соседней кабинке. Знакомое покашливание, звяканье шпор, шелест шёлка или запах определённых духов – и секрет был раскрыт.
У нас, детей, имелись свои "близнецы-глозе́тты" в коридоре рядышком с классной комнатой, и было страшно весело занять их оба, чтобы чуточку поболтать, а ещё по очереди поведать друг другу короткие истории или почитать стишки. Помимо всего этого, существовала и другая форма декламации, увы, более низкого и гораздо менее вдохновенного уровня. Она состояла в том, чтоб вслух зачитывать по кругу следующую изысканную надпись, напечатанную на контейнере из папье-маше, который также висел на стене рядом с озонатором, и озаглавленную "Медикаментозная бумага". Согласно правилам этой фантастической игры, кто первый садился, тот и начинал. Скажем, начинала Танька:
"Медикаментозная бумага – это абсолютно чистое изделие и надёжная профилактика …" – и далее шло название простого, неопасного, достаточно распространённого, но крайне неприятного заболевания.
"Источником этой мучительной и почти всемирной жалобы на …" – продолжала я спокойным врачебным голосом, повторяя название того же самого простого недуга.
"… неизменно является использование обычной бумаги", – назидательно подхватывала Танька.
"Чернила для печати – это ещё и ужасный яд", – уже возбуждённо кричала я.
"… поэтому постоянное использование газетной бумаги", – печально замечала Танька.
"… в конечном итоге обязательно вызывает", – предупреждала я.
"… обострённую фазу вышеуказанной болезни", – мрачно заключала Танька.
Затем мы уже хором воспевали достоинства "медикаментозной бумаги", заканчивая триумфальной песней про "озонатор из Парижа".
"Великолепный язык", – восхищённо думала я, каждый раз заходя в туалет и видя эти торжественные слова, серьёзно смотревшие на меня с красивого контейнера из папье-маше, и снова и снова декламировала их с неослабевавшим наслаждением.
Но однажды, направляясь в сторону нашего личного туалета, я, увы, случайно встретила Ваньку, по крайней мере, я так решила, что случайно. Он явно спешил, будто искал кого-то с крайне озабоченным выражением на лице. Завидев меня, он, похоже, почувствовал облегчение и поманил меня к себе.
"Эй, Тамара, ты именно та, кого я искал! Иди-ка сюда, я хочу тебе кое-что сказать", – тихо произнёс он.
Заинтригованная и ожидавшая, что он поделится со мной каким-то интересным секретом, я с готовностью подошла, пребывая, как водится, в том идеальном настроении, что располагало к восприятию любой абсурдной идеи, которую он мог сообщить.
"Послушай, – продолжил он, понизив голос ещё больше, – там Танька … – и он указал на туалет, находившийся немножко дальше по коридору, полоска света вокруг двери которого явно указывала, что он действительно занят, – так вот, я хочу тебя предупредить. Она замышляет что-то нехорошее и собирается сыграть с тобой злую шутку, которую ты никогда в жизни не забудешь. Даже я был потрясён, когда о таком услышал. Так что просто запри её там, и шутка достанется ей самой. И на этот раз именно тебе удастся её одурачить".
Удивлённая и польщённая тем, что он предостерёг меня от козней любимой двойняшки, я подкралась к двери и тихонько задвинула её наружную щеколду. Теперь злодейка была заперта внутри и не смогла бы выйти, пока кто-нибудь вновь не отодвинул бы защёлку.
Я радостно помахала в сторону Ваньки, а тот поклонился и беззвучно зааплодировал. Было забавно хоть раз сыграть с ним против Таньки в одной команде. Поразительно, конечно, но очень приятно!
Не в силах сдержать свой восторг, я скрылась в соседней кабинке и прокричала: "Танька, давай, ты первая". Это был наш сигнал для неё приступить к декламированию того, что она выберет. Однако никто не ответил, и я, слегка озадаченная, начала сама: "Медикаментозная бумага …"
Когда же я в конце первой строчки сделала паузу, мои усилия встретило всё то же молчание. Я героически отыграла всё до конца, исполнив обе партии, но из Танькиных покоев по-прежнему не доносилось ни слова, ни звука. Затем я упрямо продекламировала очередное из нашего самого любимого:
"Мистер Лобски сказал некрасивой жене:
'Я иду ловить рыбку на нашей реке'", —
думая, что она немедленно вступится за миссис Лобски и ответит:
"'Ты порочный стервец и идёшь не ловить,
А с распутными бабами шашни крутить'".
Но нет, та даже не пискнула. В конце концов, возмущённая её явным нежеланием поддерживать эту игру, я швырнула свою туфлю в оконце, надеясь, что та попадет ей по голове, а затем, скача на одной ноге из-за отсутствия туфли и сердито хлопнув за собой дверью, удалилась. Беззаботно насвистывая, я продолжила свой путь по коридору, нисколько не удивившись, что Ванька всё ещё маячил поблизости.
"Ты уверена, что заперла её?" – прошептал он и, казалось, был особенно доволен, когда я гордо ответила: "Да, разумеется".
Я осталась с ним, желая поглядеть, какой шум та поднимет, и вскоре мы услышали, как она стала возиться с замком. Была возня, возня, возня, а потом она принялась стучать. Мы зажали руками рты, однако наш смех вырывался через нос, как сдавленное чихание. Так мы и смотрели друг на друга, хихикая. Последовал ещё стук, потом опять и опять.
"Ох, и сильная девчонка, эта Танька", – одобрительно пробормотал Ванька. И в этот миг она стала пинать дверь, а я не могла себе и представить, что та способна издавать столько шума своими тоненькими ножками.
Внезапно, к своему ужасу, я услышала исходившие оттуда крики, сердитый рёв, принадлежавший явно не Таньке. В испуге я уставилась на Ваньку.
"Ванька, кто это там? Кого я заперла?" – взвыла я, предчувствуя ужасную катастрофу.
"Всего лишь нашего губернатора, крошка моя, – посерьёзнев, ответил он. – Разве ты не знала, что он приехал к нам с визитом сегодня утром? А теперь посмотри, что ты натворила! Тебе придётся побыстрее его выпустить, иначе он посадит тебя в тюрьму. С губернатором, знаешь ли, шутки плохи".
"Я его не выпущу! – в отчаянии закричала я. – Да ведь если я это сделаю, он увидит, кто я такая, и тут же меня убьёт. Ты только послушай его, он там совсем озверел!"
Между тем отчаянные вопли из "глозе́тта" становились всё громче и громче, в то время как в дверь яростно колотили ногами.
"Давай, скорее, пока он не задохнулся насмерть. Там ведь нет воздуха, он задыхается".
Дрожа в своей единственной туфле, я подошла к двери, грозившей в любой момент распахнуться, и осторожно отодвинула щеколду. Я молилась, чтобы мне удалось исчезнуть до того, как он узнает, кто я такая, а потому сразу бросилась бежать так быстро, как только позволяли мне мои ноги, но, увы, он появился в мгновение ока и с гневным рёвом (а этот старый господин был холериком) бросился за мной, крича: "Плохая, злая, никчёмная мелкая скотинка! Я догоню тебя. Ты никогда меня не забудешь".
Я в ужасе летела по коридору, а он нёсся за мной галопом мимо ухмылявшегося Ваньки и взявшейся неизвестно откуда хихикавшей Таньки; мимо изумлённого Дедуси, остановившегося поглазеть на нас, пока мы с грохотом его оббегали; мимо галереи и дальше, к верхней площадке главной лестницы. Я помчалась вниз по ступенькам, уже почти настигаемая своим разъярённым преследователем. Неожиданно, стоило мне лишь благополучно достичь низа лестницы, я услышала оглушительный грохот, и Его Превосходительство кубарем полетел вниз в общей массе размахивавших рук, ног, седых усов, орденов и медалей. С ужасающим стуком он приземлился у подножия лестницы, продолжая орать: "Я ещё доберусь до тебя, маленькая чертовка!" В тот же миг его окружила моя встревоженная семья, гости и слуги. Все были в шоке. Там он и лежал, голося и стоная, пока не послали за Доктором. Затем соорудили импровизированные носилки, и его, окружённого сочувствовавшей толпой, отнесли в самую роскошную комнату для гостей.
"Просто подождите, пока этот ребёнок не попадётся мне в руки", – услышала я бурчание Папуси, поэтому предусмотрительно скрылась в саду и долго пряталась там, надеясь вопреки всему, что грозная буря утихнет.
В итоге, голодная и замёрзшая, я осторожно попыталась прокрасться обратно через кухню, где, как я знала, мне бы дали немного нормальной пищи, но карающая длань, которая безжалостно ждала, схватила меня и потащила, кричавшую, в мою комнату. Там на меня как следует наорали, потрясли, отхлестали розгой и отправили спать в полном унижении, без ужина, только с обычной дозой касторки, чтобы взбодрить мои внутренности. Однако мне стало чуточку полегче, когда Няня, которой удалось тайком пронести куриную ножку и холодную картошку, по секрету сообщила мне, что Ваньке с Танькой тоже влетело как "зачинщикам позорного эпизода".
На следующее утро меня, дрожавшую от страха, отвели в спальню губернатора, дабы на коленях просить у него прощения. Он сидел с повязкой на лбу в постели и сердито сверкал опухшим глазом, когда я предстала перед ним и, низко поклонившись, почтительно пробормотала: "Пожалуйста, Ваше Превосходительство, я не хотела запирать вас в во́ттер глозе́тте. Я думала, что там была моя сестра Танька".
"Кроме того, – добавила я, не получив никакого ободрявшего ответа, а только ворчание, и сразу выдала блестящую запоздалую мысль, совсем не относившуюся к моей тщательно подготовленной речи, – что вы вообще делали в моём личном туалете? Вы вторглись на чужую территорию, вот что вы делали, гадкий старик, а нарушители границ …" – но в эту секунду меня насильно увели с глаз губернатора и грубо вернули в мою комнату.
Цыганский паттеран
Мне было девять, когда меня на несколько часов "похитили" цыгане. Этот опыт мне ужасно понравился, и я сожалела лишь о том, что он не продлился подольше.
Это произошло в Стронском жарким июльским днём, когда все прилегли отдохнуть и Няня, как водится, дремала, вытянувшись во весь рост на своей любимой скамье под названием "ложе Прокруста" в летнем домике у реки, известном как Храм Венеры.
Я же, будучи абсолютно бодрой и не в силах сохранять спокойствие, прокралась по ступенькам домика в заросли и уже собиралась начать игру в "Лесного охотника", когда услышала треск веток. В следующую минуту появились двое смуглых мужчин, а за ними следовала хорошенькая девушка в красном платье, с красным же платочком на голове и ниткой ярких бус на шее. Я удивлённо на них уставилась, поскольку те совсем не походили на крестьян, живших в окрестных деревнях. Их волосы были такими же чёрными, как у меня, кожа – довольно тёмной, а зубы – белоснежными. Все они мне дружелюбно улыбнулись, а девушка обняла меня за плечи.
"Ты же маленькая княжна Тамара, не так ли?" – спросила она, взяв меня за руку и крепко её сжимая.
"Да, я Тамара. А ты кто?" – нетерпеливо поинтересовалась я. Девушка понравилась мне с первого взгляда, и я была рада такой встрече. Может быть, подумала я, она останется со мной поиграть. Позади я слышала храп Няни и знала, что та проспит ещё достаточно долго.
"Я Стеша, твоя двоюродная сестра, – ответила симпатичная девушка, сильно меня удивив, ведь я никогда не слышала о кузине с таким именем. – Не хочешь ли пойти со мной и посмотреть, где я живу?"
"О, да, да, пожалуйста!" – радостно воскликнула я, подпрыгивая от ликования, а затем прижала руку ко рту во внезапном испуге, что разбудила Няню и испортила всё веселье. Я прекрасно понимала, что та никогда бы не позволила мне пойти куда-либо с новоявленной кузиной. Но нет, Няня, хвала Небесам, мирно посапывала, и на какое-то время я была в безопасности.
"Пойдём скорее, – прошептала я, – пока Няня не проснулась".
Девушка рассмеялась и вполголоса сказала что-то на незнакомом языке одному из мужчин. Тот же повернулся ко мне и, прошептав: "Я лучше тебя понесу. Нам предстоит довольно долгий путь", – поднял меня на руки и быстро, по-кошачьи побежал по парку в сопровождении другого мужчины и Стеши.
Вскоре мы перелезли через низкую стену, отделявшую парк от прилегавшего леса, и, продравшись сквозь густой кустарник, оказались в овраге, который, как я знала, тянулся на многие вёрсты посреди открытой местности. На дне оврага стояли четыре осёдланных коня, которых держала под уздцы ещё одна темнокожая женщина. Мужчина, что меня нёс, взлетев на крупного вороного жеребца и разместив меня перед собой на седле, тут же пустился вскачь. Трое других устремились за нами.
Мы мчались по оврагу галопом, и ветер дул мне в лицо, развевая волосы и щипля глаза. Обезумев от радости, я закричала: "Быстрее, быстрее!" – позже задавшись вопросом, что имел в виду этот человек, когда проорал остальным: "Она одна из нас! В этом нет никаких сомнений!"
Мы неслись, мы рвались вперёд, резали воздух и грохотали, пока не добрались до поляны перед стеной из тяжёлого камня, выходившей лицом на один край оврага. Там мы остановились и спешились. Задыхаясь от скачки, я протёрла слезившиеся глаза и как могла расчесала пальцами спутавшиеся локоны. Мои щёки горели. Это было настоящее приключение! Наконец-то появилось что-то похожее на мои книжки о странствиях, что-то, о чём можно было бы рассказать Ваньке и Таньке – только б они мне поверили.
Стеша вновь взяла меня за руку, и мы подошли к каменной стене. Там она просвистела несколько тихих музыкальных нот, которые я запомнила на всю свою жизнь. Не успел стихнуть её свист, как, к моему изумлению, огромный плоский камень в стене начал медленно-медленно поворачиваться, пока не образовалось отверстие, достаточно большое, чтобы сквозь него мог пролезть человек. В этот проём мы все и направились, продолжая держаться со Стешей за руки. Вокруг было темно, помимо узкой полоски света, пробивавшейся сквозь отверстие позади нас. Вскоре и она исчезла, как только камень вернулся на прежнее место, и на секунду мне показалось, что мы очутились в кромешной мгле. Но тут перед нами вспыхнул факел, потом ещё один и ещё, пока они уже не горели повсюду вокруг нас.
"А вот и мы – мы привезли её!" – весело воскликнула Стеша.
В тот же миг нас окружила толпа смуглых людей, все они смеялись, показывая свои ярко-белые зубы, и все одновременно болтали на том странном языке, которого я не понимала. Как ни странно, я вовсе не испугалась, а только была взволнована как никогда прежде.
"Где это мы? Это пещера Али-Бабы? Здесь есть несметные сокровища?" – взволнованно спросила я Стешу.
Она опять рассмеялась и, подняв меня с пола, поставила на стол.
"Итак, вот она Тамара, наша маленькая Тамара! Просто взгляните на неё и тут же поймёте, что она одна из нас. Эти смоляные волосы, эти соболиные брови, эти чёрные глаза! Давайте же окажем ей достойный приём!" – закричали они, и толпа тут же грянула традиционную приветственную цыганскую песню:
"Хор наш поёт
Припев старинный,
Ви́на полились рекой.
Дождались мы
Нашей любимой
Тамары Всеволодовны дорогой!
Тамары, Тамары, Тамары,
Тамары, Тамары, Тамары,
Тамары, Тамары, Тамары, Тамары,
Нашей девочки родной!
Выпьем за Тамару, Тамару дорогую,
Свет ещё не видел красивую такую!"
Это было чудесно! Никогда я не слышала такого пения, никогда не видела такого количества взволнованных людей. Я быстро уловила лёгкую и красивую мелодию и, открыв рот как можно шире, с жаром запела вместе с остальными величание в свою честь.
Потом перед моим столом расчистили место, и Стеша стала танцевать, сначала медленно, глядя на меня своими большими чёрными очами, не отрывая их от моего пылавшего лица. Вскоре она поманила меня к себе и, приглашающе взмахнув руками, выразила пантомимой своё желание, чтоб я присоединилась к ней в этом танце.
"Давай, Тамара, давай! Покажи-ка нам, на что ты способна", – закричали все, став хлопать в ладоши, в то время как кто-то снял меня со стола и поставил перед Стешей.
Та наклонилась ко мне и, проведя рукой по моим волосам, которые уже к тому времени от возбуждения стояли торчком, заглянула в моё запрокинутое лицо, прошептав: "Смотри на меня и делай так же, как я".
Мгновение она стояла совершенно неподвижно – я тоже; её плечи стали подниматься и опускаться – я повторила; по её телу пробежала дрожь – я в ответ затряслась с головы до пят; она вскинула руки ладонями вверх – я как могла скопировала это движение. Затем она устремилась прочь, и я последовала за ней. Мы шли по кругу всё быстрее и быстрее, а толпа хлопала и пела. Мы скользили, мы кружились, мы парили. Всё, о чём я могла думать, было: "Я лечу, лечу, лечу, словно я настоящая птица!"
Но внезапно пение и хлопки прекратились, и танец закончился. Все закричали: "Тамара, Тамара!" Десятки рук, подхватив меня, стали подбрасывать в воздух и снова ловить. Я ощущала себя, как живой мячик, визжа во весь голос от безумного восторга. Никогда ещё мне не было так весело. Никогда!
Вдруг в разгар этой кутерьмы, перекрывая шум, прозвучал властный мужской голос. "Подведите её ко мне", – приказал он, и всё мгновенно стихло – стало так тихо, что можно было бы расслышать падение булавки. Стеша в который раз провела пальцами по моим локонам и, взяв меня за руку, повела сквозь толпу, молча расступавшуюся перед нами по мере нашего продвижения в заднюю часть пещеры. Там на широком, как трон, стуле, покрытом золотистой лисьей шкурой, сидел невероятно старый мужчина, опираясь на сучковатый посох. Его проницательные чёрные глаза, казалось, пронизывали меня насквозь, и впервые за этот день мне стало страшно.
"Кто он? Давай уйдём", – прошептала я Стеше. Но та только ободряюще сжала мою ладонь и тихо произнесла в ответ: "Всё в порядке, Тамара, он тебя любит".
В этот миг он мягко улыбнулся, и все мои страхи сразу же улетучились. Ведь он выглядел точь-в-точь как на картинке, висевшей в моей детской и изображавшей восседавшего на троне высоко в облаках Бога: та же грива длинных седых волос, та же борода, те же правильные и красивые черты лица, то же ниспадавшее белое одеяние.
Я проворно осенила себя крестным знамением и бросилась к его ногам, умоляя: "Господи, помилуй", – поскольку поняла, что умерла и уже на Небесах – именно так, как вновь и вновь описывал мне отец Трофим, объясняя, что произойдёт, когда меня отведут к престолу Божьему на суд. Стоило мне упасть на колени, как Чрезвычайно Древний Старец, поднявшись с трона и возвышаясь надо мной, наложил мне ладони на голову и прошептал несколько непонятных слов.
"Бог благословляет меня точно так же, как это делают батюшки", – подумала я, немного удивлённая тем, что и на Небесах всё происходит, как на Земле. Затем же, вспомнив о хороших манерах, потянулась к его правой руке и её поцеловала. Когда я это сделала, он наклонился и несколько секунд пристально смотрел мне в лицо, а я узрела, что его глаза больше не были пронизывавшими меня и строгими, а стали вдруг печальными и очень, очень добрыми. Он глубоко вздохнул.
"Ох, Тамара, наша маленькая Тамара, тебе будет трудно, дитя моё, крайне трудно, но в конце концов ты победишь, – сказал он именно таким тихим голосом, каким я всегда представляла себе голос Бога. – Мы будем присматривать за тобой и любить тебя, однако мы ничего не можем изменить – это судьба, рок …"
И вновь он, глубоко вздохнув, наложил ладони на пышный локон у меня на макушке. Я понимала, что должна была ответить нечто вежливое, поэтому почтительно промолвила: "Господи, Боже мой", – и дважды поцеловала его руку. Он улыбнулся, и вдруг я ясно почувствовала, что люблю его всем сердцем, больше всех на свете, что, конечно же, было совершенно правильным, учитывая, кем он являлся. Хотя практически тут же я узнала, что он вовсе не Бог, а всего лишь мой правнучатый дядя.
"Нет, дитя, я не Господь. Я всего лишь древний старик, но кровь от крови и плоть от плоти твоей. Я брат твоей прабабушки Доминики, да покоится она с миром! Я вижу тот же огонь в твоих глазах, ту же силу и ту же храбрость. И я желаю тебе, дитя моё, всегда оставаться сильной и храброй, что бы ни случилось. Всегда помни, что в конце концов ты победишь. А теперь, Стеша, отвезите её обратно и проследите, чтоб она благополучно добралась до своего дома".
Он высоко поднял свою правую руку (совсем как на другой моей картинке с Моисеем на горе, подумала я), а потом, словно в изнеможении, медленно опустился на свой трон, поддерживаемый несколькими бросившимися ему на помощь людьми. Они быстро окружили его, а Стеша, взяв меня за руку, подвела к столу, на котором я стояла перед танцем. Теперь он был уставлен мисками и блюдами, наполненными странной на вид едой. Одна пожилая женщина принесла мне чашку, содержавшую чудесный напиток, похожий на жидкое солнце. Я попробовала его – он было сладким, как мёд.
"Это и есть мёд, – сказала старушка, сияя улыбкой, а потом тут же дала мне сжевать большого пряничного человечка и набила мои кармашки множеством пряничных человечков и зверушек помельче. – Чтобы было, что погрызть на обратном пути".
Я подумала о нашей дикой скачке и о том, как непросто будет что-то сгрызть, когда летишь быстрее ветра. Однако вежливо поблагодарила: "Спасибо, да хранит вас Бог!" – а та ответила обычным: "На здоровье!" – что означает: "Пусть то, что вы собираетесь съесть – либо то, что вы уже съели, – пойдёт вам на пользу".
Потом все они спели прощальную песню – красивую и грустную песню, от которой мне захотелось плакать, – огромная каменная дверь опять отворилась, и мы все пятеро: Стеша, двое мужчин, другая женщина и я – сели на коней и ускакали прочь.
Не прошло много времени, прежде чем мы вновь оказались в лесу, примыкавшем к нашему парку. На дне оврага мы оставили коней под присмотром той же женщины, и мужчина, подхватив меня на руки, побежал со мной к низкой стене. И там он поставил меня на ноги, промолвив: "Всё, дальше ты пойдёшь к летнему домику одна, мы же будем издалека присматривать за тобой, пока ты туда не доберёшься". Стеша обняла меня и подарила нитку своих бус. Я поклонилась всем, и все поклонились мне, а потом я вприпрыжку побежала к Храму Венеры.
Добравшись туда, я застала ужасный переполох. Няня громко рыдала, Папуся орал, Ванька и Танька вопили, собаки лаяли, а большая куча крестьян подняла жуткий шум, поскольку они болтали все разом и принялись выкрикивать: "Ай-йа, ай-йа, ай-йа", – как всегда делали на охоте, вынуждая какого-нибудь зверя покинуть своё укрытие.
Я снова и снова слышала своё имя, и обрывки молитв (из уст отца Трофима), и обрывки брани (в основном из уст Папуси). О, это была грандиозная суматоха, похлеще, чем на охоте, почище, чем на сельской ярмарке.
И тут они увидели, как я появилась из зарослей, и все бросились ко мне, крича, плача, вопя и визжа.
"Вот она, вот она!" – орали Папуся с Дедусей.
"Слава Господу!" – восклицали Мамуся, Няня и мисс Бёрнс.
"Куда ты запропастилась?" – горланили Ванька с Танькой, а крестьяне, приготовившиеся в поисках меня "обшаривать лес", как поступали при травле медведя, волка или лисы, закричали: "Вот она! Мы нашли её! Мы нашли её!" – что, разумеется, было неправдой, так как это не они меня нашли, а наоборот, я нашла их.
Пока я стояла посреди них, они гоготали, всхлипывали и балаболили одновременно. Никто не дал мне сказать ни слова. Наконец Дедуся поднял руку (прям как тот Древний Старец в пещере) и сказал: "А теперь замолчите! Я хочу послушать, что скажет Тамара. Где же ты была, дитя моё? И зачем нас так напугала? Тебе не следовало исчезать подобным образом".
Не знаю почему, но я вдруг почувствовала, что не имею права рассказывать всем-всем о своих новых друзьях, в особенности о Древнем Старце, и о том, как чудесно я с ними повеселилась, поэтому решила прошептать короткий рассказ только на ухо Дедусе. На его лице появилось очень странное выражение, можно даже сказать, сменилось множество выражений. Поначалу он выглядел удивлённым, потом рассерженным, затем испытавшим облегчение, и наконец позабавленным и откровенно довольным – да-да, действительно довольным. Когда я закончила, он стал шептать Папусе, и по лицу того пробежали те же самые выражения; после этого очередь дошла и до Мамуси, но та и вовсе не выглядела довольной – лишь в первые секунды была испугана, а позже —возмущена и зла. Но как только собралась что-то высказать, Папуся бросил по-французски: "Не сейчас, моя дорогая", – и, повернувшись к толпе крестьян, крикнул: "Ребятки, я благодарю вас за то, что вы пришли помочь нам найти нашу маленькую Тамару, но вот она здесь, в целости и сохранности. Она говорит, что просто убежала в лес, чтобы нас разыграть, вот и всё. Теперь же ступайте по домам, а я распоряжусь, чтобы вам выдали за беспокойство по чарке водки".
И те ушли, оживлённо радуясь, что скоро смогут насладиться сим согревающим напитком. Я видела, что они восхваляли меня за то, что я сбежала, таким образом обеспечив их желанной порцией водки, которую они все так любили.
Стоило суматохе сойти на нет, как меня уложили в постель и дали лаврово-вишнёвых капель и некоего снадобья. Затем пришли Папуся и Дедуся, сели рядом и со мной заговорили, в то время как Мамуся сидела молча и неодобрительно слушала. Именно в тот вечер они поведали мне о моём прадеде Якове Дмитриевиче и о том, как, будучи достаточно пожилым, тот влюбился в молодую цыганку и на ней женился. Дедуся был их сыном, Папуся – внуком, а Ванька, Танька и я – правнуками.
"Ты очень похожа на свою прабабушку, Тамара, – заключил Дедуся, – вот почему они хотели тебя увидеть. И особенно тот Древний Старец, что приходится тебе правнучатым дядей. Никогда не бойся их. Они ни за что на свете не причинят тебе вреда. Напротив, всегда будут помогать и защищать, когда смогут".
Мамуся, покачав головой, пробормотала: "Надеюсь, они никогда к ней не приблизятся – страшно даже подумать!" Но Дедуся с Папусей в один голос вскричали: "Марина, как ты можешь?! Неужели ж тебе не дано понять?!" И та сжала губы и не произнесла больше ни слова.
Впервые узнав о прабабушке Доминике, я была потрясена до глубины души. Это было лучше любой сказки, которую я когда-либо читала, и наполнило меня огромным чувством собственной значимости, ведь разве во мне, представительнице княжеского рода, не текла цыганская кровь? Нечто, чего не имелось практически ни у кого, кроме Дедуси, Папуси, Ваньки, Таньки и меня, что делало нас всех особенными созданиями – семьёй, не похожей ни на одну другую.
Позже я услышала, что Дедуся и Папуся, следуя рассказанному мной, проехали по оврагу к поляне и отыскали большую каменную стену, которую я описала. Но хотя они долго там стояли, стуча молотком по самому большому камню и крича: "Впустите нас, это Фёдор и Всеволод", – никто так и не ответил. Они могли бы решить, что я всю эту историю выдумала, если б не нашли тайный знак, цыганский паттеран – кучку веточек, листьев и травы, разложенных определённым образом, – который яснее всяких слов сообщил им, что там побывали цыгане.
После этого, очарованная открытием цыганского тайного знака, я стала оставлять свои собственные паттераны повсюду: в парке, в цветниках, в коридорах и в каждой комнате дома, через которую я проходила, включая ванную. Вскоре слуги начали жаловаться, что я захламила пучками веток, листьев и сухой травы все-все помещения, после чего Мамуся с негодованием запретила мне впредь заниматься подобной дикой ерундой внутри дома.
"Ты можешь играть в эту нелепую игру снаружи, если она тебе столь нравится, но уж точно не здесь. Только дай мне поймать тебя за этим ещё раз, и ты знаешь, что потом с тобой будет!"
Прекрасно понимая, что она имела в виду, я с сожалением отказалась от своих впечатляющих паттеранов, но ради цыганской части семьи: Дедуси, Папуси, Ваньки и Таньки (которые на ура приняли эту забаву) – я продолжала их мастерить из одного листочка и одной травинки, коих у меня было предостаточно в кармашках моего передника. Я оставляла их в самых невинных местах: под вазой с цветами, под горшком с зеленью, под кадкой с пальмой, у порога или на подоконнике, – то есть так, чтобы те, кто не был посвящён в тайну, не обращали бы внимания на маленькие листик и травинку, думая, если б вообще об этом задумывались, что те либо выпали из стоявших рядом вазы, горшка или кадки, либо их задуло внутрь через открытую дверь или окно.
Всю мою дальнейшую жизнь цыганский паттеран оставался для меня по-настоящему волшебным, и я вскрикнула от восторга, впервые услышав знаменитое стихотворение Киплинга "Цыганская тропа".
То "похищение", без сомнения, стало важной вехой на моём пути, навсегда сделав меня цыганкой.
Раз в год, во время июльской сельской ярмарки, мимо нашей усадьбы ехали фургоны. Благодаря заблаговременной информации на этот счёт Мамуся всегда запирала меня в тот день на верхнем этаже. Но при первых же звуках вдали стука копыт и грохота цыганских повозок я бежала в ванную и, заперев дверь, бросалась к окну в задней части дома, выходившему на главную дорогу. И там я с учащённо бившимся сердцем ждала, пока мимо проедут крытые фургоны. Это неизменно занимало лишь около пяти минут, пяти волнующих минут всего раз в год – и это было всё.
Они всегда замедляли езду, и кто-нибудь обязательно махал красным платочком в направлении моего окна, а я, стоя во весь рост на подоконнике, махала обеими руками в ответ и посылала воздушные поцелуи. Поразительно, но никто ни разу не застал меня за этим занятием, и год за годом я абсолютно добросовестно "являлась на наше свидание".
Издали мне казалось, что я узнавала и Стешу, и Древнего Старца, и мужчину, с которым скакала в пещеру. Но они были так далеко, что трудно было быть в чём-то уверенным. Я продолжала махать до тех пор, пока последняя повозка не скрывалась за поворотом дороги, оставив после себя облако густой пыли, которая долго не оседала. Мой единственный контакт с родственниками по прабабушке откладывался на целый год, и приходилось ждать ещё триста шестьдесят пять дней или около того, чтоб увидеть их вновь.
До "похищения" Мамуся постоянно брала меня с собой на сельскую ярмарку, и мы проезжали мимо цыганского табора, наблюдая, как маленькие "голопузики" бежали за нашим ландо, прося монетку.
У рядов на ярмарочных площадях мы встречали цыганских мужчин и женщин в их ярких нарядах – гордых и дерзких, с весёлыми, сверкавшими улыбками и огромными тёмными очами, полными тайн. Одни были молодыми и красивыми, другие – старыми и увядшими. Но и молодые, и старые очаровывали меня одинаково. Они толпились вокруг нас, предлагая "позолотить им ручку", дабы узнать свою судьбу. Некоторые прикасались ко мне, нежно проводили пальцами по волосам или легонько похлопывали по плечу, смеясь тепло и дружелюбно.
"Я расскажу вам о вашем будущем, я так ясно его вижу", – повторяли они, следуя за нами по пятам, пока Мамуся, устав от их общества, не приказывала уряднику их прогнать.
Инстинктивно я возненавидела его за то, что он повиновался ей со столь неуместным наслаждением и азартом. Я ненавидела его крупную, жирную, багровую харю, толстую бычью шею и зычный голос. И когда он орал: "Убирайтесь прочь, смуглые черти, и не смейте больше беспокоить Их Сиятельств, или я брошу вас в кутузку и разобью ваши грязные рожи", – я гневно сжимала кулаки и жалела, что пока недостаточно рослая, чтоб ударить его в широко раскрытую вопившую пасть, из коей вырывались столь отвратительные и унизительные фразы.
Но цыгане дерзко смеялись ему в лицо, а затем, пожимая плечами, отпускали в ответ поток слов на своём родном языке, что приводило его в ещё бо́льшую ярость.
"Бесполезно пытаться наслать на меня свои злые чары, вы, язычники, потому что на христианина они не действуют", – кричал он под аккомпанемент их хохота и насмешливого свиста.
Однажды – мне тогда, должно быть, было лет восемь – я "сорвалась с цепи" и ударила его сжатым кулаком прямо в центр выпиравшего пуза. По смуглой толпе пронёсся удивлённый вздох, тёмные руки сразу потянулись ко мне, а чёрные глаза вспыхнули весёлым одобрением. Опешивший от моего неожиданного нападения урядник на секунду умолк и, казалось, с радостью свернул бы мне шею, но Мамуся, потащив меня за руку, поспешила к запряжённому пони фаэтону, на котором мы приехали. Мы быстро домчались до дома, где меня отшлёпали, уложили в постель и дали ну очень большую порцию касторки. Мамуся была на меня необычайно зла, но Папуся и Дедуся – нет. Даже напротив. Я не могла понять, почему они выглядели радостными и довольными, а когда Мамуся отвернулась, крепко меня обняли. Но на следующий год мне стало всё понятно.
После этого случая, за которым год спустя последовало "похищение", меня на ярмарку не брали, и я не посещала её до тех пор, пока не вышла замуж.
Я ошеломлена
Большая усадьба в Стронском всегда была полна гостей. Круглый год они приезжали в экипажах или санях, верхом, а подчас и пешком – в зависимости от времени года. Следуя старинной восточной традиции, гость считался священным, и никто в семье никогда не задавался вопросом, как долго он или она у нас пробудет. Они могли остаться на час, на ночь, на неделю, на несколько недель или даже месяцев. Для Папы и Мамы с этим не было проблем. Огромный старый дом мог вместить много людей и заполнялся под завязку только по особым случаям, когда в него съезжались визитёры со всей губернии. Тогда все-все свободные места были заняты, в бальной зале и прочих больших помещениях расставлялись раскладушки, а молодые люди даже спали на сеновале. Дабы всех развлечь, постоянно играл наш маленький балалаечный оркестр, пел церковный хор, устраивались театрализованные постановки и фейерверки, а еда подавалась через определённые промежутки времени в огромных количествах.
Большинство посетителей, как то: губернаторы, генералы, епископы, помещики и различные "аристократы", – были, естественно, воспитанными и хорошо себя вели, но иногда появлялся кто-то с действительно весьма странными манерами.
К примеру, была одна чудна́я пожилая дама, всегда показывавшая пи дё ни27 любому встреченному ею джентльмену (но никогда – другим дамам или простым людям, таким как слуги либо крестьяне). Она обычно сидела в одном и том же углу, "показывая нос" и строго хмурясь. Разумеется, Мамуся с её великолепными манерами делала вид, что ничего необычного не замечала, и была чрезвычайно мила и вежлива с бедняжкой. Причина её нелепого поведения заключалась в следующем: оказалось, что в молодости та была помолвлена с армейским офицером, чей полк одним летом расквартировался на месяц в деревне поблизости от поместья её отца. Однако когда полк отбыл, офицер тоже исчез и, увы, так и не вернулся, чтобы на ней жениться. Она достаточно долго горевала, а потом, ко всеобщему изумлению, вдруг стала "показывать нос" при виде всех джентльменов, попадавшихся ей на пути, видимо, дабы продемонстрировать, что на самом деле она о них думает.
Её семья перепробовала все средства, чтобы избавить ту от столь ужасной привычки. Над ней возносили молитвы священники, её лицо окроплялось святой водой, волосы посыпались пеплом, на грудь вешались амулеты, произносились заговоры, а сельские знахари и врачи потчевали её снадобьями и лекарствами. Некоторых господ даже просили напугать её научным методом, то бишь издавая ужасные вопли всякий раз, когда она "показывала им нос". Однако безрезультатно. Она просто сидела, продолжая это делать, пока наконец все не перестали обращать на неё внимание.
Она обожала навещать своих соседей, и те очень доброжелательно относились к её странностям, говоря: "Она одержима, бедняжка, просто юродивая".
Сначала я была крайне заинтригована зрелищем, которое она демонстрировала, и даже стала ей подражать, но после ужасно болезненного шлепка, полученного от Папуси, перестала это делать и даже прониклась к старушке огромной симпатией. Ведь, по сути, она вела себя столь же нормально, как и все, до тех пор пока в поле зрения не оказывался какой-нибудь джентльмен, и лишь тогда являла миру свой пи дё ни.
Некоторые гости обладали много более ужасной привычкой использовать наши зубные щётки. А потому, если мы видели, что те подъезжали к входным дверям, то бежали в свои комнаты и все их прятали. Один из таких визитёров даже заботливо объяснил, что старался бывать у нас примерно раз в месяц, поскольку ему нравилось регулярно чистить зубы. После этого Мама купила десятки щёток, снабдив ими каждую спальню.
Другая постоянная гостья – дама, жившая примерно в пятнадцати вёрстах от нас, – объявлялась раз в неделю, по субботам, чтобы принять тёплую ванну, ведь в её доме не имелось водопровода с горячей и холодной водой. (Мы же считались весьма культурными людьми, так как могли себе позволить роскошь иметь пять ванн на сто четыре комнаты!)
Каждый раз, когда она возникала, мы точно знали зачем. Ванька с Танькой коварно научили меня нюхать её "до" и "после", а затем описывать перепуганной семье, как именно от неё пахло. "До" оказывалось плохо, иногда совсем ужасно, однако "после" было чудесно, особенно когда она пользовалась Мамусиными солью для ванн и душистым мылом.
Ещё был П. П. Желтобрюх, неизменно имевший печальный вид. Говорили, что он стал таким с того самого дня, когда девушка, которую он любил, отказалась выйти за него замуж из-за его необычной фамилии. В отчаянии он написал императору прошение, в котором почтительно умолял разрешить ему сменить фамилию на что-то менее вызывающее и более приемлемое для избранницы. Но, увы, случилось непредвиденное! Пребывая в редком для себя игривом настроении, император написал на прошении свою резолюцию, которая гласила: "Вы можете выбрать любой цвет, который вам больше по вкусу, но окончание 'брюх' должно остаться неизменным". Это был страшный удар, и бедный господин так от него и не оправился, тем более что его возлюбленная раз и навсегда отказалась стать его женой.
Но не все дамы относились к его фамилии, которая была поистине видной и древней, подобным образом, поскольку однажды я случайно услышала, как Глафира Петровна сказала ему, что, по её мнению, та прекрасна, независимо от того, какой в ней упомянут цвет.
Также к нам наведывался некий Нарцисс Иванович. Он чрезвычайно гордился своим редким именем и ужасно огорчался, когда люди, смутно помня, что оно как-то связано с лу́ковичными, иногда по ошибке называли его Гиацинтом Ивановичем, или Тюльпаном Ивановичем, или каким-то иным цветком, растущим из луковицы, в сочетании с верным отчеством Иванович. Услышав неприятные буквы, он бледнел, сжимал кулаки и пронзал взглядом того человека, кто осмелился сказать такое всерьёз или в шутку. Но всё же, стараясь держать себя в руках, говорил вежливо и мягко, хотя и с опасным блеском в глазах: "Осмелюсь вам напомнить, что меня зовут Нарцисс".
