Читать онлайн Лошадь. Биография нашего благородного спутника бесплатно
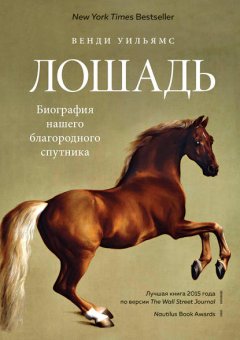
Венди Уильямс
Лошадь. Биография нашего благородного спутника
Посвящается всем коням мира, пронесшим меня по пути своих великих приключений
И еще – удивительной Диане Дэвидсон, моей подруге и поклоннице океана
…нет числа сокровищам его; и наполнилась земля его конями…
Ис. 2:7
Wendy Williams
THE HORSE
The Epic History of Our Noble Companion
На обложке:
Картина Джорджа Стаббса «Уистлджакет»
© Vostock Photo Archive
© Wendy Williams, 2015
© Соколов Ю. Р., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2019
КоЛибри®
* * *
Увлекательно и в высшей степени познавательно. Истинный подарок всем любителям лошадей.
The Independent
Наконец появилась книга, подробно объясняющая долгое эволюционное преображение, в конце которого мир обрел современную лошадь со всеми ее великолепными породами.
Франс де Вааль, приматолог, доктор философии
Захватывающее чтение, которое раскрывает истинный драматизм эволюции лошади, рассказывает об истоках ее родословной и о давней влюбленности человечества в это самое величественное из животных.
Тамсин Пикерел, автор книги «Собаки. Без поводка и намордника»
Эта книга изменит ваше отношение к лошадям в лучшую сторону.
Николас Эванс, автор книги «Заклинатель лошадей»
Узнайте больше о взаимоотношениях между человеком и его верным спутником – лошадью, чтобы понять всю глубину взаимной любви.
Элизабет Леттс, автор книги «Снежок»
Исследование психологии, необычайно богатой эмоциональной жизни лошадей, их эволюции, биологии, истории взаимоотношений с человеком, рисующее совершенно новый образ этого благородного животного.
Джон Льюис-Стемпел, автор книги «Англия. Автобиография»
Повествование захватывает ум и затрагивает сердце. Превосходный рассказ об отношениях между лошадьми и людьми с точки зрения эволюции.
Дэвид Джордж Хаскелл, профессор биологии Южного университета
Глубокое изучение лошадей и истоков человеческого увлечения ими.
Тор Хэнсон, биолог
Ода одному из самых харизматичных млекопитающих на земле. Важная книга о наших непростых взаимоотношениях с животным, на которого мы охотились и которого почитали и приручали.
Брайан Свитек, палеонтолог
Искренний рассказ, пронизанный любовью к лошадям.
The New York Times Book Review
* * *
Пролог
Конь с заднего двора
…Он несется по воздуху; земля звенит, когда он заденет ее копытом. Самый скверный рог его поспорит в гармонии со свирелью Гермеса.[1]
УИЛЬЯМ ШЕКСПИР Генрих V
Некогда у меня жил невысокий конек, пегий с белой гривой метис моргановской породы, которого я самым определенным образом была недостойна. Конь этот являлся истинной жемчужиной в своем роде, a я была в то время еще слишком молода и невежественна, чтобы понимать это. Я воспринимала его как данность. По утрам я седлала его и ехала по вермонтской грунтовке в начальную школу, в которой преподавала игру на пианино. Там мой меринок оставался на привязи, упорно пытаясь пощипать траву, пока выбежавшие во двор на перемену дети бесконечно досаждали несчастному животному своими проявлениями симпатии.
Дети были в восторге от того, что на их школьном поле гулял конь. Не думаю, что сам Уиспер разделял их радость. Подозреваю, что он воспринимал рой возбужденных ребятишек как некое подобие стаи особенно крупных оводов – то есть как то, что оставалось только терпеть. Уиспер проявлял безупречное терпение по отношению к ним. Более вежливого коня у меня никогда не было.
Зимой я привязывала тонкие бревнышки к луке моего ковбойского седла и заставляла своего коня тащить их по снегу через лес к моему дому, где их ждала печурка. Я видела такой способ по телевизору, и он казался мне чрезвычайно романтичным. Уиспер, уверена, не разделял моей любви к подобной экзотике. Я получала с этих бревен свои БТЕ,[2] а на его долю выпадала тяжелая работа. Я нагружала коня, но он никогда не жаловался и даже ни разу не лягнул меня, хотя, бесспорно, имел на это право. Мне бы хотелось прожить собственную жизнь с таким же достоинством и силой духа.
Некоторые люди утверждают, что кони, принимая такое обращение со стороны людей, демонстрируют тем самым недостаток интеллекта. Я в это не верю. Уиспер был упорным прагматиком, который в тех случаях, когда не мог получить желаемое у парадной двери, без труда находил путь к заднему крыльцу. Изобретательности ему было не занимать. О, это был выдающийся ум, Эйнштейн в лошадиной шкуре, гений, решительным образом настроенный на выживание, как и многие лошади, принадлежащие людям, которые подобно мне не знают самых азов внутренней жизни своих коней.
* * *
В моей скромной конюшне на склоне вермонтского холма было всего два денника[3] и не было проточной воды. Обыкновенно я таскала воду ведрами вниз от дома – от уличного крана. Это требовало известных усилий с моей стороны. Однажды я решила больше не таскать полные ведра и привела Уиспера и его приятеля, нечистокровного першерона Грея, к дому, к ведерку с водой, стоявшему под краном. Идея эта показалась мне великолепной.
Однако посвящение Уиспера в тайну появления воды оказалось серьезной ошибкой. Несколько месяцев спустя я чересчур задержалась в гостях и вернулась домой слишком поздно для того, чтобы вовремя покормить и напоить обоих коней. Я ощущала беспокойство – не настолько большое, как следовало бы. Кони не умрут, если их распорядок дня будет нарушен. Подумаешь, великое дело…
Однако, как известно любому поработавшему в конюшне мальчишке, лошади начинают топать, мотать головами, фыркать и кусать доски денника почти сразу после того момента, когда им должны были принести еду. Паника будет только усиливаться: лошади беспокоятся, когда их ожидания не оправдываются.
Некоторые лошади со спокойствием принимают опоздание кормежки, но многие пытаются изменить ситуацию.
Когда в тот вечер я въехала на ведущую к дому дорогу, меня встретила огромная лужа. Оказалось, что водопроводный кран возле моего дома полностью отвернут. Такая невообразимая халатность – это было слишком даже для меня. Возможно, в доме побывала подруга и распорядилась водой за меня? Однако никакой записки я не обнаружила. Я сходила в конюшню, оба ведерка оказались пустыми. Покров тайны сгущался.
Наполнив ведерки и оставив их в конюшне, я пошла к дому. Дул прохладный ветерок. Небо оставалось чистым – в отличие от моей совести. При всей своей незрелости и неопытности, я тем не менее поняла, что не сумела выполнить свои обязанности в рамках партнерства коня и человека.
Как-то раз на следующей неделе я встала позже, чем обычно. Термометр показывал минус десять. Оказывается, в идеальном в летние дни Вермонте бывают холодные зимы, проскулила я себе под нос. Я поняла, что, прежде чем заняться конюшней, мне необходимо выпить чашечку кофе. Может быть, даже две.
Ну, я так думала.
Уиспер придерживался другого мнения. Глядя из окна кухни на конюшню, я медленно потягивала кофе. И тут через ограду пастбища перелетел невысокий золотистый конек, подобравший колени под самую грудь, словно чемпион на скачках Гран-при. Прыжок оказался настолько чистым и великолепным, что я была ошеломлена. Я и не знала, что он умеет прыгать.
Не конь, а сокровищница, полная скрытых талантов, подумала я.
Пролетев над забором (и даже не коснувшись его копытами), мой морган перешел на неспешную рысь и направился прямо к водопроводному крану.
Вэм-вэм-вэм, – полилась вода.
Копыта, как я узнала в тот день, можно использовать самыми разными способами.
Уиспер сложил губы в подобие чашки. Я даже не представляла, что лошади способны на это. Он подставил их под струю, так что вода полилась ему прямо в рот. Лошади обладают очень чувствительными губами, более подвижными, чем губы людей.
Исполнив свое желание, Уиспер вернулся в конюшню и стал ждать, когда я наконец подам завтрак.
Лошади при наличии мотивации могут проявлять незаурядную изобретательность, а уж если речь заходит о жажде, мотивация зашкаливает. Однако когнитивный гений моего моргана не был сосредоточен только на магии вызывания воды. Очевидно, что Уиспер умел решать самые разнообразные задачи – умел, например, преодолеть электрический забор или открыть дверь своего денника. Задавшись конкретной целью, он проявлял большую изобретательность.
Уисперу-то было хорошо, однако перспектива того, что он будет бегать по всей округе, удовлетворяя собственные потребности, меня не устраивала. Мой сосед, обладатель великолепной лужайки, заросшей пышной травой, уже сообщил мне, что лошади его пугают.
Конечно, степень мотивации у той или иной лошади может существенно различаться. Некоторые кони успешней других совершенствуют свои жизненные навыки. Грей, мой рабочий конь, редко изобретал что-то новое. После того как Уиспер перепрыгнул забор и досыта напился воды из-под крана, я набросила на плечи куртку и отправилась в конюшню. Солидный Грей оставался в стойле, дожидаясь меня. Дверца в денник Уиспера была открыта. Заглянув внутрь, я сразу поняла, что произошло: оба ведерка были полны (этот урок я уже усвоила), однако вода замерзла. Рабочий конь ждал, что я разрешу за него эту проблему. Морган разделался с ней самостоятельно.
Насколько же умен этот черт весом в полтонны, задумалась я. И насколько изобретательный Уиспер умнее Грея? Я провела эксперимент и оставила пару яблок вне пределов досягаемости обоих коней, стоявших в денниках каждый за запертой нижней полудверью.[4] Они могли высунуть головы сверху, однако – теоретически – должны были оставаться за полудверью до тех пор, пока человек не поднимет задвижку.
Я стояла и наблюдала. Оба коня смотрели на яблоки. Ни один не двигался. Тогда я вышла из конюшни и сделала вид, что иду к дому. Однако, когда они уже не могли увидеть меня, я остановилась и стала следить за ними через окно конюшни. Без всяких колебаний Уиспер потянулся к задвижке и поднял ее своими мягкими губами. Движением корпуса он распахнул дверцу денника, вышел и съел оба яблока. Грей же только смотрел на него. В тот день я убедилась в том, что прежде лишь подозревала: Уиспер при желании без труда мог уходить из своего дома и возвращаться в него.
Но что еще важнее, Уисперу хватило ума не только на то, чтобы добраться до яблок, но и на то, чтобы утаить свое умение от меня. А это означает, что жизнь в мире лошадей протекает по-разному в зависимости от того, смотрим мы на них или нет. У этих животных есть секреты. Они прекрасно понимают, что учрежденные человеком правила можно нарушать, когда людей нет поблизости.
У меня сразу возникла уйма вопросов. Каким образом Уиспер формулирует свои планы? Да и есть ли у него таковые? Осознает ли он себя? Умеет ли думать? Обладает ли он тем, что ученые именуют «логикой мышления» – способностью, среди прочего позволяющей нам понимать, что может думать другой, – на что намекает предпринятая им операция по краже яблок? Многие, и я в частности, привыкли видеть в лошадях простые автоматы, которыми мы, люди и господа, должны повелевать и руководить. В самом деле, мы часто работаем с лошадьми в рамках очень упрощенного бихевиоризма – поощрения и наказания.
Однако лошади устроены куда более сложно. И разве может быть иначе после растянувшейся на 56 млн лет эволюции, планетарных изменений и оледенений? Уиспер показал мне, насколько неправильны сами основы моих знаний. Конь – не машина; он живое создание, наделенное собственными представлениями и очевидными способностями к принятию решений. Но каким образом осуществляет он свои решения?
Откуда берет критерии? Обладает самосознанием? Выходило, что так.
Я вовсе не хочу этим сказать, что лошади подобны людям. Я совершенно уверена в том, что Уиспер не мыслил следующим образом: «Мммм… яблоки… но надо подождать, пока она уйдет. Тогда я подниму задвижку и сразу вперед. А соседа, старого работягу, можно не опасаться. У него не хватит ума первым добраться до яблок».
Нет, он исходил из собственных принципов, уникального жизненного восприятия, основанного на наличии четырех ног и отличного мозга, любви к хорошей траве, свежей воде и неприязни к любого рода новшествам. Он, бесспорно, обладал методическим подходом к решению проблем, которому содействовали сильная мотивация и изрядная доля любопытства. Конечно же пища может оказаться сильнейшим мотиватором. Это подтвердит всякий, кто имел возможность наблюдать за тем, как пасущаяся лошадь настойчиво стремится добраться до самой зеленой травки, всегда оказывающейся по ту сторону забора.
* * *
Чем больше я размышляла об Уиспере, тем длиннее становился мой список вопросов. Откуда взялись лошади? Почему у них на конечностях копыта, а не пальцы, как у нас? Почему они согласны жить бок о бок с нами? Какие уходящие в темные глубины времен биологические корни создали основания для нашей взаимной дружбы? Каким образом общее происхождение позволяет нам понимать друг друга? Собаки и люди умеют «считывать» язык тела друг друга. Способны ли лошади понимать язык тела других коней? Умеют ли они понимать наш телесный язык? Пытаются ли они это сделать? Список вопросов становился бесконечным. Чем больше я узнавала, тем больше мне хотелось узнать.
Мы, люди, как и лошади, – дети саванны, отпрыски ветра, солнца и проливного дождя. И это более чем просто романтическая идея. За последние несколько десятилетий наука подтвердила эту идею результатами многочисленных исследований. Наука учит нас правильно обращаться с лошадьми в современном мире, рассказывает о скрытой от посторонних глаз эмоциональной жизни этих животных, объясняет, где они будут лучше себя чувствовать: «свободными» на просторной равнине или же в конюшне на полном обеспечении… наука знает даже об их социальных и умственных потребностях.
В те дни, когда я пристально наблюдала за Уиспером и Греем, подобные мысли даже не приходили мне в голову. Моя основная цель заключалась в том, чтобы удержать эту предприимчивую парочку в конюшне или на пастбище, как можно дальше от восхитительной лужайки моего испуганного соседа и короба с фуражом, который Уиспер также научился открывать.
Однако я – и не только я – не учитывала основные потребности животных, отличные от желания пить и есть. Как будет показано в дальнейшем, кони вошли в жизнь людей задолго до того, как те обзавелись развитой культурой. Можно даже утверждать, что они в известной мере дали человечеству цивилизацию. Тем не менее, хотя лошади были одомашнены больше 6000 лет назад (когда именно, никому не известно), только в настоящее время мы начинаем видеть в них разумных существ, наделенных достаточно тонким умом. Что помешало нам раньше понять это?
Моя книга – своего рода научный экскурс в историю лошади как биологического вида, a также исследование связи между ней и человеком. Экспедиции и интервью со многими учеными в разных концах мира, от Монголии до Галисии (северо-западная область Испании), с археологами, изучающими доисторические поселения во Франции и Стране Басков, с палеонтологами, работающими в Вайоминге, Германии и даже в центре Лос-Анджелеса, открыли мне историю совместного пути лошадей и людей сквозь время, позволили исследовать наши биологические сходства и различия, a также подумать о будущем лошади в мире, где господствует человек.
Это повествование можно назвать запоздалой одой, пропетой в честь Уиспера и его приятеля Грея и всех прочих повстречавшихся мне в жизни коней, которые любезно и терпеливо везли меня через Скалистые горы и пустыню Сахару, сопутствовали мне в скитаниях по разбитым грунтовым дорогам Вермонта, благополучно провозили меня мимо крокодилов, бегемотов и медведей гризли, – всем этим животным, столь многому научившим меня, начиная с того факта, что вода в ведре зимой замерзает.
Наконец, не менее важно, что книга эта – ода всем лошадям, которые много тысяч лет помогали делать жизнь человека более счастливой. Как некогда написал Джордж Гейлорд Симпсон, известный знаток эволюции лошадиного племени: «У лошадей мы можем узнать не только о собственно лошади, но также и о животных вообще, даже о себе самих и о жизни в целом».
1
Наблюдая за дикими конями
Нет оснований сомневаться в том, что лошади будут существовать, пока существует род людской, и это хорошо, ибо нам надлежит узнать о них еще многое.
ЧАРЛЬЗ УИЛЬЯМ БИБИ[5]
Примерно 35 000 лет назад,[6] когда большая часть Европы была скована ледяным покровом, медленно пульсировавшим словно в такт ледяному сердцу, неизвестному художнику попал в руки кусок кости мамонта. Возможно, этот кусок просто валялся на земле. Может быть, в дар художнику его принесла ватага охотников.
Этот неведомый нам искусник обладал феноменальным дарованием. С великой точностью орудуя остро заточенными каменными резцами, он начал вырезать свой шедевр. Появилась великолепная изогнутая шея жеребца, поражающая необычайным соединением мускульной силы и простой природной грации (см. рис. 1).
Рис. 1. Лошадь из Фогельхерда, считающаяся древнейшим изображением этого животного
© Villy Yovcheva / shutterstock.com
Этот конь, ставший самым ранним образцом архетипа, широко распространившегося с тех пор, воплощает в себе саму сущность величия. Он является высшим примером платоновской формы, «абстрактным изображением изящной сущности лошади как таковой», пользуясь словами Йена Тэттерсолла,[7] или, еще проще, конской rasa,[8] если обратиться к санскриту. Изгиб головы и шеи плавно перетекает в линию холки и спины, образуя элегантную, похожую на латинское S кривую, заканчивающуюся ниже крупа. Чуть склоненная голова придает животному облик, полный силы и глубокого созерцания.
Когда мы видим этого коня, мы влюбляемся в него. И узнаем его: скульптура эта могла бы выйти из-под резца художника только вчера. Через разделяющий нас разрыв в 35 тысячелетий мы едва ли не слышим, как он фыркает и задирает голову, рекомендуя прочим жеребцам держаться подальше. Это чудо длиной в 5 и высотой в 2,5 сантиметра, которое его современный куратор Харальд Флосс, сотрудник университета немецкого города Тюбингена, называет «эстетически совершенным»,[9] известно под названием «лошадь из Фогельхерда», пещеры на юге Германии, где была найдена эта фигурка.
Она свидетельствует о том, что эмоциональная связь между человеком и лошадью завязалась давным-давно – за десятки тысячелетий до начала человеческой цивилизации, задолго до того, как мы начали держать лошадей в конюшнях и использовать их в качестве инструмента на наших полях. Мы не знаем, кто создал этот tour de force,[10] однако убеждены, что резчик по кости провел много времени, наблюдая за дикими конями,[11] изучая их общественные взаимоотношения и язык тела. Он вырезал эту фигурку уверенной и твердой рукой.
Нам также известно, что этот художник входил в первую группу полностью современных людей, поселившихся в Европе. Эти люди, принадлежавшие к ориньякской культуре, кроме лошадей, почитали еще многих животных. Их искусство великолепно – однако за искусством скрывается нечто большее: массив ценных научных свидетельств, предоставляющих нам бесценную информацию в том числе о животных, вместе с людьми населявших речные долины, болота и топи, а также равнины Европы ледникового периода. Наука рассказывает нам о едва ли не бесконечной последовательности расписанных древним человеком пещер, о не поддающемся подсчету количестве барельефов, рисунков и набросков и множестве резных изображений – всегда и зачастую во всех подробностях показывающих неведомых нам животных, таких, к примеру, как шерстистый носорог, живший в Европе в эпоху плейстоцена.
Некоторые из этих творений наделены потрясающим совершенством, однако менее безупречные изображения не представляют особой редкости. Как это ни удивительно, они присутствуют повсеместно. Археологи обнаружили подобного рода рисунки по всей Европе: на западе Испании, в Италии, во Франции и на всем пути на восток, в Россию. Современный поклонник искусства плейстоцена может посвятить целое лето изучению его произведений и тем не менее ознакомиться только с малой частью. Однако при всей распространенности древних произведений изумляет сам факт их существования: искусство ориньяка возникает в археологической летописи Европы как бы внезапно… словно бы какой-то гений взмахнул рукой и люди получили творческий дар. Оно не имеет никаких очевидных предшественников, никаких древних образцов, которые могли бы засвидетельствовать нам ход овладения мастерством. Конечно же археологи скажут нам, что это не так. Скажут, что какой-то период предварительного обучения обязательно существовал, что он должен был оставить нам свидетельства технического роста, однако до сих пор доказательств существования этого этапа практически не обнаружено.
Это явление настолько удивительно, что некоторые ученые даже предполагали, что мозг у Homo sapiens, сформировавшийся больше чем за сотню тысяч лет до этого, мог претерпеть в эту эпоху внезапный неврологический скачок – какой-то сдвиг в человеческой психике мог наделить нас творческим импульсом. Теория эта больше не в моде, но очевидно, что произошло неизвестное нам необычайное событие. В противном случае наука не может объяснить появление нашего небольшого талисмана из-под рук резчика.
Лошадь из Фогельхерда, изображенная в миг предельной надменности, является чем-то большим, чем простой символ, – это конь живой, запечатленный в конкретный момент времени. Он вот-вот ударит передним копытом или, быть может, поднимется на кобылу. Это современный конь фризской породы (см. илл. 2 на вклейке), беспокойно расхаживающий по пастбищу, или американский мустанг,[12] готовый замереть на каком-нибудь красном утесе, или искусная в выездке лошадь, собирающаяся исполнить идеальное piaffe,[13] любимое многими классическое движение, демонстрирующее сдерживаемую энергию коня и плавное изящество его движений.
Однако из всех этих соображений вытекает вопрос: почему? Почему древний художник с таким вниманием отнесся к лошади? Что представляла собой эта миниатюрная скульптурка? Религиозный символ? Торговую валюту? Или передавала энергию жеребца своему обладателю? Или, быть может, вообще не имела никакого значения и была лишь игрушкой, вырезанной долгим зимним вечером, чтобы потешить детей?
Однако, каково бы ни было ее предназначение, этого коня не возвели на пьедестал, чтобы поклоняться ему. Фигуркой пользовались. Много пользовались. На спине лошади вырезаны тонкие линии, существенно поистершиеся от многократных прикосновений человеческих рук.[14]
Возможно, мы никогда не получим ответы на многие из наших вопросов, однако можно не сомневаться в одном. Мы разделяем с древним художником мощную эмоциональную реакцию: лошади очаровывают нас не меньше, чем людей, живших 35 000 лет назад. Даже сегодня, пребывая в изоляции от мира природы, мы стремимся вступить в контакт с лошадью. Спросите любого конного полисмена.
Несмотря на тайну, которая окутывает эту древнюю фигурку, ее окружает большая компания. В течение всех последующих 20 000 лет до тех пор, пока лед наконец не растаял и Европа не вступила в нынешнюю теплую фазу своей истории, художники создавали изображения лошадей, используя тот материал, который предпочитали, – слоновую (мамонтовую) кость, рога, дерево, камень, краску.
Кони – это звезды искусства ледникового периода. В самом деле, именно лошадей чаще всего изображали художники в тот долгий, длившийся 20 000 лет период, предшествовавший изобретению сельского хозяйства и того, что мы сейчас называем цивилизацией.[15] На территории нынешней Франции, в Абри-дю-Кап-Блан, на стоянке древних людей под каменным навесом, служившим жилищем 15 тысячелетий назад, в каменную стенку, задник, на фоне которого происходила повседневная жизнь, были врезаны фигуры коней почти в натуральную величину. Когда я побывала там, каменное изображение напомнило мне кухонное искусство – такое, над которым размышляешь, помешивая суп, – однако лошади из Кап-Блан столь же живы в своем движении, как если бы их писал Леонардо да Винчи. Когда их озаряет свет, они оживают и стремятся выскочить из камня.
В пещерах северного побережья Испании, отделенного от Кап-Блан сотнями километров, с чувством нарисованные пони резвятся в счастливом самозабвении. В тысячах километрах к востоку, в Уральских горах, нарисованные красной охрой кони украшают собой стены Каповой пещеры. На стенах пещеры Шове,[16] на юге Франции, нарисованные кони стоят тесными группами, наблюдая за окружающими их животными, в том числе за притаившимися неподалеку львами. Некоторые из лошадей Шове пасутся, остальные стоят на страже. В другом месте пещеры застенчивый конек выглядывает из-за скалы. Чего он боится? Охотящихся львов? Или могучего жеребца?
Похоже, что художники ледникового периода знали о лошадях всё. До появления на исторической арене Леонардо, глубоко изучившего их анатомию, ни один художник не мог сравниться с этими виртуозами плейстоцена в изображении животных, которых действительно можно назвать лошадьми. Мне кажется, эти первые по времени и совершенные мастера также являлись первыми исследователями поведения животных. Они должны были отводить наблюдениям часы, дни, месяцы и годы. Они понимали выражения «лиц» лошадей, знали, как раздуваются их ноздри, когда кони испуганы, как выдают внутреннее состояние животных их уши, знали, отчего они иногда держатся вместе небольшими группами, а отчего с угрюмым видом расходятся поодиночке. Произведения их говорят нам о том, что задолго до того, как были изобретены удила и уздечка, мы, люди, Homo sapiens, восхищались дикими лошадьми, наблюдая за ними.
К сожалению, в современном мире это искусство предано забвению. Даже если нам нравится смотреть на бегущую лошадь, мало кто будет сидеть и вглядываться в самую суть. Как следствие, мы страдаем от нехватки данных. Мы видим, что делает конь, однако не всегда понимаем, почему он это делает. Нам слишком мало известно о том, как на самом деле ведут себя лошади, когда мы не видим их. Мы видим своих коней стоящими в денниках и на пастбищах и ошибочно полагаем, что видим самую сущность лошади. Это всегда казалось мне странным.
Этологи изучают поведение львов на лоне природы, а также поведение птиц, обезьян, китов и слонов. Их исследования обогатили наше понимание того, что значит быть частью живой вселенной, так что теперь мы осознаем, что все вокруг укладывается в тонко сплетенную паутину, которая выступает основой нашего собственного благоденствия. Возможно, мы превосходим всех остальных животных в вопросах построения информационного общества, однако в своих областях они обладают талантами, далеко превосходящими наши.
К этой революции в понимании естественного поведения животных в 1960-х годах привлекли внимание публики работы таких авторов, как нобелевский лауреат Конрад Лоренц, написавший бестселлеры «Кольцо царя Соломона» и «Агрессия». Особой известности Лоренц добился тем, что научно установил значимость привязанности в жизни животных. Он подчеркнул, что лабораторные исследования не позволяют выяснить подлинную природу различных видов живых существ. Чтобы понять ее, по его словам, животных следует наблюдать в контексте естественной жизни.
Книги Лоренца вызвали общемировой переворот в восприятии дикой природы. Молодые ученые из разных частей света занялись наблюдением за различными животными в природных условиях. Такими исследованиями, например, более сорока лет занималась Джейн Гудолл, вместе со своими сотрудниками изучавшая шимпанзе в Танзанийском национальном парке Гомбе-Стрим. Еще в самом начале своей работы Гудолл потрясла – и это еще мягко сказано – научный мир сообщением о том, что приматы изготовляют орудия и пользуются ими. И это притом, что прежде статус единственного изготовителя орудий на планете Земля был накрепко закреплен за людьми. Примерно в то же самое время, в 1960-х годах, Роджер Пейн и Скотт Маквей изучали поведение горбатых китов и обнаружили, что те общаются между собой посредством пения, которое Пейн назвал «реками» звука. Как и в случае с шимпанзе, статус людей как единственного вида, обладающего сложной коммуникационной системой, ранее никем не подвергался сомнению. Вороны являются мастерами в части творческого разрешения проблем. Осьминоги щупальцами открывают сосуды, сооружают из камней сложные укрытия, даже таскают с собой пустые раковины, на тот случай, если им вдруг потребуется укрытие. Слоны общими усилиями помогают членам семьи. Летучие мыши пользуются эхолокацией. Пчелы обладают коллективным разумом.
Но что можно сказать о лошадях? Какими особыми способностями они обладают? Много ли современной этологии удалось узнать о поведении лошадей в природных условиях? Выходит, что немного. Почему же? Если наше восхищение лошадьми уходит своими корнями по меньшей мере на 35 тысячелетий в глубь веков, на что указывают все свидетельства, почему кони оказались за рамками этой научной реформации? Специалисты по лошадям нашли наилучший способ обучения выставочных лошадей, наилучший способ кормления скаковых коней, наилучший способ лечения хромоты. Однако естественное поведение лошадей редко привлекало внимание ученых. Только горстка этологов методично изучала поведение диких лошадей, и среди произведенных исследований было очень мало долгосрочных, подобных исследованию Джейн Гудолл.
Однако положение начинает меняться.
* * *
Однажды июльским вечером мы с Джейсоном Рэнсомом разговаривали на эту тему в городке Коди, Вайоминг, служащем воротами в Йеллоустонский национальный парк. Городок был основан Буффало Биллом[17] и участниками его шоу более сотни лет назад. С прослеживающим повадки лошадиного племени этологом Рэнсомом я познакомилась в Вене на международной конференции, где собрались ученые, изучающие в разных уголках планеты диких представителей семейства лошадиных – лошадей, зебр, онагров и диких ослов. Рэнсом пригласил меня приехать и познакомиться с некоторыми объектами его исследований – несколькими популяциями диких лошадей, обитающими в Монтане и Вайоминге. Он изучал их поведение в течение пяти лет и обнаружил в нем некоторые особенности, опровергающие прежние мифы о том, как лошади заключают союзы и взаимодействуют друг с другом.
Мы встретились в Вайоминге и провели несколько дней, наблюдая за подопечными Рэнсома и за людьми, приехавшими с разных концов света для того, чтобы полюбоваться дикими конями. Подобно нашим далеким предкам, жившим в ледниковом периоде, эти люди часами наслаждались происходящим. Небольшими группами они переговаривались между собой, обсуждая лошадей и их поступки. Некоторые даже переселялись в палатки, чтобы иметь возможность наблюдать за животными все двадцать четыре часа в сутки. Это занятие было для них развлечением, и я вполне могла представить себе аналогичную сцену десятки тысячелетий назад: люди расслабляются на летнем солнышке и рассуждают о том, что кони намереваются предпринять.
Тем памятным июльским вечером, посвятив весь день наблюдению за дикими конями, мы с Рэнсомом листали одну из книг по искусству ледникового периода, которые я привезла с собой. Разглядывая репродукции изображений резвых пони со стен многочисленных пещер во Франции и Испании, мы говорили о том, как сложные системы поведения, отображенные в этих доисторических наскальных рисунках, совпадают с системами, увиденными нами в реальной жизни несколько часов назад.
Мы обсуждали ту власть, которую кони имели над умом древнего человека, и пытались сопоставить ее с властью этих животных над умом человека современного. Кони и люди, как поняли мы в итоге, имеют много общего: планетарные потрясения, смены растительных сообществ, поднятия горных систем и изменения океанических течений десятки миллионов лет определяли ход нашего развития. Это общее эволюционное наследие влечет нас к коням рудиментарным, изначальным, даже атавистическим образом. Вспомним интригующую историю гениальной девочки с аутизмом по имени Надя,[18] которая в возрасте трех лет внезапно и без всякого внешнего повода, без всякого обучения начала рисовать удивительных галопирующих коней, коней с развевающимися гривами и хвостами, коней, изображенных по памяти, но в совершенстве, в высшем соответствии пропорциям. Надя могла бы начать рисовать и других животных,[19] однако внимание ее привлекли именно кони. Наверное, как решили мы с Рэнсомом, восхищение лошадьми каким-то образом закодировано в наших генах. Когда мы видим лошадей, несущихся по просторной равнине, мы невольно представляем себя на их месте. Даже тогда, когда люди изолированы от природы и проводят большую часть жизни в каменных городах XXI века, образ лошади по-прежнему пробуждает нечто существенное, находящееся внутри нас, подобное тому, что пробуждал в душе резчика, создавшего лошадь из Фогельхерда.
Мы, люди современного мира, как правило, мало знаем о жизни лошадей, – заметил Рэнсом, – однако до сих пор способны, посмотрев на изображение лошади, влюбиться в него. Почему так? Что именно соединяет нас?»
То, что наша влюбленность в лошадей уходит в прошлое на несколько десятков тысячелетий, говорит, по нашему с Рэнсомом мнению, о многом. Тем не менее мы, современные люди, в некоторых важных вопросах не понимаем коней. После Уиспера и Грея у меня было много лошадей, и я более чем достаточно времени провела в седле. Мне казалось, что я уже многое знаю об их образе жизни. Однако под руководством Рэнсома я поняла, что не знаю о них практически ничего, кроме их поведения в конюшне или на выгуле.
Наблюдая за дикими лошадьми (рожденными вне контакта с человеком в противоположность одомашненным лошадям), я узнала, что кони – чрезвычайно сложные животные, способные на всевозможные неожиданные реакции. Еще я узнала, что процесс наблюдения становится намного более интересным, когда ты знаешь историю жизни тех животных, за которыми наблюдаешь. Ты узнаешь, что лошади часто устанавливают себе программу действий, которую понимаешь далеко не сразу. Тут ситуация становится интригующей, так как каждый конь обладает личностными качествами. Как я могла убедиться на примере Уиспера и Грея, один конь может смелым поступком решить проблему, в то время как другой предпочитает придерживаться более пассивного образа действий. Однако это не означает, что пассивный подход в меньшей степени направлен к цели.
Лошади отличаются от многих других унгулят – копытных млекопитающих, – обитающих по всему миру буквально везде от саванн и лугов до лесов и скалистых гор. Копытные живут повсюду. Коровы, козы и овцы, бизоны, олени и лоси – копытные животные. Однако в отличие от многих унгулят, ищущих безопасности в численности и бродящих по равнине большими группами, кони, как и слоны, придерживаются семейных коллективов. Связи в коллективах у коней могут быть прочными, но в то же время они неустойчивы. Как это бывает и у людей, дружба начинается и заканчивается, жеребята вырастают и отправляются в самостоятельную жизнь, взаимоотношения между самцом и самкой иногда прекращаются, а иногда нет.
Эти тесные связи играют существенную роль в психике лошади. Не имея возможности образовать их, лошадь превращается в совершенно другое животное. Общественное окружение коня составляет его raison d’être,[20] основание его бытия и причину, заставляющую его совершать те или иные поступки. В конце концов, в мире природы, в том естественном окружении, в котором эволюционировали лошади, конь-одиночка, как правило, выжить не может. Тем не менее, вопреки общепринятому мнению, наука обнаружила, что лошади не являются «стадными» животными. Они не ищут безопасности в большом стаде. Кони круглый год живут небольшими группами, называемыми табунами. Членство в подобном табуне, который может состоять всего из трех лошадей или из десяти и около того, столь же быстротечно, как личные связи, однако табун как таковой образуется вокруг ядра из близких подруг-кобылиц и их юных отпрысков.
Подобно людям, лошади в табуне склонны ко всякого рода склокам. И, как и люди, члены одной группы жить не могут без приятельских и родственных связей. Эти связи имеют для них большое значение. Вопреки тому, что показывают голливудские фильмы, лошади, в отличие от крупного рогатого скота или бизонов, редко ударяются в паническое бегство. Если нечто испугало несколько табунов, пасущихся в одном месте, скорее всего, каждый из них помчится в собственном направлении. Траектории их бегства будут похожи на спицы колеса. Бегство врассыпную при наличии такой возможности – одна из стратегий выживания этих животных.
Члены табуна представляют собой не просто группу животных, наделенных общим менталитетом. Как обнаружили Рэнсом и прочие занимающиеся лошадьми этологи, личные связи внутри табуна могут оказаться более важными, чем групповая привязанность, – в точности как у нас. Эти связи иногда основываются на семейных привязанностях, но чаще – на личном предпочтении.
Если наблюдать за лошадьми, зная историю личных взаимоотношений между ними, то словно попадаешь в мыльную оперу. Обнаруживается вечное соперничество, борьба за положение и власть, за границы личного пространства, верность сменяется изменой. Шоу не прекращается никогда. Альянсы возникают и распадаются. Подчиненные восстают против власти. Иногда конь обретает награду за свое великое терпение и получает то, чего хочет. А иногда не обретает и остается с носом.
Спектакль имеет воистину шекспировский масштаб. Полностью понять сюжет можно, только пристально наблюдая за ходом представления: сродни королям и принцам, политикам и шимпанзе, некоторые лошади на людях и в обществе себе подобных ведут себя совершенно по-разному – ну как Уиспер.
В начале того жаркого июльского дня мы с Рэнсомом наблюдали за одним из его любимых жеребцов, пегим по имени Текумсе,[21] обитавшем в районе гор Маккуллох.[22] Текумсе председательствовал в разбирательстве между жеребцами. На наших глазах ситуация вышла из-под контроля. Изогнув шею и приготовившись к драке, он казался современным воплощением коня из Фогельхерда. Самцы многих видов животных любят блеснуть собственными достоинствами – вспомним красоту павлина, распустившего хвостовые перья. Но жеребцы – это истинные специалисты в умении проявить свои мужские качества во всем великолепии. Настоящие драматические актеры.
На наших глазах Текумсе выгнулся всем телом в знак предупреждения: убирайтесь подальше от меня или пожалеете. Было нетрудно заметить причину, заставившую его обеспокоиться. Компания из четверых наглых молодых коней – уже слишком больших для того, чтобы кобылы позволили им крутиться среди жеребят, но, однако, еще не доросших до того возраста, в котором они могли бы заинтересовать противоположный пол, – подобралась к границам личного пространства Текумсе. Прямо группа неуклюжих подростков, идущих по улице.
Шайка эта держалась слишком самоуверенно в отношении Текумсе, не желая признавать общепринятое среди лошадей правило, требующее соблюдать дистанцию. Хуже того, «мальчишки» даже изображали желание поближе познакомиться с теми кобылами, с которыми Текумсе водил тогда компанию.
Текумсе был возмущен. Он посмотрел на них грозным взглядом. Поднял голову и подобрал задние ноги, намереваясь отогнать наглецов. Он поднял перед ними одну переднюю ногу – а потом топнул ею. Доказав ее мощь, он поднял другую переднюю ногу и снова топнул.
Четверо жеребцов, слишком юных для того, чтобы бросить вызов крепкому взрослому коню, отправились прочь – нюхать кучку навоза.
Им предстояло многому научиться. Когда у жеребцов возникают претензии друг к другу, ситуация редко переходит в откровенную драку, хотя заранее бывает трудно предсказать, как именно она разрешится. Возле гор Прайор, на другой территории, отведенной для свободно живущих лошадей, мы с Рэнсомом видели, как один жеребец по не совсем понятным причинам набросился на другого, стоявшего в отдалении. Возле агрессивно настроенного самца находились другие жеребцы, однако он не обращал на них внимания. Фыркая и визжа, он подбежал к этому стоявшему вдалеке коню и загнал его в небольшую рощицу на дальнем конце луговины, где деревья скрыли их от наших глаз. Наконец они появились оттуда и проскакали по всему лугу, порождая общее смятение. Так, один за другим, они прибежали к месту, на котором паслись еще несколько табунов. Жеребец № 1 вытянул шею в сторону своего врага. Он стал похож на змею. Он оскалился. У него были совершенно определенные намерения. А затем оба они, преследуемый и преследователь, подбежали к невысокому гребню, допустив тем самым явную ошибку.
Внизу за гребнем паслись кобылицы в сопровождении третьего жеребца. Этот жеребец № 3, названный исследователями Дюком, рванулся наверх. Жеребец № 1, зачинщик и агрессор, встретил достойного соперника. Дюк, конь рослый и мускулистый, был уверен в себе. Фыркая и мотая головой, жеребец № 1 попытался удержать позиции, однако одного взгляда на эту пару было достаточно, чтобы понять, на чьей стороне превосходство. Не было никаких сомнений в том, кто отступит первым.
Дюк явно был владыкой этих мест. Жеребец № 1 тут же слинял. Жеребца № 2, того, кого тот гнал по всей луговине, нигде не было видно. Прежде чем упал занавес, Дюк занял центральное место в этой авансцене, пару секунд продемонстрировал окрестностям свою царственно изогнутую шею, после чего мирно возвратился к трапезе.
Что стало причиной разгула страстей? Рэнсом не был уверен. Взрослые кони в пору летней жары без причины не утомляют себя, но на сей раз копыта прогромыхали по всей луговине. Наблюдая за лошадьми, мы заметили, что кобылы внешне не проявляют почти никакой реакции на выходки жеребцов. По правде сказать, за все время собственных наблюдений за дикими конями я ни разу не видела, чтобы кобылы реагировали на свары самцов – по крайней мере, пока те выясняли отношения между собой.
«Обычно так и бывает», – ответил Рэнсом на заданный мной вопрос. По его словам, кобылы иногда высказывают мнение по поводу мужских разногласий, изменяя свое поведение, однако это случается крайне редко.
В детские годы я читала, что в подобных ситуациях кобылы жмутся друг к другу[23] и с трепетом ждут исхода баталии между жеребцами, однако на деле это совершенно не так. Кобылы обыкновенно не обращают никакого внимания на происходящие конфликты, и это вполне разумный вариант поведения. В конце концов, если бы кобылы отрывались от еды всякий раз, когда пара жеребцов начинает многозначительно переглядываться, они бы умерли от голода.
* * *
Работая над докторской диссертацией, Рэнсом с помощью нескольких ассистентов, в том числе первого местного специалиста по лошадям Филлис Притор, следил за поведением отдельных животных в трех различных регионах Вайоминга и Колорадо. Проведенная работа позволила собрать множество данных, которые совместно с результатами наблюдений других ученых за теми же животными предоставили возможность создать долгосрочный срез личного участия этих нескольких коней в социальной жизни, подобного которому не существует. Рэнсом обладал настолько подробной информацией, что иногда мог найти даже дату рождения коней, которые в то время, когда он занялся своей работой, уже начали стареть. Он знал, где некоторые из этих лошадей провели большую часть своей жизни, знал, когда они перемещались из одного района в другой, знал, когда и с кем они объединялись и как долго пребывали в обществе компаньонов, прежде чем продолжить свой жизненный путь.
Недавние этологические исследования наконец начали приоткрывать всю глубину эмоциональной жизни лошадей, однако само представление о том, что кони испытывают эмоции, трудно назвать новым словом в науке. Еще Чарльз Дарвин писал о лошадях (и не только) в своем шедевре 1872 года «О выражении эмоций у человека и животных», что свойственные человеку эмоциональные проявления – врожденные, универсальные и разделяются многими животными. Эта книга, считающаяся основополагающим текстом для этологии как науки, объясняет, что некоторые основные эмоции – гнев, страх и отвращение, например – возникли в качестве механизмов выживания на ранней стадии развития жизни. Например, в «О выражении эмоций» Дарвин сравнивал собственный испуг при приближении крупной змеи с испугом лошади. Общность эмоций, заявил Дарвин, помогает нам понять эмоции других видов. «Все поймут то озлобленное выражение, – писал он, – которое заложенные назад уши придают коню». Именно это мы с Рэнсомом увидели в горах Прайор в поведении жеребца, вытянувшего шею и заложившего назад уши. Никто из нас не посмел бы стать на пути этого хулигана.
С точки зрения Дарвина, базовые эмоции представляют собой универсальный язык, некий врожденный lingua franca,[24] общий для «человека и низших животных», как он выразился. Они как раз и представляют собой стратегии выживания, которые, по мнению Дарвина, следует методически изучать, переходя от вида к виду. Эта важная книга дала прочное научное обоснование изучению эмоций и поведения животных. Она научным языком сказала: мы одной крови.
«О выражении эмоций у человека и животных» и последовавшие за этой книгой труды Дарвина породили самые разнообразные научные исследования поведения животных, однако лошади по большей части остались за пределами этой парадигмы, невзирая на упоминание Дарвином их поведения. Быть может, этот факт стал следствием близкого знакомства: люди решили, что знают о лошадях все, поскольку одомашненные лошади – часть нашей повседневной жизни.
Только теперь, когда этологический принцип стал применяться к исследованию жизни диких лошадей, мы поняли, насколько мало знаем. К счастью, современные ученые разрушают многие глубоко укоренившиеся мифы. Например, в отчете Национальной академии наук США было сказано: «гарем, или так называемый косяк,[25] состоит из доминирующего жеребца и подчиненных взрослых самцов, самок и жеребят».[26] Такую теорию преподавали большинству из нас, и на первый взгляд она кажется справедливой. Наблюдая за дикими конями, мы в первую очередь замечаем бурную активность жеребцов.
Однако исследования Рэнсома и прочих специалистов показали, что подобный мужской шовинизм далек от истины. Кобылы, вовсе не будучи подчиненными, то и дело определяют действия группы. Жеребцы зачастую только следуют поданному примеру. Рэнсом однажды видел, что кобылы одного «гарема» перестали пастись и направились к воде. Жеребец этого не понял, а когда, оглянувшись по сторонам, заметил, что его подруги уходят, запаниковал.
«Он бросился за ними бегом, – рассказывал Рэнсом. – Словно маленький мальчик с криком: куда это вы все и с чего вдруг?»
Кобылы не обратили на него внимания. Похоже, их не волновало, догонит он их или нет. Иногда кобылы проявляют к жеребцам особое чувство. Они с удивительным упорством сопротивляются неприятному жеребцу, даже если этот самец успел утвердиться в роли главы группы. Джоэл Бергер изучал поведение двух не связанных родством кобылиц, несколько лет проживших вместе.[27] Парочка эта прибилась к косяку, над которым тогда пытался утвердить свою власть новый жеребец. Обе кобылы отказались принимать знаки его внимания. В книге «Дикие лошади Большого бассейна» (Wild Horses of the Great Basin: Social Competition and Population Size) Бергер описывал, как «в течение трех дней во время многочисленных попыток копуляции, предпринимавшихся жеребцом в отношении обеих кобыл (тринадцать и восемнадцать раз соответственно), одна из них отгоняла самца, кусая и лягая его, когда тот агрессивно и настойчиво» пытался соединиться с другой. Давно уже было известно, что самки слонов помогают друг другу, однако до того, как этологи начали свои систематические наблюдения, мало кто подозревал, что кооперирующиеся кобылы могут не только затеять драку по подобному поводу, но и победить в ней.
Учитывая всю правду в отношении кобыл, слово «гарем» выглядит старомодным и неуместным.
Биолог Джон Тернер обнаружил нечто похожее, наблюдая за лошадьми, обитающими на чапаралевом[28] нагорье на границе Невады и Калифорнии. Проводившееся Тернером продолжительное, тридцатилетнее, по его словам, исследование зафиксировало много случаев неподчинения кобыл жеребцам, особенно в тех случаях, когда старого жеребца прогоняет новый. Поведение кобыл, попавших в подобную ситуацию, сказал он, зачастую имеет сложный и тонкий характер, так что если исследователи не наблюдают внимательно за животными многие годы, то могут пропустить тот факт, что кобылы часто действуют по собственной воле.
«Иногда кобыла так сопротивляется переменам, что новый жеребец позволяет старому прийти и забрать ее, – сказал он мне. – Новый может решить, что благосклонность столь упертой особы не стоит затраченных усилий. Конечно, нетрудно впасть в антропоморфные аналогии, однако иногда они просто очевидны. Многие поступки лошадей определяются теми же соображениями, что и наши».
* * *
На той же конференции в Вене, где я познакомилась с Рэнсомом, я также встретилась со специалистом по этологии лошадей, испанкой Лаурой Лагос, которая вместе с биологом Фелипе Барсеной изучает поведение необычной породы вольных лошадей, называющихся «гаррано» (см. илл. 3 на вклейке). Лагос пригласила меня в Галисию, на северо-запад Испании, где она изучает этих животных. В труднопроходимом краю, в котором многие тысячелетия вместе обитали кони, волки и люди, Лагос и Барсена год за годом следили за поведением вольных лошадей – точно так, как это делали Рэнсом и его сотрудники в Вайоминге и Колорадо. Ученые научились восхищаться крепкой и упрямой конской породой.
Гаррано, возможно происходящие от тех лошадей, которых рисовали художники ледникового периода, ведут суровую и неприхотливую жизнь. На американском Западе у диких лошадей мало врагов среди хищников, однако гаррано приходится защищаться от беспощадных волчьих стай. Они должны выносить причуды переменчивого климата Северной Атлантики и процветать при этом на монодиете из утесника. Это растение, иногда называемое «адским», вместо листьев снабжено острыми шипами и вырастает по грудь человека. Попытка пробраться через его заросли без длинных брюк подобна средневековому кровопусканию, однако гаррано любят свой корм. Многие кони даже имеют густые и толстые усы, вероятно возникшие для защиты нежных губ от колючек.
В ходе исследований Лагос и Барсена зафиксировали поведение пары кобыл, принадлежавших к одному из косяков и очень привязанных друг к другу; они часто паслись на некотором отдалении от всего табуна. В брачную пору обе дамы совместно посетили чужого жеребца. Лагос видела, как одна из них соединялась с жеребцом другого косяка, а не ее собственного. Потом обе возвратились в свой косяк. Когда в пору пришла вторая кобыла, парочка опять оставила свой косяк вместе с жеребцом и отправилась на случку с другим конем. После чего опять же обе возвратились обратно. Такое поведение не было аномальным, она видела, как то же самое повторилось на следующий год. «Они предпочитают свою территорию, и притом жеребца из другой группы», – объяснила мне Лагос.
Исследователи Катерина Гаупт и Рональд Кейпер, изучавшие поведение ряда табунов, в том числе на острове Ассатиг возле североамериканского атлантического побережья, также отмечали, что «жеребцы не были ни доминантными, ни самыми агрессивными животными… и подчинялись некоторым кобылам».[29]
Я подозреваю, что миф о доминантности жеребцов просуществовал так долго благодаря тому, что их поведение куда более театрально. Они пыжатся, фыркают, ржут и визжат, а если доходит до настоящей драки, становятся на дыбы и проявляют прочие признаки воинственности. Кобылы, напротив, смиренно щиплют травку, выкармливают жеребят и не отличаются резким нравом.
Британская исследовательница Дебора Гудвин предполагает, что представление о доминировании жеребца может восходить к иерархической структуре нашей культуры.[30] Она считает, что именно собственная концентрация на доминировании заставляет нас зашоренными глазами взирать на взаимоотношения лошадей.
«Фактор шор» может быть причиной того, что нам часто не удается заметить гибкость природного поведения коней. Традиционно мы представляем себе наши отношения не в виде партнерства, а антропоцентрично, то есть считаем, что властны над лошадьми, а они нам подчиняются. Таково наше восприятие естественной природы вещей. На этом история якобы заканчивается, но мы невнимательны, а потому многое не понимаем. В частности, не учитывается тот факт, что общественная жизнь кобыл может быть довольно сложной. Одна кобыла может доминировать над второй, вторая над третьей – но третья, в свою очередь, над первой.
Более того, выходит, что кобылам не приходится вести жестокие схватки, чтобы добиться желаемого. Вместо этого они пользуются методикой терпения.
Например, Рэнсом полагает, что всего лишь около половины жеребят в изучавшихся им табунах рождалось от доминировавших в них жеребцов. Это открытие опровергает общепринятую точку зрения, утверждающую, что жеребцы часто убивают тех жеребят, чьими родителями не являются.[31] Я была удивлена.
«То есть кобылы “ходят налево”, когда никто этого не видит?» – спросила я.
Он ответил мне, рассказав историю кобылки по прозванию Высокий Хвост, невзрачной и невысокой лошадки с проваленной спиной и некрасивой шкурой. Мы наблюдали за ней у подножия гор Прайор, со стороны штата Вайоминг. Свое прозвище Высокий Хвост она получила из-за того, что репица хвоста находилась на ее крупе несколько выше положенного. Высокий Хвост, стареющая буланая лошадь с широкой и непрерывной черной полосой по спине, имела на холке и на нижней части передних ног полосы, как у зебры. За исключением этих очевидных отметин, Высокий Хвост ничем не отличалась от обыкновенной кобылы, пасущейся на поле фермы. Не зная повести ее жизни, можно было принять ее за пони или отставную пахотную лошадь. Дни славы и блеска в ее жизни давно миновали, и вы, пожалуй, не удостоили бы ее вторым взглядом.
Тем не менее собранные Рэнсомом материалы свидетельствовали, что у этой кобылы за ее долгую жизнь было несколько долгих связей с жеребцами. Она чувствовала глубокую привязанность, во всяком случае к одному из них, приятелю ее молодости. Высокий Хвост, безусловно, не обладала такой физической силой, как жеребцы вроде Дюка или Текумсе, однако в изобилии была наделена жизненной силой. Она использовала свои шансы.
Живущие на воле лошади всегда себе на уме. Филлис Притор говорила мне: «Они думают как-то иначе, чем мы. Это все, что я могу сказать. Они думают по-другому».
Если мустанги в целом «думают по-другому», не так, как домашние кони, то Высокий Хвост явно думала не так, как прочие мустанги.
Многие из лошадей, населяющих горы Прайор, предпочитают проводить лето на пышных цветущих лугах, расположенных на сотни метров выше того места, где мы стояли, наблюдая за Высоким Хвостом. Эти горные луга, полные ароматных люпинов, сладких лютиков и прочих деликатесов, являются вошедшей в поговорки «землей, в которой течет молоко и мед»[32] для животных, вынужденных переживать непредсказуемые и суровые зимы Вайоминга.
Тем не менее Высокий Хвост никогда не поднималась туда. Она родилась в 1989 году внизу, в гораздо более пустынном краю, и предпочла там и остаться. В этом заключается одно из крупных различий между конскими табунами и стадами травоядных животных. Кони выбирают собственный дом, знакомую территорию. Они кружат по своей земле и летом предпочитают продутые ветрами всхолмья, а зимой защищающие их долины и редко передвигаются на большие расстояния.
Рэнсом впервые познакомился с Высоким Хвостом в 2003 году. Он обнаружил, что кобыла проводила время в обществе Сэма, жеребца, родившегося в 1991-м. Они составили пару, по мнению Рэнсома, образовавшуюся во время их юношеских скитаний. Старый миф утверждает, что жеребцы покоряют кобылиц, однако, если хорошенько присмотреться, вы сумеете заметить, что кобылы подчас старательно завоевывают их внимание.
Они могут быть столь же напористыми и настойчивыми, как жеребцы.
Альянс Высокого Хвоста и Сэма начался и продолжался. Они оставались вместе год за годом. Постепенно к ним присоединялись другие кобылы, и Сэм оказался связанным с этой небольшой группой кобыл и жеребят. Исследования показывают, что жеребцы мирно соединяются с кобылами примерно в половине случаев. Жеребцу нет необходимости «покорять» кобылу, которая и так часто более чем согласна на партнерство.
Вскоре после того, как Рэнсом начал следить за группой Высокого Хвоста и Сэма, он заметил, что неподалеку от них держится второй, более молодой жеребец. Сэм не приветствовал появление молодого конкурента, получившего кличку Сидящий Бык.[33] Чем больше молодой конь пытался влиться в группу, тем чаще Сэм отгонял его. Он тратил много сил на то, чтобы избавиться от соперника, но безуспешно.
Всякий раз, когда Рэнсом видел косяк Высокого Хвоста, Сидящий Бык обнаруживался где-то рядом. Он обретался на краю, выслеживал кобыл и избегал Сэма. Такой жеребец, называемый в науке сателлитным, пользуется выжидательной стратегией случки. Он всегда находится рядом, где-нибудь на краю, рассчитывая привлечь внимание одной из кобылиц. «Держится как следопыт», – кратко сформулировал Рэнсом. В научной литературе есть упоминания о том, что сателлитным жеребцам иногда удается договориться с лидером группы; таким образом они постепенно приобретают возможность на ограниченной основе совокупляться с некоторыми кобылами, однако взаимоотношения Сэма с Сидящим Быком складывались иначе. Кони постоянно дрались. Тем не менее Сидящий Бык держался рядом с косяком, дожидаясь своего часа.
И час настал в 2004 году. Лошади, живущие у подножия гор Прайор, постоянно испытывают потребность в питьевой воде. Косяк, к которому принадлежала Высокий Хвост, часто спускался по крутым стенам каньона Биг-Хорн, чтобы досыта напиться речной воды. Однажды лошади группой направились вниз. Записи показывают, что Сэм не позволил Сидящему Быку спуститься вниз. Пока молодой жеребец оставался наверху, остальные кони пили воду, находясь на небольшом пригорке. В это время вода стала подниматься из-за случившегося в верховьях реки ливня. Поток затопил ущелье, отрезав животным путь к отступлению. Примерно две недели Высокий Хвост, Сэм и остальные находились в западне без еды. Ситуация была настолько тяжелой, что одна из кобыл умерла в родах.
Осознав крайнюю опасность, на помощь пришли люди, которые помогли животным спастись. Истощенные лошади сумели выбраться из ущелья. У Сэма опали бока. Едва живой от голода, он стал легкой добычей сателлитного жеребца, дежурившего наверху ущелья. Как только лошади поднялись, по словам Рэнсома, «Сидящий Бык набросился на Сэма и прогнал его». Сэм несколько раз пытался избавиться от молодого конкурента, но теперь ему не хватало сил для победы.
Большая часть косяка признала нового жеребца. Но не Высокий Хвост. Буланая кобыла предпочла Сэма – жеребца, рядом с которым провела многие годы своей жизни. С точки зрения этой лошади ее связь с Сэмом была сильнее дружбы с другими кобылами из группы. Она при каждой возможности оставляла косяк и отправлялась на поиски старого милого друга. И всякий раз молодой конь возвращал ее назад, по-змеиному вытягивая шею и обнажая зубы – то есть угрожая.
Чтобы избежать укусов, она подчинялась и возвращалась в косяк, но стоило Сидящему Быку потерять бдительность, Высокий Хвост вновь отправлялась по своим делам.
«Только что мы видели ее с Сидящим Быком, проходит немного времени, – пояснял Рэнсом, – и вот она уже опять с Сэмом». Так продолжалось много недель, пока наконец молодой жеребец не перестал преследовать ее. «С этого времени, – продолжил он, – Сэм и Высокий Хвост остались вдвоем. Они вновь нагуляли прежний вес, и Сэм даже попытался прогнать Сидящего Быка и отбить назад прочих кобыл, однако все его попытки закончились неудачами».
Высокий Хвост оставалась с Сэмом до его смерти в 2010 году (из-за постоянного стресса, вызванного непрекращающимися схватками с другими самцами, жеребцы часто живут намного меньше кобылиц). После смерти Сэма исследователи видели Высокий Хвост с жеребцом, которого они прозвали Адмиралом. В конечном итоге лишился милости и Адмирал.
Когда мы видели ее в те июльские дни, состарившаяся Высокий Хвост пребывала в компании всего двух лошадей. Одна из них, кобыла, принадлежала к ее первоначальному табуну, они были знакомы уже много лет. Вторым по иронии судьбы стал старый узурпатор Сидящий Бык. Отвергнутый Высоким Хвостом в прежние годы, теперь он сделался одним из ее закадычных друзей. Исследователи, изучавшие поведение приматов в природных условиях, давно отметили приливы и отливы симпатий в группах животных, но теперь мы наконец узнали, что и обитающие в природных условиях лошади ведут себя подобным образом.
Я спросила у Рэнсома, существуют ли в поведении коней в естественной среде обязательные для соблюдения правила.
«Они редко выбирают одиночество. Это непреложный факт», – ответил он, не сумев выделить что-нибудь еще. Подобно людям, кони наделены чрезвычайной мыслительной гибкостью, позволяющей им приспосабливаться к феноменальному разнообразию ситуаций.
Традиционно мы привыкли думать, что лошади повинуются примитивной компьютерной бинарной логике позитивных и негативных поощрений – морковка или плеть. Теперь, когда наука показала нам все тонкости общения лошадей между собой, мы можем расширить взаимодействие и усовершенствовать общение с ними, обогатив тем самым наше партнерство. Это волнующая новость, причем не только для лошадей, но и для нас самих. Связь, традиционно считавшаяся односторонней – мы командуем, они повинуются, – может стать во многих отношениях более разнообразной и тонкой.
Однажды я купила очень хорошо вышколенного пса. Он исполнял любую отданную мной команду. Поначалу это казалось мне забавным, но потом стало скучным. От пса не было никакой эмоциональной отдачи. Однако, прожив год в моем доме, он сообразил, что наши отношения имеют двусторонний характер. Он по-прежнему оставался исполнительным (в известной степени), однако безусловно сделался более развитой личностью. И общение с ним стало гораздо интереснее.
Подозреваю, что общество Уиспера доставляло мне удовольствие по той же причине: он оказался, как я уже упоминала, самой вежливой лошадью среди всех, которые у меня были. Однако одновременно его можно назвать очень независимым, самостоятельным, так сказать, себе на уме. Он научил меня куда большему, чем я была способна научить его. Наставления Уиспера в том, насколько полезно не забывать об умственных способностях животных, остались со мной на всю жизнь и, возможно, помогли выжить в некоторых рискованных ситуациях, когда меня приносило на спине коня в те места, где мне определенно не следовало быть.
Но я никогда не подозревала, что получу еще одно житейское наставление на холмах Вайоминга от другой лошади. Тем не менее именно здесь старая буланая кобылка Высокий Хвост показала мне пример того, что хорошо прожитая жизнь может не иметь ничего общего с блеском, властью и драмой… напротив, ее определяет спокойная настойчивость. Судьба не баловала ее, и все же она прожила долгую и счастливую жизнь, имела несколько длительных связей, родила детенышей. Быть может, эволюция и вершится через таких, как она, – неказистых с вида.
* * *
Разговаривая, мы с Рэнсомом время от времени посматривали вдаль, на хребты Скалистых гор – тех самых, которые с момента начала своего повторного роста 66 млн лет назад играли важнейшую роль в истории эволюции лошади. И пока мы наблюдали за старой кобылкой, небо над вершинами гор потемнело.
Уже который день подряд температура преодолевала отметку в 38 °C, солнце в Коди безжалостно поджаривало всякую живую тварь, осмелившуюся высунуться из-под камня, крыши или листика. Разыскивая лошадей, мы шли от грузовика Рэнсома, одетые лишь в легкие тенниски, казавшиеся, однако, слишком тяжелыми под ослепительным солнцем и синим небом.
Но тут над древними горными вершинами начали собираться густые и черные, как полуночная мгла, облака. Вверху, над трехтысячеметровыми вершинами, возле которых табуны насыщались свежей травкой, засверкали молнии, с интервалом в несколько секунд ударявшие в землю. Внезапная перемена погоды как будто бы совсем не смутила Рэнсома, в отличие от меня. В моей родной Новой Англии подобные метеорологические фокусы не приветствуются. Внезапное превращение ясного и прозрачного голубого неба в зловещую угольно-черную твердь воспринимается жителями Новой Англии как предвестник апокалиптического события. Однако в этих краях местные относятся к подобным климатическим крайностям как к чему-то обыденному.
Подобно Рэнсому, Высокий Хвост не обращала внимания на грядущие атмосферные перемены. С помощью подвижных губ и заметно сношенных передних резцов она продолжала «стричь» травку, переходя от одного унылого пучка растительности к другому.
Да, коням по большому счету здесь не место, подумала я, представляя себе зеленые пастбища Новой Англии и пышные луга возле вершин гор Прайор.
«Почему она здесь застряла?» – спросила я.
«Не знаю, – ответил Рэнсом. – Но причина должна быть. Мы просто не знаем ее».
К этому времени гроза, накатывавшая со Скалистых гор, принесла с собой прохладу. Посыпались дождевые капли величиной с мармеладную конфету.[34] Они превратились в градины, и мы помчались к грузовику, но Высокий Хвост так и не оторвалась от еды. И если конь из Фогельхерда представляет собой своего рода квинтэссенцию жеребца, то Высокий Хвост показалась мне воплощением лошади – победительницы в борьбе за выживание, умной и компетентной, устойчивой и надежной, готовой приспособиться ко всем обстоятельствам, с которыми столкнет ее жизнь.
* * *
Действительно, диких лошадей можно назвать специалистами в области приспособляемости, независимо от того, идет ли речь о выживаемости отдельного животного или о смене поколений в эволюционном плане. Им не страшны резкие перепады температуры, град, мороз, жара или снегопад. Кони способны жить буквально повсюду. Подкосить их не так-то просто.
Чтобы понять это, нужно лишь вообразить себе все множество свободных табунов лошадей, обитающих по всему миру. Никто не может в точности сказать, сколько диких лошадей населяет нашу планету или даже в скольких ее регионах обитают свободные табуны, так как кони нередко находят путь в такие уголки и закоулки природного мира, где редко можно встретить человека. Конские табуны можно обнаружить процветающими на высоте в 3000 метров над уровнем моря или на уединенных, продутых всеми ветрами островах Атлантики. Они могут наслаждаться жизнью в полях голубого кентуккийского мятлика, жить в пустынях, удовлетворяться песколюбкой или чиной.
Когда я начала заниматься вольными лошадьми, меня удивило их количество – оно измеряется миллионами. Достойно удивления и разнообразие экосистем, в которых лошади могут не просто жить, но и процветать. Только в малонаселенных областях Австралии может обитать целый миллион диких лошадей[35] – в условиях настолько суровых, что пастбище нашей знакомой по имени Высокий Хвост может показаться рядом с ними раем. Австралийские и новозеландские лошади, так называемые брамби, неприхотливы, возможно, даже более, чем Высокий Хвост. Среди лошадников бытует ошибочное мнение, будто бы лошадям в жару не по себе, однако это, естественно, не относится к обитателям пустошей Австралии, где температура может много дней подряд держаться выше 38 °С. В этом, безусловно, видна рука эволюции.
Недостаточно сильные, чтобы выжить в этих краях, лошади умирают молодыми, не оставив потомства. Только самые крепкие, независимые и умные способны пройти через это чистилище, выжить и дать начало новому поколению. (Уиспер, возможно, справился бы с этой задачей. Грей, скорее всего, нет. Хотя он мог бы пристроиться в компаньоны смышленому парню вроде Уиспера и таким образом сохранить себе жизнь.) Австралийские брамби отличаются от домашних лошадей в первую очередь ногами. Примерно за столетие жизни в австралийской глуши (в Австралии не было никаких лошадей до тех пор, пока в 1788 году вместе с партией ссыльных преступников на континент по морю не были привезены взрослый жеребец, четыре кобылы, молодой жеребчик и юная кобылка) их потомки приобрели чрезвычайно крепкие копыта, способные вынести постоянную ходьбу по, можно сказать, абразивным поверхностям. Один из австралийских ученых следовал за табуном, который два дня шел туда, где кобылы сумели досыта напиться воды, а потом еще два дня возвращался туда, где можно было пастись. В этом табуне исследователь заметил беглого домашнего коня – однако тот долго не продержался. Не имея сил поддерживать нужную скорость, он сильно страдал и умер. Иногда эволюция работает и таким путем. Конь этот, вероятно, имел много достоинств – кроме тех, которые необходимы для того, чтобы выжить в такой среде. После того как в середине XIX века Дарвин опубликовал свою теорию эволюции, многие сочли, будто весь смысл ее в том, что выживает сильнейший. Однако сам Дарвин мыслил куда более тонко. Если он и полагал, что «борьба за существование» подчас требует, как он выражался, «войны» между видами, то тем не менее понимал, что так же, как бедный домашний конь не мог выжить в мире брамби, животные, не приспособленные к каким-то конкретным условиям, просто не оставят потомства. В результате при наличии достаточного времени мир переменится. Таким образом, оказывается, что лошади наделены талантом приспособления к меняющемуся вокруг них миру. Существует еще несколько регионов, в которых лошади приспособились к жизни в чрезвычайно сухом климате. В Намибийской пустыне, расположенной на юге Африки (еще одно место, куда дикие кони были завезены людьми), живущие на воле лошади существовали в суровых условиях почти столетие. Исследователи полагают, что они могут происходить от армейских лошадей, использовавшихся в германской колонии.[36]
Дикие кони небольшими группами обитают по всему американскому Западу. Они как будто бы неплохо чувствуют себя в окрестностях Долины Смерти, одного из самых жарких и сухих мест на Земле. Вам может показаться, что вид, способный жить в Долине Смерти, не сможет благополучно существовать среди болот и заболоченных местностей, однако на деле оказывается, что это не так. Есть популяция лошадей, которая обитает к югу от Намибийской пустыни в устье реки Бот. Вдоль всего атлантического побережья Северной Америки, от Национального прибрежного парка на острове Камберленд в Джорджии до Канады, кони живут на многочисленных морских островах, в том числе в Северо-Каролинском заповеднике имени Рейчел Карсон, заповеднике Курритак Бэнкс, a также на островах Ассатиг и Чинкотиг в Мэриленде и Виргинии. Местное предание утверждает, что предки этих лошадей сами добирались до берега вплавь после частых кораблекрушений испанских кораблей, случавшихся здесь в XVI веке. Специалист по генетике лошадей Гас Котран действительно доказал наличие связи между этими островными лошадьми и лошадьми галисийскими, которых изучали Лагос и Барсена.
Но каким бы путем эти кони ни прибывали на острова, местные жители не мешали им оставаться. Подобные ситуации повторялись неоднократно. Содержать коней в конюшнях и денниках, да еще кормить их – хлопотное удовольствие; те же самые кони, оставленные на собственное попечение, могут прокормиться без особых усилий со своей стороны. В недавние годы в районах американского Запада, претерпевших экономический упадок, домашние кони были предоставлены сами себе – традиция эта стара, как само коневодство. В Европе после распада Восточного блока в 1989–1990 годах румынские фермеры во время развала коллективных хозяйств выпустили своих коней в дельте Дуная для того, чтобы дать им сомнительный, казалось бы, шанс на жизнь. По прошествии двадцати пяти лет количество этих животных, вероятно представляющих собой новейшую в мире популяцию живущих на воле лошадей, насчитывает уже несколько сотен голов, и представители различных местных органов и международных организаций по охране животных спорят по поводу того, что с ними делать дальше.[37]
* * *
Эволюционная гибкость лошадей проявляется и в нашем сегодняшнем мире. В 2000 километров от дельты Дуная во французском Камарге, болотистой местности в устье Роны, обитают знаменитые белые кони, считающиеся одной из наиболее древних популяций свободно живущих лошадей. Некоторые возводят их родословную к римской эпохе, другие утверждают, что кони «всегда» жили здесь, возможно, со времен Древнего Египта или даже еще более ранних.
Камаргская дельта представляет собой жаркую и сырую местность, кишащую самыми разнообразными насекомыми, переносчиками инфекции. Это мир, в котором лошади вроде бы не должны жить. Однако они там живут. Еще более неожиданным представляется тот факт, что камаргские лошади принадлежат к белой масти. Светлая окраска более рискованна в плане заболеваний, связанных с избытком ультрафиолета. (Подобная чувствительность служит причиной того, что европейская знать предпочитала лошадей белого цвета: такая расцветка свидетельствовала о богатстве владельцев, которые могли содержать своих лошадей в конюшне и кормить их, а не выпускать на пастбище.)
Специалисты в области эволюции давно пытаются понять, почему эти лошади стали белыми. Разве не должна была эволюция «выполоть» животных с чувствительной кожей? Гипотеза, утверждавшая, что светлые кони посреди открытого болота менее заметны для хищников, оказалась неправильной, как и предположение о том, что в белой шкуре коню прохладнее, так как она отражает больше солнечного света.
Правильный ответ заключался в том, что Камарг изобилует невероятным количеством очень крупных мух, большой рой которых способен убить лошадь. Будучи переносчиками инфекционных заболеваний, оводы своими укусами к тому же могут настолько обескровить лошадь, что она заболевает. Если насекомых очень много, они доводят лошадей до смерти, мешая им есть.
Венгерский исследователь Габор Хорват и его коллеги утверждают, что в подобной ситуации белые кони имеют преимущество:[38] мухи нападают на них существенно реже, чем на темных. Оводы выбирают свою жертву по поляризованному свету, в котором фотоны колеблются в каком-то одном направлении, а не во всех сразу. Волосы темных лошадей поляризуют солнечный свет эффективнее, чем волосы светлых, поэтому темные кони создают более сильный привлекающий оводов сигнал. Белый конский волос почти не поляризует свет, поэтому оводы беспокоят белых лошадей меньше.
Почему же тогда большинство живущих на вольном выпасе лошадей не приобрели белую окраску? В разных частях света лошади пользуются самыми разнообразными стратегиями, когда речь заходит о спасении от гнуса. Они могут оставаться на возвышенностях, где ветер сдувает насекомых. Они могут во время сезона массового вылета оводов пастись в более сухих регионах (отсутствие влаги убивает мух). Они могут мигрировать в более холодные места, где насекомых меньше. Однако в Камарге у лошадей нет другого варианта. Дельта является истинным раем для оводов, обладая идеальной троицей выгодных для них условий – нужной влажностью, нужной температурой и отсутствием ветра. Следовательно, белая шкура предоставляет здесь коню определенные преимущества и потому служит фактором отбора.
* * *
Как и другие специалисты, интересовавшиеся тем, как системы изменяются с течением времени, Чарльз Дарвин потратил большую часть своей жизни на изучение приспособляемости лошадей за миллионы лет их истории, однако только недавно наука показала нам, как эволюция помогла лошадям в современную эру, наделив их таким гибким геномом. Вид, эволюционировавший в условиях холодной и сухой степи ледникового периода, вид, примером которого может служить лошадь из Фогельхерда, способен жить также и на берегах Средиземного моря в жарком и влажном Камарге.
Другим примером приспособляемости лошадей могут послужить животные, населяющие канадский остров Сейбл (см. илл. 4 на вклейке).[39] Остров представляет собой небольшую песчаную отмель, расположенную в Северной Атлантике, примерно в полутора часах полета на аэроплане на восток от Галифакса, Новая Шотландия. Остров имеет форму очень узкого полумесяца, длина его составляет около 48 километров. Постоянно подвергающаяся натиску сильных штормов полоска земли кажется совершенно неподходящим местом для жизни диких лошадей, тем не менее их насчитывается здесь около 450 голов, они питаются песколюбкой и чиной. Скудный как будто бы корм, однако лошади, брошенные здесь бостонским предпринимателем перед Американской революцией, просуществовали на острове более 250 лет. Кони острова Сейбл отличаются и своим поведением.[40]
При полном отсутствии хищников количество их возрастает и уменьшается естественным образом. Их никто не кормит и не заботится о них. После 1960-х годов численность этих лошадей не регулировалась. По сути дела, кони острова Сейбл – единственный в современном мире пример полностью самостоятельной и свободной от внешнего воздействия популяции лошадей.
Кони эти зависят только от тех даров, которыми может наделить их море, и тем не менее за последние годы численность их только увеличивалась. Во время нашей встречи на конференции в Вене канадский исследователь Филипп Маклохлин удивил меня предположением, что взрывное увеличение численности лошадей может быть связано со столь же взрывным увеличением численности тюленей. Похоже, что международный запрет охоты на тюленей[41] привел к тому, что на этот остров теперь ежегодно приплывают рожать несколько сотен тысяч тюленей. Эти массовые роды, по мнению Маклохлина, совместно с сопутствующим выделением огромного количества фекалий значительно усиливают процесс, который он называет «переносом нутриентов из моря на сушу». Иными словами, тюлени оставляют после себя поля богатого азотом помета. Помет питает растения. Растения кормят коней.
Лошади, единственные на острове не морские млекопитающие, служат подлинной природной лабораторией эволюции. Прошедшие века придали им уникальный характер. Бабки сделались настолько короткими, что иногда с большого расстояния ноги коней кажутся похожими на ноги горных коз. Бабки большинства лошадей, длинные и угловатые, добавляют упругости шагу лошади, который, в свой черед, способствует большей скорости и живости галопирования по открытой равнине. Длинные бабки возникли в ходе реализации стратегии выживания. Однако чем они длиннее, тем больше опасность, угрожающая хрупкой кости и сухожилию, которые можно переломить или растянуть. Подобный недостаток стал причиной прекращения карьеры многих скаковых лошадей. Однако на острове Сейбл лошадям не приходится убегать, чтобы спастись от хищников. Здесь их враг – рыхлый песок, а опаснейшим «хищником» становятся крутые и коварные дюны, иногда поднимающиеся почти на 300 метров, на которые животным приходится забираться в поисках еды. Эти дюны представляют собой крайне ненадежную опору для ног лошадей. На острове Сейбл конь скорее повредит ноги, спускаясь с крутой дюны, чем бегая по прибрежному пляжу. Однако голодному коню приходится подниматься и спускаться, преодолевая такие препятствия.
И, как следствие, эволюция, как и в Камарге, сделала очевидный выбор. У коней острова Сейбл более короткие, менее уязвимые бабки, делающие их отчасти похожими на коз. За прошедшие 250 лет естественная селекция осуществила выбор в пользу более коротких бабок, благоприятствуя способности коней пастись и таким образом способности жить дольше и производить на свет больше отпрысков. Мы часто представляем себе эволюцию как непостижимо сложный процесс, однако в данном случае его направление очевидно.
Кони острова Сейбл отличаются и своим поведением. По всему миру конские табуны делят друг с другом территорию. И хотя они не передвигаются вместе, территории их часто пересекаются, приводя тем самым к скандалам и ссорам, очевидцами которых мы с Рэнсомом были в горах Прайор. При всем том, что кони постоянно ссорятся и конфликтуют между собой, они обычно не прогоняют со своих пастбищ другие табуны. Кони не территориальны.
Но на острове Сейбл их жизнь устроена по-другому, здесь они держатся собственных территорий. Ресурсы острова ограниченны. Поэтому кони выделяют территории, которые защищают от других табунов. Маклохлин обнаружил, что вместо того, чтобы использовать пастбища сообща, лошади поделили остров на три различающиеся территории: западную оконечность с ее обильными лугами и непересыхающим пресноводным прудом, среднюю часть с пастбищами похуже и не всегда наполненными водой прудами и восточную оконечность с очень плохими пастбищами и к тому же почти лишенную хорошей воды. Коням, живущим на восточной оконечности острова, приходится копытами вырывать ямки в песке, чтобы напиться пресной воды. Кони, обитающие на западной оконечности острова, не пускают коней с его восточного края на свою территорию. То есть, по сути дела, конские табуны сформировали общественную иерархию, вкладывая новый смысл в разделение своего общества на слои – верхний, средний и нижний классы.
Населяющие огромный мир другие популяции лошадей сумели выработать собственные необыкновенные и зависимые от внешней среды стратегии выживания. Говорят, что сибирские лошади, живущие возле реки Яны вблизи Северного полярного круга (их иногда называют якутскими; см. илл. 5 на вклейке), зимой погружаются в некое оцепенение.[42] Летом эти кони постоянно находятся в степи на свободном выпасе, запасая калории в толстом слое подкожного жира. Зимой они живут на накопленных за лето запасах, дышат в два раза реже, чем летом, и в основном стоят на месте, по возможности не предпринимая лишних усилий.
Сельские жители считают подобное состояние полуспячкой.
Приспособление – это бесконечный процесс. Где бы, в каком уголке мира ни жили лошади, с течением времени они приобретают новый облик, более приспособленный к тому миру, в котором обитают. Наблюдая за ними, нетрудно полюбить даже их предысторию – не только жизненную повесть отдельных животных, но и весь проделанный ими эволюционный путь.
Домашний конь – своего рода универсал, выращенный за тысячелетия согласно нашим желаниям, определяемым нашими потребностями. Единственная причина того, что все получилось так хорошо, заключается в эволюционной податливости этого животного. Его гибкость стала для нас благословением. Мы сумели вырастить огромных шайров, способных везти на своей спине вооруженного рыцаря; квотерхорсов с тяжелыми бедрами, готовых стремительно пронестись 400 метров; легкокостных рысаков, запрягаемых в коляски; гибких пони, способных перепрыгнуть высокий забор, несмотря на собственные короткие ноги (см. илл. 1 на вклейке).
Так откуда же взялись все эти качества? Нам известно, что современная лошадь вида Equus, «самая совершенная бегунья планеты», согласно мнению палеонтолога Даррина Паньяка, возникла не позднее чем 4 млн лет назад.[43] Но это было чудо, уходящее корнями на 56 млн лет назад, когда предки лошадей появились на нашей планете совершенно в другом облике. За прошедшее с этой поры время, за десятки миллионов лет, облик нашего спутника лепили и переделывали эры глобальной жары, ледниковые периоды, тектонические потрясения, взрывы супер- и мегавулканов и прочие многочисленные планетарные силы, которые к нашим дням научили его искусству приспособления. Это чрезвычайно умное создание способно постоять за себя в самых сложных условиях или позволить запереть себя в конюшнях, на пастбищах или в городах XXI века. Подобно Уисперу, наши кони способны осваивать новые умения и справляться с проблемами, возникающими, когда хозяин конюшни, подобно мне самой, оставляет желать лучшего.
«Лошади в наши дни, – сказал мне однажды Рэнсом, – занимают антропогенную нишу. Они живут там, где мы им позволяем. Если выделить им дополнительное пространство, они и его освоят».
* * *
Когда-то давным-давно, в калифорнийской Долине Смерти, я наблюдала за двумя лошадьми, неподвижно замершими на месте и старавшимися вытерпеть полуденное солнце. Долина Смерти получила свое имя от свойственного ей обжигающего жара, и когда температура находится в худшем максимуме, хочется при дыхании прикрыть лицо влажной тряпкой, чтобы не обжечь легкие. Лошади стояли как каменные изваяния посреди раскаленного песка. Находясь под безжалостным солнцем, я понимала их поведение и подобно им старалась двигаться как можно меньше.
Для оводов было слишком сухо, однако какие-то насекомые все-таки докучали животным. Они стояли рядом, головой к крупу, тесной парой, размахивая хвостами и тем самым помогая друг другу. Подобное поведение я видела до этого тысячу раз, однако никогда не задумывалась о нем.
Однако в тот день что-то изменилось. Невзирая на жуткую жару, я была там не одна, меня окружали такие же исследователи поведения животных. Именно тогда я поняла, каким бесценным даром являются лошади для современных людей и насколько мы осиротеем, если лишимся их. Даже спустя много тысячелетий после того, как неизвестный резчик создал шедевр из Фогельхерда, мы получаем удовольствие от наблюдения за дикими конями. Мы относимся к ним как к диким или домашним животным, как к нашим спутникам и проводникам в таинственный мир живой природы. Мы нуждаемся в лошадях.
В одной конюшне я встретила пару пенсионеров, привезших с собой на несколько недель отдыха своего спасенного коня. Этот поступок настолько очаровал меня, что я стала расспрашивать их о нем. Оказалось, что они повсюду берут его с собой. Конь был настолько привязан к ним, что начинал волноваться, если их не оказывалось рядом. Подозреваю, что это партнерство было воистину обоюдным и что процесс ухода за животным, в данном случае выливавшийся в ежедневный сложный двухчасовой груминг (ему каждый день протирали ноздри и уши и кормили при этом морковкой), равным образом утешал их самих.
Каждое утро супруги приходили в конюшню, чтобы причесать животное, почистить ему зубы и промыть глаза. Они разговаривали с ним и угощали его вкусненьким. Если не считать липицианов, которых я встречала в Испанской школе верховой езды в Вене, более чистого меринка я не видала в своей жизни. Выезжали на нем нечасто, однако, когда это случалось, жена ехала на своем сокровище верхом, а муж сопровождал их на мотоцикле. Любо-дорого было смотреть.
Лошади пробуждают в человеческой психике совершенно неописуемые чувства, некую странную смесь восторга и покоя. От одного взгляда на изображение лошади на стене музея или пещеры у человека может замереть сердце. Присутствие коней в нашей жизни придает миру величие, даже если нам удается увидеть их лишь издалека. Когда Служба национальных парков США решила переселить часть лошадей с охраняемых речных берегов в обнищавший Озарк, горцы запротестовали. Сами кони не представляли собой ничего особенного, и, по всей видимости, они сумели найти дорогу в национальный парк, будучи брошенными фермерами в худшие дни депрессии 1930-х годов. Эти животные ничем не отличались от тех, которые стояли у местных жителей в конюшнях и паслись на пастбищах. И тем не менее многие из них хотели, чтобы лошадей оставили в покое. Их присутствие утешало людей.
«Пока на воле ходят дикие кони, у нас еще остается надежда», – сказал один из них.[44]
Быть может, в этом и заключен весь смысл изображений лошадей, сделанных художниками ледникового периода: кони символизировали надежду.
И просто составляли нам компанию. Но где же кроются корни такого сотрудничества?
2
В стране Бутча Кэссиди
Если ты хочешь ощутить эволюцию современной лошади, возьми коня за щетку волос над копытом и почувствуешь остатки тех пальцев, которые были на ногах его предков.
РИЧАРД ТЕДФОРД[45]
Однажды, когда я еще жила в Вайоминге, Филлис Притор отвезла меня в своем мощном красном, как пожарная машина, пикапе, укомплектованном американским флагом и пистолетом с изображением гремучей змеи, наверх, на плато Поулкэт-Бенч. День уже клонился к вечеру, и по дороге наверх мы миновали вереницу нефтяников, простых работяг, возвращавшихся с промысла в город.
В этом краю много нефти. Задолго до того, как примерно 66 млн лет назад начали расти Скалистые горы, территорию современного Вайоминга покрывали моря,[46] то наступавшие на сушу, то откатывавшие обратно; приливы и отливы их определяли дрейф континентов, тектонические события, перемены глобального и местного климата. Господство этих мелководных морей, в которых процветала всякая крупная и мелкая морская живность, привело к тому, что первые разведчики, занимавшиеся поисками нефти в этих высокогорных пустынях, обнаружили слои «сланцев настолько черных, что от них буквально разило океанским отливом»,[47] если воспользоваться словами неподражаемого Джона Макфи.[48] Эти древние моря то заливали сушу, то отступали обратно в течение десятков миллионов лет, и поэтому слои горных пород содержат теперь залежи нефти – мертвые, распавшиеся, погребенные, пропеченные внутренним теплом планеты останки морской жизни, превратившейся в сжиженные углеводороды, которые нам удобно транспортировать и сжигать.
В том или ином месте в топливо превращались разные морские организмы, поэтому нефть, добываемая в каждом месторождении, имеет свою сортовую характеристику. Нефть, извлекаемая из недр Поулкэт-Бенч, издает зловоние. Весьма заметное зловоние. Она обогащена серой. Отсюда и слово «поулкэт», которым в Вайоминге называют не хорька, а скунса. Подружка Притор, Нетти Келли, весь день ходившая вместе с нами следом за дикими конями, объяснила, что, когда работавшие здесь нефтяники возвращались домой, «жены первым делом стирали их одежду, потому что от нее нестерпимо воняло». Задыхаясь в облаке пыли, я никак не могла представить древние океаны или болота, раскинувшиеся в этих краях после того, как вымерли обитавшие здесь в огромных количествах доисторические животные (за исключением птиц).
Вечная бейсболка Притор прихлопнула сверху ее недлинные светлые волосы, пряди которых торчали возле ушей. Ее тенниску покрывали многочисленные миниатюрные изображения скачущих лошадей, вперемежку с таким словами, как «дух», «жеребец», «свобода» и «красота», написанными курсивом. Занятая семьей, заготовкой сена и заботами о собственных лошадях, она в последнее время уделяла не слишком много внимания своему блогу «Энни-Полынь» (псевдоним был рожден от ее восхищения оригинальной «Энни – Дикой Лошадью»[49]), однако кони, пасущиеся на территории ранчо, по-прежнему затрагивают струны ее сердца. Теперь, в середине седьмого десятка, она вспоминает, как в пять лет познакомилась со своей первой лошадкой, которую отец провел для этого прямо в кухню. С тех пор лошадь непрерывно присутствовала в ее жизни. Или две лошади. А то и шесть или семь. (Притор в этом не одинока. Владелец домашней гостиницы типа «ночлег и завтрак», в которой я остановилась, сообщил мне, что приютил одиннадцать верховых лошадей: «но дюжину брать не стал, это уж слишком».)
Мы наблюдали за лошадьми на вершинах Маккуллох (см. илл. 7 на вклейке) и теперь обменивались впечатлениями. Все кони держались на гребне хребта, где прохладный ветерок отгонял от них мух. Представив себе, сколько времени табунщики тратят на то, чтобы уберечь пасущихся лошадей от драки, я попыталась понять, как кони на хребте ладят между собой в столь напряженной ситуации.
«Они все время общаются друг с другом, – сказала мне Притор, напоминая о нашем разговоре на тему «другого способа мышления». – Они чертят в песке разделительную линию, а потом становятся по обе стороны от нее, воспринимая эту линию как настоящий забор. Они выстраиваются, а потом часами говорят между собой. Они всегда все обсуждают». Много фыркают и топают ногами, однако до травм, как правило, не доходит. Даже жеребцы редко переходят к откровенному насилию, хотя визг и укусы становятся непременной составляющей переговоров.
Будучи в высшей степени практичной и рациональной жительницей Запада – однажды она сама одним лишь обсидиановым ножом разделала тушу бизона в каком-то глухом уголке просто для того, чтобы доказать, что это возможно, – Притор определенно уверена, что представители свободных конских табунов обладают здравым смыслом и честностью. Кроме того, она особенно неравнодушна к местным коням, лишь недавно обретшим свободу и происходящим от верховых и упряжных лошадей, приведенных в эти края хозяевами первых ранчо. Она даже провела старательное исследование их истории, проинтервьюировав в недавние годы многих старых хозяев. Результатом стала книга «Факты и легенды: прошлое мустангов гор Маккуллох».[50]
Мустанги горы Прайор, обладатели испанской масти, могут рассчитывать на пристальное внимание прессы, однако маккуллохские лошади обладают генетическим наследием, которое невозможно найти в животных, населяющих Прайор, – это кровь английских шайров, французских першеронов, нескольких морганов и даже, возможно, чистокровных верховых (см. илл. 1 и 8 на вклейке). Местные ковбои считали удачей иметь в своем распоряжении лошадь с этих вершин. Закаленные трудной жизнью в гористых краях, лошади Маккуллох считаются первоклассными и универсальными верховыми конями. Ковбои привыкли зарабатывать на их продаже, отлавливая и объезжая лучших из них.
Когда мы добрались до вершины Поулкэт-бенч, вокруг воцарилась обжигающая жара, примерно в ханнерт градусов (ханнерт, 100 °F или почти 38 °C – метеорологический термин, широко используемый по всему американскому Западу), стоявшая в то лето по всему региону. Дул ветер, почти 30 м/с, не порывистый, а равномерный, подобный течению могучей реки.
Притор и Келли заверили меня в том, что для Вайоминга это нормально.
«Свистит, как ветер в Вайоминге, так обычно мы говорим про любителей пустой болтовни», – сказала Притор.
Я вышла из грузовичка, и ветер вырвал дверцу автомобиля из моих пальцев. Я надеялась посидеть и насладиться видами, однако о мирном созерцании не могло быть и речи.
Я не предполагала, что ветер подвергнет меня пескоструйной обработке, и на моем лице, должно быть, отразилось разочарование.
«В наших краях считается, что под таким ветром лучше сидеть, – сказала Келли. – Но если задует чуть посильнее, можно будет полежать в машине и вздремнуть».
Мы с Притор и Келли провели большую часть дня, наблюдая за мустангами на вершинах Маккуллох, однако мне также хотелось доехать до Поулкэт-бенч, чтобы собственными глазами увидеть слой яркой красной глины, в котором были обнаружены наиболее ранние из известных миру окаменелых останков лошадей. Эта терраса известна среди подростков как превосходное место для вечеринок, но палеонтологи знают ее как одно из лучших месторождений останков млекопитающих определенного возраста, соответствующего периоду примерно через 10 млн лет после того, как в конце мелового периода вымерла большая часть динозавров.
В это время, примерно 56 млн лет назад, первые лошади, «кони зари», эогиппусы, оставили свой первый след в каменной летописи (см. рис. 2).[51] Они обладают особым статусом в палеонтологии: вскоре после своего появления эогиппусы распространились повсеместно и в большом количестве, так что их ископаемые останки присутствуют во многих уголках Северной Америки и в несколько отличающихся вариантах в Азии и по всей Европе.
Таким образом, эогиппусы – маркер конкретной палеонтологической страницы, «руководящей окаменелостью». Присутствие их останков в раскопе, подобно названию главы в книге, указывает на то, что исследователь читает в ней слои, относящиеся к удивительной поре эоцена, «новой зари», времени начала нашего бытия, взрывного расцвета жизни, какой мы знаем ее теперь, рождения века, в котором различные семейства современных млекопитающих вступили в свои права и распространились по всей планете. Может показаться случайным, что древнейшая из известных нам лошадей появилась в начале эоцена, но это не так. Палеонтологи договорились считать началом этого периода время появления первой из лошадей, что указывает нам, насколько важную роль играли – и до сих пор играют – кони в палеонтологической науке.
Рис. 2. Ископаемые останки эогиппуса, или гиракотерия. Реплика. Вайоминг
© Linnas / shutterstock.com
Дебютировав на Поулкэт-Бенч, лошади быстро расселились по всему свету. Останков эогиппусов в Северном полушарии обнаружено так много и в столь большом количестве мест, что можно не сомневаться в том, что даже в начале своей эволюции лошади стали сказочной удачей природы, а их история – это история успеха. При своем невысоком росте, обычно не выше 60 сантиметров в холке, они компенсировали общей суммарной массой то, до чего не дотягивали индивидуально. В некоторых краях они распространялись словно сорняки. Есть регионы, где их следы трудно не обнаружить, если заглянуть в нужный геологический слой. Особенно если все труды по расчистке останков берет на себя ветер, под которым, по мнению Келли, лучше сидеть.
В палеонтологическом смысле Поулкэт-Бенч – уникальный объект; 56 млн лет назад он представлял собой в известном смысле уютное гнездышко. Современные Скалистые горы, поднявшиеся на западе, чтобы сыграть ключевую роль в эволюции лошади через десятки миллионов лет, уже могли в какой-то мере препятствовать ветрам, продувавшим Северную Америку от запада к востоку. На востоке начинали свое существование горы Бигхорн. Другие горные хребты окружали эту местность по мере того, как Северо-Американская тектоническая плита неотвратимо надвигалась на плиты тихоокеанского побережья.
Посреди этой горной страны укрылся хорошо орошаемый стоком с окружающих гор регион, известный ныне как Поулкэт-Бенч. Сейчас эта область представляет собой столовое плато, на которое приходится подниматься, однако в те времена это был речной район с разнообразными биотопами. Похоже, что тогда этот край был богат пищей. Наряду с самыми ранними из известных окаменелостей лошадей палеонтологи обнаружили здесь соответствующие тому же периоду ископаемые останки эупримата – настоящего примата.[52]
Итак, там, где я стояла, на террасе Поулкэт-Бенч, некогда возникло основание моего будущего партнерства с Уиспером. Головокружительная попытка соединить в уме это столь далекое прошлое с настоящим напомнила мне о попытке познать бесконечность, предпринятой мной в шестилетнем возрасте. На этом самом месте лошадь эпохи эоцена вполне могла пощипывать виноград.
Это совместное появление лошадей и приматов, случившееся в одной местности и в одной временной эпохе, не может оказаться случайным. В начале эоцена наши предки равным образом наслаждались влажной, жаркой, подобной джунглям средой, чему не следует удивляться, если учесть, что мы незадолго до того имели общего прародителя. Есть множество свидетельств, указывающих на его существование, однако самый практичный способ осознать это – обратить внимание, что наши скелеты устроены одинаковым образом, хотя кости и расположены иначе, и вытянуты по-другому согласно различному назначению. Сегодня мы кажемся непохожими, однако когда-то близкое родство невозможно было скрыть.
Признаки этого родства можно заметить в наших скелетах. Например, у древней лошади, современной лошади, ранних приматов и современного человека есть пателла. У людей эта округлая кость называется коленной чашечкой, и ее можно найти, ощупав колено. Она удерживается на своем месте сухожилиями, и горе тому, у кого они повреждены. Тогда коленная чашечка не сможет исполнять свои функции. У лошадей эта кость называется почти так же – «коленная чашка» (см. рис. 3). Ее легко нащупать, и плохо приходится тому коню, который повредит удерживающие ее сухожилия. Чтобы найти ее, проведите рукой вдоль передней поверхности задней ноги лошади почти до самого живота. Вот там вы найдете кость, подобную той, что присутствует в вашем колене. У лошадей эта кость не скруглена, а заострена. Помню, как ребенком я ощупывала ее и думала, почему у нее такая странная форма. Ранняя версия – бета-версия, если угодно, – коленной чашки современной лошади присутствует у эогиппусов Поулкэт-Бенч.
Рис. 3. Скелет современной домашней лошади
Еще одна общая черта скелета современных лошадей и людей – это calcaneus. У человека это пяточная кость. У коней это кость, расположенная в скакательном суставе. Проведите рукой по задней стороне задней ноги лошади. Примерно на середине ноги вы наткнетесь на сустав между пястью и голенью. В детстве я думала, что нога лошади поставлена коленкой назад. Конечно же я ошибалась. Эта кость эквивалентна не нашему колену, а кости, расположенной в ступне.
Различия между нами начали формироваться еще 56 млн лет назад. Пяточная кость приматов достаточно похожа на нашу с вами пяточную кость, и мы без особого труда признаем ее таковой. У эогиппусов скакательный сустав в какой-то мере уже напоминал соответствующий сустав современных коней. Если вы знаете, в каком месте ноги современной лошади находится этот сустав, то без труда обнаружите calcaneus в ноге древней лошади.
Все это просто замечательно. И лошади, и люди имеют кости плюсны и предплюсны, большие и малые берцовые кости, a также, по правде сказать, почти все другие кости, что свидетельствует о нашем общем биологическом происхождении. Иногда мне хочется мысленно поставить рядом скелет первого настоящего примата и скелет эогиппуса – и потом, фигурально говоря, прокрутить часы назад. Двигаясь назад во времени, мы заметили бы, как оба скелета становятся все более и более примитивными. Различия между ними постепенно исчезали бы, и наконец, оказавшись в нижнем углу эволюционной вилки, скелеты стали бы совершенно одинаковыми. Мы превратились бы в одно и то же животное, которое ученые помещают в основание родословных лошадей и людей. Иными словами, эволюция – великий процесс разворачивания жизни на нашей планете – лежит в основе нашего партнерства с лошадьми и служит причиной того, что мы можем научиться в самом деле понимать друг друга.
Пока не вполне ясно, когда именно существовало это исходное животное, наш общий предок. Некоторые исследователи полагают, что будущие кони и люди направились каждый по собственному эволюционному пути незадолго до того, как появились на Поулкэт-Бенч, то есть, скорее всего, сразу после того, как вымерло большинство динозавров. Другие считают, что разделение могло произойти еще раньше, примерно 100 млн лет назад, во время, получившее романтическое название Меловой наземной революции. Я впервые прочла об этой революции еще ребенком в главе под названием «Как цветы изменили мир» в книге «Необъятный путь» (The Immense Journey) антрополога Лорена Айзли.
Эта революция, находившаяся в самом разгаре 100 млн лет назад, возможно, началась за несколько десятков миллионов лет до этого и стала одним из наиболее важных эпизодов в истории нашей планеты. Она, безусловно, была важнее падения астероида. До появления цветов, писал Айзли, «куда ни посмотри, от полюсов до экватора, всюду властвовала монотонная и холодная темная зелень, ибо растительный мир тогда не знал других красок». После революции цветы появились повсюду, планета обрела краски, чтобы никогда более не стать прежней.
По правде сказать, если бы не было цветов, мог не состояться и сам век млекопитающих. Мы могли бы навсегда остаться мелкими, незначительными и ничем не примечательными существами, какими были большую часть собственной 200-миллионолетней истории. Посмотрим правде в глаза: большую часть нашего пребывания на Земле мы не представляли собой абсолютно ничего интересного. По одной простой причине: мы сидели по норам, пока по зеленой земле топали чудовищные туши динозавров. По всей вероятности, наши предки питались в основном насекомыми, личинками и червяками и выходили на поверхность земли исключительно по ночам. Ни плодов, ни зерен они в то время не ели, поскольку таковых не было. Словом, вели жизнь скромную.
Скорее всего, они старались не попадаться никому на глаза и, вероятно, защищали свою жизнь, сделавшись, по словам палеонтолога Кристины Дженис,[53] «верткими прохвостами», животными, орудовавшими в подлеске. Во время господства динозавров млекопитающие представляли собой нечто вроде посредственных, похожих на крыс мелких четвероногих созданий, имевших пять пальцев на каждой ноге. Конечно, кое-кто из наших, вроде репеномама,[54] зверя размером с росомаху,[55] мог позволить себе питаться детенышами динозавров (один из экземпляров этого животного найден с юным ящером в желудке), однако по большей части наши предки являли собой только потенциал, но никак не реализацию. Самооценка наша, вне всякого сомнения, была низкой, и, вероятно, нам весьма помог бы совет какого-нибудь гуру – если бы таковой нашелся поблизости.
А затем динозавры вымерли – за исключением птиц. Вымерли и многие из наших млекопитающих кузенов. Вместе с динозаврами ушли в небытие примерно две трети из существовавших тогда тридцати пяти семейств наших предков. Впрочем, вымирания млекопитающих не происходили равномерно по планете. Вымирания вообще редко происходят подобным образом. Не являясь глобальными, они тем не менее растут как снежный ком. Чуточку здесь, чуточку там. В северных пределах Северной Америки, включая регион Поулкэт-Бенч, вымирание было в высшей степени глобальным: исчезли девять десятых от общего числа семейств млекопитающих.
К счастью то или к несчастью, беды одного существа предоставляют возможности другому. В плотной, окутывающей планету пелене жизни появилась громадная прореха. Прекращение существования многих жизненных форм позволило сделать первый шаг в танце общения между лошадьми и людьми. Исчезновение большинства динозавров, происшедшее около 66 млн лет назад, обычно связывают с падением астероида в регион, который мы теперь называем Мексиканским заливом. Без этого метеоритного удара, расчистившего сцену для великого эволюционного скачка, кони и люди могли и не появиться. Но послужило ли падение астероида причиной вымирания? Или же совпадение во времени стало результатом чистой случайности? Может быть, в процессе принимали участие и другие великие силы, такие как тектонические движения и изменения конфигурации океанических течений?
Палеонтологи предполагают, что истинную причину вымирания следует искать во взаимодействии многих факторов. Астероид упал в то время, когда мир уже и без того менялся. Великий суперконтинент Пангея распался на части, и Северная и Южная Америки неспешно перемещались на восток, создавая своим перемещением постоянно расширявшийся Атлантический океан – океан, которому в грядущие десятки миллионов лет будет суждено сыграть главную роль в становлении человека, в эволюции лошадей, в образовании путей перелетов птиц, а также в пульсации ледников и чередовании дождливого и засушливого климатов.
Эти долгосрочные события, произведенные нашей всегда бурлящей энергией планетой, вероятно, в большей степени повлияли на появление лошадей и людей, чем кратковременный удар пусть даже гигантского астероида. Так что, хотя палеонтологи и не сомневаются в факте падения, роль его до сих пор остается предметом постоянных разногласий и противоречий. В 2010 году в журнале Science[56] появилась статья за подписью сорока одного автора, в основном не связанных с палеонтологией, утверждавшая, что астероид был «единственной» причиной вымирания. Она, в свой черед, послужила причиной изрядного скепсиса, проявленного палеонтологами во время перерывов на обед. Озвучивая мнение многих коллег, работавший в Йельском университете палеонтолог Крис Норрис назвал подобный упор на катастрофу в качестве основной эволюционной силы «астероидной порнографией».[57] «Популярные описания результатов ударного воздействия, – пояснил он, – обладают неким болезненным, граничащим с безвкусицей свойством». Такое мнение обоснованно: климат на планете уже менялся в течение 10 млн лет до падения астероида. Динозавры наслаждались стабильностью среды обитания не в большей степени, чем мы сейчас.
«Не поймите меня превратно, – сказал мне в личной беседе Дэвид Арчибальд, специалист по млекопитающим, существовавшим до и после падения астероида. – Это не просто был неудачный день в истории планеты. Это был день великого невезения. Однако тучи над тогдашним раем сгущались уже давно». Подробное обсуждение проблем, связанных с началом широкого распространения млекопитающих по планете и палеонтологических последствий воздействия астероида, оставившего ударный кратер Чиксулуб, содержится в его книге.[58]
В любом случае после падения астероида начался своего рода доисторический захват земель. Огромные запустевшие территории оказались открытыми для заселения. Чтобы захватить их, нужно было всего лишь приспособиться к местным условиям. А мы, млекопитающие, отлично справляемся с задачами подобного рода. Оставшиеся в живых представители нашей родни быстро приобрели новые формы и размеры. Некое подобие этого процесса я усматриваю в появлении интернета, когда никто не был способен даже отдаленно предсказать, что ожидает нас в будущем, полном новых возможностей.
Мы достаточно мало знаем о том, как млекопитающие приспосабливались к новым условиям, однако известно, что за эти 10 млн лет растительность изменилась самым драматическим образом. Вечнозеленые леса, покрывавшие существенную часть поверхности земли, ушли в прошлое, а листопадные широколиственные растения, согласно мнению эколога Бенджамина Блондера, начали очень медленно занимать доступное пространство. Распространение таких растений с их вкусной и сочной листвой создало изобилие легкоперевариваемой пищи.
Это сподвигло млекопитающих к перемене образа жизни. Возник новый тип млекопитающих – животные, питающиеся не насекомыми, а цветками, плодами, листьями кустарников и в ограниченной степени редкими, только появившимися на Земле травами. Многие из таких биологических видов неизбежно должны были столкнуться с неудачей, стать эволюционными тупиками, вымереть в палеонтологическое мгновение ока.
Однако некоторые добились выдающихся успехов. Кони и приматы относились к числу триумфаторов. (Наверное, нам не стоит слишком гордиться подобными достижениями. По словам Кристины Джейнис, мы стали победителями «за неимением лучших».[59])
* * *
С Притор и Келли мы бродили по Поулкэт-Бенч в надежде найти какую-нибудь из великолепных окаменелостей, однако я скоро сдалась. Филип Гингерих, пользующийся всемирной славой палеонтолог и знаток ископаемых останков лошадей, однажды сказал мне, что, когда он впервые посетил эту местность молодым еще ученым в 1970-х годах, окаменелости можно было найти прямо на поверхности земли, однако время таких легких находок давно миновало. Притор разыскивала кольца типи: каменные круги, в доевропейские времена обрамлявшие основания шатров индейцев, любивших останавливаться здесь ради превосходного вида – совсем как наши современники летними вечерами.
Келли искала ориентиры среди далеких гор – природные знаки, которыми век назад руководствовались ее собственные предки, чтобы ориентироваться в пространстве и времени, когда пригоняли в эту глушь стада овец.
«Вот Конская Голова, – сказала она, указав на большой и заметный снежник вверху водостока Ишавуа на склоне горного хребта Абсарока. – Снег на носу и на поводьях уже тает. Это означает, что высокая вода сошла и можно вести свои стада в горы и спокойно переправляться через реки».
Я увидела, что она совершенно права. Только в ущелье под одной из самых высоких горных вершин даже в начале июля оставалось большое количество снега, и снежник в самом деле был похож на голову коня.
«Кони здесь явно у себя дома», – сказала я.
Земли Вайоминга невозможно представить без лошадей. Местное население тем или иным способом в течение веков приспосабливало годовой ритм своей жизни к ритму жизни коней. Без них выживать здесь было непросто. Сразу же, как испанцы завезли в эти края одомашненных лошадей, коренные американцы немедленно осознали их ценность и сделались одними из лучших в мире наездников. Когда прапрадед Келли, мормон, оказался в Вайоминге в конце XIX века, «обладать лошадью» означало «выжить». Здесь начинал свою карьеру известный преступник Бутч Кэссиди, впервые попавший в тюрьму за кражу лошадей. Учитывая жизненную важность этого домашнего животного, Бутчу повезло, что он избежал виселицы.
Лошади были ценными и тогда, когда в 1950-х годах отец Филлис Притор привез ее девочкой в Вайоминг. Конечно, к этому времени здесь уже появились автомобили, но им необходимы дороги, a их в здешней глуши насчитывалось немного. Какое-то время ее отец зарабатывал на жизнь объездкой коней. Потом он устроился егерем в заповедник и проводил свою жизнь в седле, разъезжая по диким просторам Вайоминга, куда автомобили тогда – да и теперь тоже – не способны были проникнуть. Притор часто сопровождала его. Верхом на своем пони она основательно изъездила эти места. Подозреваю, что Притор в тот или иной момент своей жизни прошла, проехала, ну в крайнем случае видела каждый сантиметр территории этих гор. С ее точки зрения, есть нечто успокоительное в том знании, что кони 56 млн лет прожили в том же краю, где ныне живут лошади гор Маккуллох и Прайор.
Конечно, важно помнить, что в те времена, когда здесь обитали эогиппусы, Вайоминг выглядел совершенно иначе. Здесь было влажно – настолько влажно, что окрестность покрывал тропический лес. Здесь не было холодоустойчивых деревьев. Не было пропыленного воздуха, не было сухой и твердой, покрытой полынью почвы. Ее заменяла влажная и болотистая земля.
Кроме того, здесь было жарко. Какое-то недолгое время даже очень жарко, куда жарче, чем во время моего визита. Доказательства описаны, например, Филом Жардином.[60] По сути, на планете как будто бы произошел внезапный тепловой взрыв, столь же удивительный в своем роде, как падение астероида за 10 млн лет до него. Любопытно, что этот тепловой максимум совпал с появлением на свет приматов и коней Поулкэт-Бенч. Температура в некоторых местах за очень короткое время подскочила на 6–8 °C, замерла ненадолго на этом максимуме, а потом столь же внезапным образом опустилась. Причина этого резкого пика остается невыясненной, однако он мог стать следствием крупных выбросов метана из глубин океана. Этот пик на графиках, иллюстрирующих подъемы и падения температуры в истории нашей планеты, напоминает, на мой взгляд, контуры Эйфелевой башни. Эта аномалия носит официальное название «Палеоцен-эоценовый термический максимум» или просто PETM, однако я предпочитаю видеть в ней Эйфелеву башню жары, резкие контуры роста и падения которой так напоминают изящный силуэт символа Парижа. Странное, невероятное событие.
И вдвойне странно, что и лошади, и приматы могут равным образом хотя бы отчасти связывать свое существование с этим максимумом: пик обозначает начало эоцена, когда в свои права вступили не только лошади и приматы, но и в целом большинство современных групп млекопитающих. История многих животных прослеживается от этого загадочного теплового пика. Похоже, что в это время вся планета уподобилась колоссальной чашке Петри,[61] доведенной до кипения невероятной горелкой Бунзена.[62] И voilà![63] Мир, только что погруженный в послеастероидный упадок, вдруг расцвел общепланетной весной.
Существуют различные мнения насчет того, возникли кони и приматы на Поулкэт-Бенч или же пришли откуда-то еще. Некоторые палеонтологи полагают, что протолошади мигрировали сюда из Азии в самом начале потепления. В Китае была обнаружена кость очень раннего животного, которое может оказаться предком эогиппусов. Другие считают, что лошади возникли в Европе и переселились на запад. Филип Гингерих полагает, что лошади вполне могли возникнуть именно здесь, в том Вайоминге, который тогда еще не был Вайомингом, к востоку от Скалистых гор, как раз в том самом месте, где стояли мы с Келли и Притор. (Впервые я прочитала об этом в статье Роберта Кунцига.[64] Идея показалась мне настолько необычной, что я поинтересовалась мнением о ней Гингериха. «Почему бы и нет?» – ответил он.)
Еще большие разногласия существуют по поводу происхождения приматов. Некоторые исследователи считают, что мы возникли в Северной Америке, другие – что в Азии, a третьи переносят нашу родину в Европу. Еще одна группа исследователей в манере Гекльберри Финна полагает, что приматы возникли в Африке, затем верхом на отделившейся от Африки континентальной Индийской плите приехали в Азию, где спешились и распространились по всему Северному полушарию, в котором тогда было достаточно тепло и уютно.
При всем изобилии существующих теорий материальные свидетельства указывают на то, что самые ранние эогиппусы и самые ранние настоящие приматы совершили свой великий выход на сцену жизни сообща, причем вторые обитали на деревьях, а первые паслись под ними. И если на Поулкэт-Бенч мы еще не были подобранной друг к другу парой, если еще не заключили дружеский союз, то, безусловно, жили в тесном соседстве.
Странными были эти мелкие зверушки, эти «кони зари». Они, конечно, ничем не напоминали тех животных, которым по прошествии 56 млн лет суждено было выступать в Кентуккийском дерби.[65] Однако, как я уже говорила, если знать, что ищешь, в этих ранних окаменелостях вполне можно обнаружить некоторые из основных характеристик существ, называемых нами «лошадьми».
* * *
Я конечно же не знала, что ищу. С детских лет мне не раз приходилось видеть окаменелые останки эогиппусов в музеях, однако я никогда не понимала, почему ученые усматривают в этих странных низеньких созданиях именно «лошадей». Что именно «лошадиного» в этих скелетах? Я немного знала о том, что пяточная кость и коленная чашечка есть и у людей, и у лошадей, но хотела знать больше. Пока что останки эогиппуса в музейной витрине, на мой непросвещенный взгляд, скорее напоминали собачьи кости.
Так почему эти животные не стали собакой?
Я позвонила Филу Гингериху. Он посоветовал мне рассмотреть астрагал, кость, присутствующую как у древних, так и у современных лошадей. Конский астрагал уникален. Он эквивалентен таранной кости, расположенной посреди человеческой лодыжки, позволяющей нам делать кругообразное движение стопой. Однако конский астрагал имеет другую форму. Наша таранная кость, вторая по величине в стопе, позволяет нам изменять угол между стопой и ногой. Именно поэтому мы способны пользоваться ногами, взбираясь на деревья.
Удивительным образом еще 56 млн лет назад конский астрагал приобрел особые очертания. Он расположен перед скакательным суставом или пяточной костью и ко времени появления самой ранней из известных лошадей отличался от астрагала приматов, которому было суждено стать нашей таранной костью. Уже в это время конский астрагал был покрыт глубокими бороздками и ограничивал подвижность сустава лошади, позволяя ему двигаться вперед и назад, но не по кругу. Поэтому конь с самого начала своего бытия не был способен лазить по деревьям.
Подобное ограничение не обязательно послужило во вред лошади. Вместо того чтобы спасаться от хищников на ветвях деревьев, конь выбрал другую стратегию. Благодаря глубоким канавкам астрагал ограничил перемещение ноги под скакательным суставом одной плоскостью, предоставив тем самым лошади некоторое преимущество – способность двигаться вперед быстрее других животных. Таким образом, с самого начала жизни коней их главным средством защиты стала скорость бега.
Скорость, конечно, величина относительная, и представлять себе скорость лошади следует во временном контексте. Эогиппусы не могли бегать галопом, однако они, во всяком случае, могли прыгать, на что не были в большинстве своем способны тогдашние хищники. «Чтобы избежать опасности, – однажды сказал мне палеонтолог Майк Ворхис, – лошадь хочет бежать». Он сравнил эту стратегию со стратегией бизона, обладателя огромной башки и кривых рогов, который стремится в случае опасности начать драку: «На мой взгляд, важно, что с самого начала истории коней их предки никогда не носили на черепе никаких украшений». Таким образом, благодаря окаменелостям Поулкэт-Бенч нам известно, что лошади были более «экипированы» для бегства, чем для сопротивления противнику.
Кони не были единственными раннеэоценовыми млекопитающими, направившимися по пути бега, однако среди прочих их выделяет еще одна важная черта: на задних ногах у них было нечетное число пальцев. Это весьма странно, ведь в своем большинстве унгуляты имели (да и до сих пор имеют) равное количество пальцев. Еще в эоцене травоядные бегуны разделились на две группы: непарнопалых периссодактилей (лошадей и их близкую родню) и парнопалых (парнокопытных) артиодактилей. Так называют их ученые, однако существенно здесь не само по себе число пальцев, а то, как на них распределен вес животного.
Даже в ту весьма раннюю эпоху Поулкэт-Бенч на средний палец задней конской ноги приходилась намного большая часть веса животного, чем на все остальные. В этом можно убедиться, внимательно посмотрев на этот палец: впоследствии превратившийся в копыто современного коня, он был крупнее, чем оба внешних. Парнопалые артиодактили к тому времени уже избрали путь, на котором нельзя было изобрести стопу всего лишь с одним пальцем. Эогиппусы оставили для себя этот вариант открытым.
Крупный средний палец стал ключевым фактором в благополучной эволюции лошадей. С течением времени кони стали переносить на средний палец все большую и большую часть своего веса, пока боковые пальцы не сделались бесполезными и не отмерли вовсе. В результате этого эволюционного решения 56-миллионолетней давности Уиспер получил возможность переносить свой вес на задние ноги и в изящном прыжке преодолевать ограду своего загона в поисках воды. Квотерхорсы (см. илл. 9 на вклейке), следуя за коровой, научились разворачиваться на месте, а лошади, прошедшие высшую школу верховой езды, стали способны исполнять леваду и курбет.[66] Когда конь из Фогельхерда, подобрав задние ноги, поднял спину и голову или когда жеребцы горы Прайор противостояли друг другу, они были обязаны своей способностью блеснуть силой этому раннему эволюционному выбору, восходящему к Эйфелевому максимуму жары, к раннему эоцену и, быть может, к тому самому месту на Поулкэт-Бенч, где стояли мы с Притор и Келли.
Теперь я это знаю, однако до сих пор, когда вижу эогиппусов, мое сердце болит за них точно так же, как в детстве. Им явно неуютно. Со своими высокими изогнутыми спинами они напоминают моего бордер-колли, с равной легкостью способного изгибаться вверх и вниз, направо и налево. Лошадям с Поулкэт-Бенч не хватает прочного хребта, высокой холки и прямых берцовых костей, которые позволяют современным лошадям принимать столь властную позу подобно Дюку. Даже не могу представить себе те аллюры, которыми могли передвигаться эти ранние лошади. Задолго до поездки в Поулкэт-Бенч я спросила у палеонтолога Марджери Кумбс, знакомившую меня с окаменелостями лошадей в палеонтологическом музее Колледжа Амхерст, о том, какой самый быстрый аллюр был им доступен.
Она ответила: «Быстрый бег».
Звучало это не очень-то благородно.
С точки зрения скаковой практики это не выдающееся достижение, однако ничего лучшего тот век предложить не мог. Впрочем, этого, наверное, вполне хватало, поскольку в те дни ранние кони и прочие их непарнопалые родственники (предшественники тапиров и носорогов) водились в большом числе – намного большем, чем равнопалые артиодактили.
Существует множество других признаков, отличающих этих самых ранних из лошадей от современных. Шеи эогиппусов можно назвать удлиненными, но не длинными. Им пришлось бы едва ли не становиться на колени, чтобы пощипать травку, если бы ее было много. Их головы были посажены невысоко, так что даже если бы им сильно захотелось, как коню из Фогельхерда, горделиво оглядеться по сторонам, они не смогли бы этого сделать.
Головы их также лишь напоминали лошадиные – но не слишком. Морда, пожалуй, была слегка вытянутой, однако все же коротковатой по современным стандартам. Глаза были посажены посередине черепа, а не ближе к ушам. Современные кони обладают почти 360-градусным полем зрения, так что они могут видеть не только перед собой, но и позади. (Вот почему лошади часто носят шоры, так как блестящий корпус полированного «хищника» за спиной пугает их.) Эогиппусы обладали куда более ограниченным зрением.
На ногах эогиппусов также имелись подушечки, как у собак и кошек. Однако каждый палец заканчивался миниатюрным протокопытом, похожей на ноготь структурой, защищавшей подушечку. Это протокопыто было слишком тонким, чтобы принять на себя вес животного. Пальцы расходились настолько, что вес животного приходился скорее на подушечки, чем на эти копытца. Как ступни современного лося столь широки, что это громадное и тяжелое животное может пересекать болота, так и ступни первых лошадей предоставляли им большую площадь опоры, так что эогиппусы не тонули в болотах, среди которых обитали.
Интересный момент: лошади первоначально возникли не для того, чтобы жить на жесткой и сухой земле, как в современном Вайоминге, а в заболоченном и влажном краю, быть может похожем на джунгли, в которых в наши дни обитают тапиры, близкие родственники лошадей. Быть может, именно глубинная память об этом позволяет современным лошадям жить в таких регионах, как Камарг или острова Атлантического побережья.
* * *
Большинство людей с трудом сможет угадать в эогиппусах предков современных лошадей, однако что можно сказать об эуприматах, мелких созданиях, составлявших компанию лошадям того времени? Мы, неспециалисты, не сразу опознаем «лошадь» в окаменелых останках эогиппуса, однако признать собственную родню в приматах Поулкэт-Бенч совсем не трудно. Мы не нуждаемся в том, чтобы сотрудники музеев указывали нам на общие черты наших скелетов. Родство достаточно очевидно. В книге «Начало века млекопитающих»,[67] материалами которой я широко пользовалась, палеонтолог Кен Роуз приравнивает этих ранних приматов, уже приспособившихся к прыжкам и хватанию, к современным галаго. Эуприматы весили всего несколько сот граммов, а зубы их были меньше зернышек риса. Экстравагантного вида хвосты, скорее всего, помогали сохранять равновесие при прыжках с одной ветки дерева на другую.
Однако они уже имели относительно более крупный мозг, чем большинство остальных млекопитающих.
Если черепа перволошадей были несколько вытянуты, то лицевая часть черепов приматов сделалась более плоской. Глаза их чуть сдвинулись на лице вперед, обеспечивая тем самым предпосылки к возникновению бинокулярного зрения. На концах передних конечностей возникла не лапа, а подобие ладони. Отстоящий хватательный большой палец, которым мы, люди, так гордимся, уже развился, хотя и в очень примитивной форме. Нельзя сказать, чтобы эти изменения определили будущее примата – эволюция еще не выложила все свои карты на стол, – однако мы без труда угадываем в скелетах этих ранних животных черты своих предков.
* * *
Хотя самая ранняя среди известных нам окаменелая кость лошади была найдена в Поулкэт-Бенч, первая получившая название окаменелость лошади была обнаружена в Англии в 1830-х годах. По иронии судьбы, ископаемое обнаружил Ричард Оуэн, уважаемый ученый, который впоследствии сделался ярым критиком Чарльза Дарвина. Оуэн не признал в описанной им древности раннюю лошадь, дал ей имя Hyracotherium и предположил, что она может являться дальним родственником современного кролика. Когда многочисленные останки теперь уже признанных таковыми ранних лошадей обнаружились в Северной Америке, ученые дали им новое имя – эогиппус. Родственная связь североамериканских лошадок и гиракотерия Оуэна какое-то время оставалась незамеченной из-за ограниченных возможностей трансатлантической связи. Номенклатурный вопрос остается неразрешенным и по сей день: некоторые ученые видят в эогиппусе и гиракотерии одно и то же животное, другие не согласны с ними. Подобные разногласия в принципе указывают на то, насколько близкими в начале эоцена были многие виды животных. В XXI веке принять современную лошадь за современного кролика невозможно, однако в начале эоцена многие виды животных на эволюционном древе еще только начинали расходиться.
И многие из них – к примеру, кони и кролики – были довольно похожи.
Кроме того, в XIX веке между учеными шли ожесточенные споры об эволюции лошадей вообще. Разногласия среди палеонтологов способны принимать довольно резкий характер, а трактовка эволюции лошадей привлекала особое внимание европейских исследователей. Окаменелые конские кости достаточно часто встречаются в горных породах Европы (поздние лошади легче поддаются идентификации, чем ранние), однако, как ни странно, они присутствуют только в определенных геологических слоях. К эпохе эоцена, которая закончилась около 34 млн лет назад, европейские палеонтологи относили только маленьких лошадей. Потом кони на какое-то время словно бы исчезли из Европы. В слоях моложе 10 млн лет кони появляются снова и в большом количестве, и это уже другие животные, более крупные и более похожие на лошадей, несмотря на то, что у них по-прежнему оставалось три пальца. А потом их в великом множестве сменили однопалые кони.
Подобные странности в хронологии лошадей причинили немалую головную боль Чарльзу Дарвину, которому процесс эволюции представлялся гладким и равномерным, подобным тихому английскому летнему дождику.[68]
Дарвин не уделял существенного внимания вспыхивающим разногласиям (когда напряжение оказывалось слишком большим, он перебирался на любимый курорт), и его теория не учитывала внезапных тепловых выбросов, падений астероидов и захватов млекопитающими свободных территорий. Эти открытия были сделаны уже по прошествии многих лет после его смерти. Во времена Дарвина невозможно было предположить, что Бог мог создать неблагоустроенную планету. Тот факт, что, согласно его теории, жизнь менялась в мире, полностью статичном в глазах его современников, выглядел достаточно противоречиво в глазах самого Дарвина, и концепция взрывных перемен выходила далеко за пределы того, что он мог воспринять.
И теперь – вот они, эти невероятные конские окаменелости, которые не обнаруживают непрерывности во времени. Лошади появились в Европе и исчезли из нее внезапно, словно по велению фокусника: «Вот мы их видим! А теперь не видим». С точки зрения Дарвина, это было абсолютно недопустимо. Собственно, дело было не столько в том, что в какое-то время лошади были, а в какое-то нет, сколько в том, что, явившись снова после миллионов лет отсутствия, они стали совсем другими.
Не просто слегка изменившимися, как кони острова Сейбл, ноги которых короче, чем у лошадей равнин, а, можно сказать, целиком и полностью другими. Сперва они были маленькими, потом стали большими. Сперва у них было четыре пальца на передних ногах, потом вдруг стало три – и наконец остался вообще один палец. Дарвин размышлял об этом задолго до того, как мы получили представление о генетике и ДНК, и, с точки зрения европейцев того времени, эволюция лошадей не поддавалась никакой логике. И казалась прямо-таки безумной.
Но, что хуже того, отсутствие явной последовательности, ведущей от одного варианта коня к другому, предоставляло питательную среду для аргументов его врагов, и в том числе Оуэна. Дарвин и прочие исследователи в те времена не могли представить себе, что целые этапы эволюции лошадей пока еще остаются неизвестными, и вообще никому из них в голову не приходило обратиться за разгадками к Новому Свету. Когда европейцы впервые приплыли в Западное полушарие, они не обнаружили там лошадей. Совсем. Их не было в Северной Америке. Их не было в Южной. Их не было на равнинах и не было в горах. Ученые, ничего не знавшие о тектонике плит и постоянно расширявшемся Атлантическом океане, просто предположили, что кони были животными Старого Света и в Западном полушарии их никогда не было.
Еще молодым человеком Дарвин обнаружил важный ключ к решению этой загадки, однако не сумел полностью понять его значение. Во время своего семилетнего плавания на британском исследовательском корабле «Бигль» он предпринял кратковременный поход в чилийские Анды. И там, надо же было так случиться, он нашел ископаемый зуб, явно принадлежавший лошади. В чем же дело? Как попал этот зуб на вершину горы? На этот вопрос у Дарвина не было однозначного ответа. В Чили он стал свидетелем землетрясения,[69] которое, как он видел, подняло в некоторых местах почву на пару метров, и понял, какие силы могут созидать горы. Но что делал здесь конь, которому положено быть в Старом Свете?
Дальнейшее любопытство его подогревал другой факт: кони, завезенные европейцами в Америку, жили и процветали как в южноамериканских пампасах, так и на североамериканских равнинах. Несколько беглых лошадей дали потомство, заселившее Западное полушарие. Всего за один век сотни привезенных коней превратились в десятки тысяч. И все они явно чувствовали себя как дома.
Дарвин находился в недоумении. Весь комплекс свидетельств (конский зуб, найденный у вершин Анд; многочисленные находки окаменелых останков лошадей в одних слоях европейских геологических отложений при полной стерильности других слоев; отсутствие живых лошадей в Западном полушарии до открытия Америки вкупе с их последующим распространением по пампасам и равнинам) не давал ему покоя. Мир, по представлениям того времени, просто не мог быть настолько нестабильным, однако конские окаменелости, обнаруженные в европейских горных породах, будто рассказывали ученому совершенно другую историю: сегодня здесь, а завтра там. Одно дело проповедовать логичные и плавные перемены, другое – утверждать, что природа может меняться катастрофически быстро.
Таким было положение дел к 1877 году, когда английский гений Томас Генри Хаксли,[70] сторонник Чарльза Дарвина и злейший враг Ричарда Оуэна, прибыл в Нью-Йорк, чтобы прочитать там лекцию. Перед выступлением Хаксли посетил Коннектикут, желая встретиться в Йельском университете с палеонтологом O. Ч. Маршем.[71] Этот фанатичный собиратель окаменелостей располагал сотнями костей древних лошадей, извлеченных из песков Вайоминга и прочих местностей американского Запада.
Марш выложил перед Хаксли целую последовательность останков лошадей, в том числе и такие, которых не было в Европе. Тут-то Хаксли и увидел то, о чем мечтал Дарвин: разложенные Маршем находки демонстрировали, как менялась нога лошади в течение миллионов лет. Марш показал Хаксли различные этапы этого пути: лошадиные ноги с четырьмя передними пальцами, чуть менее древние с тремя, еще моложе с пальцами почти одинакового размера, затем с очень большим средним и маленькими боковыми, а потом еще более поздние – с огромным средним пальцем и двумя настолько маленькими боковыми, что Марш (ошибочно) счел их бесполезными. Завершала всю линию лошадь с единственным средним пальцем.
Логика! Наконец-то! Порядок вернулся во вселенную Дарвина! Хаксли в восторге передал информацию Дарвину, для которого эволюция означала нечто вроде «постепенного восхождения жизни». История коней теперь доказывала его правоту. Лошади в начале своего развития были мелкими и незначительными животными, но посредством неспешных ровных шагов стали такими, какими им «назначено» быть. В этом сразу усматривались процесс и – лучшее из всех викторианских существительных – прогресс.
Ученые ошиблись, предположив, что эволюция лошадей происходила исключительно в Старом Свете, и ошибку эту следует признать вполне закономерной с учетом того, что к прибытию европейцев лошадей в Новом Свете уже не осталось. Исследования Марша показали, что эволюция коней главным образом протекала в Северной Америке. Эпизодическое появление лошадей в каменной летописи Европы указывало всего лишь на то, что некоторым их видам удавалось просочиться из степей Нового Света в степи Старого.
Марш так же был в восторге. Получая образование в Европе, он успел усвоить, что лошадь «была подарком Старого Света Новому». Теперь же ему удалось доказать, что верно как раз противоположное: лошадь – дар Нового Света Старому. Для него это был предмет гордости континентального масштаба.
Но это еще не всё. Во время встречи в Йеле Марш сообщил Хаксли, что располагает окаменелыми останками раннего примата, также обнаруженными на американском Западе.
Тут Хаксли осенило: выходит, что кони и приматы сотрудничают гораздо дольше, чем можно было предположить. Он набросал комическую картинку, на которой воображаемый эохомо[72] скачет верхом на воображаемом эогиппусе, и подарил ее Маршу.
Задолго до знакомства с Рэнсомом, Притор и Келли я, размышляя над удивительным вкладом лошадей в биологическую науку, побывала у палеонтолога Криса Норриса, автора фразы про «астероидную порнографию». Норрис – хранитель собранной Маршем коллекции лошадиных костей в Йельском музее естественной истории Пибоди. Я спросила его, почему кони всегда находились в центре дискуссии об эволюционном развитии.
«Чтобы заметить изменения, – ответил Норрис, – необходимо наличие большого количества ископаемого материала, и в случае с лошадьми находки чрезвычайно обильны. Окаменелости позволяют изучать их историю теми способами, которые не всегда возможны, когда дело касается прочих животных». Подобные исследования можно проводить на морских моллюсках, однако история раковин не обладает такой наглядностью. Драматические изменения формы ракушек не слишком волнуют людей, а вот изменение числа пальцев на ноге лошади достаточно впечатляет. «Повесть, которую рассказывают раковины, не настолько убедительна, как та, что рассказывают кости коней, – сказал Крис. – Лошади символичны и доступны».
А потом добавил: «Кони умеют рассказывать».
Конечно, их история, какой ее понимали Дарвин, Марш и Хаксли, точна только отчасти. Для этих исследователей изменение числа пальцев на ноге лошади представляло собой проявление очаровательной викторианской басни о совершенстве. С их точки зрения, лошади были «обязаны» иметь только один палец с копытом на ноге и челюсть, полную эффективно функционирующих жевательных коренных зубов, позволяющих им с увлечением вкушать сладкое сено.
Викторианцы воспринимали появление этих ранних лошадей как начало процесса, ведущего к современным величественным животным. По их мнению, кони сперва были мелкими и скромными созданиями, однако посредством миллионов лет «прогресса» превратились в наилучших из возможных лошадей, достойных жить в наилучшем из возможных миров рядом с наилучшими из всех возможных приматов – то есть рядом с нами. В глазах викторианцев эволюция была однонаправленным процессом. Конечный результат был предопределен. Никакие скитания по палеонтологическим лабиринтам, зачастую приводящие в тупики, не допускались.
Сегодня мы знаем, что история лошадей повествует нам не о пути к «совершенству», а о чудесных преобразованиях на такой изменчивой планете. В книге «Читая камни» (Reading the Rocks) геолог Марсия Бьернеруд излагает эту идею более формально: «Природные системы удивительно стабильны именно потому, что никакой режим не остается постоянным и ни одно равновесие не бывает абсолютным». Жизненная повесть лошадей понятна нам почти в той же мере, как и самому Чарльзу Дарвину, однако теперь это история процесса, а не прогресса: кони с острова Сейбл обзавелись «козлиными» ногами благодаря уникальным природным обстоятельствам, a не потому, что они движутся к какому-то конкретному, назначенному судьбой козлоподобию. Малышки-перволошади менялись не потому, что большим и быстрым живется лучше, а потому, что менялся весь окружавший их мир. Сталкивались тектонические плиты. Менялись океанские течения. Росли горы, а потом рассыпались в пыль. Мир становился жарче. Мир становился холоднее. Если бы обитавшие в подобном геологическом и метеорологическом пандемониуме ранние лошади не обладали способностью изменяться, они бы вымерли достаточно быстро.
Наша планета бурлит энергией. Для того чтобы выжить, жизненные формы должны эволюционировать в такт любым планетарным изменениям, и резким, и мягким – и нам, людям, отрадно сознавать, что у нас это получилось. Кони и люди выступают победителями. Это доказывает столь же выдающийся, сколь неожиданный пример, представленный на Поулкэт-Бенч.
Много лет Филипу Гингериху принадлежал рекорд открывателя самой древней конской окаменелости, обнаруженной на этой террасе. Однако не так давно другим палеонтологам удалось обнаружить окаменелость перволошади несколько более древней, чем найденная Гингерихом. Интересно, что это животное было не только старше, но и крупнее. Оно, по всей видимости, обитало в мире с чуть более пышной растительностью. С наступлением температурного максимума на Поулкэт-Бенч пришли засушливые времена. Флора начала меняться. Лошади отреагировали на изменения растительности тем, что сами стали меньше. Гингерих сообщал мне, что найденное им животное имело размеры сиамского кота. Недавно обнаруженная окаменелость соответствовала размерам небольшой собачки.[73]
Гингерих располагал и другими свидетельствами того, что кони эволюционировали, следуя за изменением своей среды обитания.[74] Нам известно, что лошади уже тогда обладали склонностью к коллективной жизни, так как их останки часто находятся группами, однако социальная организация их сообществ отчасти зависела от того, где они жили: в густом лесу или на более открытой местности. Гингерих обнаружил, что ископаемые останки животных, обитавших на менее залесенных территориях, демонстрируют явные различия в размерах между самцами и самками, причем самцы были процентов на пятнадцать крупнее самок. При исследовании их сородичей, обитавших в густых лесах, подобной закономерности обнаружено не было. Исходя из этого, Гингерих заключил, что кобылы, жившие на открытых местах, собирались группами и самцам приходилось драться за право жить рядом с такими коллективами. В условиях густого леса кобылы вели более уединенную и независимую жизнь, и самцам предоставлялась возможность продолжить род без драки. Поэтому величина тела не имела для них особого значения.
Но не все особенности допускают такую же гибкость, как другие. Кости ног лошадей с острова Сейбл смогли приспособиться достаточно быстро, однако похоже, что зубы обычно изменяются намного медленнее. Глядя на нынешних коней, мы восхищаемся их копытами, могучими шеями, их способностью вставать на задние ноги. Мы редко заглядываем им в зубы. А ведь именно зубы современных коней позволили им жить в таком множестве разнообразных мест, питаясь при этом утесником или усыпанной песком прибрежной травой. Вполне возможно, что перволошади не смогли бы долго протянуть на диете коней острова Сейбл.
Современные лошади обладают зубами, имеющими длину 10–30 сантиметров и так глубоко уходящими в челюсть, что немногие из нас имеют представление о том, насколько они длинны, мощны и эффективны. Еще когда я была ребенком, мне, как и многим моим друзьям-любителям коней, рассказывали, что зубы лошадей в буквальном смысле растут в течение всей их жизни.
На самом деле это не совсем так. Как и у людей, зубы лошадей полностью вырастают к тому времени, когда животные становятся взрослыми. Но если наши зубы полностью поднимаются над деснами в детстве и затем остаются на своем месте (если повезет) до конца жизни, зубы лошадей ведут себя иначе. Они поднимаются над лошадиными деснами гораздо медленнее, чем наши с вами. Этот процесс поднятия может продлиться до двадцати лет.
Медленное поднятие зубов – безусловное благо для животных, обитающих в природных условиях. Этот процесс позволяет им питаться травой вперемежку с песком на острове Сейбл или поедать колючий утесник, который также изнашивает зубы. Если бы зубы свободно живущих лошадей не поднимались постоянно над деснами, то скоро бы сносились, и лошади умерли бы, не оставив потомства.
У перволошадей не было таких огромных зубов, так как они не нуждались в них. Их изящные рыльца часто были обращены вверх, и передние зубы, верхние и нижние резцы, были приспособлены к ощипыванию побегов на концах веток. Этим примечательным щиплющим зубам суждено было изменяться по мере того, как менялась жизнь растений в течение следующих 56 млн лет.
Аналогичным образом у первых коней не было крупных жевательных зубов (моляров). В их существовании не было необходимости. Имеющиеся жевательные зубы были приспособлены скорее к раздавливанию свежих плодов, чем к измельчению их. Затем, когда кони начали питаться новыми видами растительности, их моляры коренным образом изменились. Эогиппусы не сумели бы прокормиться одной травой, однако тогда это не имело значения, поскольку лугов еще не существовало, а кроме того, было еще слишком сыро для того, чтобы травы – «специалисты по засухе», если воспользоваться определением автора из Саскачевана Кэндис Сэвидж, – процветали.
Тем не менее зубы ранних лошадей и ранних приматов представляли собой высокотехнологичные устройства для своего времени, а в их конструкциях можно было обнаружить определенные тонкости. Большинству полевых палеонтологов достаточно увидеть ископаемый зуб, для того чтобы понять, что он принадлежит млекопитающему, – причем будет ясна и его видовая принадлежность.
Некоторые специалисты способны сделать подобный вывод на основании фрагмента зуба. Я испытываю глубокое уважение к подобному мастерству, поскольку не обладаю нужным для этого терпением. Зубы дали повод для написания несчетного числа палеонтологических статей, живописующих едва ли не на микронном уровне бугорки и рытвины на коронке одного зуба.
Зачастую палеонтологу приходится работать только с зубами. Кости – вещь хрупкая, однако зубы, твердые, плотные, уже отчасти минерализованные, практически вечны. Поэтому случается так, что новые виды животных описываются чуть ли не на основании одного-единственного зуба. Тем не менее провести целый день за чтением стопки научных статей, описывающих размеры зубов различных млекопитающих, на мой взгляд, не слишком весело. Глаза человека (мои в частности) от подобного занятия стекленеют.
«Сами по себе зубы не кажутся мне слишком уж вдохновляющим объектом», – сказала я как-то раз Крису Норрису, чтобы вернуть разговор в прежнее русло и не показаться при этом грубой. Что-то подобное я однажды заявила в присутствии другого палеонтолога, который отреагировал с негодованием: «Эй, такого-то вы мнения о работе всей моей жизни!» На сей раз я постаралась проявить больше такта.
Норрис, к счастью, со мной согласился, признав, что изучение ископаемых зубов увлекло его далеко не сразу. Однако, пояснил он, в одном зубе может содержаться больше информации, чем можно предположить.
Это меня удивило. Мне как-то в голову не приходило, что зуб может служить источником информации. Еще один палеонтолог, Майк Ворхис, пояснил мне ситуацию следующими словами: «Зубы имеют память».
Оказывается, зубы могут предоставить самую разнообразную информацию о питании и образе жизни животного. По сравнению с зубами большинства рептилий зубы нашей родни, млекопитающих, устроены сверхсложно. Зубы большинства рептилий только режут. Мы, млекопитающие, жуем – даже измельчаем пищу, – что позволяет есть такие твердые объекты, как сырая морковь, что, в свою очередь, расширяет доступный нам пищевой рацион. Мы приобрели способность извлекать быстрые сахара из таких продуктов, как созревшие фрукты (благодаря тебе, Меловая наземная революция), что, в свой черед, помогло увеличить размеры мозга. Зубы коней с Поулкэт-Бенч и приматов свидетельствуют о том, что эту любовь к быстрой энергии мы начали проявлять уже не менее 56 млн лет назад.
Так началась эта гонка, как ее окрестили палеонтологи, то есть состязание между млекопитающими и растениями.
«То есть, – спросила я Норриса, – такие зубы возникли сразу, как только понадобились?»
«Их появление обусловлено самой природой млекопитающих», – ответил Норрис. Быть теплокровным обременительно в плане энергии. Нам приходится извлекать максимум из каждого съеденного куска. Ученый продолжил: «Млекопитающим приходится крайне эффективно осуществлять пищеварение. Для нас эта эффективность начинается во рту. Мы не крокодилы, которые разом проглатывают свою добычу. Млекопитающие жуют, причем многие жуют растения».
Итак, дело сводится к максиме: «Не трать попусту, и нужды не будет».
Растения, конечно, в результате начали применять собственные стратегии выживания. Это объясняет, почему некоторые из них, к примеру утесник,[75] изобрели весьма эффективные оборонительные методики.
«Бегство как способ спасения растениям недоступно, – сказал Норрис, – поэтому им приходится защищаться. Для растения жизненно важно не позволить едоку отъесть от него больше чем несколько листиков. Рот млекопитающего – передовая линия этой битвы».
Итак, конфликт развивается между зубами и растением, и эволюция вечно повышает ставку. Поскольку растения используют все более агрессивные защитные стратегии, не все животные могут справиться с ними. Кони же всегда отвечали на вызов каждого нового дня и остаются до сих пор победителями.
Лошади, как показывает нам наука, – превосходные мастера приспособления.
Ученые подозревают, что ранние лошади и приматы жили по всей Северной Америке, однако существует не слишком много месторождений окаменелостей, способных доказать это. Возможно, их больше, но их трудно найти, a если они и обнаруживаются, то провести на них раскопки оказывается очень сложно. Палеонтолог Крис Берд (еще один выпускник Поулкэт-Бенч) убедился в этом еще в молодости на собственном опыте. При работе с коллекцией Йеля ему случилось обнаружить окаменелость раннего примата в ящике с маркировкой: «Миссисипи». По его мнению, это была явная ошибка.
«Я прекрасно знал, что на территории штата Миссисипи никаких эоценовых приматов обнаружено не было», – сказал Берд. Так написано во всех учебниках. Но «ищите и обрящете», подумал он, приступая к поискам. В итоге Крис Берд нашел эоценового примата и ископаемые останки лошадей в штате Миссисипи – в жутком для раскопок месте, сочетавшем в себе ядовитый плющ, липкие сосны, змей, грязь и заросли кудзу с жарой и сыростью.
«Худшее место для поиска окаменелостей трудно придумать, – сказал Берд и добавил: – Это был тяжелейший труд. Нам приходилось снимать все находящиеся сверху слои, чтобы добраться до нужных, после чего мы обращались к мелким инструментам».
Слушая Берда, я начала видеть в современном Поулкэт-Бенч некое подобие курорта.
«Нам приходилось просеивать породу, – пояснил он. – Сторонний наблюдатель решил бы, что мы моем золото. Итак, берем осадочный, содержащий окаменелости слой. Просеиваем его через мелкий грохот,[76] задерживающий все, что крупнее его ячеек. Этот просеянный концентрат или остаток отправляется в нашу музейную лабораторию. Далее техники под микроскопом отсеивают зерна от плевел».
Он занимался этим весной и осенью в течение девяти лет, последовавших за первым годом, когда, наконец, его посетила удача: ученый нашел фрагмент конского зуба, а также кость раннего примата.
«С моей точки зрения, находка оказалась невероятно интересной, – продолжал рассказывать Берд. – Останки лошади были невероятно фрагментарными. Всего лишь часть нижнего моляра. Если бы я показал ее вам, она не произвела бы на вас никакого впечатления. Тем не менее она была “полностью диагностичной”». Интересное определение.
Я спросила: «Что именно означают эти два слова “полностью диагностичной”?»
«Ваши зубы, как это и положено млекопитающему, обладают чрезвычайно сложной топографией, полной выступов и впадин. Эта топография своя для каждого из видов млекопитающих – словно отпечаток пальцев, оставленный на месте преступления».
Итак, мы, приматы, в начале эоцена сопровождали коней на территории нынешнего штата Миссисипи – примерно в то же самое время, когда другие приматы наслаждались жизнью в близком соседстве с лошадьми в сыром и буйном Вайоминге. Лошади представляются нам обитателями травяных равнин, однако, как и наши предки десятки миллионов лет назад, они умели ценить жизнь в тропиках. Размышляя на эту тему, я поняла, что вольные кони, которых я видела во влажных местностях в различных уголках мира, занимаются тем, что делали всегда. Жизнь на островах посреди моря дается им не труднее, чем нам самим.
3
Сад Эдема появляется и исчезает
Живущие ныне лошади, обладающие жевательными зубами с высокой коронкой и монолитными копытами, не слишком похожи на первых лошадей, созданий величиной с пуделя, обладавших четырьмя пальцами и зубами с низкой бугристой коронкой.
МАЙКЛ НОВАЧЕК Динозавры пылающих утесов[77]
Ветер – неаккуратный работник. Он груб, как кирка. И хотя ветры американского Запада открыли нам множество ископаемых, более тонкие особенности организма животного обычно теряются.
Если, например, ранние кони обладали усами подобно гаррано, которых изучала Лаура Лагос, усы эти не сохранятся на Поулкэт-Бенч. Мы можем найти зубы. Иногда мы можем найти кости. Однако более нежные ткани сохраняются намного реже. Об этом заботится Вайоминг.
Подобное отсутствие мелких подробностей огорчает. В Вайоминге мы не можем практически ничего узнать об образе жизни этих ранних лошадей. Как они жили? Сколько жеребят приносили кобылы? Чем питались? Твердо установленные факты, как и находки мягких тканей организмов, прискорбно редки. Мы подозреваем, что кони Вайоминга питались плодами, поскольку на это указывает форма их челюстного аппарата. Мы подозреваем, однако не имеем никаких прямых подтверждений своим предположениям.
Впрочем, на земном шаре существует одно особое место, где секреты эоценовой жизни открываются с завораживающей ясностью. Даже такие не посвященные в тайны науки люди, как я, могут понять всю невероятную значимость находящихся там окаменелостей. Стоя на небольшой обзорной платформе на склоне холма несколько южнее немецкого города Франкфурта-на-Майне, я смотрела вниз на огромное углубление в земной поверхности. Я находилась над еще одним местонахождением ископаемых останков ранних лошадей и ранних приматов. Моим экскурсоводом был палеонтолог Стефан Шааль.
Это место называется карьер Мессель[78] и восходит к эоценовой эпохе, как и Поулкэт-Бенч. Но если американское местонахождение лежит в продутом ветром и иссушенном краю, германское почиет в безмятежной и зеленой местности, почти такой же, какая была здесь 47 млн лет назад. Сокровища карьера благополучно хранятся между слоями сырой, похожей на глину субстанции.
Мы с Шаалем стояли над карьером и беседовали, а легкий ветерок шелестел в листве многочисленных деревьев и кустарников. В начале осени здесь было прохладно, но не холодно. Свежий воздух бодрил. Со своего места я видела слегка заболоченную, изобилующую растительностью местность – настолько отличающуюся от современного состояния Поулкэт-Бенч, насколько это вообще можно было представить.
Внизу, по словам Шааля, лежат фрагменты сотен, быть может даже тысяч древних млекопитающих, в том числе перволошадей и ранних приматов. Здесь погребены также останки сотен тысяч (если не миллионов) насекомых эоцена вместе с не поддающимся подсчету числом образцов растительности.
В этом месте, входящем в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, жизнь эоцена представлена во всем цвете, славе и изобилии. Так сказать, от супа до компота. Древняя экосистема в такой полноте и сохранности больше почти нигде в мире не уцелела.
47 млн лет назад животные, жившие на месте карьера Мессель, после своей смерти погружались в слой анаэробной почвы на дне глубоководного озера. В среде, лишенной кислорода и дышащих им бактерий, разложения мягких тканей животных не происходило, поэтому тела не разрушались. Плоть, перья, связки, сухожилия и скелеты в целости и сохранности год за годом, век за веком покоились в мягкой среде. Осаждавшиеся из озерной воды слои детрита снова и снова укрывали их, и наконец они оказались погребенными многослойным пирогом из ультратонких перемежающихся слоев: слой ила – слой водорослей, слой ила – слой водорослей и так далее (см. рис. 4).
Разбирать поодиночке эти слои – без преувеличения все равно что листать Книгу жизни эоцена. Открывая ее, переходя от слоя к слою, мы без особого труда убеждаемся в том, что здешний мир 47 млн лет назад был во многом аналогичен миру Поулкэт-Бенч. Хотя миновало почти 10 млн лет, климат по-прежнему оставался влажным и тропическим. Впрочем, температура особых высот не достигала. Тот, напомнивший мне на графике Эйфелеву башню температурный максимум, с которого начался эоцен, просуществовал всего лишь несколько сот тысяч лет. Температура на планете, резко повысившаяся в начале эоцена, столь же резко упала. Потом она начала возрастать, но уже не столь быстро. График зависимости ее от времени на этот раз напоминает пологий холм, а не пик.
Рис. 4. Ископаемые останки из карьера Мессель в 35 километрах от Франкфурта-на-Майне, Германия
© Krolli / shutterstock.com
Причина этого постоянного подъема также остается неясной. Результаты исследования глубоководной океанской коры указывают на насыщенность атмосферы планеты парниковыми газами[79]. Именно это привело к медленному повышению температуры; словом, как понимают ученые, во всем виноваты газы, однако никто не знает, откуда они взялись.
В любом случае, к тому времени, когда трупы лошадей, приматов и прочих тварей оказывались в мессельской глине, температура на планете вновь вернулась к высоким показателям раннего эоцена. На всей Земле не было льда: ни в полярных шапках, ни на горных вершинах. Уровень воды в море был очень – и даже очень – высоким, настолько, что большая часть того, что мы называем теперь Европой, находилась под соленой водой. А над поверхностью моря поднимались острова, и плыть до Азии из карьера Мессель было далековато.
Тем не менее эти изолированные европейские острова были богаты и изобильны. В слоях Месселя, как засушенные в книге на память цветочки, кони и приматы покоятся в окружении целого ботанического и зоологического сада, причем некоторые из его обитателей до сих пор соседствуют с нами на планете.
Мы с Шаалем спустились по крутому склону к пруду и болоту, возле которых команда палеонтологов аккуратно разбирала слои ила и водорослей. Проводить здесь раскопки – одно удовольствие: немедленная радость в результате очередного открытия, никакого тяжелого труда, нет опасности получить солнечный удар, не нужно протискиваться сквозь заросли кудзу и ядовитого плюща, но самое главное, наверное, заключается в том, что здесь не нужно трудиться десять лет, чтобы найти один-единственный зуб.
Когда меня пригласили попробовать разобрать материал самой, я обнаружила, что подчас могу вскрывать слои ногтем – без какого-нибудь там молотка, зубила или лопаты. Это дело требует некоторой аккуратности и осторожности, о чем не следует забывать, потому что листы каменной рукописи чрезвычайно тонки и ломки. Меня не заставляли надевать белые перчатки, как случается иногда в научных библиотеках, однако ощущение было очень похожим.
Охота за окаменелостями в Месселе, по крайней мере в начальной стадии, кое-чем напоминает труды в каменоломне: сначала вырубают крупный, больше метра в длину и ширину, шмат породы, так сказать книжный том, содержащий в себе окаменелости, а затем доставляют его из раскопа на место работы палеонтологов. Потом начинается более легкая и увлекательная послойная зачистка.
Я спустилась от камералки в саму «каменоломню», чтобы пощупать горную породу, столько веков хранившую здесь окаменелости.
«Осторожнее», – предостерег меня Шааль. Начался сильный дождь. Тропа, спускавшаяся в карьер, стала скользкой. Недолго и упасть.
Я кивнула, но тем не менее оставила его предупреждение без внимания, потому что была слишком взволнована.
Конечно же я упала, но вцепилась пальцами в «камень», вовсе не твердый, даже чуть податливый. Здешнюю горную породу невозможно назвать камнем, хотя некоторые исследователи и пользуются этим термином. Мой камень был гладок и мягок на ощупь, как необожженная гончарная глина.
Сохранность окаменелостей здесь настолько великолепна, что можно видеть даже волоски в конском хвосте или зубы жеребенка, еще находящегося в утробе матери. Заметны даже цвета на крылышках насекомых – образованные не красочным пигментом, а бороздками, подобными записи на компакт-диске. Ископаемый жук и сейчас отливает той самой металлической синевой, которой сверкал, как драгоценный камень, в эоценовом лесу. На окаменелых птичьих перьях видны не только стержень и опахало, но даже крошечные крючочки на концах бородок пера. Отлично сохранились чешуи огромного крокодила. Полупереваренные мотыльки обнаружены в желудках летучих мышей, а рыбьи кости – в животе предка современного ежа. Отдельные зернышки пыльцы, как и прежде, различимы в пыльниках цветов. Цветок древней водяной лилии выглядит в точности как современный. Тонкие косточки внутреннего уха древних летучих мышей четко указывают на то, что уже тогда эти зверьки располагали эффективными средствами эхолокации. На корнях некоторых растений заметны отдельные волоски.
Приматы Поулкэт-Бенч сопровождали лошадей. Аналогичным образом приматы присутствуют и в Месселе. Одна из окаменелостей, которую открывшие ее исследователи назвали Идой (см. рис. 5)[80], имела полный скелет и обладала так называемой Hautschatten – «кожной тенью» по-немецки, сохранившимся силуэтом кожного покрова. Мы видим полный контур ее туловища, видим, как кожа и мышцы облегали ее кости. Нам известно, что ее длинный хвост был покрыт шерстью, потому что на нем до сих пор сохранились отдельные волосинки. Ида невелика, тело ее не длиннее 30 сантиметров. Она еще имела молочные зубы. Мы видим также, что к моменту смерти в ее челюсти уже формировались взрослые зубы. В последний раз она поела листьев и фруктов, которые мы видим частично переваренными в ее желудке. Ее ладони свело трупное окоченение. Как и у нас, у нее было пять пальцев. Как и у нас, форма мелких косточек на концах ее пальцев свидетельствует о том, что их защищали ногти, а не когти или копыта. Ида настолько хорошо сохранилась, что ученые даже заметили, что она ломала запястье и перелом этот успел зажить. Ида, она же Darwinius masillae, какое-то время находилась в центре дискуссии, так как некоторые палеонтологи предполагали, что она непосредственно связана с той линией приматов, которая ведет к виду Homo sapiens. Современная точка зрения утверждает, что она уже отделилась от этой линии приматов, но буквально «только что». Различия между линией Иды и нашей собственной в тот момент были минимальны.
Рис. 5. Дарвиний (Darwinius masillae), получивший имя Ида. Карьер Мессель, Германия
© to227 / shutterstock.com
К числу спутников Иды относятся несколько лошадей, в том числе лошадь с четырьмя пальцами на передней ноге и тремя на задней, сильно напоминающая ранних коней Поулкэт-Бенч. Итак, маленькие перволошадки в эоцене были широко распространены по всему Северному полушарию.
В Вайоминге исследователям редко удается найти полные скелеты. Мессель же способен дать ответ на вопрос, каким образом лошади проводили первые «дни» своей жизни: мы видим животных зафиксированными в подробнейших деталях, словно бы на рентгеновском снимке. Детали, которые нам известны об окаменелых лошадях, сравнимы с деталями, открытыми нам Идой. Мы знаем, что ела Ида перед смертью, а изучение внутренностей одной из лошади показало, что животное умерло с виноградными косточками в кишечнике. В 1975 году немецкий палеонтолог Йенс Францен раскопал в Месселе полный костяк молодого самцa еврогиппуса[81], «кожная тень» которого подробно очерчивала мясистые части тела. В желудке животного находилась частично переваренная растительность. Позже была найдена еще одна превосходно сохранившаяся особь еврогиппуса. Одна из окаменелостей сохранила отпечаток кожи внешнего, похожего на оленье, уха маленькой лошадки, еще не превратившегося в заостренное ухо современной лошади; другая окаменелость – облик короткого, уже покрытого небольшими грубыми волосками хвоста, пока еще не способного эффективно бороться с оводами.
Кони в Месселе созревали быстро. Ученым удалось обнаружить примерно трехмесячного жеребенка (они могут судить о возрасте по состоянию костей), величиной примерно в две трети тела взрослого. Некоторые из беременных самок сами еще настолько молоды, что у них сохранились молочные зубы. Размножение в столь раннем возрасте несвойственно современным коням, однако в те времена, по мнению Францена, это было нормальным положением дел. Так как эти лошади жили самое большее несколько лет, эта способность к раннему размножению, очевидно, и стала причиной их исключительного распространения. Мессель открывает перед нами и другие тайны строения протолошадей, которые сделали их организм чрезвычайно гибким и стойким. Одна из таких особенностей – как ни странно, уникальная пищеварительная система лошади.
Ухаживая за Уиспером, я обнаружила, что мой конь обладает непонятными на первый взгляд пищевыми предпочтениями. В тех конюшнях, в которых я бывала ребенком, лошадям давали немного зерна и клок сена по утрам, а по вечерам повторяли тот же рацион. Этого вроде было достаточно. Однако Уиспер показал мне, что обладает более изысканным вкусом: сначала он отправлялся в один угол пастбища, чтобы перехватить какую-то особую травку, а потом – в другие места перекусить чем-нибудь еще. Он не привередничал и никогда не отказывался от хорошей еды. Однако, оказываясь на собственном попечении, демонстрировал разнообразие вкусов. Перекусы в течение всего дня типичны для самостоятельно живущих лошадей. Это отличается от способа питания коров.
Мессель демонстрирует нам, что различие в стиле кормления лошадей и коров уходит корнями в древние времена. Подобные коровам парнокопытные животные являются жвачными, заново и заново переваривающими пищу в последовательности желудков. Вот почему о коровах говорят, что они «жуют жвачку» и примерно половину времени проводят на пастбище за этим занятием, а не за поеданием свежей травы. Коровы медленно перерабатывают пищу.
Другое дело лошади. Они не так долго переваривают пищу, зато много времени тратят на собственно выпас. Их постоянно занятые жевательные зубы и скоростная пищеварительная система быстро извлекают ту энергию, которая заключена в пище. Желудок человека и четыре желудка коровы играют главную роль, когда дело доходит до переваривания еды. Однако у лошади желудок просто представляет собой одну из остановок на пути пищи – причем не обязательно самую важную – по пищеварительному тракту. Скормленная коню морковка переваривается во рту, в желудке, в кишечнике и в слепой кишке.
Слепая кишка сыграла важную роль в эволюции лошади и как раз определила то, что ее пищевые привычки настолько разнообразны. Слепая кишка представляет собой крупный, очень крупный объект и содержит бактерии, разлагающие даже такой фураж, как утесник, на компоненты, которые может использовать организм коня. Именно это позволило лошадям выживать на высоковолокнистой и низкобелковой диете. Это объясняет, почему лошадям в течение 56 млн лет успешнее, чем другим животным, удавалось питаться возникающими новыми видами растений.
Слепая кишка есть у многих млекопитающих, в том числе и у нас. Она представляет собой мешочек, расположенный между тонким и толстым кишечником. Однако длина слепой кишки у коня достигает 1 метра. Без этого органа, представляющего собой этакий бродильный чан, лошади не смогли бы обитать в столь отличающихся друг от друга экосистемах и питаться настолько разными растениями. Пищеварительный тракт лошади представляет собой некое подобие конвейера, на который пища поступает с одной стороны, на сравнительно высокой скорости проходит ленту и выходит с другой стороны.
В слепой кишке располагаются колонии бактерий, простейших и грибов, совместными усилиями разлагающих целлюлозу. Подобные помогающие пищеварению сообщества различны у тех или иных лошадей, более того, они не сохраняют постоянство состава в течение всей жизни животного. Напротив, состав подобной микрофлоры меняется в соответствии с диетой конкретной лошади. Однако изменения должны происходить постепенно, за несколько дней. Кони, слишком быстро меняющие режим питания, могут опасно заболеть и даже умереть. Вот почему нельзя чересчур надолго выпускать лошадь на весеннюю травку. По причине внезапного и интенсивного притока питательных веществ из богатого ими корма нарушается равновесие в микробном наполнении слепой кишки. Подчас проблемы может вызвать даже изменение качества потребляемого животным сена, если оно происходит слишком резко.
Владельцы конюшен часто считают этот факт досадным, однако благодаря Месселю нам известно, что увеличение слепой кишки как решение проблемы пищеварения обладает давней историей, корнями уходящей в середину эоцена. Карьер Мессель доказывает, что лошади могут выжить на таком фураже, на котором другие животные протянут ноги.
Пока мы с Шаалем наблюдали за работой его коллектива, за какую-то пару часов я стала свидетельницей обнаружения нескольких полных экземпляров. Один из рабочих, расколов камень, нашел в нем насекомое с двумя длинными и изящными усиками, каждый из которых заканчивался небольшой сферой. Другой вскрыл породу, достал окаменелую рыбу, посмотрел на нее и выбросил в отвал.
«Эй!» – инстинктивно, забыв о хороших манерах, промолвила я. Как можно выбрасывать столь драгоценные находки?
Шааль пояснил, что франкфуртский Музей естественной истории Зенкенберга, хранящий мессельские находки, уже обладает таким количеством ископаемых рыб, что новые ему уже не нужны. Карьер настолько богат находками, что проблему здесь представляет не поиск, а обработка и хранение.
В этом я убедилась, когда Шааль отвез меня в музей, чтобы показать одну из своих выдающихся находок. Войдя в помещение на верхнем этаже музейного здания, он выдвинул один из ящиков шкафа, в которых хранятся экспонаты. В этом ящике находилась крошечная кобылка с еще более крошечным, не до конца сформировавшимся жеребенком в чреве – с прорезывающимися зубами. Детеныш лежал в матке в положении «назад», так же, как это происходит и сейчас.
Выдвинув другой ящик, Шааль достал из него еще одну окаменелую лошадь, выглядевшую необычно. Он объяснил мне, что часть хребта животного была уничтожена ковшом экскаватора, рывшего в Месселе яму для свалки мусора.
Я сразу насторожилась: «И как это могло произойти?»
В 1980-х годах правительство Германии решило превратить карьер Мессель, тогда еще не признанный объектом Всемирного наследия, в свалку мусора общенационального масштаба. С точки зрения многих правительственных чиновников, большая пустая яма идеальным образом подходила для размещения отходов жизнедеятельности современного мира – пластиковых пакетов и бутылок.
В оправдание можно сказать, что в те времена Мессель не производил впечатления места проведения масштабных исследований. Так уж считалось. Местные жители столетиями добывали в этом карьере уголь. Им было известно, что иногда здесь можно между слоев глины найти останки странных животных, более не существующих на Земле, однако эти ископаемые древности не могли оказаться приоритетом в те годы, когда Германия, подобно Британии и Соединенным Штатам, корчилась в приступе индустриализации и нуждалась во всех источниках энергии, которые могла использовать.
Что еще хуже, сохранение ископаемых оказалось нелегким делом. Та самая липкая и влажная глина, на которой я поскользнулась и которая сохранила контуры тел древних животных, высыхала и превращалась в пыль едва ли не сразу, как только оказывалась на воздухе. Окаменелости после этого рассыпались. С горькой иронией происходящее сравнивали с сюжетом греческого мифа об Орфее и Эвридике: один взгляд на окаменелости, извлеченные на дневной свет, уничтожал их.
Без адекватной методики обработки образцов не было особого смысла добывать их, однако уже в XIX веке некоторые исследователи осознавали, что данное месторождение содержит важные для науки окаменелости, и постарались, чтобы их заметили. В 1875 году некий Рудольф Людвиг обнаружил в Месселе ископаемого крокодила, поместив таким образом карьер на палеонтологическую карту. Последовавшие исследования подтвердили значение местонахождения, однако случились сперва Первая, а потом Вторая мировые войны. Карьер выдавал на-гора уголь до тех пор, пока бомбы союзников не уничтожили его инфраструктуру. После войны карьер не был открыт заново, и чиновники получили в свое распоряжение бесполезную дыру в земле.
Без методики, позволявшей сохранять окаменелости, которые к тому времени признали важными, будущего у местонахождения не было. Наконец, исследователям удалось раздобыть синтетический каучук, который при использовании правильной технологии позволил решить проблему. Нанесенный сразу после того, как ископаемое извлекали из земли, каучук удерживал кости на месте.
Пользуясь словами Шааля, теперь искатели окаменелостей могли с полным правом считать Мессель своим «Эльдорадо». Тем не менее план преобразования карьера в свалку неторопливо реализовывался. Экскаваторы начали снимать слои глины. Ученые старались опередить их, чтобы сохранить все, что получится спасти. Шааль, тогда еще молодой исследователь, находился возле одного из экскаваторов, когда ковш машины зацепил скелет. Окаменелость оказалась полным скелетом животного (точнее, оказалась бы полной, если бы часть хребта не разрушил ковш). Это была та самая находка, которую Шааль вынул для меня из музейного ящика.
Это драматическое событие привлекло внимание к карьеру. Публика все больше и больше узнавала о значимости этого места, ширились протесты, и в 1990 году правительство отказалось от неудачного плана. По прошествии еще пяти лет Мессель был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из окаменелых лошадиных скелетов даже был изображен на почтовой марке.
Мессель сейчас сделался одним из наиболее важных Lagerstätten. Lagerstätte в единственном числе – это одно из тех длинных немецких слов, которые передаются на других языках целым множеством. Оно переводится примерно следующим образом: «место, где ископаемые настолько невероятно сохранны, что ученые никогда не узнают о них всего, что возможно было бы узнать».
* * *
Общество исследователей природы имени И. К. Зенкенберга было создано в 1817 году по инициативе Иоганна Вольфганга фон Гёте, одного из первых пропагандистов науки в обществе. До этого времени собирателями являлись состоятельные люди, хранившие естественно-исторические сокровища в своих домах, где их могли увидеть только редкие гости. Эти дорогостоящие для приобретения коллекции представляли собой знак статуса. Первые коллекционеры хранили чучела животных, привезенных со всего мира, содержали личные оранжереи, в которых выращивали необычные или даже причудливые растения, собирали коллекции минералов, кораллов, любые диковины, относящиеся к миру природы и способные привлечь к себе внимание богатого человека. Считалось, что приглашенный к обеду обязан лицезреть коллекцию хозяина (и выразить восхищение ею), a заодно впечатлиться глобальным масштабом его интересов. Гёте верил в демократизацию науки – и в то, что коллекции эти должны быть доступны всем. Многие граждане Франкфурта с ним соглашались.
В наше время Музей естественной истории[82] остается во многом таким, каким был в те времена, витрины его наполнены раковинами, чучелами птиц и кораллами, выставленными на обозрение посетителей. Информации предлагается очень немного. Однако на цокольном этаже музея находится современная выставка, полная сведений о Месселе и его лошадях.
Находясь там, я посмотрела короткий фильм, комментировавший представление одного из ученых о том, как передвигались ранние кони. В этом фильме ископаемые кости восстают со своего глиняного ложа возрастом 47 млн лет и собираются в полный скелет перволошади. Крохотная бедолага бредет вперед неспешной трусцой, которую абсолютно невозможно отнести к современным конским аллюрам. Это уже не совсем шаг, но еще далеко не рысь. Это нечто такое, чего современные лошади продемонстрировать не могут.
Заинтригованная, я обратилась к ученому, стоявшему за созданием этого фильма, – Мартину Фишеру из Университета Фридриха Шиллера в Йене, в бывшей Восточной Германии. Этот биолог-эволюционист, специализирующийся по локомоции животных, создал упомянутый ролик более десяти лет назад.
«Если бы я сегодня занялся такой работой, то кое-что изменил бы: например, опустил бы тело между конечностями, – сказал он. – Этот конь передвигался скорее как лисица».
Я сказала, что с моей точки зрения это животное ползет.
«Оно должно даже более явно ползать, потому что эта несчастная скотинка не была еще лошадью и даже представления не имела о том, что ей предстоит стать лошадью, – заявил он. – У всех мелких млекопитающих такого размера изогнутая спина».
Я немедленно представила себе своего бордер-колли и его подчеркнуто гибкую спину, которой он способен вилять не только в направлении вверх-вниз, но и влево-вправо. Неужели первые лошади были именно такими?
В какой-то мере, подтвердил Мартин Фишер, и продолжил: «Прямая спина, которую вы видите у лошадей, – очень позднее эволюционное приобретение. Если посмотреть на галопирующую лошадь, нетрудно заметить, что основное движение осуществляется нижним отделом позвоночника, последними семью позвонками. Это результат очень поздней стадии эволюции, и животному нужно было стать достаточно крупным, чтобы галопировать ногами».
Мелкие животные, по его словам, не способны на подобный аллюр.
Интересное наблюдение. Конечно, верно, что галопирующее движение крупными лошадьми осуществляется глаже, чем мелкими, но я не представляла себе галоп как функцию роста. Этот факт помог мне понять, почему у меня болит спина даже теперь, когда я вспоминаю о некоторых пони, на которых ездила в детстве.
«На самом деле лошадь – единственное животное со стабильной спиной, поэтому мы и можем ездить на ней», – продолжил Фишер.
Весьма удобно для нас, людей.
«Представим себе корову, – предложил он. – Спина ее настолько подвижна, что удержаться на ней невозможно. Именно поэтому ваши американские ковбои могут удержаться на бычках только пять секунд».
Я задумалась. В самом деле, усидеть на корове, верблюде и даже слоне можно, однако Фишер прав в том смысле, что это будет не слишком удобно. На корове мне ездить не приходилось, однако на верблюдах и слонах я каталась, всякий раз ощущая, что до моего коня им далеко.
А потом я спросила ученого о том, каким он представляет себе бег этих маленьких перволошадей.
Вот что я услышала: «Попробуйте представить себе лису или собаку такого же размера, и вы получите очень точное представление об их движениях. Они могли галопировать, но по-своему, не так, как современная лошадь. Они галопировали спиной».
Я пояснила, что мне всегда было жаль этих лошадок, передвигавшихся таким нескладным образом.
«В вас говорит лошадецентризм, – ответил он. – Вам придется избавиться от него, чтобы понять, как передвигались ранние лошади. Аллюр современных лошадей определяется ногами. Конечности ранних лошадей преобладали в движении шагом и рысью. Но чтобы двигаться быстрее, им нужно было использовать позвоночник».
Теперь стало понятно, почему Марджери Кумбс сказала мне, что первые лошади просто бегали. Знакомство с галопом, каким мы его знаем, еще предстояло им в будущем.
Современные кони, как объяснил мне Фишер, обладают «дорсально-стабильной локомоцией». Под этими словами он подразумевал, что по сравнению с прочими существующими ныне млекопитающими современные лошади имеют твердую, но гибкую спину, позволяющую наезднику найти надежную, хорошо сбалансированную, легкодостижимую позу.
«Очень странная особенность, присущая именно коням, – сказал Фишер. – Так сказать, приглашение к верховой езде».
Современные лошади так сложены, добавил он, что самой уравновешенной точкой при галопе является холка – место, где шея переходит в спину. На это я заметила, что, когда была в Монголии, видела, как всадники встают на галопе в стременах над самой холкой. Монголы объяснили мне, что такая поза высвобождает ноги коня и меньше утомляет его. Современным жокеям не сразу удалось осознать это. Участники скачек с препятствиями долго сидели у лошади на пояснице, в то время как монголы уже много веков назад поняли, как нужно сидеть на коне в дальней поездке.
«Монголы ездят на холке лошади, так как здесь самое стабильное место. Сидя у коня на плечах, вы находитесь над центром тяжести животного. Здесь положение тела наездника наиболее уравновешенно, и он совершает минимум движений во все стороны», – пояснил Фишер.
Мне тут же вспомнился рисунок Хаксли, изображавший эохомо верхом на эогиппусе: езда на лошади во времена эоцена оказалась бы нелегким предприятием. Маленький примат Хаксли, скорее всего, кувырнулся бы через голову лошади. До появления скелета животного, позволяющего всаднику принимать элегантные позы и заниматься современной выездкой, оставалось примерно 40 млн лет.
Однако задолго до этого события еще одно всемирное изменение температуры и растительности поставило маленьких лошадок на самую грань вымирания в масштабах планеты. Всю раннюю и среднюю стадию эоцена на земле в разных местах обитали практически одинаковые виды лошадей. Лошади эволюционировали, однако процесс этот происходил в консервативной и осторожной манере. И пока кони Месселя наслаждались жизнью на своем острове, лошади, обитавшие в Северной Америке, стали изменяться.
В нескольких сотнях километров от Поулкэт-Бенч в местечке под названием Гризли-Бьют была обнаружена лошадь с более длинными ногами, появившаяся всего через несколько миллионов лет после первых лошадей Поулкэт-Бенч. Эта лошадь, которой ученые дали имя орогиппус (Orohippus), все еще имела четыре пальца на передней ноге и мелкие зубки, которыми удобно давить виноградины. Однако у орогиппуса, безусловно, возникли бы сложности с переходом на новую пищу. Ничего похожего на утесник он есть бы не стал.
Марш с присущей викторианцам любовью к прогрессу воспринимал эту чуть более позднюю и крупную лошадь как существо, превосходящее первых лошадей, как «новую и усовершенствованную модель», если угодно. Теперь мы знаем, что орогиппуса не стоит безоговорочно считать «лучшим». Это животное просто было приспособлено к другим природным условиям. По сути дела, большую часть эоцена кони в своем развитии придерживались одной и той же конструкции организма.
Буквально только что они казались одним из великих успехов эволюции.
И вдруг перестали.
Распространенные по всему миру лошади едва не вымерли.
* * *
Через несколько месяцев после моего визита в Мессель и Зенкенберг я наблюдала за тем, как палеонтолог Мэтью Мильбахлер отпирал и выдвигал небольшой ящичек, спрятанный в дальнем уголке просторного зала c останками лошадей в Американском музее естественной истории, расположенном в Нью-Йорке. В начале XX века лошадь имела такое значение в жизни человека, что на эмблеме музея в стиле истинного партнерства соседствовали скелет человека и вставший на дыбы лошадиный скелет (см. рис. 6). Скелет человека простирал руки к небу, передние ноги коня были вздернуты наверх, что делало параллель совершенно очевидной.
Рис. 6.Изображение на титульной странице номера американского журнала Scientific American от 29 июля 1905 года, послужившее образцом для прежней эмблемы Американского музея естественной истории. Внизу иллюстрации была надпись: «Выставленные для сравнения скелеты лошади и человека. Человек сохранил больше примитивных черт, свойственных млекопитающим. Лошадь более специализирована в строении своих конечностей и жевательного аппарата»
«Посмотрите по сторонам. Шкафы здесь полны конских костей», – сказал Мильбахлер, указывая рукой на хранилища лошадиных костей, содержащие в себе свидетельства всей конской эволюции от времен Поулкэт-бенч вплоть до ледникового периода. Кости занимали все это внушительное помещение – от одного конца до другого.
«Вот посмотрите на это, – сказал он, показывая на бесконечные ряды шкафов с окаменелостями, на которых стояли другие шкафы с окаменелостями. – А теперь вот на это. – Он показал мне несколько жалких мелких косточек, оказавшихся в уголке только что выдвинутого им ящика. – То есть весь ход эволюции лошадей в середине эоценового периода вмещается в один. Почти. Пустой. Шкаф. – На ящике было написано: Epihippus. – В этом месте путь эволюции лошадей пролегал сквозь огромное бутылочное горлышко, – пояснил Мильбахлер. – Перед вами свидетельства его существования».
В ящике не было почти ничего: несколько небольших челюстей и различных фрагментов разных костей и зубов. Специалисты музея собирали свою коллекцию конских костей примерно 150 лет и за это время занесли в каталоги десятки тысяч конских окаменелостей. Наверное, еще больше так и лежит в своих гипсовых корсетах, ожидая человека, который найдет время и силы, чтобы вскрыть упаковки и заняться заключенными в них сокровищами. Окаменелостей много, а вот времени на них…
И все же среди всех собранных костей почти нет принадлежащих эпигиппусу, таинственной лошади, которая жила в середине – конце эоцена и могла не просто положить конец первому этапу существования лошадей, но и вообще обозначить конец бытия лошади как вида.
Окаменелостей эпигиппусов чрезвычайно мало, особенно в сравнении с ископаемыми костями раннеэоценовых лошадей. Взяв в руки зуб длиной всего лишь в несколько миллиметров, я задумалась над словами Мильбахлера. Если бы эпигиппус вымер, не было бы и коня из Фогельхерда, не было бы лошадей, носивших людей по североамериканскому морю травы, не было бы лошадей, доставивших Чингисхана и его потомков с дальнего конца Азии к воротам Вены, не было бы боевых коней, и рабочих, и пастушеских, и даже диких. Мы, люди, вели бы куда более одинокую жизнь, не говоря уже о том, какой эффект исчезновение коней могло произвести на саму цивилизацию.
«То есть, – спросила я, – ситуация висела на волоске?»
Крошка эпигиппус проживал в Северной Америке в период примерно от 46 до 38 млн лет назад. Останки его присутствуют на американском Западе в горных слоях, именуемых «формацией Юинта» на северо-востоке Юты и юге Вайоминга. Невзирая на то что в начале эоцена кони бродили по суше в несчетном числе, к концу существования эпигиппуса эти животные стали совсем редкими.
«Шкафы и ящики в нашем музее полны окаменелостями из Юинта, но здесь – всё, что мы имеем по эпигиппусу, – продолжил Мильбахлер. – Трудно сказать почему. Возможно, что, например, в Огайо они изобиловали, однако там нет месторождений окаменелостей. Они могли преуспевать в любом другом месте, но, судя по доступным нам останкам, эпигиппусы все же встречались не часто».
Мне уже приходилось читать об эпигиппусах в замечательной книге Тима Фланнери о Северной Америке «Вечная граница»[83].
«Остается гадать, – пишет Фланнери, – насколько иначе сложилась бы история человечества, если бы, пройдя по лезвию ножа, эпигиппус в конечном итоге все-таки вымер».
Основная проблема здесь, видимо, заключается в том, что тогда ранние лошади еще не развили свою эволюционную способность к адаптации. Они были превосходно приспособлены к райской эоценовой оранжерее. Листва была пышной. Пища во всем изобилии была доступна круглый год. К чему еще стремиться?
Однако ничто не вечно. Ко времени жизни эпигиппусов планета снова оказалась перед лицом крупных перемен. Жара уходила в прошлое. Возникал более холодный и суровый мир.
Возможно, впервые на планете появились времена года. Всем формам жизни пришлось приспосабливаться к этому факту. Закончилось круглогодичное райское пиршество: спелые фрукты, нежные почки. Поиски пропитания сделались обременительным процессом для многих животных. Птицам пришлось научиться дважды в году летать между Северным и Южным полушариями. Киты были вынуждены найти пути сезонных откочевок в волнах океана. Медведи научились впадать в спячку. Растительноядные млекопитающие стали запасаться жиром в теплое время года, чтобы пережить холодную зиму.
* * *
Нам, живущим на Земле XXI века, привычным к жестокой реальности времен года, к жаркому лету и морозной зиме, трудно представить себе, что добрую часть истории планеты, в том числе в период эоцена, на ней царила достаточно однородная температура. Например, в то время за Северным полярным кругом было настолько тепло, что там благоденствовали крокодилы. Не существовало никаких ледяных шапок, а Северный Ледовитый океан получал столько пресной воды, что слой ее линзой покоился на слое воды соленой. Изобиловали пресноводные папоротники азолла. Росли секвойи и каштаны. Палеонтологи обнаружили останки гигантских муравьев, обыкновенно ассоциирующихся с тропиками.
Конечно, наклон земной оси не менялся, и на полюсах по-прежнему наблюдались долгие дни и ночи во время солнцестояний, однако общий теплый климат был достаточно привлекателен для того, чтобы животные примирялись с периодами тьмы и постоянно жили в одних и тех же местах. В горных породах Арктики обнаружены ископаемые останки приматов, тапиров, а также змей, аллигаторов и черепах. Впрочем, стоит отметить, что до сих пор там не найдено никаких окаменелостей, связанных с лошадьми.
Ближе к концу эоцена этому буйству жизни был брошен вызов. Райская жизнь внезапно закончилась. Представим себе сказочно удивительных бронтотериев, близкую родню первых лошадей, в эоцене распространившихся по всему миру. Подобно первым лошадям, они имели четыре пальца на передних конечностях и три на задних. Однако в отличие от наших коней эти животные пошли на большой эволюционный риск. Первые бронтотерии были невелики, но потом они чрезвычайно увеличились в размере. Некоторые достигали колоссальных размеров – до 2,5 метра в холке. По-настоящему экспериментальная модель. И риск этот не оправдал себя.
Вот интересная загадка: бронтотерии и первые лошади появились на Земле, насколько мы можем судить, примерно в одно и то же время. Они находились в близком родстве, однако если лошади остались консервативными в эволюционном плане, бронтотерии опробовали буквально все эволюционные фокусы, представленные в меню. Например, они много экспериментировали с так называемыми рогами. Эти выступы, подобные рогам носорогов, вовсе не являлись рогами, которые, как наши ногти, состоят из кератина. В то время «рога» бронтотериев на деле представляли собой шишки на черепах этих животных. (Подобные украшения на черепах возникают у многих животных, однако, как отметил Майк Ворхис, у лошадей их никогда не было.)
В близкой перспективе эволюционная стратегия бронтотериев выглядела выигрышной: они были одной из самых разнообразных групп млекопитающих на планете, и в конце эоцена некоторые из принадлежащих к ним видов достигли величины современного слона, что сделало их крупнейшими из существовавших тогда сухопутных млекопитающих. В какой-то момент на нашей планете существовало одновременно столько видов бронтотериев, что Мэтью Мильбахлер однажды назвал простое перечисление их «головокружительным» делом.
Однако, невзирая на былое процветание, к концу эпохи их не стало. Возможно, выбранная ими стратегия высокой специализации в итоге привела к тому, что они попросту стали слишком специализированными. Когда исчезли привычные им экосистемы, они почувствовали себя так, как если бы земля вдруг ушла из-под ног.
Не удалось пережить переселение из теплого мира в холодный и североамериканским приматам. Впрочем, на нашу удачу, в конце эоцена они сумели проникнуть в самое сердце Африки, где им удалось выжить.
Серьезный вызов был брошен и лошадям. Животным, привыкшим жить в довольстве и питаться сыпавшимся в пасть виноградом, пришлось приспосабливаться. Их способность быстренько перескакивать из одного укромного уголка в другой под пологом пышной листвы оказалась недостаточной после того, как джунгли в Северной Америке сменились более открытыми лесами. Ловкость и проворство должны были уступить место скорости в качестве средства защиты. Но что более важно, зубы должны были изменить свою функцию со сминания на жевание для успешного перехода на более грубый фураж.
К счастью, именно в нужный момент перед самым финалом, перед катастрофическим завершением эоцена появляется новый, отличающийся от ранних, конь. Мезогиппус (Mesohippus) был быстрее и выше, имел всего по три пальца на каждой передней ноге, зубы его были более крупными и плоскими, обладали большей поверхностью. Способность жевать пищу предоставляла этому животному огромное преимущество.
Затем вскоре после мезогиппуса появился миогиппус (Miohippus), «модель» еще более мощная, еще более рослая и выносливая. Миогиппус,наконец, представлял собой зверя, в котором большинство наших современников признали бы лошадь. У него по-прежнему было три пальца, однако вес животного явно нес на себе средний палец. Физиономия и череп этого животного сделались вполне похожими на конские, а хребет, еще не уподобившись позвоночнику современной лошади, тем не менее выпрямился настолько, чтобы позволить животному передвигаться подобием галопа, а не семенить трусцой.
После многих миллионов лет эволюционного застоя лошади рванулись вперед. «Именно в нужный момент» – это не преувеличение. Температура на планете снижалась медленно, а потом вдруг резко упала. Перепад температуры был настолько же резким, как и во время ее скачка в начале эоцена. Это внезапное падение температуры, произошедшее около 34 млн лет назад, вызвало целый каскад последствий.
Воцарившийся в Европе холод вызвал масштабное вымирание, известное в науке под французским названием La Grande Coupure, или «Великий перелом»[84]. Как я уже упоминала, эоценовая Европа представляла собой архипелаг островов. Когда температура упала, заново образовавшиеся ледники превратили в лед огромное количество воды. Уровень моря понизился, острова соединились. Животные, давно уже привыкшие к уединению и удобствам мирной островной жизни, исчезли.
Их место заняла новая группа животных. Именно эта странная и необъяснимая аномалия в европейской каменной летописи вызвала в свое время эмоциональный кризис у Дарвина. В каменной летописи обнаружилась демаркационная линия. Ниже нее располагаются все многочисленные млекопитающие европейского эоцена; над ней обнаруживаются останки других животных – бывших обыкновенными в Азии. Линия эта была настолько ясна и очевидна, что ее заметили, хотя и не сумели объяснить ранние европейские палеонтологи. Не имея представления о том, что эоценовый мир поглотила волна холода, Чарльз Дарвин вместе с другими учеными мучительно раздумывал о причинах этого перелома, столь явно противоречившего его представлению о медленных и равномерных эволюционных переменах.
Однако сегодня мы имеем относительно хорошее представление, во всяком случае, о некоторых деталях процесса. Перелом представлял собой катастрофический инцидент, связанный с глубоководными явлениями и тектоникой континентальных плит. Исследователи предполагают совместное влияние двух событий, одного постепенного, другого относительно внезапного. Наблюдалось постепенное снижение содержания парниковых газов в атмосфере. Некоторые палеогеологи предполагают, что в это время Индийская тектоническая плита, давно отделившаяся от Африки и медленно дрейфовавшая на север, столкнулась с Азией, вызвав подъем Гималаев, что, в свой черед, постепенно охлаждало планету за счет понижения содержания углерода и кислорода в атмосфере. Густые, подобные мессельским, леса сменились более разреженными.
Добивающим ударом стала тектоническая независимость Антарктиды. Подобно тому как Индия, оторвавшись от Африки, направлялась в сторону Азии и Северо-Американская плита отделялась от Европейской, открывая Атлантический океан, Антарктида неспешно удалялась от Южной Америки и Австралии. Наконец, около 34 млн лет назад Антарктида разорвала все физические контакты с другими континентами и сама собой остановилась на Южном полюсе.
Ученые полагают, что это событие имело несколько принципиальных последствий.
Антарктида вырастила ледяную шапку и сделалась Снежной королевой планетарного масштаба, жесткой рукой управляющей всем остальным миром. В лед превратилось такое количество воды, что Европа из группы изолированных островов превратилась в связанное с Азией сухопутное пространство и в таком качестве оказалась открытой для завоевания. Более приспособленные к новым условиям азиатские животные ринулись на новые территории.
Изменения переживала и Северная Америка. Падение уровня моря открывало бывшее морское дно для новых поселенцев-растений. Существенная часть воды была связана полярными шапками и ледниками, впервые позволив разрастись травяным лугам. Появились и такие животные, как миогиппусы, способные жить на более сухих и открытых ветрам равнинах. Изменилась и карта океанических течений. После того как Антарктида захватила власть над планетой и засела в своем ледяном замке на Южном полюсе, континент окружило циркумполярное течение, действующее как своеобразный оборонительный ров. Это течение переносило холодную воду к прочим океанским течениям, изменяло их движение и охлаждало всю Землю. Крис Норрис говорил, что лошади могут рассказать нам свою уникальную жизненную повесть, и оказалось, что повесть эта посвящена умению приспосабливаться – однако зависящему от контекста. Кони были рождены в счастливом мире, в мире теплом и полном легкодоступной пищи. Вспомним «Порги и Бесс»: «Летняя пора, и жизнь так проста»[85].
Потом мир стал другим, а лошади оказались проверенными на прочность и закаленными. К счастью, им удалось в достаточной степени измениться, чтобы продолжить свое существование в прохладном, обещающем испытания, требующем особой отваги новом мире олигоцена. Этому помогла их необычайная пищеварительная система и более длинные ноги, однако решающую роль, по словам Мэтью Мильбахлера, сыграли зубы.
* * *
Некогда Мильбахлеру пришлось извлечь более 7000 зубов североамериканских лошадей из многочисленных шкафов и ящиков Американского музея естественной истории в надежде связать эволюцию лошадей с изменениями климата. Он отпирал и запирал шкаф за шкафом.
«Наша коллекция костей ископаемых лошадей, бесспорно, крупнейшая в мире, – сказал он мне. – Если пройти от одного края этого этажа до другого, перед твоим взглядом предстанет вся эволюция лошадей. Мы открывали все ящики на этом этаже и смотрели на зубы всех ископаемых лошадей, находившихся в нашем собрании».
Мильбахлер – человек терпеливый.
«Мы смотрели на коронки всех зубов, проверяя, изношенные они или просто ровные. Мы завели огромную таблицу. Мы также побывали в Йеле. Их коллекция удачно заполняет редкие пробелы в нашем собрании. Мы взяли их результаты и построили шкалу остроты зубов. Мы нанесли все сведения об износе зубов на карту с учетом времени и сопоставили ее с палеоклиматическими данными».
Мильбахлер нашел свидетельства того, что во время произошедшего 34 млн лет назад падения температуры лошади изменили свою диету[86] и перешли от питания плодами на другой фураж, который постепенно становился все более грубым и рос все ближе к земле, так что кони поглощали вместе с травой много пыли. Зубы некоторых лошадей позволили приспособиться к такому режиму питания. Не имевшие подобных зубов вымерли.
У выживших были более прочные зубы. Тот, кому случалось бывать на песчаном пляже и случайно набрать в рот песка, поймет проблему, с которой столкнулись кони, когда им пришлось не щипать листья и ягоды, а пастись на траве. Учиться есть траву – опасную пищу, защищающую себя от таких хищников, как кони, путем внедрения в травинки все большего количества острых как бритва частиц кремнезема, – скорее всего, было как минимум неприятно. Кремнезем – это то, из чего состоит трава. Если вам случалось, идя по полю, сорвать травинку и порезаться об ее острый край, тогда вы понимаете задачу, вставшую перед этими животными. Ведь вашу кожу порезал, по сути дела, остро наточенный нож.
Кремнезем может оказаться опасным. Мы, люди, за день можем сжевать былинку-другую, однако о том, чтобы выжить на подобной диете, не может быть и речи. Приобретение способности питаться травой было для коней высшим достижением. Изучив эти 7000 конских зубов, Мильбахлер заметил, что похолодание, смена растительности, переход на другое питание, изменение содержания кремнезема и изменение облика лошадиных зубов однозначно связаны между собой. Ситуация выглядела так, словно кони и травы вели друг с другом непрекращающуюся войну.
Интересно отметить, что прочие животные не смогли отреагировать подобным образом. Мильбахлер изучил и зубы верблюдов, которые также часто попадаются в горных породах Северной Америки. Оказалось, что верблюды были начисто лишены этого лошадиного дарования. Зубы их не претерпели существенных изменений.
«Судя по зубам, лошади действительно отслеживают температуру на планете, – сказал он. – Они берут и изменяются с течением времени. Не знаю, что именно определяет их успех – зубы или пищеварительная система, – однако удача не оставляет их».
Иными словами, пройдя эволюционное бутылочное горлышко, представленное скудными останками эпигиппуса, они могли перемениться совершенно особым образом.
«Лошади уникальны, – продолжил он. – Что-то позволило им приспосабливаться ко всему, что выпадало на их долю. Что бы с ними ни происходило, они умудрялись следовать за условиями меняющейся среды обитания настолько точно, что мы можем использовать их ископаемые зубы, чтобы проследить изменения климата».
Я имела возможность убедиться в том, что с современными дикими конями могут происходить некоторые небольшие эволюционные перемены, помогающие им приспосабливаться к местам обитания, однако и представления не имела о том, что этот процесс можно проследить в прошлом вплоть до конкретного момента времени, соотнеся с данными о состоянии климата и о сопутствующем тектоническом событии.
Выкованные в жару, а потом закаленные на холоде лошади сумели перейти из эоцена в олигоцен животными, повидавшими огонь и лед и способными выдержать невероятное разнообразие условий.
* * *
Когда мы перешли к другому ряду шкафов, Мильбахлер извлек из одного из них ящик, полный древних лошадиных мозгов.
«А это мозги Радински»[87], – объявил он с ноткой почтения.
Видный специалист в области палеонтологии, Леонард Радински преждевременно скончался в 1985 году, в такой степени опечалив этим коллег, что, обнаружив в Китае челюсть очень древнего животного, которое могло оказаться предком перволошади, один из них дал своей находке имя в память покойного ученого:Radinskya.
Конечно же речь в данном случае идет не о мозгах как таковых, а об эндокранных слепках внутренней полости черепной коробки древних коней. Слепки эти существуют в трех видах – ископаемые слепки, образовавшиеся естественным путем из песка и других минералов в черепе древнего животного; слепки, созданные самим исследователем, заполнившим ископаемый череп композитным материалом; наконец, виртуальные слепки, профили сканирования, осуществленные с помощью современных компьютерных технологий. Некоторые из извлеченных Мильбахлером слепков были как раз теми, с которыми работал Радински. Другие представляли сделанные им отливки.
Работавшие в поле палеонтологи давным-давно знали о существовании естественным образом сформированных эндокастов. Они собирали их и вносили в каталоги наряду с ископаемыми костями, однако исследованием их до поры до времени мало кто занимался. Естественные эндокасты, часто дефектные с точки зрения формы, как будто бы не несли особой информации. В большинстве своем ученые полагали, что изучение их не оправдает усилий.
Тилли Эдингер, работавшей в музее Зенкенберга до Второй мировой войны, удалось эмигрировать, пережив в 1938 году ужасы Хрустальной ночи. Еще в Европе Эдингер начала работать над доказательством того, что эндокасты могут предоставлять полезную информацию, поскольку открывают подробности строения внешней поверхности мозга. Перебравшись в Соединенные Штаты, она следом за Томасом Генри Хаксли обнаружила то, чего ей не хватало в европейских музеях, – подробный ряд ископаемых останков лошадей. Осознав, что ей представилась возможность проследить за течением эволюции конского мозга длиной в 56 млн лет, она потратила большую часть последующего десятилетия на создание монументального научного труда. В своей вышедшей в 1948 году работе «Эволюция мозга лошади»[88] Эдингер доказала, что с определенными ограничениями можно проследить даже эволюцию чувств лошадей, руководствуясь изменениями эндокастов. В результате появилась совершенно новая область науки – палеоневрология.
Леонард Радински принадлежал к числу ее идейных наследников. Работая в Американском музее естественной истории, он продолжил исследования, которые проводила Эдингер, и обнаружил некоторые ошибки. Эдингер считала мозг маленькой перволошади чрезвычайно примитивным. Она писала (как передавал ее слова Радински), что мозг ранней лошади был «удивительно похож» на мозг сумчатого млекопитающего – опоссума. Радински обнаружил, что Эдингер неправильно идентифицировала изучаемый ею мозг. Он принадлежал не ранней лошади, а совсем другому животному.
Радински, напротив, посчитал мозг ранней лошади «весьма продвинутым»[89]. Более того, мозг ранней лошади «намекал» на направления будущего прогресса. Обонятельные луковицы лошади, органы, расположенные в переднем мозге, оказались уже хорошо развитыми. Неокортекс, новая кора, связанная с тем, что мы называем разумом, была пропорционально меньше той, которой она станет по прошествии десятков миллионов лет, однако в сравнении с прочими животными того времени лошади обладали «более крупным и развитым мозгом», как сообщил мне палеонтолог Ричард Халберт. («Такой развитый мозг мог предоставлять некоторые конкурентные преимущества по сравнению с другими эоценовыми травоядными, в частности более сложное социальное поведение, лучшее распознавание хищников, более эффективные стратегии спасения от опасности».)
Радински сопоставил мозг перволошади и мозг мезогиппуса. Он обнаружил, что хотя этот конь был лишь немногим больше перволошади, в мозге его прозошли важные изменения. Лобные доли мозга мезогиппуса оказались существенно более развитыми. Радински писал, что среди преимуществ, предоставляемых мезогиппусу более развитым мозгом, было повышение чувствительности губ и рта.
Итак, похоже, что одним из результатов холодного периода, завершавшего эоцен, стало обогащение чувственной и интеллектуальной жизни лошадей. Вызов, брошенный средой обитания сперва мезогиппусу, а потом миогиппусу, заставил появиться на свет более смышленую лошадь, способную лучше воспринимать информацию в том редколесье, в котором она оказалась.
Некоторые из приматов, попав в мир холодных луговин, также вступили на другой эволюционный путь. Именно тогда, по мнению ряда исследователей, в глазах части приматов появились три колбочки, позволяющие видеть больше красок, чем прочим млекопитающим (в том числе лошадям), – причем причиной этому был тот факт, что, после того, как сократилось количество доступных фруктов, приматам потребовалось лучше фокусировать взгляд на молодых листьях, зачастую красноватых.
Способность современной лошади общаться с миром посредством сложного интерфейса из суперчувствительных губ и носа также является эволюционным даром великого похолодания конца эоцена, Великого перелома, и перехода к суровому олигоцену.
«Корова никогда на смогла бы сыграть мистера Эда»[90], – когда-то написал палеонтолог Дональд Протеро, превознося мягкие и чувствительные губы лошадей.
Тропа, которая наделила коней ловкостью губ, позволяющей отодвинуть задвижку на двери денника и на воротах пастбища, проникнуть в ларь с зерном, превратить нижнюю губу в чашку и напиться из-под уличного крана, уводит нас в глубины времен и связана с внезапным появлением антарктического циркумполярного течения и развитием антарктической полярной шапки.
* * *
Северная Америка осталась центром эволюции лошади. Mезогиппус в итоге вымер, оставив после себя миогиппуса, трехпалого растительноядного обладателя чуть более длинных ног, носившегося по Северной Америке 25–32 млн лет назад. Некоторые из потомков миогиппуса переселились в Старый Свет, где они эволюционировали подчас в странные формы вроде синогиппуса, трехпалого животного, скорее похожего на гибрид между современными коровой и ослом. В Северной Америке возник трехпалый растительноядный анхитерий, наделенный длинной шеей и способный питаться листвой листопадных деревьев. Потом он переселился в Старый Свет, в том числе в Африку.
Тем не менее основные события эволюции лошадей происходили в Северной Америке, где продолжали подниматься Скалистые горы, где становилось все суше во внутренних областях континента и где в изобилии произрастали травы. Появилась новая разновидность травы, способная процветать в самых экстремальных условиях и распространяться в тех областях, куда не смели продвигаться ранние травы. Ширился и ареал обитания лошадей, способных быстро бегать по лишенным деревьев лугам и умеющих перетирать своими зубами самый жесткий фураж.
B миоцене лошади заполнили столько различных уголков и закоулков биоценоза, что никто не сумеет сейчас сказать, сколько видов этих животных населяли тогда планету. Только в Северной Америке обитали по меньшей мере двадцать различных видов лошадей. Свои виды жили в Азии, на Среднем Востоке, в Европе и даже в Африке, где наша родня, приматы, в это самое время переживала достаточно драматические изменения. Там в миоцене появились первые человекообразные обезьяны, a за ними и первые гоминиды.
Крошечные лошадки эоцена, так прекрасно сохранившиеся в слоях Месселя, давно исчезли с лица земли. Но после того, как эпигиппусы пережили угрожавший вымиранием кризис, кони вновь сделались одной из доминирующих на земле групп млекопитающих. По сути дела, миоцен, начавшийся около 23 млн лет назад и закончившийся чуть более 5 млн лет назад, был эпохой коня. Продолжавшийся подъем горных хребтов по всему свету – Анд, Гималаев, Скалистых гор – поднял земную кору, изменил глобальное распределение ветров, высушил континенты.
«Это был крупный эпизод в распространении лугов, – сказал мне однажды Майк Ворхис. – Мы получили новый естественный ареал и семейство млекопитающих – лошадей, – которые могли использовать его так, как ни одно другое животное».
По мере того как иссыхали внутренние области Северной Америки и распространялись луга, «специалисты по засухе», как сказала Кэндис Сэвидж, – лошади приспосабливались к новым условиям. В начале миоцена на свете не было других лошадей, кроме трехпалых. B конце миоцена трехпалые лошади, скитавшиеся по планете более 50 млн лет, начали исчезать, хотя процессу еще предстояло растянуться на какое-то время. Многие из них сумели из центра Северной Америки добраться до Африки, пройдя по пути всю Азию.
Странным образом Африке было суждено стать для них и одним из последних убежищ.
4
Триумф гиппариона
История семейства лошадиных до сих пор является одним из самых явных и убедительных свидетельств того, что живые организмы действительно эволюционировали, своего рода демонстрацией того, что лук способен превратиться в лилию.
ДЖОРДЖ ГЕЙЛОРД СИМПСОН Лошади[91]
На просторах травянистой равнины Серенгети в Северной Танзании крошечная кобылка со своим шаловливым жеребенком трусит по тропе, пролегающей не столь уж далеко от действующего вулкана. Зловещий конус мрачной тенью высится над открытой равниной, время от времени изрыгая шлейфы дыма и пепла – так современный кит извергает воду.
Скорее всего, дрожь земли лошадей не пугает. Время действия – около 3,6 млн лет назад[92], легкие выпадения пепла нередки в месте обитания кобылы и жеребенка. Беспокойная равнина усыпана такими вулканами.
Крохотная лошадка, гиппарион, весила намного меньше современной лошади – скорее всего, около 30 килограммов (см. рис. 7). Мы узнали бы в ней родственницу современной лошади, однако перепутать с ней не смогли бы: у этой лошадки три пальца на каждой ноге. Но теперь, по прошествии более чем 50 млн лет после появления эогиппусов, два боковых пальца сделались очень маленькими – такими маленькими, что палеонтологи XIX века, обнаружив ископаемые останки гиппарионов, приняли «лишние» пальцы за «бесполезные» придатки, оставшиеся от эволюционно более старшего вида.
Обстановка вокруг лошадки требовала повышенной осторожности. Скользкая поверхность под ее ногами была засыпана пеплом – почти полная аналогия обледеневшей земле, покрытой тонким слоем свежевыпавшего снега. Никакая современная лошадь не стала бы по своей воле переходить на рысь на столь сложной поверхности, рискуя порвать связки или сломать ногу. И древняя кобылка тоже не стала. Она выбрала четырехударный шаг – ровный аллюр, позволявший ей двигаться быстро, но одновременно в любой момент держать на поверхности земли три ноги. Она была осторожна.
Рис. 7. Гиппарионы
© Panaiotidi / shutterstock.com
В отличие от жеребенка. Возможно, он был слишком неопытен и потому не боялся упасть – а быть может, просто заигрался, как бывает с малыми детьми, – юное животное бегало вокруг матери по случайной траектории. Кобыла, похоже, никуда не торопилась, не ощущала потребности ускорять движение. Но о ее детеныше этого нельзя было сказать.
Однажды бестолковый малыш оказался прямо перед матерью[93], и ей пришлось немедленно отреагировать. Затормозив, лошадь проскользила по земле и восстановила равновесие с помощью боковых пальцев. Они уже были заметно меньше, чем у ее предков, но играли важную роль. Впечатавшись в пепел, они образовали надежную треногу, позволившую лошади устоять. Удержавшись на тропе, она отправилась дальше.
* * *
Примерно в то же самое время небольшая группа дальних родственников современного человека[94], наделенных мозгами размером в треть наших, не спеша продвигалась вперед по тропе всего в нескольких шагах от лошадей. Прямоходящим двуногим (меньше ног – меньше заботы) ранним гоминидам явно удавалось легче ориентироваться на местности. Их следы не обнаруживают свидетельств скольжения и падений.
Двое из этих существ, относившихся к виду, который мы называем австралопитеком афарским (Australopithecus afarensis)[95], как будто шли рядом друг с другом. Они оставили следы, похожие на те, которые мы оставляем на мокром песке. Большие пальцы их ступней смотрели прямо вперед, а сами ступни обнаруживали признаки существования изогнутого свода стопы, облегчающего качение с пятки на пальцы. Отпечатки следов одного из этих двух шедших бок о бок гоминид в два раза больше следов другого, так что нам в XXI веке остается только гадать: шел ли это ребенок рядом с родителем? Уводил ли родитель своего отпрыска от беды? Вполне возможно.
Возможно, они шли не вместе, а один мог следовать за другим. Возможно, их следы просто отпечатались в пепле рядом, только по случайности превратив их в компаньонов. Точная картина нам недоступна. Трудно увидеть подробности сквозь густую пелену времени. Мы можем только сказать, что если эти следы были оставлены в одно и то же время, то гоминид было больше чем двое: за ними следовал по меньшей мере еще один двуногий ходок. В пепле осталась еще одна цепочка следов.
Но что они там делали? Охотились? Опять-таки вполне вероятно. К этому времени крошечный зачаток большого пальца, присутствовавший у приматов из Месселя, уже успел превратиться в нечто подобное нашему современному противопоставленному всем остальным большому пальцу, так что эти двуногие создания вполне могли брать и использовать в качестве орудия заостренный природой камень, как это делают современные шимпанзе. Может быть, они не охотились, а занимались «силовым отъемом добычи», прогоняя небольших хищников вроде гиен от убитых теми животных.
После того как по тропам прошли кони и гоминиды, снова посыпался пепел. Жар африканского солнца заставил затвердеть оставленные в пепле отпечатки, а за последовавшие века их занесло землей и сором, создавая естественную временную капсулу, хранившую для нас сообщение о конях и гоминидах в течение нескольких миллионов лет. А потом ветер и дождь смыли и сдули защитный слой.
Они проступали постепенно: следы проточеловека и протолошади, идущих рядом под небом, полным вулканического пепла. Они не повествуют нам о каких-то выдающихся и потрясающих событиях. Ни одна черточка в следах не указывает на чрезвычайную напряженность ситуации. Здесь нет ничего похожего на Помпеи. Напротив, тот день был для этих существ вполне обыкновенным. Им ничего не грозило в ближайшем будущем, никакое массовое вымирание не поджидало их за углом. Банальный, обычный день. Рутинная сценка под африканским солнцем. Запечатленное мгновение.
Как семейное фото на пляже.
И все же, несмотря на ощущение обыденности, следы эти производят впечатление. Мы видим в этих окаменевших отпечатках нашу неразрывную связь с прошлым и будущим, грядущую эру, когда конь и примат снова воссоединятся после изгнания из эдемского сада, каким был эоцен, сотрудничая и полагаясь друг на друга ради пищи и выживания. День Homo sapiens приближался. День, которому было суждено стать и днем однопалой лошади. В самом деле, тогда за Атлантическим океаном на равнинах Северной Америки уже появилась современная лошадь вида Equus.
Но может быть, в тот день, отстоящий от нас на 3,6 млн лет, протолошади и протолюди просто столкнулись друг с другом? Я в это не верю. Едва не сбив с ног кобылу, жеребенок беззаботно отправился дальше. Окаменевшие отпечатки его копыт пересекаются с окаменелыми отпечатками следов австралопитеков. Жеребенок без колебаний проходит рядом с ними. Трудно представить себе, чтобы его встреча с группой протолюдей произошла без удивления или испуга хотя бы одной из сторон. Тем не менее следы жеребенка не обнаруживают подобной реакции. И мы вынуждены довольствоваться тем соображением, что если оба этих вида делили в то время, точнее, в его конкретный момент, одну и ту же равнину, то, вероятно, как те корабли из крылатого выражения, которые разошлись в темноте, не заметив друг друга.
Hipparion и A. afarensis не одни населяли этот ландшафт. Неподалеку было обнаружено никак не менее 16 000 окаменевших следов, оставленных древними млекопитающими и прочими животными за несколько дней или недель. Ученые определили следы крупных кошек, жирафов, слонов, страусов и так далее. Нашелся даже окаменелый след насекомого.
* * *
Рассказ об этих следах превосходным образом иллюстрирует иногда случающееся совместное действие интуиции и науки. Местные жители знали о существовании древних следов, однако «осмысленно» их никто не замечал. Они даже представить не могли, сколько информации несут в себе эти отпечатки. Мы можем увидеть в мире нечто удивительное, однако тоннельное зрение слишком часто не позволяет нам обратить внимание на то, что мы видим, – так было и с этими следами. Ни у кого не возникало мысли остановиться и поразмыслить о следах древнего мира.
Потребовались случай и озарение, заставившие молодого ученого, посетившего эту местность, обратить на нее пристальное внимание. В 1976 году тридцатилетний Эндрю Хилл, теперь занимающийся антропологией в Йельском университете, приехал из Найроби в Лаэтоли с друзьями по приглашению известной ученой Мэри Лики, чтобы посетить ее археологический раскоп, расположенный неподалеку от деревни. Лики занималась поисками ископаемых костей и черепов гоминид. Окаменелые следы других животных не привлекали ее внимания.
Впрочем, и Хилл сначала не придавал им значения. Но однажды он решил подурачиться вместе с приятелями: молодые люди стали перебрасываться слоновьим пометом. Хилл, по его словам, поскользнулся и упал. А оказавшись на земле, он посмотрел на эти следы под новым углом.
Момент счастливого озарения помог ему связать следы, давным-давно оставленные на африканской равнине, с окаменевшими следами дождевых капель, которые он когда-то увидел на иллюстрации в труде «Основные начала геологии» влиятельного ученого XIX века Чарлза Лайеля, рассматривавшего научные перспективы подобного рода материальных свидетельств прошлого. Лайель писал, что по таким простейшим предметам, как окаменелые отпечатки дождевых капель, можно – если обратить на них внимание – многое узнать о жизни в доисторические времена. Например, Лайель говорил, что важно не само наличие капель, а их размер.
Лежа на земле, Хилл вспомнил указание Лайеля и понял, что оказавшиеся перед его носом следы животных могут содержать целую библиотеку информации. Приступив к полномасштабному исследованию отпечатков, ученые обнаружили, что в этой местности в древности бродило очень много животных и немалая часть из них оставила свидетельство своего присутствия и поведения в пепле.
Обнаружение отпечатков ног древних представителей рода людского попало в заголовки новостей по всему свету. Факт этот окончательно разрешил (в той степени, насколько палеоантропология вообще способна что-то разрешить окончательно) долгий и подчас слишком оживленный спор относительно того, как долго наши предки ходили на четырех ногах и когда они обрели способность передвигаться на двух. Находки из Лаэтоли показывают, что австралопитек афарский, которого многие ученые считают промежуточным звеном между человекообразными обезьянами и современным человеком, не только ходил на двух ногах, но и обладал пяткой, большим пальцем на ноге и даже сводом стопы.
B 1987 году вышел двухтомный сборник статей[96], в котором были изданы схемы всех следов, найденных в Лаэтоли к тому времени. Однажды днем я раскладывала на своем обеденном столе все эти карты, собирая их воедино как головоломку, до тех пор, пока они не покрыли весь стол. Словно рог изобилия просыпал в моей комнате следы всех животных, обитавших тогда в этом регионе Африки.
Эти листы бумаги могли бы заворожить любого, кто обожает выискивать мелкие детали на географических картах. Передо мной находились следы, оставленные древними гоминидами. Я видела наяву трехпалых лошадей, скитающихся под африканским солнцем, не обращая внимания на легкие осадки из вулканического пепла. Разглядывая эти карты, я чувствовала то же самое, что в Поулкэт-Бенч и в Месселе. Я словно пересекла какой-то незримый барьер, выставленный в четвертом измерении, и вторглась на запретную территорию.
Это был метафизический опыт – просто смотреть на разложенные на столе следы множества животных, бродивших по Серенгети миллионы лет назад. Как выяснилось потом, изучая эти следы, можно получить важную информацию.
В том же самом томе я обнаружила статью, посвященную вопросу, давно уже смущавшему лошадников всего мира: естественным ли образом выработали лошади четырехударный одношаговый аллюр? Или же он стал результатом специального выведения? Современные лошади имеют три основных аллюра: шаг, рысь (или иноходь для некоторых коней) и кентер, то есть медленный галоп. (Быстрая версия галопа носит название «карьер».)
При этом некоторые лошади способны передвигаться четырехударным аллюром, более быстрым, чем шаг, и иногда называемым однотактовым или быстрым шагом. Поскольку аллюр этот удобен и скор, наездники ценят владеющих им коней. Лошади на этом аллюре устают меньше, чем на кентере или галопе. Он позволяет паре «наездник и лошадь» преодолевать за день большее расстояние, не переутомляя коня. Однако естественным образом он свойственен лишь некоторым породам лошадей, таким как теннессийская прогулочная и исландская (см. илл. 10 и 11 на вклейке). Появилась ли эта особенность в результате селекции или, быть может, какие-то лошади всегда ей обладали?
Голландская исследовательница и любительница коней Эльза Рендерс решила воспользоваться лаэтолийскими следами для того, чтобы попытаться найти ответ на этот вопрос. Впервые прочитав об этих оставленных гиппарионами отпечатках, она, подобно мне, сразу пришла в полный восторг. Свидетельства повседневного поведения двух лошадей давно вымершего вида заставили ее задуматься над тем, можно ли по ним понять, как на самом деле двигались эти кони. Еще ей хотелось узнать, что представляли собой два маленьких боковых пальца на каждой ноге – это было нечто излишнее или у них имелось назначение?
Сначала она решила определить аллюр, которым передвигались гиппарионы. Для того чтобы решить эту задачу, она сделала отливку оставленных в Лаэтоли следов. Потом она заказала аналогичные копии следов современных лошадей, шедших шагом, рысью и кентером. Полученные отливки Рендерс сопоставила с древними и с удивлением обнаружила, что ни один из современных аллюров не соответствует следам гиппарионов. И кобыла, и жеребенок передвигались как-то иначе.
Тогда она обратилась к современным лошадям, использующим быстрый шаг и четырехтактный ход, и попала в самую точку. Она измерила расстояние между передней и задней ногой, a потом определила, насколько далеко задняя нога заступала за переднюю. Оказалось, что и маленькая кобылка гиппариона, и ее жеребенок передвигались четырехтактным ходом.
«Итак, кобыла и жеребенок шли естественным для них от природы дорожным аллюром», – сказала она мне.
Идя обыкновенным шагом, лошадь сперва передвигает переднюю ногу, затем противоположную заднюю ногу. При быстром шаге порядок движений другой. Сперва лошадь передвигает переднюю ногу, затем заднюю на той же стороне тела, а затем другую переднюю ногу и заднюю ногу с противоположной стороны. Этот аллюр иногда называется «ломаным шагом».
То есть гиппарион шел аллюром, позволяющим идти быстрее, чем при обычном шаге, однако иметь опору на три ноги. Такая поступь очень надежна, она допускает большую скорость с одновременной хорошей опорой о землю.
«Все, кто в наше время мало-мальски знаком с лошадьми, знают три основных аллюра: шаг, рысь и галоп, – объяснила она причину, заставившую ее в первую очередь обратиться к этим аллюрам. – Мы привыкли считать быстрый шаг искусственным или выставочным аллюром, – продолжила она, добавив, что именно его увидела в отпечатках ног гиппариона, – однако он показался мне самым естественным вариантом, особенно если учесть наличие под ногами скользкой почвы. Лошадь, умеющая ходить быстрым шагом, не станет переходить на рысь на ненадежной почве. Моя лошадь, когда оказывается на неровной или скользкой поверхности или испытывает стресс, всегда переходит на быстрый шаг».
Давно известно, что способность лошади идти быстрым шагом передается по наследству, однако раньше всегда считалось, что она присуща только одомашненным лошадям. До проведенного Рендерс исследования мало кто мог предположить, что эта особенность естественна не только для нескольких пород современных лошадей, но еще и минимум для одной кобылы и ее жеребенка, живших 3,6 млн лет назад.
Рендерс также обнаружила, что кобылка гиппариона располагала еще одним средством удержаться на ногах – маленькими боковыми пальцами. На первый взгляд в них вообще нет никакого смысла: мы твердо знаем, что коням «положено иметь» один палец и что лошади «сделались совершеннее», утратив эти лишние пальцы. Мы настроены видеть в этих пальцах ранних лошадей рудимент, лишнюю глину, которую надлежит удалить скульптору – эволюции.
Однако Рендерс обнаружила, что лошади и в самом деле пользовались этими боковыми пальцами, отнюдь не являвшимися никчемным наследием прошедших времен. Что касается нашей лаэтолийской кобылки, в тот самый день пальцы ног сослужили ей хорошую службу. Современная лошадь, оказавшись в подобной ситуации, могла бы упасть и сломать ногу (что, например, часто случается с попавшими на лед конями), в то время как эта представительница вида Hipparion даже не изменила шаг. Напротив, следы указывают на то, что, поскользнувшись, кобыла уперлась в поверхность боковыми пальцами. Эти три пальца – основное копыто и два побочных пальца – образовали в пепле треногу, которая позволила лошади устоять.
Ну, как боковые колесики на детском двухколесном велосипеде.
* * *
Благодаря наличию боковых пальцев, естественному для этой лошади четырехтактному ходу и по многим другим причинам гиппарионов ждал колоссальный эволюционный успех. Впервые появившись в Северной Америке примерно 17 млн лет назад, они быстро приумножились[97], образовав самые разные виды, и в конечном итоге проникли даже в Африку.
Несколько самых первых видов гиппарионов были крупнее перволошадей, однако сильно уступали в размере кобыле и ее жеребенку, поселившимся на лаэтолийской равнине. Но если первые лошади были консервативны в вопросах эволюционного развития, гиппарионы сделали ставку на эволюционный эксперимент[98]. Это означает, что по мере того, как постепенно менялся мир в миоценовую эпоху, всякий раз невесть откуда появлялся хотя бы один новый тип гиппариона, способный воспользоваться открывающимися возможностями. Некоторые гиппарионы превратились в больших животных с длинными зубами. Другие не гнались за ростом. Одна группа даже обзавелась зубами, которые в буквальном смысле слова росли первые пять лет жизни животного.
Представители состоящего из многих отличающихся друг от друга видов сообщества крупных гиппарионов располагали талантом приспосабливаться к любой естественной экосистеме, в которую попадали. Благодаря такой гибкости они распространились по всему миру. Их ископаемые останки обнаружены в заболоченной Флориде, штате, настолько богатом окаменевшими конскими костями, что их нетрудно найти во время простой прогулки по одному из прибрежных пляжей. Они присутствуют в засушливой Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, в Греции, на нескольких островах Средиземноморья, в Европе и даже к северу от полярного круга, на острове Элсмир.
Гиппарионы были способны питаться невероятно разнообразным фуражом. Обладая легким телом, сложными зубами, покрытыми глубокими бороздками астрагалами и полезной трехпалой ногой, гиппарион был «одним из величайших животных-путешественников» на планете, как писал Джордж Гейлорд Симпсон, известный специалист по эволюции лошадей, работавший при Американском музее естественной истории[99]. Как и в случае перволошадей, первое появление гиппариона в Северной Америке в середине миоцена совпадает с наступлением более теплой и влажной погоды. Такой жары, как в эоцене, не было, однако общепланетный климат был настолько теплым, что льды в Антарктиде несколько отступили, – так что на окраинах континента росли разнообразные растения и даже невысокие деревья.
Нам это известно, потому что Сара Фикинс[100], специалист в области молекулярной стратиграфии, исследовала кутикулы листьев растений, произраставших в то время в Антарктиде[101]. Она установила, что в тот самый момент, когда популяция лошадей в Северной Америке переживала взрывной рост численности, температура в Антарктиде была примерно на 11 °C выше сегодняшней.
Заинтересовавшись тем, каким образом воск, присутствовавший на поверхности листьев 20 млн лет назад, способен поведать подобную информацию, я позвонила ей и спросила: «Какое отношение кутикула растений может иметь к температуре на планете?»
«Посмотрите на восковое покрытие листьев ваших домашних растений, – посоветовала она. – Вы увидите очень упругие углеводороды, назначением которых служит защита листа. Это очень упругие молекулы. И после смерти растения бактерии не могут съесть их. В конечном счете этот воск попадает в океан».
Он остается там в донных осадках, ожидая появления специалистов, которые соберут образцы этих отложений, чтобы Фикинс и другие ученые могли их исследовать. Определив изотопный состав атомов углерода и сравнив его с данными таблиц, на калибровку которых ученые потратили целые десятилетия, можно установить некоторые параметры внешней среды. Фикинс обнаружила, что в разгар общемирового потепления даже Антарктида потеряла часть своего льда. Ученые подозревают, что ослабление холодов в Антарктике запустило целую лавину событий, начиная от изменения конфигурации морских течений до изменения количества осадков, еще более ускоривших потепление. Конечно, мы не в состоянии сказать, где потеплело раньше – в Антарктиде или на всей планете. Однако нам твердо известно, что за эти 5 млн лет в Северной Америке возникло множество видов лошадей.
И в то же самое время в Европе не было никаких лошадей. Родня их – разнообразные тапиры и носороги – встречалась часто, но коней не было. Отсутствие лошадей в Европе и Азии зафиксировано до отметки примерно в 12 млн лет назад. Один-единственный вид гиппариона перебрался из Северной Америки в Азию через Берингию, перешеек, соединявший в то время Сибирь и Аляску, и колонизировал новый для себя континент. Старый Свет открыл перед этим гиппарионом широчайшие возможности. Азиатские степи предоставляли лошадям неограниченный простор для прокорма. Лошади, способные питаться самой различной пищей, в полной мере воспользовались этим. Один из ученых выразился следующим образом: гиппарион «галопом» проскакал от Аляски до Испании.
* * *
Это невольно возвращает нас к обсуждению причин головной боли Чарльза Дарвина. Внезапное появление огромного числа гиппарионов на территории Европы было одной из главных головоломок его жизни. Все выглядело так, будто маленькие лошадки с двумя небольшими боковыми пальцами на ноге материализовались в Старом Свете из воздуха. Дарвин, как мы уже говорили, не признавал подобных неожиданностей. При всей очевидности эволюции жизни на Земле такие изменения не укладывались в теоретическую модель.
Гиппарион превратил эволюцию в магический трюк. Не следует забывать о том, что, когда Дарвин искал ответ на эту загадку, ученые все еще верили в то, что кони эволюционировали не в Новом Свете, а в Старом, и поэтому «внезапное» возникновение невероятно распространенного типа лошадей выглядело чем-то вроде алхимии.
Один из британских критиков Дарвина обвинял его в том, что он проповедует беспорядочное появление жизненных форм на планете[102]. Это немало смущало Дарвинa, поскольку ничего анархического в его характере не было, а также потому, что внезапное появление гиппариона в Европе, хотя бы на первый взгляд, и впрямь выглядело как черт знает что. И пока Хаксли не побывал у Марша в Йеле, Дарвин не мог соотнести внезапное появление гиппариона с собственным пониманием того, как происходили эволюционные перемены: «…в том, что многие виды эволюционировали в чрезвычайно постепенной манере, не может быть никакого сомнения», утверждал он в своем «Происхождении видов».
Гиппарион – не единственное животное, тревожившее Дарвина. Лошади обрушились на Европу вместе с целой ратью других животных так, как будто случился второй Великий перелом. По сути, в каменной летописи обнаружилась такая же разделительная линия, как и на отметке в 34 млн лет назад.
Эта граница в камне была настолько очевидна, что ученые XIX века без труда замечали ее, и, поскольку находки только что появившегося гиппариона были чрезвычайно обильны, событие назвали Гиппарионовой датой (Hipparion Datum). Для палеонтолога она сродни иридиевому слою, появившемуся в результате столкновения с астероидом и знаменующему собой конец века динозавров и начало века млекопитающих. Гиппарионова дата помогает палеонтологам, работающим в Европе и Азии, установить возраст изучаемых пород: если в них присутствуют кости гиппариона, значит, возраст слоев моложе 12 млн лет.
Но почему гиппарион появился в каменной летописи именно так, будто эти трехпалые лошадки почти мгновенно распространились от Дальнего Востока до Испании по всему евразийскому континенту? Разгадка была найдена совсем недавно: лошади следовали за травой. Триумф гиппариона был еще и триумфом травы.
* * *
Мы недооцениваем траву. Примерно 10 000 видов травянистых растений, покрывающих сегодня землю, занимают 30 % площади суши на нашей планете. Мы видим травы повсюду вокруг себя, однако над землей находится не самое главное – не та часть растения, которая покорила мир. Около 80 % травянистого растения – самая важная часть его – живет под поверхностью почвы. Я говорю о корнях, переплетающихся так густо, что первым европейским поселенцам приходилось запрягать в плуг 20–30 лошадей, чтобы впервые вспахать целинную прерию.
Травы запасают столько углерода в своей подземной корневой системе, что палеонтолог Грегори Ретоллак[103] и многие другие специалисты подозревают: травы в итоге сделались не менее важной эволюционной силой, чем тектоника. Когда он впервые сказал мне об этом, я отнеслась к его словам скептически. Но чем больше я читала, тем больше понимала, что его мнение разделяют многие ученые. Мой скептицизм, по всей видимости, был рожден привычкой: подстригая пригородную лужайку, я полагала, что знаю о траве все. Я была неправа. Очень неправа.
Травы держатся скромно – ради собственного блага. Они не пользуются уважением. Их часто попирают ногами или выпалывают в саду. Из-за внешней их простоты мы начинаем считать, что они появились на ранней стадии эволюции. Ничто не может оказаться дальше от истины. «На самом деле, – пишет Кэндис Сэвидж в «Прерии» (Prairie), – они представляют собой очень продвинутые организмы, особым образом приспособленные переносить экстремальные климатические крайности, в том числе частые засухи». Например, растущие над землей травинки в некоторых случаях могут сгибаться во время засухи, чтобы по возможности сохранить влагу. Иными словами, когда деревья умирают, травы живут.
Конечно, большая часть наших сегодняшних лугов представляет собой жалкие остатки того, что было на их месте до распространения земледелия. Тогда всадник верхом на коне мог заезжать в такие участки высокотравья, где растения поднимались выше его головы. Я читала об этом, но, честно говоря, не вполне доверяла авторам. Я думала, что они преувеличивают. Почти вся высокотравная прерия давно распахана. Однако, представьте себе, в Иллинойсе, в национальном парке «Высокотравная прерия Мидейвин», расположенном к юго-западу от Чикаго, ученые и волонтеры постарались воскресить ее часть. Некоторые из стеблей травы бородач поднимались на высоту почти в 3 метра.
Эти травы не для наших городских парков. Ехать сквозь высокие заросли бородача приходилось как через лес, только, наверное, это было намного опаснее, так как уже за ближайшими стеблями ничего не видно. Мы привыкли представлять себе прерию как место дальних перспектив, однако в естественном высокотравье видимость местами должна была оказываться нулевой. В этих травах буквально в нескольких метрах от всадника мог прятаться вообще кто угодно, но узнать об этом можно было слишком поздно. Здоровый природный луг сам по себе образует некое подобие джунглей. Понятно, почему кони так быстро пугаются. Конечно, находясь в Иллинойсе, я могла не опасаться попасть на обед саблезубой кошке или обнаружить себя в окружении стаи ужасных волков[104], подползающих сзади в траве. однако мне удалось понять, почему лошади держатся настолько настороженно, почему они всегда прислушиваются и способны отреагировать на самый тихий шорох.
Бизоны и лошади любят пастись в бородаче, и важно брать во внимание обстоятельства возникновения травы. Травы принадлежат к цветковым растениям, и потому им пришлось дождаться Меловой наземной революции. Появившись (никто не знает, когда именно), они имели простое строение и не спешили эволюционировать. Конечно, они не захватили наш мир единым натиском. Пока на Земле было тепло и сыро, травы могли расти на опушках лесов, на полянах и прогалинах. Однако, когда закончился эоцен и климат стал суше, деревья начали медленно отступать, а травы – растения, способные защитить себя от засухи, вырастив глубокую и плотную корневую систему, – распространяться.
Впрочем, это происходило с известным сопротивлением, так как в некоторых условиях, например при сильном солнечном свете, они чувствовали себя неважно. И для того, чтобы действительно овладеть всем миром, травам нужно было вооружиться какой-нибудь эволюционной новацией. Возникли новые виды трав, способные выдержать подлинно суровые условия, такие как сильная жара и засуха. После того как это произошло, гиппарионы начали распространяться по всему свету.
Это изменило мир. Комбинация двух типов трав – один процветает в тепле, другой в холоде – стала силой, способной покорить всю планету. Если подумать, решение очевидно: холодолюбивая трава прекрасно чувствует себя в прохладный сезон, a теплолюбивая в жаркий. Если обратиться к конкретным видам, картина усложняется, однако для наших целей достаточно знать, что ни один из них не лучше другого. У каждого есть преимущества и особенности, но вместе они составляют отличный тандем.
Иногда обе травы растут в одном месте, и когда засыхает одна из них, другая, наоборот, расцветает. Явление это заметно на любой загородной лужайке. На многих из таких лужаек травы обоих типов присутствуют хотя бы в небольшом количестве. Одни зеленеют весной, летом буреют, a потом снова зеленеют осенью. Другие зеленеют летом. Так что если вы увидите летом бурые пятна на зеленой лужайке, то не стоит думать, что растения погибли. Они живы и отдыхают, дожидаясь возвращения более прохладных дней.
В диких краях тоже происходит нечто подобное. Травы прохладного и теплого сезонов могут расти в одном и том же регионе, так что лошади получают возможность рассчитывать на свежий корм большую часть года. Когда засыхает одна разновидность травы, зеленеет другая. Коням оставалось только установить, в каких местах и в какое время года надо искать тот или иной тип травы.
Более того, соотношение между двумя типами трав в регионе могло изменяться со временем. В течение одного десятилетия погодные условия могут складываться в пользу холодолюбивых трав. В следующем десятилетии погода может благоприятствовать травам теплого времени года. Все это в долгой перспективе делало травяную биосистему более устойчивой.
Первоначальный этап распространения двух типов трав в Африке хорошо коррелирует с триумфом гиппариона. Сара Фикинс также изучала глубоководные осадки, взятые из Аденского залива. Исследования показали, что в Восточной Африке после Гиппарионовой даты оба типа травы попеременно покрывали ландшафт, следуя схеме изменений осадков и температур[105].
Коллега Фикинс Кевин Уно рассмотрел способы приспособления некоторых африканских животных к новым травяным лугам, изучив зубы коней, носорогов и прочих тварей, живших 10 млн лет назад[106]. Систематизировав характер износа ископаемых зубов, Уно обнаружил необычную гибкость лошадей в своих пищевых повадках. Прошло не более полумиллиона лет после появления в Африке нового типа трав, которые ученые называют травами C4, а кони уже питались ими[107]. И у коней, поедавших эти травы, уже были новые зубы.
С нашей точки зрения, конечно, полмиллиона лет – срок долгий.
«Если судить по геологической шкале, то, напротив, удивительно быстрый», – сообщил мне Уно.
Изучая зубы одного типа, принадлежащие одному и тому же виду животных, он обнаружил, что до распространения трав C4 на поверхности зубов гиппарионов располагались острые как нож зазубрины, что свидетельствовало о том, что эти животные питались пищей, которую не нужно было долго пережевывать. Но через полмиллиона лет после распространения лугов оказалось, что поверхности зубов стали более плоскими. Теперь лошадям, обитавшим в том же самом районе Африки, приходилось дольше жевать пищу, прежде чем проглотить ее. Результат процесса был виден на зубах.
Так кони еще раз продемонстрировали свою чрезвычайно высокую приспособляемость. Ни одно другое животное, по мнению Уно, не способно на столь быструю адаптацию к новым условиям.
«Существуют две стратегии приспособления к изменившимся природным условиям, – однажды сообщил мне палеонтолог Ричард Халберт. – Отправиться искать те уголки мира, где изменения незаметны. Или приспособиться».
Лошади приспособились.
* * *
Однако в то время, когда гиппарионы расселялись по Старому Свету, их вытесняла из Северной Америки новая, более крупная и быстрая порода, которую подтолкнуло к развитию распространение новых трав. Нам кое-что известно об этом переходе благодаря другому вулканическому извержению, на сей раз куда более мощному, чем то, на чьем пепле остались следы в Лаэтоли.
В день поразившей Северную Америку катастрофы, происшедшей примерно 12 млн лет назад, лошади различных видов паслись на травяной равнине там, где теперь находится Небраска. Быть может, несколько животных укрылись от палящего солнца в тени деревьев каштана и каркаса, тут и там поднимавшихся над ландшафтом. Быть может, кое-кто из них ощипывал листья с кустов. Большая часть животных, скорее всего, увлеченно «стригла» траву, выросшую на месте эоценовых болот. Компанию лошадям составляли безгорбые верблюды, саблезубые олени, странного вида носороги, несколько видов собак, элегантные цапли и длиннохвостые птицы-секретари.
Пока все они паслись, в 1000 километрах от них к северо-западу взорвался супервулкан. В отличие от извержения Лаэтолийского вулкана, извержение Бруно-Джарбидж носило смертоносный характер. Его пепел распространился на сотни квадратных километров, захватив равнину, на которой паслись кони. Крошечные пузырьки расплавленного кремнезема – похожие на мыльные, только гораздо меньше – взлетели над вулканом и лопнули, разломившись на множество стекловидных изогнутых микроскопических осколков, словно на парашюте разнесенных на 1000 километров дувшим с востока ветром. Когда эти осколки наконец осыпались на землю, кони и прочие пастбищные животные начали вдыхать их во время еды. Представьте себе, что несколько стеклянных елочных игрушек раскрошили молотком в пыль, а потом рассеяли эти мелкие лезвия над травяным полем. Такую острую пыль пришлось против желания вдыхать животным.
Палеонтологи сумели установить порядок, в котором умирали животные. Первыми на землю упали мелкие птицы: их легкие получили тяжелые повреждения. Следующей жертвой стали мелкие наземные животные. Потом в результате повреждения легких микронными частицами кремнезема, попадавшими в организм с каждым вдохом, начали медленно умирать животные более крупные, в том числе лошади. Последними погибли носороги, обладатели самых объемных легких.
Смерть была медленной и мучительной. Лошадям, наверное, было трудно дышать, но никакой надежды на спасение у них не осталось. Страдающие животные собрались возле местного водопоя, в небольшой впадине, наполнявшейся дождевой водой. Воды в этой рытвине не могло быть много, однако крошечный оазис, по всей видимости, предлагал животным какое-то утешение. Быть может, коней мучила жажда или же они искали прохладную грязь, чтобы смягчить жуткую лихорадку. Медленное удушение вызывало повреждения костей, легких, отеки внутренних органов – последствия до сих пор видны на многочисленных скелетах, оставленных в наши дни in situ[108] для посетителей.
Когда все они умерли, над прерией, как и прежде, дул ветер. Легкий пепел поземкой засыпал трупы животных, погребая их.
12 млн лет спустя, в 1971 году, палеонтолог Майк Ворхис и геолог Джейн Ворхис обнаружили в этой местности американский Lagerstätte, одно из подобных Месселю месторождений. Как и карьер Мессель, расположенное в Небраске месторождение, получившее название Ашфолл[109], уникально (см. рис. 8). Окаменелости Месселя были спрессованы между тонкими, как лист бумаги, слоями глины и водорослей. В Ашфолле пепел был легок, и тела животных сохранились объемными, как тела жертв извержения Везувия. Крошечные стеклышки и убили этих животных, и сохранили их. Майк Ворхис сравнивал этот материал со сверхлегкой упаковочной крошкой, используемой при пересылке по почте хрупких объектов.
«Причина, по которой эта крошка так хорошо работает, заключается в том, что частицы ее изогнуты, – объяснил он. – Будь они плоскими, частицы улеглись бы ровным слоем. Дело в том, что изогнутая частица содержит в себе немного воздуха. Пепел вылетал из вулкана в виде сфер. Соударяясь, они разламывались, образуя небольшие изогнутые осколки вулканического стекла».
Конечно, невооруженным взглядом эти изогнутые частички нельзя увидеть. Но, впервые побывав на месте раскопок, я потерла щепотку местной пыли между пальцами. На ум пришло сравнение с мукой. Вроде бы ничего страшного. Потом я почувствовала несколько мелких, почти незаметных уколов. Так что, если подышать подобной взвесью в течение хотя бы нескольких дней, можно погубить легкие.
Открытый для посещения Национальный памятник природы Ашфолл иллюстрирует ключевую поворотную точку в истории лошади. Сохранность его находок настолько велика, что ее можно назвать даром богов. Разрешается войти в здание, под крышей которого в земле лежат скелеты животных, знаменующие собой историческое мгновение глобальной перемены. Палеонтологи уже обнаружили в Ашфолле пять различных видов останков лошадей, начиная от трехпалых животных, лишь немного превосходивших размером перволошадей, и заканчивая однопалыми, почти такими же рослыми, как современные кони.
Рис. 8. Останки телеоцерасов (вымерший род носорогов)
в Национальном парке Ашфолл. Небраска, США
Интересно здесь еще и то, что, по словам Ворхиса, всего за несколько миллионов лет до этого исторического момента в регионе обитало одновременно двадцать видов лошадей. Затем началась засуха. Геологам это известно, потому что они обнаружили слой окаменевшей селитры как раз под слоем, содержащим останки коней Ашфолла. Ворхис утверждает, что существование этого слоя указывает на наличие «важного иссушающего события», которое могло свести число наблюдаемых в регионе видов лошадей с двадцати до пяти.
Обычно найденные палеонтологами окаменелости пребывают в виде кусков и обломков. Часть черепа обнаруживается в одном месте. Часть хвоста залегает в 3 метрах от черепа. Растащить обломки могли падальщики, но возможно, что после смерти животного случилось наводнение и потоки воды разъединили кости. Исследователям часто трудно определить, как увязываются друг с другом отдельные кости, однако в Ашфолле такой неопределенности быть не может.
Скелеты здесь остаются целыми – во многом благодаря счастливой для ученых случайности. С момента смерти животных прошли миллионы лет, в течение которых северную часть континента занимал ледник, сметавший все на своем пути. По причине разрушительной природы ледяного покрова мы не располагаем надежными данными о жизненных формах, оставшихся под ним.
Ледяной щит остановил свое продвижение всего в 11 километрах от места, в котором упокоились в пепле лошади. Если бы лед продолжил свое движение, Ворхис, скорее всего, ничего не обнаружил бы.
Я спросила его о том, почему ледяной щит не зашел дальше на юг, и Ворхис немедленно исправил мою формулировку.
Дело было не в том, что лед не мог более продвигаться здесь в сторону юга, пояснил Ворхис, а в том, что лед не мог более подниматься в гору. Самый недавний ледяной щит, покрывавший большую часть Северной Америки, в некоторых местах достигал высоты в несколько километров. Масса этой шапки толчками проталкивала пласты льда все дальше и дальше, однако концы этих пластов могли подниматься над уровнем моря только на определенную высоту. На востоке Небраски лед сумел подняться всего на 500 метров над уровнем моря.
Ашфолл, поведал мне Ворхис, расположен на высоте 518 метров над уровнем моря. Задумавшись, я попыталась представить себе все палеонтологические свидетельства существования лошадей, которые наверняка разрушил безжалостный лед. Насколько больше мы смогли бы узнать, если бы не обледенения, пожаловалась я Ворхису.
«В биологической летописи происходит слишком много такого, – согласился он, – что не оставляет после себя никаких следов. Ископаемые останки на самом деле большая редкость». Голос его был полон сожаления.
Поскольку скелеты в Ашфолле уцелели полностью – а также поскольку плоть удивительным образом в некоторых местах сохранилась в обезвоженном виде и не была разрушена бактериями, – месторождение предоставляет исследователю уйму информации. Ученые могут изучать структуру хрящей в ногах лошади, соединение костей скелета связками и жилами, могут даже определить, какими растениями питалось животное. Удивительным образом на шее одного из животных сохранилась мускулатура. Нам известно теперь, что вулкан, скорее всего, извергся в конце зимы или ранней весной, поскольку в матках некоторых кобыл обнаружились жеребята, которые, согласно утверждению Джейсона Рэнсома и его коллег, чаще всего рождаются у диких лошадей именно в этот период.
Скелеты Ашфолла остаются на том месте, где они находились все последние 12 млн лет, и в летнее время музей доступен для посещения. Рабочие старательно сметают пепел с окаменелостей. Ворхис предпочитает именно такой подход.
Я спросила его о причине.
«Мне все время казалось, что я разрушаю местонахождение, – ответил он. – Оставаясь на своем месте, окаменелости способны донести до нас больше информации». Например, рассматривая расположение окаменелых останков животных, мы можем заметить, что они не соприкасаются друг с другом. Умерев от испуга, в панике, они жались бы друг к другу. Но они лежат по отдельности.
«Так, словно прикасаться друг к другу им было слишком больно», – заметил Ворхис.
Ашфолл – это снимок критического момента в эволюции лошадей. Среди пяти видов обнаруженных в пепле лошадей присутствуют три вида гиппарионов. У всех троих боковые пальцы проявлены сильнее, чем у более молодого лаэтолийского гиппариона. И эти пальцы явным образом функционировали. В грязи, окружающей пруд в Ашфолле, остались такие же следы гиппариона, как и в Лаэтоли.
«Вы видите именно то, что можно было ожидать, – сказал мне Ворхис. – Эти следы в точности подобны тем, которые оставляет неподкованная современная лошадь. За одним исключением: позади отпечатка основного копыта находятся отпечатки боковых пальцев».
И если посмотреть на анатомию ноги, видно, что оба боковых пальца обладают наборами связок.
Однако удивительно то, что в Ашфолле присутствуют также однопалые кони. Иными словами, Ашфолл запечатлел для нас тот момент, когда у лошадей возникло современное копыто: трехпалые и однопалые кони жили одновременно. Такой вот викторианский идеал эволюции. Явное наложение обоих вариантов в Ашфолле указывает на то, что эволюция нелинейна по своей природе – одно не всегда наследует другому, возможно и одновременное существование.
Еще более удивителен тот факт, что в этом месторождении рядом лежат однопалый конь плиогиппус (Pliohippus) и трехпалый конь, носящий то же самое научное имя. Однако трехпалый плиогиппус уже не пользовался боковыми пальцами.
Я спросила у Ворхиса о том, как он понял, что эти пальцы бесполезны.
«Если посмотреть на косточки в боковых пальцах [этих плиогиппусов], можно заметить, что они не соединены связками. То есть боковые пальцы в данном случае бесполезны, – ответил Ворхис. – И через не слишком-то большое число поколений они исчезнут полностью».
«В рамках одного и того же рода?» – спросила я.
«Одного и того же вида», – ответил он.
Я была потрясена. Один вид с двумя различными строениями ног. Неужели в данном случае разница столь же невелика, как между черным и каштановым цветом волос? Или, быть может, различие в количестве пальцев диктовало важную разницу в образе жизни отдельных животных? Равным ли успехом пользовались оба варианта? И если так, почему трехпалые кони полностью вымерли?
Возможно, Дарвин немало бы удивился, обнаружив вид, представители которого имеют два варианта строения ног, однако вполне возможно, что он был бы доволен. Разве может существовать лучшее доказательство справедливости его эволюционной теории? 12 млн лет назад, за 8 млн лет до того, как кобылка гиппариона вместе со своим жеребенком нос к носу столкнулась с австралопитеком афарским в Лаэтоли, в Северном полушарии, на другом краю света, возникла однопалая лошадь, медленно обгоняя с эволюционной точки зрения трехпалых лошадей.
Стоять над этим раскопом, видеть явное свидетельство того, что кони менялись, реагируя на изменения самой планеты, было чудесно, но и несколько странно. Я попыталась представить, что мог ощутить Дарвин, если бы ему было известно об этом месте или если бы он имел возможность посетить его. Такой визит мог бы подтвердить его теорию и даже несколько усовершенствовать. Возможно, он сумел бы понять, что эволюция – это не путь к «совершенству», не «прогрессивное направление», а мера приспособления. В некоторых ситуациях, разыгрывавшихся в то время на равнинах Северной Америки, трехпалые лошади обладали преимуществом. Но в других ситуациях это преимущество переходило к однопалым.
Итак, почему эволюция лошади в конечном итоге привела к использованию всего лишь одного пальца на ноге? Палеонтологи традиционно объясняли этот факт способностью однополой лошади быстрее бегать по открытым пространствам, спасаясь от хищников. Палеонтолог Кристина Дженис, специализирующаяся на эволюции лошадей, предположила, что одно копыто позволяло им проходить большее расстояние в поисках корма. Три пальца прекрасно работали в мире эоцена. В более сухом мире травянистых равнин, предоставлявших надежную опору ноге, бег на одном пальце сулил несомненные преимущества.
Я спросила у Ворхиса, могут ли у коней заново возникнуть три действующих пальца – скажем, если мир вновь вернется в состояние эоцена.
«Скорее всего, нет», – ответил он.
Об этом стоит подумать. Когда кони 56 млн лет назад начали свое существование, перед ними открывался широкий спектр эволюционных возможностей. Но как только животное становится на определенную тропу – начинает бегать на одном пальце, к примеру, – оно может стать настолько специализированным, что «вернуться обратно» ему уже не удастся.
Ворхис согласен с тем, что многие из фактов адаптации лошади в то время были связаны с распространением трав. Ко времени ашфоллского события травы приобрели способность к распространению своих семян с помощью животных. Некоторые семена трав снабжены крючочками на внешней оболочке, способными прицепиться к шкуре любого проходящего мимо животного, которое, не замечая того, привезет семена в такое место, где они смогут прорасти.
«Если вы пойдете по полю, заросшему высокой травой, и подцепите на носок какую-нибудь колючку, то сразу поймете, о чем я говорю, – пояснил Ворхис. – Существует такой вид ковыля, который в Америке называют “нитка с иголкой”[110]. Его семена защищены оболочкой из кремнезема». У этой травы есть покрытая кремнием «игла», которая колется не хуже, чем швейная, и превосходно втыкается в шкуру животного или, если речь идет о людях, в одежду. Выковыривать эти иглы – одну за одной – из носков, ботинок и брюк можно целыми днями. В этом смысле и мы тоже – невольные участники поединка между растениями и животными.
В Ашфолле до триумфа однопалых лошадей было еще далеко. Палеонтолог Даррин Паньяк и его коллега Ник Фамосо, собрав статистику окаменелостей, определили, что 78 % найденных в Ашфолле костей принадлежали трехпалым лошадям и всего 22 % – однопалым[111]. Судя по данной пропорции, будущее трехпалых лошадей не вызывало сомнений.
Однако мир продолжал меняться.
* * *
В итоге выжили только однопалые лошади. Свидетельство тому – находящийся в Айдахо так называемый Карьер хагермановой лошади, в котором были обнаружены фрагментированные лошадиные кости. Попытавшись соединить их, ученые установили, что здесь захоронены останки примерно двухсот животных, причем все они погибли чуть более 3 млн лет назад, возможно во время наводнения, после чего их тела упокоились на речном берегу[112].
Все обнаруженные здесь лошади были однопалыми. Все они относились к одному и тому же виду – Equus simplicidens, или американской зебры, – послужившему прародителем для современных скаковых лошадей, зебр, ослов и лошадей Пржевальского. В известном смысле Equus simplicidens подобна эпигиппусу – в том, что будущее коней как таковых зависело всего от одного вида.
Однако, в отличие от эпигиппуса, Equus simplicidens не принадлежала к редким видам. Зебра процветала – обладая длинными ногами, копытом на единственном пальце, гибкой пищеварительной системой, большим мозгом и прочными зубами. Все эти качества слились воедино, создав животное, превосходно приспособленное к реалиям Северной Америки тех времен. Эволюция этого животного сделала его способным выдержать чрезвычайно разнообразные внешние вызовы, питаясь при этом такой пищей, которую отвергли все прочие травоядные.
За короткое время Equus simplicidens распространилась, породив много видов.
А потом что-то произошло – случился своего рода «идеальный шторм»[113]. После 56 млн лет эволюции лошади в Западном полушарии вымерли.
Почему? Если кони научились выживать при внезапных скачках температуры, если они научились есть содержащую кремнезем траву, когда исчез виноград, если они расстались с четырьмя пальцами на передних ногах, оставив себе только один – все это выживания ради, – тогда почему же к 1492 году, к прибытию европейских колонизаторов, на континенте вообще не осталось ни одной лошади?
Дарвин пытался найти разгадку, но так и не сумел этого сделать. За последние 150 лет обрели решение многие другие смущавшие великого ученого тайны эволюционного пути лошадей, но эта так и не нашла своего объяснения. Пока она остается предметом горячей, иногда даже слишком жаркой дискуссии. Более того, порой эти споры могут служить примером «науки в самых негативных ее проявлениях», если воспользоваться фразой биолога Билла Стривера.
Хотелось бы узнать две вещи: что случилось с лошадьми Западного полушария? И еще – откуда в науке столько противоречивых мнений на этот счет?
5
EQUUS
Копыто подобно второму сердцу лошади.
ДЖ. ЭДВАРД ЧЕМБЕРЛИН Конь[114]
В последний раз в своей жизни этот золотой юконский конь ел лютики[115].
Потребовалось 100 млн лет, чтобы волна, поднятая Меловой наземной революцией, вынесла лютики на северные равнины ледникового периода. И еще примерно половина этого срока, чтобы резвые и теплолюбивые перволошади эоцена преобразовались в представителей рода Equus– в животных, способных выживать в суровых условиях Арктики и питаться этими самыми лютиками.
И вот наконец, по прошествии десятков миллионов лет, в юконской лошади[116], как в мозаике, сошлись черты современной лошади – высокая холка, далеко отстоящий от земли скакательный сустав, позвоночник и ноги, рассчитанные на скорость и выносливость, чувствительная морда и длинные челюсти с большими и крепкими зубами – так сказать, всё в одном.
В 1993 году старатели Ли Олиник и Рон Тоэвс добывали золото возле канадского города Доусон, самую малость южнее 60-й параллели, неподалеку от Северного полярного круга. Однажды сентябрьским днем, когда летний сезон уже подходил к концу, их машины выковыряли из черной жидкой грязи на берегу ручья Ласт-Ченс что-то крупное.
«Что это?» – удивился сын Олиника.
Тот взглянул. Перед ним находился труп лошади. Не одни только кости, как в Ашфолле, и не отпечаток, как в Месселе, а полноценный труп – со всей положенной ему плотью, сухожилиями, гривой, хвостом, внутренностями и кишками. Совершенно свежий – словно бы его только что извлекли из морозилки. Однако само животное показалось ему несколько странным: не столько лошадь, сколько пони, решил Олиник, подумав, что это, наверное, одно из тех горняцких животных, которых старые шахтеры использовали для перевозки телег в подземных рудниках.
«От трупа пахло как от сильного здорового коня – так пахнет лошадь после работы, – сказал он мне. – Сперва высунулась нога. А затем мы увидели шкуру».
И чем больше он размышлял, тем меньше нравилась ему идея горняцкого коня. Ну было в ней что-то не то. И потому он кое-куда позвонил. Приехали палеонтологи, вытащили коня из грязи и отправили его в лабораторию определять возраст.
Оказалось, что усопшее животное жило на земле в ледниковый период, возраст его составлял почти 30 000 лет. Лошадь эта жила в Арктике, на Юконе, в то самое время, когда на другом конце засушливых степей Евразии палеолитические художники рисовали лошадей на стенах пещер будущих Франции и Испании, а резчики украшали оружие изображениями коней.
Шкура этого конкретного юконского жеребца отливала желтым цветом, кроме того, у него была длинная, светлая ниспадающая грива и такой же хвост. Экспертов удивило уже это, поскольку принято было считать, что до одомашнивания все кони обладали короткой щетинистой гривой и куцым толстым хвостом.
Рост лошади Олиника достигал примерно 120 сантиметров в холке, кроме того, по современным стандартам у этого животного была непропорционально большая голова. Он, в общем-то, был совсем невелик, весил больше 30-килограммовой кобылы из Лаэтоли, но все-таки гораздо меньше, чем 300-килограммовое современное упитанное животное. Старые американские ковбои назвали бы этого коренастого, толстоногого, наделенного крупной головой и приспособленным к вдыханию холодного воздуха носом коня «молотоголовым».
Исследования ДНК засвидетельствовали, что животное это, без всякого сомнения, принадлежит к современному роду Equus. Он как тот самый конь с заднего двора и с арены цирка. Он как тот самый конь, который бегает по пустошам американского Запада и, невзирая на свой неэлегантный нос, состоит в родстве с горбоносыми арабскими лошадьми. На мой взгляд, он выглядит очень практично, будучи способным перенести все, что уготовит ему жизнь. Как Уиспер. Так что мой золотой вермонтский конь честно заработал свои способности.
Раны на теле юконского коня наводят на мысль об участии хищника в его смерти. На шее остались следы зубов, вероятно волчьих. В желудке коня обнаружены конские волосы. Это заставило палеонтолога Гранта Зазулу предположить, что животное было ранено, однако пыталось, зализать рану. Возможно, конь попал в грязевую яму, затянувшую его как в зыбучий песок. Однажды я завела Уиспера в подобную трясину, из которой ему удалось высвободить свои однопалые ноги лишь после того, как я спрыгнула с его спины.
Хотя мы не можем точно сказать, как именно умер юконский конь, Зазула много знает о том мире, которым тот наслаждался при жизни. Он жил в парке, красивом, как на картинке, – засаженном редкими деревьями, но не покрытом лесом. Чем-то похожим на альпийские луга. Быть может, даже отчасти похожим на горы Прайор, которые я посещала в компании с Джейсоном Рэнсомом.
Коня окружали чудесные разнообразные луга. Здесь росли любые вкусности, которых может захотеть лошадиная душа, причем с самой ранней весны до глухой зимы. Исследование хорошо сохранившихся нор, оставленных различными тварями, позволило обнаружить пыльцу тридцатитысячелетней давности и остатки по крайней мере шестидесяти различных видов трав и осок.
Что касается интересов нашего коня, здесь росли кустовые злаки, полынь сушевицевидная, дикий рис, маки, звездчатка, или мокрица… и лютики. Зимы конечно же были суровыми, однако конь вполне мог найти свежую зелень между редкими, нанесенными ветром снежными сугробами. Даже сегодня ученым случается обнаружить под снегом еще зеленые травы, которые росли и в те времена, когда умер этот конь.
Климат в ту пору был на Юконе сухим и даже засушливым. Выпадало очень немного снега, мелкого, как мука. Ветер собирал снег в сугробы, которые также помогали коню, потому что таяли весной, когда возвращалось солнце, и талая вода впитывалась в почву, рождая новую зелень. Конь мог бродить между увлажненными участками и щипать свежую траву, как только заканчивалось темное время года. Молодые травы содержали много протеина. Джейсон Рэнсом замечал, как современные кони пользуются похожим преимуществом сугробов: «В конце лета кони могут перемещаться от богатой питательными веществами весенней зелени на южных склонах гор к столь же богатой ими зелени на северных склонах».
* * *
Хотя мы именуем этого коня юконским, географически эта местность представляла собой самую восточную часть региона, называемого Берингией, простиравшегося от крайней западной оконечности канадского Юкона и уходившего в Сибирь. Миллионы лет Берингия медленно качалась на земной поверхности, словно яблоко на воде: иногда она частично уходила под воду, как сейчас, иногда возвышалась над ней. Во времена поднятия суши регион имел внушительные размеры – в некоторых местах до 1000 километров в ширину.
Уникальная в своих качествах Берингия в ледниковые эпохи также была садом Эдема – только более сухим, холодным и более требовательным, чем Мессель. Жить в Берингии мог конь, совершенно непохожий на маленькую перволошадь. Equusже был создан для этой задачи. И в самом деле, Берингия была вполне сродни юконскому коню – во всяком случае, если сравнить ее с прочими областями Северного полушария, которые покрывал ледяной покров местами до 1,5 километра толщиной.
Лошади прошли к этому времени долгий путь от эоценового рая, когда им были необходимы дождь и виноград. Полярные ночи не могли смутить юконского коня, уже наделенного огромными глазами, способными заметить подозрительное движение на большом расстоянии даже в очень скудном свете. Это животное обладало превосходным слухом. Жизнь его во многом зависела от ушей, управлявшихся шестнадцатью небольшими мышцами, позволявшими коню шевелить ушами, с большой точностью направляя их в сторону источника сомнительного шума, даже предельно слабого. Он мог наставить уши вперед, чтобы во время движения слышать все, что происходит вокруг, а мог и прижать их к голове, давая спутникам возможность понять его неудовольствие. Его обоняние, уже начинавшее развиваться у маленьких перволошадей, стало настолько отточенным, что несущиеся в воздухе ароматы или запах навозной кучи, оставленной другим конем, были для него тем, чем становится для нас книга: источником информации об окружающем мире. Крепкие общественные инстинкты помогали коню воспринимать настроения прочих членов табуна, и, замечая, что другой конь поднял уши и внимательно вглядывается вперед, он немедленно следовал его примеру, пытаясь распознать далекую еще опасность.
Не будем называть юконского коня «совершенной» лошадью, потому что эволюция так не работает, однако можем сказать, что наследственность сделала его легко приспосабливающимся, общественным и умным животным. Интеллект был необходим этому зверю. Обильные пастбища находились в дождевой тени[117] высоких прибрежных гор, поэтому там, где жил этот конь, снега было немного, в отличие от ветра. Нам известно это, потому что ученым удалось обнаружить колоссальные лёссовые наносы. Эта легкая пыль – подобная той, которую ветер уносил с центральных североамериканских равнин в 1930-е годы, и той, что и в наши дни потоками носится над некоторыми областями американского Запада, – высоким облаком стояла над всей Берингией.
При всей опасности этих бурь лошади умели переносить их. Сделать такой вывод нам помогают данные об огромной численности коней, живших в то время в регионе. Кости плейстоценовых лошадей встречаются чрезвычайно часто. Палеонтолог и натуралист Дейл Гатри причисляет лошадей к «большой тройке» млекопитающих[118], обитавших в ту пору на самых северных равнинах. Кони, бизоны и мамонты, по словам Гатри, являли высшую власть в этом холодном климате.
Таким образом, Берингия представляла собой дом для многих видов живых существ, а не просто «сухопутный мост» между континентами, как меня учили в детстве. В таком качестве ученые рассматривали Берингию в 1930-е годы – как переходный перешеек, позволявший животным и людям путешествовать из Северной Америки в Азию и обратно. Смысл всех теорий вращался вокруг миграций. Я читала про «сухопутный мост» примерно в то же самое время, когда узнала, что «прогрессивная» эволюция превратила лошадей из мелкой живности в благородных животных. По территории Питтсбурга, в котором я выросла, протекают три крупных реки, и поэтому я прекрасно знала, что именно представляет собой мост: уродливое железное сооружение, повисшее над водой. Смысл моста, по моему разумению, заключался в том, чтобы куда-то откуда-то попасть. На мосту нельзя оставаться. Первые ученые воспринимали Берингию подобным образом. Им даже в голову не приходило, что на самом деле Берингия могла оказаться фокальной точкой эволюции.
Впрочем, теперь это не так. Геолог Роберт Рейнольдс предлагает видеть в этом регионе не сухопутный, а «пищевой мост», где животные находили для себя хорошие пастбища и где могли чувствовать себя как дома. По мере того как согревается современный мир и тает замороженная тундра, обнаруживаются все новые и новые останки плейстоценовых животных, и теперь мы знаем, что Берингия кишела живыми созданиями. И поскольку звери обитали на этой земле поколение за поколением, они всё больше приспосабливались к миру, в котором жили.
«Эволюция не совершалась где-то в другом месте, чтобы плоды ее потом проникли сюда, – сказал мне Зазула, коренной житель Юкона. – Эволюция происходила в Берингии. И было бы любопытно побывать здесь в то время».
Так что Берингия на свой лад была страной молока и меда.
Конечно, не стоит сравнивать Берингию с Месселем, где вся необходимая пища, считай, находилась у коня под самым носом. Лошадь, жившая на Юконе 30 000 лет назад, по мнению Кристины Джейнис, была способна пройти большие расстояния в поисках пищи. Эта лошадь должна была обладать феноменальной памятью, чтобы фиксировать местоположение всех источников воды. Эта лошадь должна была знать, когда источник наполняется водой, а когда пересыхает. Эта лошадь должна была помнить навесы и долинки, в которых можно переждать непогоду. Эта лошадь должна была уметь при возможности спасаться от хищников бегством, a при необходимости мужественно сражаться с ними.
И еще она должна быть в высшем смысле этого слова общественным животным. Перечисленные познания слишком огромны, чтобы овладеть ими мог один-единственный конь. Эти сведения должны передаваться от поколения к поколению, от старой кобылы к юному жеребенку. И если у тебя были друзья, а также знакомые среди старых, обладающих огромными познаниями и значительным опытом лошадей, если ты был силен, крепок и не боялся холода, жизнь на Юконе могла стать сплошным удовольствием.
Живя в современном мире, мы в колоссальной степени недооцениваем ум лошадей. Нам кажется, что если они исполняют наши просьбы и подчиняются нам, то ума в них немного. Однако, если вдуматься в то, что требовалось от юконского коня, чтобы выжить в эти суровые зимы – без запасов зерна, сена и даже без укрытия, начинаешь понимать всю глубину прозрения Филлис Притор, сказавшей, что живущие на вольном выпасе кони «думают как-то иначе, чем мы».
Нам, приматам, Арктика в общем и целом обычно кажется враждебной. В конце концов, большая часть нашей эволюции протекала в тропиках. Так что не стоит удивляться тому, что первые палеонтологи, которым не приходилось жить в Арктике, но которые «героически исследовали» этот мир (где инуиты благополучно проживают уже далеко не первое тысячелетие), считали, что у полярного круга жить невозможно. Ребенком, читая рассказы Джека Лондона о том, как собачьи упряжки тонули в замерзающих реках, я видела в них подтверждение своих самых худших подозрений о жизни на севере и воображала себе обитающих там животных ведущими жестокое наполеоновское отступление по бесконечным заснеженным полям, постоянно сулящим им смерть от голода и холода.
Подобного рода фантазии безумно раздражают Зазулу. Если юконский конь проживал на Крайнем Севере возле оконечности массивного ледяного щита, мир его, в чем совершенно уверен Зазула, был вполне приветлив к своим обитателям. Проявившийся около 95 000 лет назад Лаврентийский ледниковый щит покрыл большую часть Северной Америки, от мыса Код в Новой Англии на востоке и канадского Юкона на западе. Спустившись на юг, он остановился как раз перед тем местом, где 12 млн лет пролежали кони Ашфолла. Однако большая часть Берингии, протянувшейся на запад на 3000 километров от ледяного щита и захватившей часть русской Сибири, оставалась свободной от льда и лежала над уровнем моря.
Десятки тысячелетий этот край представлял собой тихую гавань, убежище, свободное от безжалостного льда. «Эта особая, холодная и сухая травяная степь была монументальным подобием “внутреннего двора”, со всех сторон окруженного сохраняющими влагу особенностями рельефа: высокими горами, замерзшим морем и массивными континентальными ледниками», – писал аляскинский палеонтолог Дейл Гатри.
* * *
И все же при всей своей приспособленности к условиям севера этот вид лошадей, североамериканский Equus lambei, вымер примерно 8000 лет назад. Дейл Гатри захотел выяснить причину. Обследовав сотни окаменелых костей, собранных в Берингии и хранящихся в Нью-Йорке, в Американском музее естественной истории, он обнаружил, что за прошедшие тысячелетия северный конь уменьшился в размере. Некоторые ученые высказывали предположения о том, что лошадей в Северной Америке истребили люди, охотившиеся на них, однако собранные Гатри свидетельства как будто бы указывали в другую сторону.
«Так какую же роль сыграли люди в вымирании лошадей?» – задала я ему вопрос.
«Никакую, – ответил он. – Для того чтобы обвинять в этом людей, нужно иметь хоть какие-то свидетельства. A во всей Северной Америке не осталось никаких ископаемых, говорящих о том, что местные жители активно охотились на лошадей».
С его точки зрения, причиной вымирания стало изменение климата и вызванное им изменение экосистемы. Когда в конце ледникового периода на планете стало теплее, замерзшие ранее ландшафты сделались влажными, а иногда даже заболоченными. Подобная перемена пришлась по вкусу парнокопытным вроде лосей, однако она не сулила ничего хорошего животным, привыкшим бегать, опираясь на один-единственный палец на каждой ноге. Потепление климата также влекло за собой исчезновение сухих травяных степей, что затруднило коням поиски пропитания.
Гатри полагает, что имеющиеся у него материалы указывают на возникшие у северных лошадей проблемы, связанные с выживанием в новых и незнакомых условиях. «Доказанное мной уменьшение размеров тела свидетельствует о том, что кони переживали нелегкие времена, – сказал он. – Лошади все равно вымерли бы вне зависимости от роли, которую в этом процессе исполнили люди».
Мнение его разделяют и другие исследователи. Молекулярный биолог Бет Шапиро обнаружила в ДНК свидетельства того, что вымирание северных лошадей началось еще 37 000 лет назад и выглядело как уменьшение численности поголовья.
Зазула согласен с ней. Появление людей в Берингии и исчезновение в ней лошадей произошло практически одновременно, и потому с точки зрения нашей удаленной перспективы эти события кажутся взаимосвязанными. Из этого отнюдь не следует, что одно из событий стало причиной второго. Скорее всего, по мнению Зазулы, оба они свидетельствуют о том, что мир севера менялся; вполне возможно, что люди пришли сюда, следуя за обоими видами лосей, примерно в то же самое время появившимися на Юконе. Все эти события говорят о больших переменах в мире.
«По правде говоря, положение дел здесь начало быстро изменяться за 15 000 лет до нас, – добавил он, подразумевая, что изменения климата здесь бывали настолько внезапными, что происходили в течение одной человеческой жизни. – Мир Крайнего Севера рассыпается на части очень быстро. И тогда горе местным животным».
Ситуация была аналогичной по всей Северной Америке.
* * *
B период между 15 000 и 10 000 лет назад в Северной Америке и большей части Северного полушария стало значительно теплее. Нам это известно благодаря образцам льда, взятым из ледяного покрова Гренландии и некоторых других мест; анализируя их, мы можем проследить изменение содержания различных изотопов кислорода, двуокиси углерода, метана и прочих атмосферных газов, свидетельствующее о флуктуациях температуры. Например, чем больше метана находится в данный момент в атмосфере, тем теплее на планете.
Оказалось, что эпоха, которую многие из нас называли «ледниковым периодом», воображая мир закованным в вечный ледяной панцирь, была не последовательностью ледниковий, с удивительным постоянством накатывавших на Северное полушарие и отползавших обратно. В конце плейстоценовой эпохи температура подчас росла и падала столь внезапно, что одна из групп ученых сравнила этот климат с работой «теплового реле»[119].
Интенсивное таяние северной полярной шапки началось около 14 500 лет назад, однако даже этот процесс не был длительным и равномерным. В одних регионах лед исчезать не торопился, в других таял быстро. Никакой синхронности. Таяние происходило хаотично, ускорялось и замедлялось. Ледники таяли, а потом начиналось новое похолодание. Благодаря подобной нестабильности растения, присущие данной местности, могли не взойти на следующий год. Это означало, что зависящие от этих растений животные не находили их в привычное время и в привычных местах.
Благодаря потеплению менялся и состав досаждавших животным насекомых. Более того, ученые прослеживают флуктуации температур в прошлом отчасти по находкам различных видов жуков, теснее других живых существ связанных с температурой. Такая мелюзга, как жуки, способна помочь нам расшифровать тайны палеоклимата в неменьшей степени, чем само наличие ледниковых щитов. Зная температуры, которые предпочитают разные виды жуков, можно оценить температуру, соответствовавшую в прошлом конкретному временному эпизоду.
Все это указывает на то, что вымирание лошадей в Северной Америке связано с крупным климатическим событием, произошедшим на континенте. Примерно 12 900 лет назад период глобального похолодания, называемый поздним (иногда младшим) дриасом, резко прервал общую тенденцию к потеплению.
Потом, около 11 500 лет назад, температура вдруг резко скакнула вверх примерно на 4–5 °C – в некоторых местах всего за шестьдесят лет. Поздний дриас напоминал Эйфелеву башню жары, с которой начался эоцен, только перевернутую вверх ногами. Сперва было холодно, потом стало тепло. Потепление не было равномерным по всему земному шару. Изучение пыльцы указывает, что в Амазонии наблюдались лишь минимальные всплески и что даже на севере в некоторых уголках температура оставалась неизменной.
Подобная аномалия по-разному подействовала на различные виды. Во всяком случае, один из них – Homo sapiens –отреагировал резким изменением образа жизни: археологи связывают начало земледелия и животноводства с потеплением и высыханием Среднего Востока, население которого прежде полагалось на охоту и собирательство. Когда количество диких животных сократилось вследствие изменения температуры, нам пришлось научиться одомашнивать их. Еще нам пришлось учиться выращивать урожай и копать примитивные каналы – чтобы регулировать поступление воды на поля. Очевидным образом изменение температуры планеты оказало стимулирующее воздействие на человечество. Перемена эта повлияла и на другие живые существа.
Причина потепления остается неясной. Одна из теорий, пользующаяся значительной поддержкой, утверждает, что при таянии североатлантического ледникового щита в Северную Атлантику попало столько пресной воды, что изменились океанические течения, схемы распределения осадков и ветра. Другая предполагает, что при таянии ледникового покрова образовалось большое количество айсбергов, доплывавших до Иберийского полуострова, нарушая картину океанических течений. В поддержку этой теории свидетельствует находка океанологов, обнаруживших на дне океана груды камней непонятного происхождения. Возможно, эти камни попали на дно из тающих айсбергов.
К несчастью, при рассмотрении плейстоценовых вымираний самые точные наши данные ограничены Гренландией, Антарктидой и отдельными областями Европы. Мы не знаем в точности, как вела себя температура на большей части территорий Северной Америки. У нас нет нужных подробностей.
Известно нам лишь то, что нестабильность зашкаливала. В книге «Великая котловина» (The Great Basin) археолог Дональд Грейсон описал хаос, воцарившийся в землях американского Запада в период между 15 000 и 10 000 лет назад[120]. На континенте царил хаос библейского масштаба. Озера переполнялись водой, вызывавшей крупные потопы. Некоторые озера, подобные Большому Соленому, наполнялись и усыхали, снова наполнялись и теряли воду. Отдельные регионы то цвели, то погружались под воду, а в прочие времена превращались в пустыни.
* * *
В то время как доступные свидетельства указывают на то, что в отдельных укромных уголках Дальнего Севера вид Equus lambei просуществовал по меньшей мере до рубежа 8000 лет назад, на остальной территории Северной Америки лошади вымерли около 11 000 лет назад. В некоторых регионах вымирание как будто произошло внезапно. Одно из таких мест – битумные ямы Ла-Брея в Лос-Анджелесе. Здесь, в Lagerstätte юго-западной прибрежной области Северной Америки, лошади водились в изобилии еще 40 000 лет назад. А потом, около 11 000 лет назад, они исчезли.
«Вот они есть – а вот их и нет», – сказал мне палеонтолог Эрик Скотт, когда я побывала в Ла-Брея. От исчезновения лошадей до появления людей в этой области должно было пройти еще 2000 лет.
Открытое для посещения место палеонтологических исследований Ла-Брея уникально (см. рис. 9). Оно расположено посреди городской застройки Лос-Анджелеса, в самом центре города, возле магазинов дорогой одежды, первоклассных художественных галерей и музеев. Всего в сотне метров под этими зданиями находится нефтеносное поле Солт-Лейк, подземный бассейн, наполненный густой сернистой нефтью, медленно просачивающейся на поверхность из земных глубин. Поднявшаяся вверх нефть образует лужи густой смолы, к которой в жаркий день может прилипнуть любое животное, которому хватит ума пройти по такой лужице. Получается нечто вроде природной липкой мухоловки. Лужицы эти, припорошенные листвой и пылью, даже сегодня могут вызвать кое-какие проблемы. Некто неосторожный может легко наступить на, казалось бы, твердую землю и обнаружить, что нога его погрузилась в битум. Время от времени персоналу Ла-Брея приходится спасать какую-нибудь мелкую живность, скажем белку, безнадежно прилипшую к смоле.
Рис. 9.Палеонтологические находки битумных ям Ла-Брея
© Everett Historical / shutterstock.com
Именно это, говорят ученые, и происходило здесь примерно 40 000 лет назад и далее. Несчастные лошади, бизоны и прочие твари, попадая в липкую ловушку, спастись не могли и гибли, не сходя с места. К жертвам присоединялись некоторые животные, в частности ужасные волки, частенько питавшиеся попавшими в западню животными, но также прилипавшие к смоле, погружавшиеся в недра битумного озера и лежащие там до того момента, когда их обнаружат палеонтологи, извлекут из ямы, зачистят и исследуют.
Еще век назад, когда ученые начали исследовать Ла-Брея, они обнаружили в яме столько костей, что устроили возле нее постоянную исследовательскую лабораторию. Сперва палеонтологи изучали здесь только крупных животных, однако теперь занимаются также крошечными семенами и прочими фрагментами растительности и располагают хорошим пониманием экосистемы, в которой жили кони.
Работа здесь требует большого усердия. Я видела, как один из волонтеров с микроскопом и пинцетом изучал кусочек смолы, извлекая из нее образцы семян и прочие части растений для дальнейшего изучения.
«Сколько часов в день вы проводите за этим делом?» – спросила я. «Примерно восемь», – ответил он. «И вам не надоедает?» – «Никогда».
Тут я вспомнила Криса Берда, застрявшего на десять лет в зарослях ядовитого плюща и кудзу для того, чтобы найти всего один конский зуб, и Мэтью Мильбахлера, обмерившего 7000 окаменелых конских зубов, и в очередной раз поняла, что палеонтология – занятие для крепких духом людей.
Исследования в Ла-Брея показали, что во всяком случае в здешних краях исчезновение лошадей не было связано с появлением человека. Ученые обнаружили в битуме всего один человеческий скелет, датируемый временем около 9000 лет назад, то есть попавший в яму спустя пару тысячелетий после последней погибшей в ней лошади. Скотт, специализирующийся в области палеонтологии лошадей, не в состоянии объяснить, почему кони исчезают из местной геологической летописи примерно 11 000 лет назад. Исследование скелетов этих животных не зафиксировало каких-либо заболеваний, ничто не указывает на уменьшение роста, как в Берингии, или на то, что их кости по какой-то причине стали хрупкими. Кони просто исчезли.
Однако это вымирание не ограничилось лошадьми. Исчезли и другие крупные животные. Во всей Северной Америке, по некоторым оценкам, вымерло около 72 % крупных млекопитающих. Во время этого вымирания, получившего название Четвертичного, исчезли североамериканские тапиры, флоридские пещерные и короткомордые медведи, гигантские наземные ленивцы, гигантские бобры, верблюды, саблезубые кошки, ужасные волки, мамонты и мастодонты[121], а также прочие крупные млекопитающие.
* * *
Ученые не сумели пока обнаружить причину этого вымирания лошадей и других крупных животных. По сути, вопрос остается спорным, подчас даже излишне токсичным. В 1960-х годах специалист в области наук о земле Пол Мартин заявил, что «человек и только человек» несет ответственность за исчезновение лошадей в Северной Америке за счет слишком интенсивной охоты на них[122]. Другие специалисты считали виновником климат. Пытаясь разобраться в точках зрения, я обнаружила, что заинтересовалась не только самой тайной, но и не менее загадочной причиной возникновения подобного ожесточения среди спорщиков.
Чтобы во всем этом разобраться, я посетила Ларри Агенброуда[123], в то время директора Мамонтова раскопа в Хот-Спрингс, Южная Дакота, места, в котором 26 000 лет назад утонуло стадо молодых самцов мамонта, причем останки их дошли до нашего времени в хорошей сохранности. Там же были обнаружены и останки других животных: рыб, лягушек, птиц, кроликов, белок, волков, койотов и даже ламы.
Лошади самым подозрительным образом отсутствуют в этом списке. Агенброуд сказал мне тогда, что, на его взгляд, лошади слишком умны, чтобы попасться в такую ловушку. Объяснение мне понравилось, однако, положив руку на сердце, должна сказать, что поведение юных жеребчиков, на которое я насмотрелась в Вайоминге, не позволило мне полностью согласиться с его мнением. Молодые жеребцы могут вести себя очень рискованно. И в самом деле, когда Джейсон Рэнсом наблюдал за лошадьми возле Литтл-Бук-Клиффс в Колорадо, жеребца одного из косяков обнаружили мертвым у подножия обрыва. Следы на вершине рассказали о приключившейся там драке. «Один из коней не все рассчитал», – прокомментировал итог драмы Рэнсом.
Агенброуд принадлежал к числу убежденных сторонников того, что именно люди уничтожили в Северной Америке мамонтов, однако не был согласен с тем, чтобы они могли уничтожить еще и коней.
Я спросила его о причине.
«Нигде не обнаружено никаких свидетельств того, чтобы люди охотились на лошадей, – ответил Агенброуд, имея в виду Северную Америку. Он едва не кричал. – У нас нет абсолютно надежной теории, объясняющей их исчезновение. Я считаю, что к тому времени, когда здесь появились люди, лошади уже давно ушли». – «Но все же почему?» – настаивала я.
Он только пожал плечами, a затем сам задал вопрос: «Климат менялся то к лучшему, то к худшему, и они выжили. Так почему же они ушли, когда перед ними накрыли превосходный шведский стол?»
Словом, сказка про белого бычка.
Когда Пол Мартин в 1967 году впервые обвинил ранних людей в кровожадности, он воспользовался при этом очень неудачным и неоднозначным словом «блицкриг». В наши дни слово это не вызовет слишком уж большого недоумения, однако в те годы, когда не изгладилась еще память об ужасах Второй мировой войны, «блицкриг» напоминал людям прежде всего о безжалостных бомбардировках. Выбранная им формулировка подразумевала, что люди культуры Кловис, прибывшие в Новый Свет примерно 12 тысячелетий тому назад, то есть в позднем дриасе, уже располагали революционными охотничьими технологиями и занялись бессмысленным, безумным истреблением местных животных. Находившиеся в их распоряжении прогрессивные орудия, по мнению Мартина, сделали весьма вероятным массовое избиение лошадей и других животных. С подобным мнением не были согласны многие, в том числе представители коренного населения Северной Америки. Пламя спора разгорелось быстро.
По справедливости, Мартин запускал миф. Хотя в его распоряжении имелась четкая корреляция – «люди пришли, животные исчезли», – у него не было подтверждения причины и следствия. Погрузившись в соответствующую литературу, я обнаружила, что Ларри Агенброуд был совершенно прав: на стоянках Северной Америки не найдено никаких свидетельств, подтверждающих крупномасштабное избиение лошадей. Существуют некоторые указания на то, что люди, возможно, действительно убивали лошадей, когда те попадались им, но таких случаев не очень-то много.
Например, одно из подобного рода свидетельств – найденный археологом Денисом Дженкинсом[124] в Орегоне, а именно в пещерах Пейсли, человеческий копролит (окаменевшие фекалии). Эта находка якобы указывает на то, что люди могли обитать здесь очень давно, около 14 300 лет назад. Он также обнаружил в этих сырых и заболоченных в то время местах несколько окаменевших лошадиных костей, а также сделанных человеком каменных орудий со следами лошадиного белка. Однако датировка находки Дженкинса оспаривается другими учеными.
Когда я беседовала с Дженкинсом о его работе, он сказал мне, что, хотя в наши дни эта местность характеризуется как засушливая, в прежние времена она была райским уголком для лошадей: «Здесь было много травы. В других, чуть более возвышенных местах, росли можжевельники и заросли орегонской сосны. Примерно в миле от пещеры располагался берег достаточно глубокого озера, не часто замерзавшего целиком. В месте впадения в него речки находилось болото. Вся местность просматривалась из пещеры. Здесь были мамонты. Кони. Верблюды. Среди прочих хищников забредал американский лев»[125].
Дженкинс предполагает, что ранние поселенцы, кем бы они ни были по происхождению, не задерживались здесь надолго. Он не знает, охотились ли они на лошадей или питались трупами. В любом случае, если признать его мнение (что делают не все специалисты), получится, что люди и лошади сосуществовали на континенте короткое время – за несколько тысячелетий до того, как здесь появились люди культуры Кловис. Но даже если это будет доказано, небольшое количество лошадиных костей скорее указывает на то, что численность лошадей уже шла на убыль задолго до того, как люди умножились в числе настолько, чтобы повлиять на вымирание лошадей.
В другом месте раскопок, Уоллис-Бич, расположенном в канадской провинции Альберта возле границы с Монтаной, Брайан Куймен и Лен Хиллс изучали кости семи лошадей возрастом 13 000 лет, которые, по их словам, были убиты людьми[126]. Семь обнаруженных скелетов лежали на расстоянии нескольких метров друг от друга, что Куймен и Хиллс сочли результатом семи отдельных охот, каждый раз на одно животное. Ученые также обнаружили предметы, которые, по их мнению, могли быть орудием убийства. Лабораторные исследования свидетельствуют о том, что на этих камнях присутствуют следы лошадиного белка, более четкие, чем в Пейсли-Кейвс. Куймен и Хиллс сделали еще один шаг вперед по сравнению с Дженкинсом, предположив, что люди здесь не просто охотились на лошадей, а предпочитали лошадиное мясо плоти прочих животных. Дело в том, что в этом месте были обнаружены следы других зверей, но не останки их. Предположение выглядит конечно же привлекательно, однако и в этом случае другие археологи скептически относятся к этой идее, учитывая все сложности, связанные с точной датировкой.
На территории Северной Америки существует еще несколько мест, где проводятся археологические исследования и где кости лошадей находятся в одном слое с изготовленными человеком артефактами, однако все эти находки подвергаются сомнению. Совершенно ясно одно: в Северной Америке не обнаружено мест, сопоставимых по значению со свидетельствами охоты на лошадей, существующими в Европе и в Азии. Если ранние поселенцы Северной Америки и охотились на лошадей, то масштаб этой охоты никак не способен подкрепить выдвинутое Мартином обвинение «человека и только человека» в упомянутом «блицкриге».
Тем не менее его теория сохраняет свои позиции. Мне приходилось слышать эту мысль так часто, что я всегда принимала ее за правду, поэтому, когда я узнала, что она представляет собой не более чем миф, меня заинтересовала уже причина его возникновения. В то время, когда Мартин сформулировал эту идею, западная цивилизация переживала два серьезных кризиса – всемирную экономическую депрессию 1930-х годов, за которой последовали Вторая мировая война, и страх, вызванный ужасающим могуществом атомной бомбы. Викторианская байка о направленном к совершенству, вперед и вверх, прогрессе человечества закончилась вместе с Первой мировой войной. Затем, после Второй мировой, начался период коллективного самоосуждения, так что когда Мартин выдвинул предположение о том, что горстка людей числом не более сотни, объявившаяся в Новом Свете 12 тысячелетий назад, не только смогла уничтожить целый вид животных, но и охотно взялась за это дело, ему поверили.
К нашему времени ученые скорректировали подобные воззрения. Понятие «блицкрига» ушло в прошлое. Сейчас чаще услышишь термин «фактор перелома». С этой модернизированной точки зрения, учитывающей накопленные свидетельства катастрофических изменений климата, последовавших за таянием ледника (то есть информации, недоступной Мартину, когда он предлагал свою теорию), люди не занимались вселенским массовым избиением лошадей. Однако кое-кто из специалистов предполагает, что люди все-таки сыграли негативную роль в качестве новоприбывшего хищника.
Люди стали «необходимым фактором перелома», как сказал мне археолог Стюарт Файдель: не будь людей, лошади смогли бы выжить. Коллега Файделя, сотрудник Университета Невады Гэри Хейнс, полагает, что уже задолго до появления людей на арене ареал плейстоценовых лошадей начал распадаться на все более мелкие области, так что даже малочисленных охотничьих отрядов хватило на то, чтобы «столкнуть лошадей с обрыва»[127]. Во время лекции об исчезновении лошадей, прочитанной им перед публикой в Королевском палеонтологическом музее Тиррелла (провинция Альберта, Канада) в феврале 2012 года, Хейнс даже рискнул оценить количество лошадей в Северной Америке к появлению там людей: всего 1,2 млн. Не так уж много, учитывая размер континента.
Но вопрос остается прежним: по какой причине количество лошадей могло так сильно сократиться?
* * *
Размышляя о причине и следствии, некоторые философы часто пользуются терминами «проксимальный» и «дистальный»[128]. Проксимальной причиной лесного пожара, например, может оказаться поведение человека, не затушившего костер на отдыхе в лесу. Однако дистальной причиной того же пожара может послужить некий долгосрочный фактор или факторы, например засуха. Аналогичным образом проксимальной причиной катастрофического наводнения в Колорадо в 2013 году, затопившего местность до самой границы семейного имения Джейсона Рэнсома, очевидно, стали не прекращавшиеся день за днем проливные дожди. Дистальная причина может заключаться в том, что длительная засуха убила растительность, которая могла бы помочь влаге впитаться в почву вместо того, чтобы стекать вниз по склону. A еще более дистальной причиной может быть вызванное преображением климата изменение глобальной схемы воздушных течений, доставивших всю влагу из Мексиканского залива в калифорнийскую пустыню.
Сама интерпретация зависит от того, насколько мы желаем погрузиться в изучение причин и следствий. Более глубокое понимание нами температурных режимов и климата конца плейстоцена едва ли не каждый день заставляет нас увеличивать список проксимальных и дистальных причин великого вымирания. Например, палеоботаник Жаклин Джилл обнаружила, что после того, как система растений претерпевает фундаментальную деградацию, становление новой, отличающейся от нее экосистемы требует сотен лет.
И тогда возникает нехватка относительного разнообразия растительности.
Мелкие млекопитающие могут найти путь через это болото, однако, как считает биолог-эволюционист Джон Тайлер Боннер: «Размер имеет значение»[129]. Боннер следующим образом объяснял мне вымирание: «Большинство биологов-эволюционистов скажут вам, что этот процесс происходит среди крупных млекопитающих легче уже потому, что их численно меньше. Грызунов на свете гораздо больше, чем слонов. Шансов вымереть в результате какого-то природного события больше у крупных млекопитающих. Чтобы разделаться со слонами, достаточно истребить не столь уж большое количество этих зверей. Запомните: размер – мера численности вида. И чем она меньше, тем легче его уничтожить».
Я отметила, что это должно оказаться особенно справедливым для таких животных, как представители вида Equus, размножающиеся раз в году. Крупное животное с ограниченной степенью размножения, безусловно, окажется чувствительным к быстрым изменениям климата и растительности. A крупное, немигрирующее животное окажется даже еще более ранимым в этом смысле. Нам неизвестно, мигрировали или нет плейстоценовые кони, однако мы знаем, что современные лошади держатся в определенной округе. Быть может, наличие этого «чувства дома» также сделало их более чувствительными к изменениям экосистемы. Не исключено, что в изменяющемся мире каждая из изолированных популяций лошадей постепенно делалась все менее и менее многочисленной, пока наконец вид Equus просто не исчез с континента, на котором сам он и его предки прожили 56 млн лет. Словно пыль ветром сдуло.
Интермеццо
Однажды весенним днем, когда Уиспер еще жил рядом со мной в Вермонте, выдалась великолепная погода. Виндмилл-Хилл, грунтовая дорога, ведущая к моему дому и конюшне, была покрыта внушительным, до колена, слоем грязи. На моем дворе еще оставалось несколько сугробов, однако небо манило своей голубизной. Запах согревающейся земли пропитывал воздух. На сахарных кленах уже набухали молодые листочки, обочины начинали прорастать травой и кружками юных папоротников. День был такой, что радовалось сердце.
Возрадовавшееся сердце Уиспера исполнилось желанием погулять. Я не заметила, как он ушел и как Грей увязался за ним, однако, повинуясь настырному шестому чувству, встала из-за пианино и выглянула в загон. Коней не было. Они могли остаться в конюшне, так как я оставила для них дверь открытой. Но я сомневалась в этом. Слишком уж хорош был день, слишком заманчивые удовольствия сулил он Уисперу.
Я спустилась с горки, чтобы проверить. Никого. Подошла к переднему двору соседа. Ничего. Осмотрела все обыкновенные места, пройдя с километр по дороге. Нет моих лошадей. И тут я заметила их следы. Похоже было, что оба голубчика спустились с горки к школьному двору. Направление следов было вполне очевидно. Никакого разброда и шатаний. У них была вполне определенная цель.
Я запаниковала. Кто знает, что задумали эти два дурня? В те годы я еще не знала, что лошади редко уходят далеко от своего дома. Мне уже казалось, что искать их придется в Нью-Гэмпшире или даже в Мэне. На развилке грунтовой дороги следы изменили направление, кони повернули направо. Теперь они уходили от школы по заросшей тележной колее, заброшенной уже более века, с той поры, как фермеры Гринхилла отправились на запад искать лучшие поля под пшеницу. Леса Вермонта покрыты такими старыми колеями как кружевом. Зная их, можно ехать от границы штата Массачусетс до Канады. Великолепно – если едешь верхом. И ничего хорошего, если пешком преследуешь загулявших коней.
Искать лошадь проси другую лошадь. Я одолжила кобылу у соседа, взнуздала ее и предоставила ей право решать. Кобыла вполне осознанно сошла с места. Она прекрасно знала, где именно хочет оказаться. Она выбрала другую заброшенную колею, которая довольно быстро превратилась в тропу, но я понимала, что мы нигде не плутаем, потому что тропа шла вдоль одной из едва ли не повсеместно встречающихся в штате обвалившихся каменных стенок, напоминавших о давно покинутых и забытых фермах. Я не скиталась в неведомом направлении. Я ехала во вполне определенное место – правда, неведомое мне. Стоял отличный день для верховой прогулки, однако по мере того, как мы углублялись в лес, беспокойство мое возрастало.
И тут я вдруг увидела своих коней. Опустив головы, они щипали самую великолепную траву, которую может представить себе лошадь. Идеальную траву. Совершенную. Такую траву, которая для них слаще, чем для нас голландский шоколад.
Золотой паломино[130] (см. илл. 12 на вклейке) и серый першерон стояли под яркими лучами весеннего солнышка. Вид у этой парочки, у этих Тома и Гека, был, можно сказать, ангельский, словно бы посреди темного хвойного леса их посетило некое гало, намекающее на святость и невинность, что не имело ничего общего с преступлением.
A надо всем царило ясное синее небо.
Я была потрясена. Эволюция наделила лошадей могучими инструментами выживания. Каким, прости господи, образом могли они найти эту самую лужайку? Что именно, какие чувства и ощущения были встроены в эти мозги для того, чтобы они могли обнаружить в самой середине леса особенное место, на котором растет особенная трава?
В те дни я еще не знала об их древней истории, не знала о событиях, которые в конечном итоге соединили наши жизненные пути. Я ничего не знала о Меловой наземной революции, о возникновении цветковых растений 100 млн лет назад, о растянувшейся на 50 млн лет после этого эволюции трав и их постепенном распространении по планете. Никто не рассказывал мне о постоянном и подчас буйном движении тектонических плит, плавающих на том раскаленном отваре, который кипит в недрах нашей планеты; о холоде, который охватил планету 34 млн лет назад; о палящей жаре, приключившейся 56 млн лет назад; о взлетах и падениях содержания углекислого газа; о близкой гибели, караулившей лошадиный род в дни эпигиппуса; о юконском коне; о Чарльзе Дарвине; даже о том, что кони на родном для меня континенте вымерли в глубокой древности.
Но уже тогда, будучи еще очень молодой, я понимала, что Уиспер подарил мне одно из лучших воспоминаний всей моей жизни.
6
Изгиб шеи
Ровный грохот конских копыт отдается в самой глубине человеческой души.
ТАМСИН ПИКЕРЕЛ Конь. 30 000 лет его изображению в искусстве[131]
Примерно 66 млн лет назад Испания напала на Францию – тектонически[132]. Столкновение намечалось давно. Начиная с дней Меловой наземной революции, иберийская тектоническая плита медленно ползла на северо-восток к евроазиатской плите. Столкновение произошло в конце эры динозавров. Крошечная иберийская плита безжалостно навалилась на не желавшую отступать Европу, за которой стояла вся мощь колоссальной Азии.
Битва эта породила Пиренеи, мощную горную гряду, продутую ветрами, увенчанную почти неприступными вершинами, прорезанную множеством глубоких и плодородных долин. Пиренеи протянулись от Средиземного моря до Бискайского залива на Атлантическом побережье. На топографической карте весь хребет напоминает неровный шов, неаккуратными стежками прихвативший Иберию к Европе.
Однако на самом деле еще со времени оледенений эти горы служили преградой, защищающей живые существа – в том числе лошадей и людей – от буйства холода, снега и льда. Вот почему Иберию называют «рефугиумом», убежищем – тихой гаванью, прикрытой от ледяных щитов, покрывавших север Европы[133].
Подъем Пиренеев стал удачей с точки зрения как возникновения человеческой цивилизации, так и партнерства между конями и людьми. Горы создавали уютную инфраструктуру, в которой могли с комфортом жить люди. Связанные с подъемом гор геологические силы попутно создавали пещеры и каменные навесы – готовое жизненное пространство, в котором члены семьи могли месяцами жить рядом друг с другом, разделяя пищу, работу и идеи, собравшись вокруг общественного костра. Археологи обнаружили свидетельства существования подобных кострищ, окруженных такими грудами обломков и осколков, оставленных обработкой камня и кости, что современные ученые по прошествии десятков тысячелетий способны указать, где именно возле своих костров размещались люди.
Историки пользуются такими словами, как «культурный очаг», для характеристики места – например, Месопотамии, – где по какой-то причине звезды сложились так, что произошел огромный прорыв в человеческой мысли. Культурные очаги создают то, что мы нынче называем «связностью», – способность взаимодействовать с людьми за пределами своего семейства. Естественно образовавшаяся в Пиренейском регионе инфраструктура обеспечила отличную связность между очагами, питавшими рост творческих способностей и интеллектуальный прогресс.
Мы располагаем множеством созданных этой необычайной культурой артефактов, сообщающих нам, что принадлежащие к ней люди настолько легко реализовывали свои жизненные потребности, что у них оставалось в достатке времени на поиск прекрасного. Они уже знали музыку: под некоторыми навесами были обнаружены сделанные из птичьих костей флейты. Это было опять такое же спокойное и мирное время, как в Месселе.
На сей раз основой природной питательной базы стала не густая листва и спелые плоды, как в Месселе, а трава. Луга обширны, лесов немного. Стекавшая с горных склонов вода сносила вниз плодородный слой почвы, питавший травы и растения, шедшие на корм оленям, лошадям, мамонтам и прочим животным. Эти речные долины служили для людей неисчерпаемыми кладовыми еды – своеобразным супермаркетом, в котором полки с продуктами никогда не пустеют.
До того как я посетила этот край, люди плейстоцена представлялись мне отчаянными охотниками, наугад скитавшимися по промерзшему насквозь миру в поисках пропитания. Истина оказалась противоположной. Невзирая на холод, люди плейстоцена жили в уютном мире. В той его области, что станет Францией, они жили в тесном соседстве под каменными навесами над широкими речными долинами. В будущей Испании они обитали высоко над пастбищами у входов в большие пещеры.
Эти пещеры и навесы, созданные водой, стекавшей с известняковых вершин поднимавшихся Пиренеев, образовывали «соседства». Людям не приходилось жить в одиночестве. Твои друзья и родственники могли поселиться в считаных мгновениях ходьбы от твоего дома – под другим навесом или в устье другой пещеры. В роскошных условиях – иногда даже со своего рода пентхаусом и балконом.
Расположение стоянок оставалось неизменным, но люди меняли место своего жительства. Будучи охотниками-собирателями, они перемещались из пещеры в пещеру согласно определенному годовому ритму, следуя природному распорядку. Жизнь их не была случайной. Как мы проводим летний и зимний отдых в привычных местах, так и они год за годом возвращались на знакомые угодья.
Плейстоценовые сообщества вкупе с богатой экосистемой создавали тот род стабильности, который благоприятствует человеческой культуре. Укрытые от непогоды и сытые люди располагали досугом. Они создавали произведения искусства, даже моду из того, что было у них под рукой. Они тысячами вырезали бусины и украшали ими свои отлично скроенные одежды, пользуясь для шитья конскими жилами. Из бивней мамонтов вырезались иглы с ушком. В одном из посещенных мной музеев сообщалось, что эти иглы были лучше тех, которые изготавливали ремесленники Римской империи. Мастера плейстоцена затачивали свои кремневые ножи до той же остроты, которой обладают современные стальные. Я всегда считала каменные орудия примитивными, однако во Франции однажды увидела, как мастер делал нож из кремня по традиционной технологии. Потрогав край его изделия, я едва не порезала палец.
К северу от Пиренеев древние люди устраивали себе подчас достаточно изысканные резиденции. Они часто устраивались жить, так сказать, окнами на юг, чтобы в них могло заглядывать солнце. Они тратили много времени на оборудование своих жилищ. Под некоторыми каменными навесами ученые обнаружили в потолках кольца, которые, по мнению ряда исследователей, использовались для того, чтобы подвешивать плотные шкуры и образовывать что-то вроде стен, защищавших людей от непогоды. Некоторые из таких занавесей, как считают археологи, древние люди могли использовать для разделения обитаемого пространства на комнаты. Подробности такого рода явно указывают на то, что из года в год в эти места возвращались одни и те же люди. Мимохожие бродяги не станут тратить время на то, чтобы устроиться поудобнее.
Иберийский быт напомнил мне о современных жилищных кооперативах: одна из гор, на которых я побывала, была покрыта пещерами и входами в них; археологи нашли подтверждения тому, что пещеры эти были обитаемы[134].
Во Франции такие стоянки, называемые abris, тянутся на многие километры вдоль речных долин наподобие современных пригородов. Дети соседей, наверное, играли вместе. Когда собирались взрослые… как знать, может быть, тоже шили из обрезков шкур одеяла, или вязали всей «деревней», или часами рассказывали у костра сказки о том, кто от всех ушел.
Но в одном я уверена: многие из тех сказок повествовали о лошадях – таких, какими они были тогда.
* * *
Одним сырым и холодным днем в конце мая 2013 года я шла вверх по узкой и тихой долине ручейка, впадавшего в протекающую на юго-западе Франции реку Везер. Эта небольшая долина, называющаяся Ле-Роше, находится возле деревни Сержак и похожа на тупик в пригороде. Река Везер, крупная региональная водная артерия, в древности представляла собой нечто вроде суперхайвея, шоссе, по которому легко могли путешествовать люди. В ледниковом веке скалы по берегам Везера были густо населены.
Однако скромная боковая долинка, по которой я шла, в те давние дни была куда более укромной и уединенной. Ученые обнаружили там множество древних жилищ. Некоторые из них служили людям 30 тысячелетий назад, другие – несколько сотен лет назад. Учитывая столь долгую популярность, Ле-Роше, видимо, считалась привилегированным местом. Обходя окрестности, я поняла причину. Долина Везера широка и открыта для захватчиков, однако этот маленький ручеек предлагал своим обитателям уединение и защиту. Селение у берегов ручья вырастало в уютную деревушку. Я и сама могла бы остановиться здесь с палаткой на несколько дней.
Я забрела в эту долину просто так, без особой цели, несколько месяцев до того прослушав в Нью-Йорке научную лекцию о сделанных здесь археологических находках. Я ничего не искала в этом месте – мне просто хотелось познакомиться с ним, понять, каково это было, жить в плейстоцене на боковой улице?
Однако мне повезло: мне повстречалась Изабель Кастене, потомок человека, который помог открыть здесь следы древнего поселения. Ее предки начали вести раскопки еще в конце 1800-х годов, и ее семья имеет глубокие местные корни.
Кастене, занимающаяся местной историей, была рада поболтать. Она содержит небольшой музей, в котором выставлены находки, сделанные членами ее семьи в прошлом веке. Мне повезло, в тот день у нее оказалось много свободного времени. Надеясь на то, что восторг, с которым люди повсюду относятся к лошадям, присутствует и в этом, казалось бы, не располагающем для подобных чувств месте, я попросила ее рассказать историю жизни в Ле-Роше.
«В плейстоцене в нашем краю обитала, наверное, тысяча, а может, и две тысячи человек», – сказала она, махнув рукой в сторону реки. С ее точки зрения, в те времена люди редко воевали, потому что у них не было ничего ценного, кроме того, что они сделали собственными руками. К тому же, добавила она, само выживание их зависело от взаимопомощи. Ей представлялось, что они жили в полном взаимопонимании и обменивались изделиями и произведениями искусства. Столь экзотичные описания напомнили мне пропагандирующие возврат к природе пейзажи жившего в XIX веке французского художника Анри Руссо.
Она рассказала мне, что в ту пору люди питались прежде всего мясом северных оленей, водившихся здесь в изобилии. Однако, заметила Кастене, вопреки таким диетическим предпочтениям во многих пещерах региона были найдены изображения коней. Она показала мне некоторые из пещерных рисунков, a также те, что были сделаны на кости и камне.
При всей своей очаровательности они не отличаются высоким качеством. Местные художники создали здесь в древние времена много изображений, декоративных, но довольно примитивных, напомнивших мне детские рисунки. Различные части тела лошадей не сочетаются вместе, пропорции неправильны. Голова одного из коней имеет вмятину сверху, так что нос его похож на рыло крокодила. Не хочу сказать, что эти мастера рисовали лошадей так же, как рисую их я (хуже нарисовать трудно), однако созданные ими изображения лишены того удивительного блеска, которым обладает костяная фигурка из Фогельхерда или росписи пещеры Шове.
Я была восхищена и очарована: значит, тогда, как и сегодня, художественный гений был достаточно редок. Люди, наделенные талантом калибра Леонардо да Винчи или Рембрандта, творили плейстоценовые шедевры, до сих пор вызывающие в нас восторг. Прочие, менее одаренные, однако наделенные определенной мерой творческого духа, предпринимали попытки, результатом которых становились врезанные в камень примитивные силуэты.
Таких мест много во Франции, но много и других, более знаменитых, хранящих изысканные произведения. Не так уж далеко от Везера маленькая электричка увозит туристов в вагончиках с открытым верхом на 800 метров в недра пещеры Руффиньяк, содержащей многочисленные шедевры, в том числе изображения коней. На стенах копии пещеры Ласко (доступ в оригинальную, поврежденную десятилетиями туризма, теперь закрыт для публики) резвятся целые табуны плейстоценовых лошадей.
Но более всех украшенных фигурами лошадей пещер, которые я посещала во Франции, я ценю те, которые в тот зябкий день показала мне Изабель Кастене. Может быть, потому лишь, что, разговаривая с ней, я по-настоящему поняла, что люди, жившие в этой долинке, можно сказать в своем крохотном переулке, были похожи на нас. Они вели повседневную жизнь, ели и пили, изготавливали орудия, шили одежду, a в свободное время пытались изобразить то, что их окружало. Даже если большой талант обошел их стороной, они все равно оставляли после себя память, отражавшую то, что они видели, то, что было важно для них. И вся эта художественная летопись повествует об одном – о том, что эти люди в первую очередь любили красоту материального мира, в котором жили.
A оставленные ими изображения говорят о том, насколько они почитали лошадей.
* * *
Коней почитали и в искусстве испанского плейстоцена. Если французские поселения вытягивались вдоль рек, то иберийские часто громоздились друг на друга. Рассмотрим в качестве примера Монте-Кастильо – высокую конусообразную гору, поднимающуюся над небольшим кантабрийским селением Пуэнте-Вьесго, расположенным на запад от Бильбао на северном побережье Испании. Эта одиночная вершина, окруженная тремя реками и травяными долинами, кажется мне похожей на очень большую египетскую пирамиду.
В этой горе насчитывается много пещер и выходов из них. Археологи обнаружили, что многие из этих выходов были населены людьми, так что и это место, очевидно, считалось желанным. Имея возможность взирать с высоты на луга, расположенные в долинах, местные жители могли следить за всей пасущейся там живностью и «заказывать» ее себе на обед. Во Франции большинство пещер длинные и узкие, однако подземные реки северного побережья Испании проточили огромные подземные помещения, которые могли вместить сотню или даже еще больше людей. Во Франции люди не имели возможности собираться в пещерах, а в Испании эти подземные залы вполне могли становиться местом собраний, служивших для распространения информации и обмена идеями. Если французские пещеры представляли собой узкие и душные закутки, испанские были просторными и приветливыми.
Приветливыми были и испанские экскурсоводы, водившие меня вместе с прочими посетителями по открытым для публики пещерам. Посещение популярных французских археологических достопримечательностей может оказаться нелегким делом, особенно в летнее время, когда за билетами выстраиваются многочасовые очереди. В Испании же царит полная благодать. Испанские пещеры посещаются меньше (французское правительство активно старается привлечь внимание туристов), однако само искусство равным образом привлекательно.
В Монте-Кастильо, в одной из крупных пещер, экскурсовод сказала, что плейстоценовые люди собирались в пещерах ради совместных плясок. (Возможно. Я не разговариваю по-испански, и поэтому мне не удалось расспросить ее подробнее, однако я, условно говоря, пометила ее слова звездочкой, чтобы потом проверить, что это, местный миф или научный факт. Мне не удалось обнаружить научную статью, подтверждающую ее слова, однако я вспомнила «В пещере горного короля» Грига, и возникшая в голове картина меня позабавила.)
Археолог Лоренс Строс, посвятивший свою научную карьеру изучению плейстоценовых стоянок Иберийского полуострова, утверждает, что крупнейшие пещеры содержат следы длительного проживания людей. Строс и его коллеги обнаружили в некоторых из них большое количество отделенных лошадиных костей. Население французской Дордони, похоже, питалось лошадиным мясом лишь эпизодически, однако Строс и его друзья утверждают, что в Испании неандертальцы и первые Homo sapiens активно эксплуатировали этот источник пищи[135]. Различие могло определяться тем, что в тогдашней Испании лошадей водилось намного больше, чем во Франции, и тем, что на землях последней встречалось больше стад северного оленя. Кстати, недавние датировки поставили под сомнение давно признанное мнение, согласно которому неандертальцы дольше задержались на территории Испании, чем в каком-то другом краю, однако эта баталия еще продолжается.
Строс и его коллеги обнаружили, что местные неандертальцы и представители Homo sapiens, возможно, охотились на лошадей по-разному[136]. Исследуя костные останки, обнаруженные в пещерах Монте-Кастильо, эти ученые установили, что неандертальцы охотились на отдельных лошадей и приносили части туш на свои стоянки для дальнейшей обработки. Первые же Homo sapiens практиковали охоту на целые табуны и разделывали мясо на месте охоты, принося с собой лишь самые лакомые куски. Различие могло определяться разницей в охотничьем мастерстве обоих разновидностей человека, или же, соответственно, обилием или недостатком числа лошадей в охотничьих угодьях, или же просто различием во вкусах.
Эти исследования сообщают нам важный факт: если в Северной Америке не обнаружено свидетельств крупномасштабной охоты на лошадей, то в Иберии и прочих регионах Европы и Азии кони действительно были предметом широкой, а иногда даже и очень широкой охоты. И тем не менее лошади не вымерли на этих двух континентах.
В этом регионе 30 000 лет назад обитало множество лошадей. Прибрежная равнина на полуострове была тогда гораздо более просторной, чем ныне, потому что ледники вобрали в себя из океана существенную часть воды. Интересно, что эта прибрежная полоса в биологическом отношении являлась самой западной оконечностью великой евразийской степи, протянувшейся от Атлантического океана до Сибири. Таким образом, иберийские кони, обитавшие близ Монте-Кастильо, гуляли по сложному луговому ландшафту, в какой-то мере аналогичному тому, которым наслаждался золотой юконский конь Гранта Зазулы. Вполне возможно, что и они питались лютиками – в испанском варианте.
В подобной обстановке вид Equus процветал. Лошади Месселя были животными островными, однако в эпоху плейстоцена весь поросший травой мир лежал у ног евразийских коней – так, словно он был создан специально для них. Именно в это время была вырезана из кости лошадь из Фогельхерда и создан один из самых удивительных и таинственных шедевров плейстоценового искусства.
Этот шедевр, росписи пещеры Шове, показывает нам лошадей как беспокойных наблюдателей за окружающими их животными (см. илл. 21 на вклейке). Пещера расположена высоко над речной долиной; 30 000 лет назад она кишела жизнью. Войти в эту пещеру было позволено лишь небольшому числу ученых, однако существует достаточно много книг и видеозаписей, так что исследовать находящиеся в ней произведения пещерного искусства можно и виртуально.
Стены пещеры покрыты изображениями львов, северных оленей, бизонов, медведей, туров (предков нашего крупного рогатого скота). Там нарисована похожая на пантеру внушительного размера кошка, мегацерос (большой олень с чрезвычайно широкими рогами), каменные козлы и совы. Масштаб изображения настолько колоссален, что ученые поначалу даже усомнились в его подлинности. Казалось немыслимым, чтобы «примитивные» люди создали подобную панораму.
И во всем этом буйном великолепии кони играют особенную роль. Они наблюдают. Многие из животных Шове взаимодействуют друг с другом, они идут рядом согласно неровностям стен, дерутся, даже готовятся к соитию – но только не лошади. Эти стоят тихо – иногда группами, иногда поодиночке. В одном месте рядком, бок к боку, собралась группа шаловливых «юнцов», очень похожих на тех, которых мы с Джейсоном Рэнсомом видели в Вайоминге. Один из коней опустил голову и приоткрыл рот, словно только что оторвавшись от поедания травки. Округлившиеся глаза и навостренные уши служат иллюстрацией тревоги. Другой как будто бы только что заметил какую-то далекую угрозу. Третий собрался дать деру. Под конями сцепились рогами два носорога. Это они испугали четырех лошадей? Или же подкрадывающиеся львы, изображенные рядом? Ученые во всех подробностях исследовали это панно и обнаружили порядок, в котором были нарисованы животные. Пасущаяся лошадь была добавлена последней, будто как рассказчик, повествующий об увиденном.
Еще одна сценка изображает двух стоящих друг напротив друга коней. Их шеи изогнуты дугой. Быть может, они намереваются одержать победу взглядом, как те два жеребца с гор Прайор, которых видели мы с Рэнсомом. Рядом одинокая лошадка застенчиво выглядывает из-за угла. Задние ноги ее не нарисованы, она словно бы с опаской высовывается из какого-то закоулка, проверяя, всё ли здесь в порядке. Неужели ее пугает творящийся в долине хаос?
Возникновению живописи Шове посвящена уйма теорий. Наверняка мы знаем только одно: ее создатель или создатели хорошо разбирались в поведении животных. Крейг Пеккер, специалист по африканским львам, один из немногих ученых, допущенных внутрь пещеры, был покорен не только мастерством художника, но и глубиной его познаний. По словам Пеккера, и лев, и львица в сценке, изображающей двух спаривающихся львов, ведут себя точно так, как современные львы, которых он видел в Африке.
Несколько французских ученых предполагают, что росписи Шове были созданы шаманами, намеревавшимися с их помощью обращаться к духам животных. Другие специалисты считают, что весь фриз Шове, тянущийся по стенам узкой пещеры, следует читать панель за панелью, как современный комикс. То есть художник как бы рассказывал эпизод за эпизодом некую повесть. Еще одно толкование предполагает, что при свете сальных светильников изображение будто оживает и создается иллюзия движения.
Росписи Шове уникальны своим величием и индивидуальным характером рисунков. Однако изображения лошадей присутствуют на всем европейском континенте, от западного берега Испании до русского Урала. Можно потратить целый год, переезжая от стоянки к стоянке, но так и не увидеть все росписи. Все же, невзирая на колоссальные расстояния в пространстве и времени, не стоит забывать о том, что, хотя явление плейстоценового искусства растянулось более чем на 20 тысячелетий, произведения его обладают рядом общих черт. Сценки обыкновенно носят мирный характер. Изображения насилия встречаются нечасто. На считаных изображениях животные как будто бы сражены копьями, однако такие изображения редки. Люди почти всегда остаются за кадром. Но что самое главное, ландшафты – деревья, цветы, реки, скалы –никогдане интересовали древних художников.
Среди часто изображавшихся животных лошади занимают особое место. У них едва ли не ангельский вид. Жеребцы в плейстоцене, несомненно, дрались так же, как современные, которых мы с Рэнсомом видели в горах Прайор, однако подобные конфронтации никак не отражены в искусстве. Кобылы не кусаются ни в одной сценке, ни на одном рисунке волки или львы не нападают на жеребят. Другие животные могут драться, однако лошади до самого конца плейстоцена как будто бы соблюдают мир.
У росписей есть различия в стиле. Если роскошные лошади Шове всегда серьезны, то кони Ласко, нарисованные 17 тысячелетий назад, – веселые, восхитительно капризные создания (см. илл. 19 на вклейке). Известный археолог и популяризатор науки Пол Бах воспринимает искусство плейстоцена как «искусство нежности», и это, безусловно, справедливо, если обратиться к великолепной пещере Ласко. Здесь лошадей много, и все они движутся посреди туров, зубров, оленей, козлов и даже крупных кошек.
В Ласко кони как будто бы следуют девизу «Не волнуйся и радуйся»[137]. Подобная жизненная позиция в тот исторический момент кажется вполне осмысленной: на планете теплело, широкие прибрежные европейские степи по-прежнему были полны жизни. И потому живопись Ласко наполнена весельем, слегкa дурашливым и разнообразным. На стенах пещеры изображены лошади светлые и лошади темные, пегие и гнедые, и даже лошадь, которую называют «китайской» (потому что она изображена в манере, свойственной китайскому искусству), а также такие, которые, по мнению специалистов, напоминают тарпанов, вымерших диких европейских лошадей. Кони эти на стенах пещеры бродят именно так, как им и положено, – табунами.
Они прямо-таки скачут от радости. Стены Ласко полны таких счастливых загадок, вроде коровы, которая перепрыгивает через других зверей. Здесь есть откормленные кобылы с круглыми животами и довольные жизнью лошадки, рядом с которыми скачут игривые жеребята. Если кому-то покажется мало хаоса, найдется и лошадь, как бы катающаяся в траве вверх ногами в окружении других лошадей. Неужели это был коллективный портрет компании коней и других животных? Или же разные художники в разные времена живописали разных лошадей? Росписи Шове можно воспринимать как огромное, но единое целое; рисунки Ласко не создают подобного чувства единства.
* * *
В других местах лошадей рисовали иначе. Теплым майским утром вскоре после встречи с Изабель Кастене я поднималась по долине ручья в Стране Басков к входу в пещеру Экаин, возраст росписей которой достигает всего 12 000–14 000 лет (см. илл. 20 на вклейке). Подъем был несложным, вверх шла наезженная грунтовка без мощения, которая вполне могла служить главной артерией этой долины с эпохи неандертальцев. Я шла по ней для того, чтобы познакомиться с менее известными изображениями лошадей.
По пути я встретила мужчину из местных и поздоровалась с ним, сказав: «Buenos días»[138].
Он немедленно поправил меня. В Басконии «добрый день» говорят по-баскски – то есть на языке, непохожем на любой другой европейский язык и, вполне вероятно, уходящем своими корнями в палеолитическую эпоху. К собственному разочарованию, я с большим трудом смогла произнести предложенные мне звуки.
Добравшись до входа в пещеру, я огляделась. Внизу открывались великолепные с точки зрения коня угодья, пышные цветущие луга, похожие на высокогорье Вайоминга. Неподалеку от того места, где я остановилась, сливались два ручейка. Полоска земли между ними была покрыта зеленью. Вниз уходила еще более широкая и богатая долина. Над головой моей поднимались крутые скалы. Впрочем, толстоногие плейстоценовые лошади без труда справились бы с этими склонами.
В Стране Басков в наши дни обитают на вольном выпасе лошади потток (баскские пони). Местные жители полагают, что они происходят непосредственно от тех изящных животных, которые изображены на стенах местных пещер. (Исследования, проведенные генетиком Гасом Котраном, показали, что потток и усатые гаррано действительно находятся в родстве.)
Наблюдать за этими лошадьми в наше время – дело шумное. На старшую кобылу часто надевают ошейник с колокольчиком – прямо как на альпийскую корову. Подобно своим родственникам гаррано, баскские пони подпускают к себе людей – до какого-то предела. Они постоянно хранят эту вполне определенную дистанцию, ближе людям лучше не подходить. В прошлом этих лошадей отлавливали и использовали в качестве вьючных для перевозки тяжелых грузов через перевалы. Еще их использовали в шахтах, вынуждая проводить большую часть жизни под землей и перевозить тяжелые телеги с углем. Когда этим бедным животным дозволялось подняться на поверхность – если таковое вообще случалось, – они ничего не видели несколько дней, пока глаза заново не приспосабливались к дневному свету. Многие так и оставались слепыми. Дэвид Герберт Лоуренс в своих ранних романах, особенно в «Сыновьях и любовниках», с особым сочувствием описывал жизнь этих несчастных животных.
К счастью, в наше время жизнь пони потток складывается намного легче. В расчете на мягкий характер их иногда тренируют для верховой езды, однако успех не гарантирован. Я разговаривала с одной хозяйкой конюшни, которая позволяет маленьким детям ездить на них верхом, но только при условии, что взрослый держит коней под уздцы. «Они слишком упрямы, – пожаловалась она. – Остаются дикарями, любящими носиться по собственной воле и вовсе не желающими исполнять чужие приказы».
Потток, скрещенные с лошадьми другой породы, в частности арабской, пользовались успехом на выводном круге, однако чистокровные пони, предоставленные самим себе в горах, живут своим мирком. Они капризны. Я протянула пучок травы одному из них, целое утро катавшему детей. Траву он взял, но, когда я захотела погладить его по голове, тут же увернулся и был таков. Скорее всего, в конце дня его выпустят бегать по горам в свое удовольствие и принимать собственные решения до тех пор, пока снова не призовут к работе.
Лошадей этой породы часто называют «полуодичавшими», однако термин этот весьма расплывчат. Термин «одичавшая лошадь» подразумевает, что животное это когда-то было полностью одомашнено, а затем сбежало на волю. Подобная ситуация, насколько это известно, не относится ни к потток, ни к гаррано. Местные жители считают, что баскские пони всегда бродили по этим горам и потому никак не могли сбежать на волю в традиционном смысле этого слова. Местный археолог Педро Кастьяно полагает, что популяция лошадей потток резко сократилась в конце плейстоцена, однако оставшиеся на воле кони нашли убежище в Пиренеях, где и жили с тех пор. Наверное, более точно описать жизнь табунов потток в наше время можно словом «самоуправляемые».
Во время своих путешествий по Стране Басков я повсюду встречала лошадей этой породы, и потому мне захотелось узнать, насколько лошади Экаина схожи с ныне живущими. Сейчас туристов в подлинную пещеру Экаин не пускают – росписи ее драгоценны, и рисковать ими нельзя, – однако великолепная копия пещеры находится всего в пяти минутах ходьбы от входа в настоящую. Гид дважды проводит небольшую группу людей по экскурсионному маршруту. Первый проход совершается в полном молчании; второй сопровождается комментарием.
У входа в пещеру углем нарисована конская голова. Пройдя глубже в пещеру, во время безмолвной части экскурсии слышишь только неторопливую и негромкую водяную капель над небольшим прудом. На стенах центральной пещеры с чувством нарисованы несколько групп лошадей. Присутствуют и другие животные – их больше шестидесяти, – но чаще встречаются лошади. Некоторые вырисованы со всеми подробностями, шкуры их подчеркнуты охрой. Некоторые похожи на пегих, шкуры их окрашены черным и белым цветами, в точности как у современных потток. Другие лишь очерчены контуром, напоминающим каллиграфический. У иных лошадей тонко прорисованы щетки над копытами. У части видны полоски на плечах. Тот, кто рисовал этих животных, постарался сделать свою работу хорошо.
При этом здешние лошади стилизованы, они не похожи на резную лошадку из Фогельхерда, веселых коней Ласко, встревоженных лошадей Шове. Линии на стенах пещеры очерчивают, так сказать, саму идею лошади, но никак не передают образ конкретного животного. Эти кони не кажутся готовыми спрыгнуть со стен пещеры в новую жизнь. Непохоже, чтобы художник нарисовал по памяти коней, которых видел незадолго до этого. если долго на них смотреть, не возникает ощущения, будто бы они собираются взбрыкнуть или встать на дыбы. Они не наблюдают за другими животными и не являются частью запечатленной масштабной сцены.
Нет, лошади Экаина – это отражение идеи. Они напомнили мне некоторые из самых стилизованных изображений лошадей в традиционном японском искусстве. Всего лишь несколькими четкими линиями эти ранние иберийские мастера стремились передать сущность коня. Изображения должны что-тоозначать, и смысл этот, вполне возможно, глубже простого определения: «это – лошадь». Возможно, какая-то группа людей избрала коня своим тотемом или по меньшей мере талисманом. Возможно, конь символизировал некое качество – скажем, общительность, – восхищавшее людей.
В то время эта символическая лошадь возникает повсюду – в Европе и Азии. Глубоко в недрах Монте-Кастильо, в пещере под названием Эль-Кастильо, там, где стена изгибается под острым углом, похожим на угол дома, на обеих сторонах изображены спинами друг к другу изящный северный олень и лошадь. Я видела много двумерных изображений этой странной пары, однако трехмерный шедевр потрясает. Если бы позволил гид, я долго простояла бы возле них. Похоже, что на этих животных не действует тяготение. Художнику пришлось потрудиться, чтобы создать подобную иллюзию. Судя по положению ног коня, он не выполняет никакого аллюра. Он не занял и благородную позу, голова и шея его расслаблены. Изображение не обладает конкретикой, это не определенное животное, это концепция: «конь». Олень также расслаблен. Совершенные очертания обоих животных говорят нам о том, что рисовал их весьма искусный мастер, способный изобразить их на уровне шедевров Ласко или даже Шове. Однако он предпочел не делать этого. Лошадь и олень застыли рядом друг с другом, спина к спине, и существуют вне времени.
Это произведение может сказать нам, что, несмотря на сокращение численности лошадей, они сохраняли свою культурную значимость. Возле Дурути во Франции, на восточной стороне Пиреенев, ученые обнаружили так называемое святилище коня. Это святилище – чаще называемое «одой в честь лошади» (поскольку «святилище подразумевает религиозное поклонение») – было создано примерно в то же самое время, что и изображения лошадей в Экаине и пара «конь и олень» в Эль-Кастильо. Открыватели Дурути обнаружили на этом месте множество палеолитических орудий и изделий, в том числе фигурку коня из песчаника. Мускулистые плечи и голова, яростный взгляд, прижатые к голове уши придают изображенному животному угрожающую позу – как у того рассвирепевшего жеребца в горах Вайоминга.
Свидетельство возможного позднепалеолитического поклонения коню обнаружено в России, в Каповой пещере, расположенной в Уральских горах, в 10 000 километров к востоку от Пиренеев (см. илл. 15 на вклейке). Росписи Каповой пещеры имеют возраст примерно 14 000 лет[139], сама она находится в природном заповеднике к северу от Каспийского и Черного морей. Упитанные кони этой пещеры нарисованы красной охрой. У них толстые шеи, круглые крупы и изящные головы. В Каповой пещере кони не взаимодействуют с другими животными. Мы не видим многоплановых сцен или сюжетов, как в Шове. Здесь животные как будто просто украшают стены. Вот один конь выступает перед другими, глядя вперед. Нам не известно, должен ли он был изображать предводителя или художник рисовал отдельных животных в произвольном порядке. В другом месте Каповой пещеры изображена еще одна группа животных. Там конь трусит в середине группы, между мамонтом и шерстистым носорогом.
Другие росписи с лошадьми, относящиеся к этому времени, в науке называемому мадленским, были созданы на территории будущей Франции под одним из моих любимых каменных навесов – на стоянке Кап-Блан, что расположена неподалеку от города Ле-Эзи. Она до сих пор открыта для посещения, и попасть на нее можно самым простым образом – купив билет. Экскурсии проводятся по заранее составленному расписанию, и, поскольку до моего сеанса оставался еще час, я решила погулять по окрестностям. Спустившись по узкой тропе от навеса к ручью, я оказалась в идиллической долине. За ручьем я заметила вход в другую пещеру. Внутри виднелось еще одно прекрасное изображение конской головы. Если бы жителям пещеры Кап-Блан 15 000 лет назад пришло в голову сходить в гости к соседям, им достаточно было за несколько минут спуститься со своего холма, перебраться через ручей и войти в пещеру.
Но почему здесь так много изображений лошадей? Не принадлежали ли жители обеих пещер к одной семье, «гербом» которой был конь? В плейстоценовую эпоху связь между лошадьми и людьми могла оказаться сродни той, что соединяла иннуитов и китов или коренных североамериканцев и бизонов. В Великобритании, в пещере Гуфа, которую иногда называют «Пещерой охотников на лошадей», ученые обнаружили множество объеденных доисторическими людьми конских костей. Манера, в которой некоторые из них расколоты, предполагает, что жившие в этой пещере люди даже высасывали костный мозг. Кроме того, они старательно срезали сухожилия с ног лошадей, по всей видимости, для того, чтобы использовать их в качестве шнурков и веревочек.
Учитывая все это, логично будет предположить, что изображения лошадей каким-то образом связаны с выживанием человека. Быть может, сделать изображение коня значило выразить ему признательность за предоставленные благодеяния. С другой стороны, некоторые французские ученые предполагают, что конь, обыкновенно в паре с быком, выступал сексуальным символом. Один из ученых настаивает на том, что быка следует считать быком, а вот коня – кобылой. Другой француз, наоборот, предлагал видеть в быке создание женского пола, а в коне – жеребца. Когда я спросила Лоренса Строса о символизме изображения коня, он многозначительно ответил: «Кто знает?»
Словом, нам точно известно, что во времена, отстоящие от нашего примерно на 30 тысячелетий, люди изображали коней и делали это еще около 25 000 лет самыми разными способами, причем техника существенно изменялась от местности к местности, а также во времени. Произведения различны по масштабу – от потрясающих воображение панно Шове и Ласко до скромного Ле-Роше. Палеонтолог Дейл Гатри, ненасытный охотник за тайнами, связанными с древними лошадьми, многие годы изучал памятники ледниковой Европы и в конечном счете решил, что некоторые из шедевров представляют собой всего лишь «граффити», на скорую руку изображенные подростками, собиравшимися охотиться на лошадей. Гатри видит в побуждении творить, иногда овладевающем человеком, естественную форму игрового поведения, особо присущую мальчикам, готовящимся стать охотниками. Всем интересующимся искусством плейстоцена следует прочитать его книгу «Природа палеолитического искусства» (The Nature of Paleolithic Art)[140]. Точка зрения Гатри выходит за рамки общепризнанной теории, великолепным образом уравновешивая сочинения более традиционных мыслителей.
Антрополог Женевьева фон Петцингер советовала мне не усматривать в плейстоценовых изображениях лошадей нечто большее, чем просто изображения. В конце концов, кони Ласко в два раза моложе лошадей Шове. «По всей видимости, за этими рисунками не стоит никакой великой и единой теории, никакого общего смысла, – сказала она мне в телефонном разговоре. – Мы имеем дело с тридцатью тысячелетиями истории и множеством культур, и даже в рамках этих отдельных культур могли существовать различные причины изображения лошадей. Это всегда сложно. Люди хотят знать, что такое искусство. Что ж, возможно, у каждого человека существует об этом свое особое мнение».
* * *
В пещерной живописи отражено до сих пор существующее партнерство между лошадьми и людьми, о котором я подумала, впервые стоя рядом с Филлис Притор на Поулкэт-Бенч. Лошади всегда так или иначе были рядом с нами, и Homo sapiens плейстоценовой эпохи уже стремились выразить удовольствие от этой дружбы. В книге «Конь» канадский автор Дж. Эдвард Чемберлин дал художникам ледникового периода простое и удачное определение: «Славящие лошадей»[141].
Однако, прославляя лошадей, эти мастера потребляли их в пищу в огромных количествах. Хотя в Северной Америке еще не обнаружены однозначные свидетельства того, что ранние североамериканцы охотились на лошадей, многочисленные стоянки Старого Света полны таких доказательств. Действительно, история взаимоотношений человека и лошади как хищника и жертвы уходит в глубокое прошлое, к тем временам, когда австралопитек афарский и гиппарион с жеребенком шли по лаэтолийской равнине. Не так уж далеко от Лаэтоли рядом с разбитыми конскими костями возрастом около 3,4 млн лет археологи обнаружили очень примитивного вида камни[142], которые тем не менее могли использоваться для охоты. На африканской стоянке Боури (2,5 млн лет) обнаружены уже вполне очевидные каменные орудия предка Homo sapiens, Homo erectus, возле отдельных конских костей[143]. Совершенствование способности добывать мясную пищу считается важным фактором, позволившим линии Homo вырастить большой и жадный до энергии мозг. Унаследованная от травоядных предков вегетарианская диета из плодов и зерен не смогла бы дать организму достаточное количество калорий для питания крупного мозга, поэтому способность добыть мясо, способность манипулировать такими предметами, как каменные орудия, шли рука об руку с процессом эволюции мозга.
Существует много свидетельств того, что оставившие Африку гоминиды питались лошадьми. На стоянке Дманиси, расположенной на той территории между Черным и Каспийским морями, которую около 2 млн лет назад первыми заняли представители Homo sapiens, доминируют конские кости. На юге Китая кости лошадей найдены на стоянке Homo erectus возрастом до 1,7 млн лет. На стоянке Боксгроув в Великобритании с конскими костями полумиллионолетней давности соседствуют останки нашего более близкого к современности родственника, гейдельбергского человека,Homo heidelbergensis. Найденная там лошадиная лопатка имеет отверстие посередине, которое, по словам археологов, могло стать результатом удара охотничьим оружием. Возле одного лошадиного скелета ученые обнаружили каменные чешуйки, позволившие предположить, что древние люди, прежде чем разделывать тушу, заточили свои орудия. «Можно представить себе груды каменных осколков, скапливавшиеся у ног камнеделов, делавших ручные рубила», – пишет археолог Дуглас Прайс в книге «Доримская Европа»[144].
В Германии не так далеко от того места, где была найдена фигурка из Фогельхерда, на стоянке Шёнинген (в «лагере охотников на лошадей», как назвали его исследователи), обнаружен тайник с деревянными копьями возрастом в 300 000 лет, существовавший за сотню тысячелетий до того, как в Африке, по современным представлениям, возник Homo sapiens. Эти копья, вероятно изготовленные еще гейдельбергским человеком, признаются старейшим охотничьим оружием в мире[145]. Среди тысяч костей животных, обнаруженных на стоянке Шёнинген, кости лошадей составляют почти 90 %. На юге Испании, на стоянке, носящей название Абрик-Романи, исследователи обнаружили кости убитых неандертальцами животных, в том числе лошадей.
К тому времени, когда была создана лошадь из Фогельхерда, некоторые представители вида Homo sapiens уже охотились на лошадей в весьма организованной манере. Неандертальцы Испании добывали одиночных животных, однако уже 35 000 лет назад Homo sapiens умел охотиться на большие группы. Археолог Джон Хоффеккер полагает, что к этому времени у Homo sapiens уже сформировалась «супермозговая» способность соединять мыслительные усилия, общаться и сотрудничать друг с другом на уровне, превышавшем возможности неандертальца[146]. Искусство само по себе могло быть частью этой «супермозговой» культуры, поскольку изображения позволяли людям оставлять на стенах пещер сообщения, сохранявшиеся после того, как художники покидали эти места. В качестве подтверждения своей теории ученый перечисляет местности от России до Франции, где люди охотились на лошадей, организуя засады на обычных путях передвижения животных.
Хоффеккер также изучал археологический памятник в пойме реки Днепр[147], где обнаружил косвенное свидетельство того, что уже 32 000 лет назад люди умели создавать нечто вроде ловушек, в которые загоняли лошадей с целью охоты. Нам известно, что этим методом пользовались и в других местах, в частности на стоянке Костенки, на территории России. Хоффеккер обнаружил, что люди охотились на лошадей, загоняя их табунами в узкие овраги.
Подобными методами загонной охоты представители Homo sapiens пользовались и во Франции. На стоянке Солютре археологи XIX века обнаружили тысячи древних лошадиных костей. Один изобретательный автор предположил, что люди загоняли лошадей на гору и заставляли их падать с обрыва, что маловероятно. Новые открытия указывают на то, что охотники залегали в засаде возле звериной тропы, шедшей у подножия утеса. Когда ничего не подозревавшая головная кобыла выводила свой косяк из-за угла, на лошадей нападали охотники.
Количество таких мест массового забоя коней уменьшается к концу ледниковой эпохи, что указывает также на то, что уменьшалось и количество лошадей. Тем не менее они не исчезли полностью из археологической летописи, и обычай употреблять конину на пирах сохранился до нового времени.
* * *
Мы представляем себе плейстоцен как самостоятельную эпоху, как время, когда люди настолько отличались от нас нынешних, что мы могли бы и не признать в них людей. Но на деле они ничем особо не отличались от нас, если не считать отсутствия у них привычки к удобствам, предоставляемым электричеством и водопроводом. В этом можно убедиться, посмотрев на те изображения, которые они оставили нам, a кроме того, можно увидеть, что в это время лошадей и людей связывало нечто особенное, далеко выходящее за рамки обычных взаимоотношений хищника и жертвы.
Оставленные нам этими людьми изображения лошадей особенно интригуют тем, что многое из присущего им пережило века. Такую же идеализацию лошади мы видим на греческих фризах, на картинах мастеров Ренессанса, в современной живописи. Элегантные плавные линии силуэтов лошадей Экаина восхищают нас и сегодня. В самом деле, повсюду в Европе лошадь оставалась объектом вдохновения. Массивный Белый конь из Уффингтона – силуэт длиной свыше 100 метров, врезанный в склон мелового холма в 130 километрах к западу от Лондона примерно 3000 лет назад, – не слишком отличается от коней Экаина. Греческая скульптура, созданная 25 веков назад, изображает коня гневного, с открытым ртом и заложенными назад ушами, совершенно такого же, как на созданном 12 000 лет назад изображении из Дурути.
Изгиб шеи как символ, подмеченный еще автором лошади из Фогельхерда, по-прежнему популярен, хотя смысл его изменился. В Средние века и в XIX веке кони с могучими шеями часто изображались несущими на себе принцев и королей, отражая силу седока, а не собственную. Живший в XVII веке великий художник Веласкес изобразил испанского короля Филиппа III, который подчиняет своей воле жеребца (символизировавшего народ), заставляя его подняться на дыбы (см. илл. 22 на вклейке).
Но к нашему времени искусство завершило полный круг. Лошадь вновь сделалась невинной, какой была в Шове. Полотна Франца Марка[148] подчеркивают ирреальную природу лошадей (см. илл. 23 на вклейке). На своем полотне «Мечтай, думай, говори» британский художник XX века Кристофер Ле Бран поместил белого коня в самом центре эфирного окружения. Конь Ле Брана будто находится вне времени и пространства подобно лошади из Эль-Кастильо.
Для меня самой трогательной современной «одой коню» является «Герника» Пабло Пикассо, выставленная в мадридской Рейна-Софии[149] (см. илл. 18 на вклейке). Находящаяся в центре этого мрачного черно-белого полотна размером почти 3,5 × 8 метров измученная лошадь безуспешно пытается подняться с земли. Ноздри коня расширены, он в ужасе, рот широко открыт. Тело изломано и исковеркано. Рядом изображен бык – как нередко бывало в искусстве плейстоцена. Факт этот далеко не случаен, так как Пикассо был очарован искусством ледникового времени.
Поводом для написания «Герники» стало подлинное событие – первая в наше время ковровая бомбардировка мирного селения.
26 апреля 1937 года немецкие и итальянские бомбардировщики по договоренности с испанским диктатором Франсиско Франко совершили налет на баскский городок Герника, расположенный не столь уж далеко от того края, в котором ныне резвятся лошадки-потток. При налете погибли домашние животные, женщины и дети: мужчины работали, их не было дома. Пикассо начал писать свою «Гернику» через несколько дней.
Когда я была в Рейна-Софии, перед картиной в строгом молчании стояли люди.
Я попросила смотрителя зала, Себастьяна Хурадо Пикераса, объяснить мне, что обозначает здесь лошадь.
«В моем понимании, – ответил он, – конь – самый важный персонаж полотна. Язык его заострен, потому что полный муки крик животного ранит как нож. Он выражает страдание народа, столь глубокое, что его невозможно выразить словами».
Сам Пикассо отказывался объяснить смысл изображений коня и быка. Он молчал об этом – в точности как мастера плейстоцена, которыми он восхищался.
Но однажды, когда ему вконец надоели расспросы, он ответил: «Бык – это бык, а конь – это конь».
7
Партнерство
…человек верхом на лошади духовно и физически больше человека, который идет пешком[150].
ДЖОН СТЕЙНБЕК Подарок[151]
Осенью 2013 года более пяти десятков вольных пони в Британском национальном парке Нью-Форест погибли вследствие климатической аномалии, приключившейся в теплеющей Атлантике[152]. (Событие это попало в заголовки новостных агентств всего мира. Число погибших животных менялось от сообщения к сообщению, и я выбрала одну из самых консервативных оценок.) В том году весенние дожди потопом залили Европу. Лето выдалось жарким. Многочисленные дубы были усыпаны желудями. Осенью желуди перекочевали на землю.
Лошади любят желуди.
На самом деле, когда доходит до поедания желудей, большинство лошадей просто не способны остановиться. К сожалению, желуди для коней – то же самое, что наркотик для человека: склонность к ним убивает. Танины и прочие содержащиеся в желудях токсины разрушают печень коня, которая выходит из строя. Животное погружается в летаргию, организм обезвоживается.
Лошадь умирает. Лекарства не существует.
Кони – невероятно сильные, могучие животные, но в некоторых отношениях они жутко, ужасно хрупки. Люди, находящиеся в партнерстве с конями, знают, что желуди следует держать подальше от загонов и пастбищ, что не следует позволять животным есть даже дубовые листья. Некоторые из хозяев пастбищ, на которых растут дубы, огораживают деревья и собирают желуди. Другие просто выкорчевывают эти деревья.
Более тысячи лет люди, населявшие территорию будущего парка Нью-Форест, ладили с живущими здесь лошадьми и, заботясь о них, выпускали в лес свиней, когда начинали осыпаться желуди. Свиньи любят желуди не меньше, чем лошади, – и способны есть что угодно без вредных для себя последствий. Местные жители обычно выпускали в лес несколько сотен свиней, чтобы те успели «убрать» желуди прежде, чем до них доберутся кони. Такие партнерские взаимоотношения существовали в Нью-Форесте по меньшей мере тысячу лет.
Однако в 2013 году свиньи не справились со своей задачей. Желудей было столько, что их не смогло уничтожить даже удвоенное свиное поголовье.
Лошади ели желуди и погибали.
При всем разнообразии растительной пищи, которой питаются дикие кони – кустарником на американском Западе; прибрежной травкой на южном Атлантическом побережье; корой деревьев в конце зимы; приморской чиной на острове Сейбл, – кажется странным, что эти животные не развили в себе способности есть желуди. Вы скажете, что в худшем случае они могли бы приобрести инстинкт, запрещающий им есть плоды дуба. Однако этого не произошло. Причина может оказаться довольно простой: большую часть своей 56-миллионолетней эволюционной истории дубы и кони почти не пересекались друг с другом. Дубы не росли там, где паслись лошади, a если все-таки и росли, то в небольшом количестве.
Такое положение дел изменилось, когда льды оставили большую часть Европы[153]. Широкие дубравы распространились на северную часть континента. Подобное происходило и в Северной Америке. Дубы – деревья необыкновенные. Возникнув давным-давно на территории будущего Китая[154] в дни существования суперконтинента Пангеи, эти растения еще не были готовы выживать во многих существовавших тогда экосистемах, однако некоторые виды их достаточно медленно распространялись по планете. (Повесть о том, как дубы изменили мир, заслуживает отдельной книги. Во время «золотого века» североамериканских лошадей дубы соседствовали с ними, однако число их было невелико. Но когда лед растаял, эти деревья распространились повсюду[155].)
Около 14 млн лет назад в Ашфолле насчитывалось по меньшей мере двадцать различных видов лошадей. Неподалеку оттуда были обнаружены и окаменелые ветви дуба, свидетельствующие о существовании там этого дерева. Однако ученым известно, что подходящие для него условия продержались недолго. Вспомним слой селитры – рудяк, обнаруженный сразу над слоем, содержащим останки многочисленных лошадей (и одного дуба), и указывающий на некое «значительное засушливое событие», пользуясь словами Майка Ворхиса.
После этой засухи в Ашфолле осталось всего пять видов лошадей – и ни одного дуба.
Однако после таяния льда дубы появились в большом количестве. Они просто «рванули на север», как выразился Билл Стривер, биолог и автор книги «Холод» (Cold).Теперь на Земле росло более шестисот видов дубов. они представляют собой невероятно гибкие в плане приспособляемости растения. Желуди некоторых из них очень опасны не только для лошадей, но также для людей и других млекопитающих (за исключением свиней). На других видах дуба растут менее токсичные желуди, однако если съесть их в большом количестве, они все равно могут отравить животное.
Для лошадей ядовиты не только дубы. Крылатки белого клена, или псевдоплатана – широко распространенного дерева, – вызывают часто фатальную миопатию, дистрофическое поражение мышц. Американская хурма становится причиной колик; робиния вызывает сердечную аритмию; черемуха виргинская и черемуха поздняя приводят к смертельному отравлению цианидом. Лошади быстро приспособились к жизни на открытом пространстве, однако внезапное распространение лесов оказалось слишком серьезным фактором.
Распространение смешанных дубовых лесов, вероятно, стало одной из экологических перемен, повлекших за собой вымирание лошадей в Северной Америке и уменьшение их числа в Европе и отдельных частях Азии. Токсины способны нанести лошадиному организму ужасные повреждения даже в том случае, если животное переживет отравление желудями. У беременных кобыл, например, может случиться выкидыш, что существенно ограничит количество рождающегося молодняка.
Британский археолог Робин Бендри относится к числу тех крупных ученых, которые считают, что не охота, а именно климат и обусловленные им экологические изменения сыграли роль в исчезновении лошадей в Америке и сокращению их количества в Европе. «Мы уходим от гипотезы “блицкрига”, однако она словно окаменела в научной литературе, и ее трудно сдвинуть с места. Мы считаем, что было много нюансов, что нужно говорить о естественном увеличении и сокращении количества животных, об изменении условий обитания», – сказал мне Бендри, напомнив, что история жизни в Европе в те 5000 лет, что последовали за концом плейстоцена, известна нам крайне отрывочно, так что трудно сказать что-то определенное.
Действительно, наши знания об этом периоде в истории Европы имеют фрагментарный характер, однако они все же подробнее, чем сведения об истории Северной Америки того же времени. Доступная нам информация указывает на изменения климата, сдвигавшие экосистемы и покрывавшие густыми лесами прежде открытые равнины. Европа и Азия изменялись и в других отношениях. Земли, не занятые смешанными дубравами, часто затопляло медленно подкрадывавшееся море. Это хорошо проиллюстрировано в работе специалиста по палеоландшафтам Винса Гаффни, известного тем, что он восстановил географию Доггерленда, затопленной территории возле северного берега материковой Европы. Итак, лед таял, а уровень моря рос. Он, конечно, не достигал тех высот, которые имели место в эоцене, когда Европа превратилась в архипелаг, однако море «отъедало» заметные куски суши.
Чтобы ощутить масштаб перемен, полезно представить себе, какой была жизнь лошадей в Восточном полушарии до исчезновения льда. Примерно 17 тысячелетий назад Великая европейская равнина представляла собой открытое, богатое травой пастбище. В тысячелетия, последовавшие за последним ледниковым максимумом, когда примерно 20 000 лет назад языки льда протянулись с севера на юг на наибольшее расстояние, любой конь при наличии такого желания мог, не встречая особых препятствий, пройти от западной оконечности равнины, от современной Галисии, через всю Центральную Европу до Уральских гор. Далее животное могло обойти с севера Каспийское море и попасть в центр Азии. Пройдя монгольские степи, оно могло оказаться в Сибири и на Дальнем Востоке. На каждом участке этой дороги коня ждали хорошие пастбища и ровные степи. Лишь изредка высокие горные хребты могли преградить ему путь.
Если коню не хотелось в Азию, он мог отправиться и на север, где имел возможность оказаться в Шотландии, ни разу не столкнувшись с необходимостью плыть. Можно было добраться из Германии до Лондона и даже зайти еще севернее, не увидев ни клочка с соленой водой.
Широкая равнина предоставляла людям сказочные возможности для охоты. Ученые предполагают, что жители таких уютных уголков, как север Испании и юго-запад Франции, могли летом предпринимать охотничьи экспедиции туда, где круглый год также могли обитать люди. Существует достаточное количество признаков этого: рыбаки неоднократно поднимали со дна Северного моря предметы, связанные с деятельностью человека в ледниковое время, в том числе кости различных млекопитающих и лошадей.
Этот медленно согревающийся мир был прекрасным местом для лошадей и людей. И мы и они рождены саванной – «устроены для движения», как сказал археолог Барри Канлифф[156], – и в те дни перед нами лежал широкий простор. Однако заканчивался плейстоцен, и море наступало на сушу. Равнина, связывавшая Германию с Британией, все сужалась, сужалась и наконец превратилась в перешеек. А потом морская вода поднялась настолько высоко, что Британия стала островом. Это был не Ноев потоп и не внезапное затопление из тех, что имели место во многих частях Северной Америки: процесс длился в течение тысячелетий.
Исчезала суша, исчезали и лошади. Наконец остались только отдельные участки в прошлом огромного ареала, населенные реликтовыми популяциями некогда распространенного животного. Многие из просторных эстуариев, живописно украшающих побережье Западной Иберии, представляют собой всего лишь верховья некогда широких речных долин, спускавшихся к травяным прибрежным равнинам. Климатические передряги сумел пережить жалкий остаток прежде вездесущих лошадиных табунов (палеонтологи и климатологи находят новые кости лошадей этого периода, но не очень много).
Современные жители Иберии полагают, что пони Страны Басков и Галисии ведут свое происхождение от этих реликтовых табунов. Обитающие в Португалии пони сорайя могут также происходить от плейстоценовых лошадей, как и пони Нью-Фореста. Фелипе Барсена предполагает, что пони Нью-Фореста на самом деле – потомки гаррано, завезенных в Британию галисийскими кораблями 1000 лет назад. Нам точно известно, что после таяния льда на этом острове было еще по меньшей мере несколько лошадей. Оставленные 8000 лет назад отпечатки их неподкованных копыт в конце 1980-х годов обнаружили в местечке Формби-Пойнт на западном побережье Британии, чуть севернее Ливерпуля. Давно погребенные отпечатки проявились, когда современные приливы смыли слои древних почв. Местный краевед Гордон Робертс, член береговой археологической и исторической группы, сфотографировавший эти недолговечные следы после того, как они были сперва открыты, а потом смыты океанским прибоем, подробно ответил на мой запрос: «Зафиксированные мной отпечатки конских копыт не были связаны с человеческими следами и могут существенно предшествовать появлению на побережье охотников и собирателей. Почти все из так называемых следов Формби-Пойнт находятся на наиболее удаленной от волн грязевой границе давно исчезнувшей межприливной лагуны, располагавшейся между рядом песчаных барьерных островков и доисторической береговой линией в 5000–3000 годах до н. э. Отпечатки эти сохраняла древняя, закаленная непогодой серо-голубая морская глина, отложенная, по моему мнению, около 8 тысячелетий назад, во время более ранней стадии эволюции береговой линии. Отпечатков человеческих ног и следов других животных отмечено не было, за исключением нескольких следов благородного оленя».
Тем не менее нам по-прежнему неизвестно, передали ли эти древние популяции свою кровь британским пони или же, как предполагает Барсена, современные пони были завезены на остров из Европы. В этом, в сущности, заключается одна из главных проблем истории лошадей того времени: мы не знаем, в каком именно месте выжили эти животные. Нам известно только то, что они выжили, иначе их бы не было в сегодняшнем мире. Однако фрагментарность находок, относящихся к тысячелетиям, последовавшим за концом плейстоцена, не позволяет пока сказать, какая из популяций лошадей внесла основной вклад в генетику современных пород, и ближайшее прошлое их в лучшем случае остается туманным.
Нам известно, что наступающие леса создавали для лошадей множество препятствий, помимо желудей. Среди деревьев труднее ориентироваться. Больше мест для засады хищников. Мало подходящей еды. Скорость, главное средство самозащиты лошади, теряет свое значение: деревья препятствуют бегу.
Леса в любом случае не благоприятствуют крупным млекопитающим. Появление смешанных лесов и дубрав совпало по времени с вымиранием мамонтов. Северные олени ушли на север и так и не вернулись оттуда. Лошади разошлись по тем редким уголкам, в которых не могли прижиться леса. Иногда другие животные останавливали натиск леса, тем самым помогая лошадям. Так, например, в современной Африке слоны играют роль землеустроителей, поедая молодые деревья и не позволяя лесу распространяться.
Однако в Европе того времени слонов, конечно, не было, a мамонты уже ушли. Но появился другой кризисный менеджер и землеустроитель – Homo sapiens.Когда лед растаял, плейстоценовые люди выбрались из-под своих каменных козырьков и навесов, чтобы жить поселками под открытым небом, чем немедленно преобразили ландшафт. К началу голоцена, то есть нашей текущей эпохи, примерно 11 700 лет назад, Homo sapiens изрядно преуспел во всяких способах обращения с огнем. Представители нашего вида старались повысить эффективность охоты, например выжигали землю, чтобы сильнее росли привлекавшие травоядных молодые побеги. Они вырубали деревья вокруг своих поселений, образуя небольшие полянки. Когда люди оставляли жилища, на эти полянки приходили пастись кони. Никто не знает, были ли среди них уже одомашненные, однако, поскольку доказательств этого нет, ученые оставляют вопрос открытым. К сожалению, широкая публика часто истолковывает отсутствие определенного решения по этому вопросу как отрицание подобной возможности. Так что пока проще сказать, что наука – полагающаяся на факты – пока не может дать ясный ответ.
Однако леса приживались не везде. На просторных прибрежных пустошах Галисии, например, почва была слишком кислой для этого, и ветер вместе с солеными брызгами препятствовал росту всякого дерева, которое умудрялось пустить корни. Здесь развилась другая экосистема – та, к которой лошади смогли приспособиться.
* * *
Однажды абсолютно промозглым июньским днем посреди той самой климатической аномалии, которая способствовала росту количества желудей в природном парке Нью-Форест, мы с Джейсоном Рэнсомом и несколькими галисийскими специалистами, среди которых была Лаура Лагос, посетили одно местечко, расположенное на крайней северо-западной оконечности Испании. Я всегда воспринимала Испанию как «южную страну», наделенную жарким и сухим климатом, однако галисийские пустоши находятся на одной параллели с канадской провинцией Новая Шотландия.
На полноприводном внедорожнике мы ехали по раскисшим глубоким колеям грунтовки к вершине километровой прибрежной горы. Ветер налетал с океана со скоростью и силой урагана. С трудом распахнув дверцы машины, мы повернулись боком к ветру и направились к краю бездны.
Наш проводник, ботаник Хайме Фагундес, указал рукой на оставшуюся внизу долину. «Вот это, – объявил он, – называется гиперокеанической системой».
Приставка «гипер» казалась вполне уместной. Мы вглядывались в даль, насколько мог видеть глаз, но оказалось, что он мог видеть очень недалеко. Слишком много тумана, слишком пасмурно, слишком много дождевых облаков.
Переглянувшись, мы с Рэнсомом дружно сказали: «И это Испания? И это июнь?»
Я пожалела о том, что на мне не зимнее пальто, которое я надеваю в Новой Англии в январе. Если бы налетавший с океана ветер не был пропитан солью, хлеставший нас дождь превратился бы в снег. Рэнсом, явно не угадавший с выбором одежды, был в носках и сандалиях. Пейзаж напомнил мне остров Сейбл – ветер, кругом сырость и ни души. Сразу же на ум пришла сценка из некогда прочитанного мной старого викторианского романа: потрясенная до глубины души героиня в отчаянии бежит по пустоши лишь для того, чтобы на следующее утро ее нашли на берегу замерзшей насмерть.
Гаррано конечно же находились где-нибудь неподалеку, однако для того, чтобы заметить их, требовалась бездна сил и внимания. Несмотря на жуткий ветер, горы вокруг были укрыты густым и плотным туманом, в котором прятались все долины внизу.
«В этой ситуации нет ничего необычного», – уверил нас Фагундес.
«Дожди в Испании, – обратилась я к Лагос, – оказывается, идут не только на равнине»[157].
«Действительно, – согласилась она. – Вы правы. Но на этих пустошах они, похоже, идут круглый год без перерыва».
Я фыркнула. Даже мои собаки не стали бы выходить из дома в такую погоду – однако гаррано, которых мы все-таки увидели, были в полной мере довольны жизнью. Под подобным ливнем мои лошади всегда стояли понуро, повесив голову и подставив круп ветру, дожидаясь, когда этот кошмар закончится и вновь выглянет солнце. Если рядом оказывалось какое-нибудь укрытие, они отправлялись туда.
Я сказала об этом Фелипе Барсена, старшему коллеге Лагос, который несколько дней путешествовал вместе с нами.
«Но это не лошади, – ответил он. – Это гаррано».
Барсена настолько убежден в существовании подобного различия, что даже предположил считать этих коней отдельным подвидом: Equus ferus atlanticus.
Мы уже видели несколько других популяций гаррано в более южных краях, где погода была мягче, воздух теплее, а дни солнечнее. Тем не менее животные там показались нам грустными. Они держались возле вершин гребней, где ветер отгонял насекомых, и стояли понурив головы. Я была счастлива – с моей точки зрения, нет ничего лучше жаркого солнышка, – а эти гаррано казались скорее усталыми крестьянскими лошадьми. Они почти не шевелились.
Наши биологические виды имеют разные взгляды на то, что такое «хорошая погода», однако, пока я не стала собирать материал для этой книги, я не задумывалась над тем, насколько представления о погоде могут быть связанными с эволюцией. Оказывается, кони, эволюция которых долгое время происходила в северных регионах, предпочитают прохладу. Многие же из нас, приматов, проведших 200 000 лет в Африке, любят тепло и солнце. Мы способны выжить в прохладном климате, однако для этого нужно иметь некоторые навыки.
И если мы с Рэнсомом тряслись от холода в машине, пытаясь согреться и высохнуть, то гаррано бодро трусили рядом в своем «гиперокеаническом» мире, спускаясь и поднимаясь по крутым склонам. С великим удовольствием они хрустели утесником. Молодые жеребцы и кобылы играли. Вода с длинных косматых грив и хвостов ручейками стекала на землю, прорисовывая тонкие линии на той грязи, в которой стояли кони.
Я задумалась. Что, если гаррано действительно любят эту неуютную дождливую погоду? От одной этой мысли мне захотелось чихнуть.
Глядя на этих лошадей, я подумала, что кони острова Сейбл, в которых я всегда видела жертв прихотливого норова северной части Атлантического океана, могут считать приятными условия своей жизни. Способность к адаптации, приобретенная лошадьми в ходе эволюции длиной 56 млн лет, поражает.
Потом мы с Рэнсомом снова поговорили о том, что, согласно его представлениям, лошади занимают сегодня антропогенную экологическую нишу. Все же, пусть даже эти гаррано радуются мерзкой погоде, у них хватает других проблем. На тех же самых пустошах проживает выносливая и крепкая популяция иберийских волков, выстоявших в этом краю не первое тысячелетие. Неподалеку, почти что «за углом», мы заметили полностью обглоданные скелеты кобылы и жеребенка. Крошечное, совершенное по форме копытце вместе с еще покрытой шкурой частью ноги лежало в грязи. Должно быть, волки преследовали кобылу, дожидаясь тех недолгих мгновений, когда она будет вынуждена прилечь, чтобы родить, и окажется уязвимой.
На большей части остальной территории Европы волки либо выбиты, либо количество их крайне ограниченно (в некоторых отдаленных уголках их даже реинтродуцируют), однако в горах Галисии они делают все, что хотят. Волки уничтожают огромное количество жеребят гаррано. Во время наших поездок Лагос обратила мое внимание на шрамы на задних ногах малышей, подчеркивая тем самым, что волков не всегда ждет удача. Самих волков мы не видели – они слишком умны, чтобы попадаться на глаза людям, – однако заметили много волчьих следов и кучек помета.
Галисийцы привыкли контролировать численность волков, строя для них ловушки и организуя охоту. Самому раннему письменному сообщению об охоте на волков примерно тысяча лет, однако сам обычай конечно же намного старше. Лагос показала нам несколько ловушек – сложенных из камня парных высоких стен, обычно почти в километр длиной. Они сходятся между собой, образуя очень широкую букву «V», в конце которой выкопана глубокая яма. Во время коллективных охот – до изобретения огнестрельного оружия – местные жители выходили в горы целыми деревнями, шумом выгоняя волков из логова. Пытаясь спастись, волки бежали вдоль стен, не понимая, что попали в ловушку, до тех пор, пока стены не сходились и бежать было уже поздно. Во время загона люди также прятались в укромных местах и шумели, пугая и подгоняя криками волков. И если одинокий человек не допускал таких вольностей в отношении стаи волков, то селяне, собираясь вместе, очевидно, могли загонять этих зверей, не рискуя здоровьем и жизнью. Доведенные до отчаяния, гонимые волки добегали до угла буквы «V» и падали в яму, где их убивали. Галисийцы сохраняют стены этих загонов в качестве памятников культуры.
Соперничество с волками составляет несомненный вызов для лошадей, однако я подозреваю, что питание утесником представит вызов для любого из травоядных. Это весьма бесполезное растение. На нем растут листья, которые, едва появившись, тут же превращаются в сверхострые колючки. Хуже того: захваченную утесником землю трудно восстановить. Чем чаще ты жжешь утесник, тем лучше он растет.
При всем этом утесник может оказаться единственной причиной, которая позволила выжить пони Атлантического побережья: научившись есть эту не самую удобную пищу, кони сумели продержаться на не самой удобной земле. Гаррано, возможно, в каком-то роде представляют собой ранний пример выбора обозначенной Рэнсомом антропогенной ниши: перейдя на утесник, они сумели прожить в области, непригодной для человека.
Эти невысокие и крепкие пони, часто не дотягивающие до 1,5 метра в холке, крупноголовые и пузатые, – словом, эти маленькие и смешные зверушки, скорее всего, одна из главных линий, лежащих в основе существующих ныне пород, в особенности могучих тяжеловозов, а также рослых и выносливых ирландских верховых. К тому же гаррано нельзя назвать бесполезными, хоть у них и маленький рост. Они и вся их родня с побережья Атлантики, как показывают исследования генетического аппарата, наделили своих потомков крепкими ногами, необходимыми для тех тяжелых работ, которые в конечном итоге возложили на них люди, – как, например, перевозку средневекового рыцаря со всем его вооружением.
Тем не менее их, бедолаг, презирают. Они как комик Родни Дэнджерфилд[158], только среди лошадей. Местные жители различают гаррано, которых называют bestas – животными, – и лошадей, которых называют caballos. Вся честь достается caballos; на долю bestas, как и ослов, выпадает рабский труд.
Галисийцы пытались «улучшить» породу гаррано за счет скрещивания с другими породами, но безуспешно. Лагос рассказала мне об одной такой попытке, когда местные жители приобрели чистокровного жеребца какой-то другой породы, лучшего производителя, чем местные коротконожки, и приставили его к группе кобыл гаррано.
В первый год жизни в табуне жеребец был очень хорош и силен, народилось много жеребят, однако следующей зимой он едва не умер от голода.
«Всю зиму он только ел и ел, – пояснила Лагос. – Но весной все равно был слишком слаб, чтобы интересоваться кобылами, и его пришлось забить. Но это еще не самое худшее, не выжили и все его жеребята».
Я подумала о том, что вообще значит – «улучшить». Улучшить по сравнению с чем? Возможно, вопрос решается в категориях «природе-матушке лучше знать» и «оставьте его в покое». Если не ошибаются галисийские ученые и эти пони происходят от тех, кто пережил здесь таяние льда, тогда, выходит, что они тысячелетиями врастали в уникальную прибрежную экологическую систему. Привезенные неведомо откуда лошади могут просто не обладать нужным биологическим «оборудованием» – теми же усами, к примеру, – необходимым для того, чтобы питаться утесником и жить во влажном, противном и ветреном климате.
* * *
Нам известно, что в хаосе, которым закончился плейстоцен, кони в Западном полушарии вымерли, a в Европе и Азии до голоцена дожила горстка характерных разновидностей. Какая-то часть из них стала основой для крепконогих испанских гаррано и потток. Более изящная лошадь, породившая сегодняшних арабских и чистокровных лошадей, сохранилась в глубине южных азиатских пустынь. Возможно, еще одна разновидность лошади могла сохраниться в Монголии, существовали и другие немногочисленные популяции пони, например якутские лошади Сибири.
Однако в большинстве других регионов лошади исчезли полностью или же обитали в крайне малом количестве. Ученым это стало известно благодаря тому, что поселения древних людей возрастом менее 10 000 лет относительно часто встречаются в Азии и Европе. На этих стоянках присутствуют кости многих животных, но кости лошадей обнаруживаются очень редко, что контрастирует с многочисленными находками таковых на стоянках эпохи плейстоцена. В Греции, где нетрудно найти кости гиппариона, археологи зафиксировали в слоях раннего голоцена многочисленные oстанки свиней – однако кости лошадей отсутствуют, что подразумевает резкое сокращение их численности.
И все же сегодня лошади обитают на всех континентах, за исключением, естественно, Антарктиды. Десятки миллионов коней, большая часть которых проживает в тесном сотрудничестве с человеком, населяют просторы Австралии, равнины Северной Америки и Монголии, горы и пастбища современной Европы. Невзирая на восприимчивость к переносимым местными насекомыми болезням, теперь они являются обыкновенными обитателями Африки, так как люди научились прививать их от инфекций вроде сонной болезни, распространяемой мухой цеце.
Мы стремимся выращивать и выкармливать лошадей, даже помогать им жить в таких районах, где без нашей помощи они не смогли бы сохраниться. Мы хотим, чтобы они были рядом с нами, невзирая на то, что больше не нуждаемся в их помощи. Нам более не приходится использовать их для перевозки тяжестей или для пахоты, и тем не менее они присутствуют на наших фермах и ранчо и, как и прежде, катают в экипажах туристов. В Амстердаме я видела, как упряжка коней каждый день возит полный пива фургон по одной из главных улиц города. Автомобили замедляют ход, чтобы пропустить эту повозку. После того как она проезжает, люди останавливаются и провожают ее взглядами, восхищаясь силой и статью животных. В Мерримаке, Нью-Гэмпшир, пивоваренная компания в рекламных целях содержит крупных, весом по 600 килограммов, клейдесдальских лошадей (см. илл. 13 на вклейке) с щетками на ногах.
Столь широкое распространение всего за десять тысяч лет феноменально. Если мерить по геологической шкале, оно произошло за удивительно короткий отрезок времени. И за этот биологический успех лошади могут благодарить людей, заботившихся о них. На мой взгляд, именно эта черта по-настоящему отличает людей от других животных: мы стремимся входить в контакт с другими видами. Мы отвечаем привязанностью животным, привязывающимся к нам. Пока животное не представляет опасности, мы будем стоять и тихо следить за ним, надеясь на то, что дикое существо само подойдет к нам и «поздоровается». Иногда случается, что лошади так и поступают.
Чем ближе они позволяют нам подойти к себе, тем крепче становится соединяющий нас с ними дух партнерства. Мы в больших количествах выращивали их, распространяли по всему миру, перевозили на кораблях из Старого Света в Новый, возвращали на их родину. Мы баловали их вкусным и питательным зерном, старались, чтобы у них была вода, прогоняли всяких хищников вроде волков, укрывали от ветра, дождя и снега. Мы расчесывали их, заботились о копытах и при необходимости лечили зубы.
И если мы были полезными лошадям, то это потому, что кони покорились нам. Чувствительные, чуткие, послушные (по большей части), удобные под седлом, способные прокормиться с небольшой помощью человека, лошади сделались фундаментом человеческой цивилизации сразу же после того, как были одомашнены. Ученые, изучающие ранние этапы земледелия и животноводства, часто сравнивают процессы приручения лошадей, крупного рогатого скота и овец, однако в отношении человека к лошади больше родственных чувств, чем желания что-то получить от нее. Кони, подобно собакам, наши друзья и спутники. Они способны формировать прочную привязанность и потому могут оставаться преданными человеку всю свою жизнь. Мы также остаемся верными им: мне часто снятся лошади, с которыми я дружила много лет назад.
Искусство плейстоцена говорит о том, что связь между лошадьми и людьми, возможно, существовала десятки тысячелетий, но как только мы научились загонять коней за ограды и ездить на них верхом, она была, скажем так, оформлена официально. Освоение верховой езды было для ранней цивилизации явлением, без преувеличения сопоставимым с тем, чем стало для нас изобретение компьютера: подлинной, потрясающей революцией. До появления верховой езды единственной удобной формой путешествия на дальнее расстояние было плавание на лодке. По сути дела, люди оставались пленниками водных артерий.
Как только люди научились ездить верхом, перед ними открылся новый океан – океан травяной, который можно было пересечь без особых усилий со своей стороны. Кони впервые подарили людям свободу перемещения. Внутренние просторы Азии, Северной и Южной Америки перестали быть препятствиями, а наоборот, стали манить путешественника. Волны, катящиеся по траве, препятствуют пешему, но зовут вдаль конного: дорога ждет вас, шепчет трава. Интересно, что там будет, за ближайшим холмом?..
* * *
Прочитав о гибели пони из Нью-Фореста и о древнем обычае, с помощью которого люди не позволяли лошадям переесть желудей, я начала задумываться о причинах появления столь покровительственного отношения, да, кстати говоря, и самой верховой езды. Какой шаг был первым? Когда и как начали лошади возить людей? Согласно традиционным научным представлениям, верховая езда вместе с одомашниванием лошади возникла в Центральной Азии. (Важно разделять эти явления. С археологической точки зрения верховая езда и одомашнивание лошади – совершенно разные события. Вполне возможно, что люди начали ездить на лошадях задолго до того, как одомашнили их.) Мы не знаем точной даты, когда люди начали ездить верхом, однако верхняя граница доместикации прослеживается по материальным источникам. Ученые, исследовавшие стоянку Ботай в Казахстане, обнаружили небольшие загоны, в которых доили кобылиц[159]. На битой посуде в этих «коралях» нашли животные жиры, характерные для конского молока, что подтверждает предположение о том, что в этом месте лошади уже были одомашнены. Возраст стоянки составляет около 5500 лет, и она считается первым надежным свидетельством доместикации лошадей. Однако свидетельств верховой езды в Ботае не было обнаружено.
Впрочем, «отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия»[160]. Ездить верхом или доить лошадей могли научиться задолго до возникновения Ботая, однако пока еще никто не сумел обнаружить надежных признаков этого. Учитывая то, что крупный рогатый скот и овцы были одомашнены по меньшей мере 10 000 лет назад, a также то, что лошади лучше приспособлены к холодным северным равнинам (подобно Уисперу, в отличие от быков и коров они могут пробить копытом ледок на воде или разгрести в стороны снег в поисках травы), можно не без основания предположить, что кони были одомашнены все же до Ботая.
Отсюда вполне разумно вытекает предположение о том, что на конях уже ездили верхом. Верховая езда не требует обязательного применения седла и уздечки. Необходимо просто усидеть на спине животного. Если седок выдержит одну-две безумные скачки, дело можно считать сделанным. В любом случае верховая езда – часть нашего общего естественного исторического наследия. В Африке я часто замечала детенышей бабуинов, едущих на спинах не возражающих против этого родителей, и это напоминало мне нарисованную Хаксли забавную картинку с изображением эохомо верхом на эогиппусе. Доместикация лошадей представляется несколько более сложным процессом, если включать в нее акт контроля за размножением в современном смысле – то есть привод жеребца к кобыле.
Общепринятое в среде археологов мнение, согласно которому овладение верховой ездой и одомашнивание начались на востоке и оттуда распространились в Европу, не встречает одобрения в Галисии. Местные ученые считают, что и то и другое было независимо изобретено в их регионе. Они полагают, что верховая езда представляла собой естественную стадию развития партнерства между людьми и конями на пути от охоты на лошадей как на источник мяса к повседневному использованию лошадиной силы в сельском хозяйстве. К сожалению, они не могут привести никаких доказательств, за исключением присутствия испанской компоненты в генах многих современных пород.
Впрочем, существует несколько произведений постплейстоценового искусства, несомненно изображающих всадников. Ноги их едва не достают до земли, что указывает на небольшой рост животных, возможно не превосходивших тех гаррано, которых я видела. Эти рисунки, однако, находятся не в пещерах, а на открытом воздухе и представляют собой наскальную живопись. По всей Европе существует множество подобных выбитых в камне изображений, однако чаще всего они имеют какое-то символическое значение, которое не поддается научной дешифровке. Существуют изображения в виде концентрических кругов, перечеркивающих друг друга линий, напоминающих шахматную доску, простых знаков «X» или нескольких параллельных линий. Некоторые ученые предполагают, что подобные знаки могут быть очень ранними предшественниками письма – еще не в буквенной форме, но в виде клейм, как в надписях типа: «Здесь был Килрой» или «Эта земля принадлежит таким-то».
Подобные геометрические знаки встречаются часто, а вот
