Читать онлайн Сельские предания, областные сказки. Дунька с агробазы бесплатно
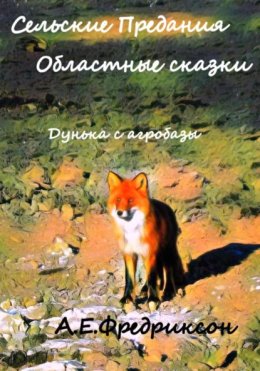
Глава 1 Мгновенталь заброшенных миров. Мир гляди матрёшка
Что такое мгновенталь- настоящее и старь.
То мгновение жизни нашей, то событий календарь.
Каждый маленькая повесть, сказка счастья, быль, рассказ.
Или прозы, грустный очерк. Почитай Маркизы сказ.
Мария уже в самолёте, – задумчиво произнесла Марка Геральдиевна, поглядывая на небо, с балкона, Наташиной квартиры. Куда заехала настроить, своего зеркального двойника, перед тем, как отправится в турне по стране, вслед за Машей, – Как думаешь Кьяр Батакиевич, правильно ли я поступила? Отправила её одну, так далеко. Ох! Справится ли она. Волнуюсь что-то, – спросила она у приятеля ворона, прилетевшего её проводить и поделится тем, что узнал от общения с Миром Куркуличем.
– Не переживай Марка! Справится, конечно. Тем более её там ждут, давно. Да и не на чужбину ведь поехала. В родные края.
– Ждут её? – удивилась Марка.
– Ждут, не сомневайся. Я, тут с братцем, дальневосточным, моим говорил, через пруд в Александровском саду. Как ты просила, передал ему свитки. Мир Куркулич, ворон альбинос, колымский братишка, мне сказал, что матрёшка заново собираться начала.
– Матрёшка? – округлила глаза Марка, – Ой! А не расскажешь, по подробней? Интересно.
– Ну да, матрёшка! С неё-то всё и началось. Вот послушай, притчу Мира Куркулича. О клубных артистах, кстати. И ты удивишься, но о твоей подруге баронессе, и о тебе тоже, в этой притче, местами говорится.
Мир гляди Матрёшка
– Каррр!
В этот, по-зимнему стылый, осенний, ноябрьский день, с бескрайней высоты, до конца не прогретых небесных просторов, словно навечно скованных, суровой северной мерзлотой, отливающих холодным, безжизненным стеклом с не живым отражением солнца, не торопясь спускался белый ворон, по имени Мир. Неспешно облетел со всех сторон давно опустевшую трёхэтажку на четыре подъезда, будто осматривая её впервые. Этот забытый людьми, старый дом в заброшенном посёлке, затерявшемся в долине ирисов окружённой тайгой, спрятанной в закрученных лабиринтах, колымского нагорья, был хорошо знаком и не плохо изучен любознательной птицей.
Ему например, было известно, что бывшую квартиру сапожника, облюбовала стая знакомых воронов, сварливо покрикивающих друг на друга, таскающих туда сюда щепки от мебели, поломанные игрушки, обрывки ветхой одежды и обувь так и не пришедших клиентов, брошенную грудой в коридоре. В квартиру рядом, где когда-то жил фотограф местной газеты, заселилась стая диких, серых голубей, с каждым годом увеличивающих своё потомство, погребая под слоем пуха и перьев, брошенные старые фотографии и плёнки, укрывая палым оперением, хранившуюся на фото историю края. В соседнем подъезде, на втором этаже разместилась одичавшая кошка с котятами, почти позабывшая ласку, заботу людей, бродила по ступенькам опасной пантерой, бесстрашной пумой охотясь, держа в страхе весь дом новых постояльцев. Выше, над логовом кошачьего семейства поселилась Снеговика морозница, стылый дух декабря, отдыхая тут с начала весны, до последних дней осени. В некоторые квартиры вернулись призраки, когда-то живших здесь, давно почивших соседей, перемещаясь тенями, они сипло болтали, переругиваясь друг с другом, как в старые добрые времена, шипя, скрипя через расстроенные, забытые радиоприёмники. Почерневшие от времени куклы, со всклоченными волосами, проваленными глазами и разодранные временем плюшевые звери, через разбитые стёкла, перекошенные двери, сиротливо выглядывали, безмолвно призывая бывших хозяев, смотря вдаль с онемевшим укором.
В какие-то квартиры пробрались бурундуки и белки, строя свои гнёзда в стенных шкафах и под подоконниками в холодном. В кладовках орудовала тётушка плесень, соревнуясь с гидрой грибницей, кто быстрей заполнит тёмные пространства, безустанно воюя, побеждая друг друга, весь апрель молодой, да весь май, август и дождливый сентябрь поделить не могли они, лишь на лето, не долгий союз сохраняя, замирая под сугробом зимой, а с первой капелью принимались заново ссорится. Чердак и крышу заполонила разная таёжная, мелкая птица, уступив первые этажи рябчику с куропаткой. А в подвале с левой стороны дома, в первом закутке, сразу за углом затянутого паутиной коридора, всё ещё прибывала в спячке седая медведица.
И вот сегодня ворон не просто совершал очередной плановый пролёт вокруг знакомого дома, а определённо явно, что-то искал в нём. Особенный интерес для него сейчас представляла боковая квартира второго этажа. Он и раньше заглядывался на неё, но мимолётом, больше предпочитая проводить время в квартирах повыше. Сегодня-же по воле случая он изменил своим привычкам. Одиноко паря над покинутым домом, его интерес внезапно привлекла, сею секундная, вспыхнувшая ярким, паеточным блеском, точка света. Притягательно сверкнувшая из окна комнаты, среди беспорядочно раскиданной, заросшей плесенью и занесенной пылью рухляди. Этот чарующий блеск был не похож, на то сияние, что производили обычные находки, что, бывало попадались ему на пути. Он мигнул маяком, призвал, поманил. И ворон не смог проигнорировать, этот призыв, решив, во что бы то ни стало отыскать, источник ослепительной вспышки. Наконец, выбрав место дислокации поиска, спешился, прыгнул на щербатый, весь в занозах и облупившейся иссохшей краской горбатый подоконник. Взъерошился-нахохлился, почистил пёрышки крыльев, поскоблил острым клювом хищные когти, прихорошился, поглядывая на себя в последний, уцелевший осколок оконного стекла, по виду остался доволен, после чего стал внимательным взглядом осматривать захламлённую комнату.
Оглядев её с подоконника, снизу до верха, не найдя для зорких глаз ничего интересного, стоящего внимания, ворон спустился на пол. А всё из-за того, что на небе, большое, кучевое облако, прилетевшее с сопок, закрыло доступ солнечным лучам, обычно помогающим ворону отыскивать, маленькие, сияющие радости, будь то напёрстки, монетки, безделушки украшения или другие блестящие предметы. Без помощи солнца было сложно определить, откуда мигнул сигнал света, но ворон не побоялся этой преграды и стал двигаться наугад. Главное он знал, что вещица посигналила из этой квартиры, а значит рано или поздно, ворон её обязательно обнаружит.
В укрытой тенью от облака комнате, серая ветошь, запорошенная пылью, годами слой за слоем покрывающей окружающее пространство, утрамбованная лютыми стихиями сезонов, слилась в единый, причудливый массив, в котором вряд ли можно было что-либо отыскать, на первый взгляд.
Штора, когда-то украшавшая окно, сорванная порывом разгулявшегося ветра и брошенная им в центр комнаты, накрыла собой валяющееся горкой, оставленное прежними хозяевами барахло. А времена года, будто соревнуясь в мастерстве ландшафтного дизайна, год, за годом колдуя над этим беспорядочным комнатным натюрмортом, сформировали на полу причудливую лепнину, которая в ясный, солнечный полдень, благодаря играм теней, смотрелась, искусно созданной умельцем инкогнито, диорамой. Тут были и горные вершины с лихо закрученным серпантином дорог и обширные поросшие лесной мелкотравицей благодатные долины, в которых чётко просматривались высохшие русла витиеватых рек. Местами виднелись щербатые ступени лесенок, уходящие в никуда и выглядывали со всех сторон размытые очертания разваленных сооружений. А вскоре и новые жильцы облюбовали этот, ненароком созданный когда-то ветром, а теперь облагороженный дотошным эстетом природой, микро-оазис. В самой высокой горе поселилась таёжная мышь и даже вывела там, несколько раз потомство. Время от времени, в горке поменьше с просторным входом-прорвой, на постоялый ночлег оставался дикий одиночка воробушек. Всё остальное свободное пространство между собой поделили лесные жуки, пауки и прочие букашки.
Штора и то что находилось под ней вымачивалось, трамбовалось проливными ливнями беспокойной осени, смывшими прежний, яркий цвет материала, появились новые штрихи в расцветке и поменялась форма очертаний под видоизменившейся, промоченной унылыми дождями тканью. Зима промораживала до хруста прогорклый, тленный, готический шедевр осени, да так, что он местами треснул, образовав прорехи, зияющие таинственной пустотой. Покрывала его в середине ноября сверкающим инеем, возводя обледеневшие дворцы, а с декабря по март прессовала плотным, снежным сугробом, позволяя мелким грызунам и букашкам вдоволь выспаться до первых, тёплых лучей апрельского солнца. Весна смывала весь бледно-голубой ренессанс зимы, до остатка, перерабатывая его в серый, угловатый конструктивизм. Пробуждая от спячки маленьких жителей, умывая их бодрящей капелью. Приносила без устали ветром, горстки земли, формируя будущие сады и клумбы, готовя подходящий грунт для летнего цветения. А лето украшало весенние труды, буйным разноцветьем таёжного барокко, засеивая всю эту конструкцию семенами любимых, крошечных цветочков-звёздочек, подножной ягодой, дорожками травы и зонтиками одуванчика, приглашая, поселится здесь, снующую туда-сюда букавню, мелких птичек и грызунов. Но это летом, а сейчас, ещё местами по комнате лежит снег, хотя шторный ландшафт, уже почти полностью виден. И где-то здесь спряталось то, что так привлекло внимание ворона.
Он не спешил с поиском, а вальяжно прохаживался вокруг диорамы. Наклоняя голову то в одну сторону, то в другую, будто оценивающе приглядываясь. Иногда постукивал мощным клювом по выступам микро-массива, словно проверяя их на прочность, ставил горделиво лапу на некоторые из них, довольно покаркивая. Видно любуясь и одновременно, чего-то ожидая.
Не прошло и минуты, как яркие лучи озарили собой всю округу. Самый быстрый, юркий лучик первым ворвался в комнату и на мгновение ослепил ворона. Но тому хватило всего секунду, чтобы успеть засечь сверкнувший маячок в буром, закованным в снежную корку массиве.В это время снаружи, облако, что закрыло собой доступ свету, начало меняться, сворачиваясь в мягкую спираль, тонкая косичка которой устремилась к одному из окон, на верхнем этаже дома. Ворону было знакомо, это облако. Он не раз наблюдал, как оно покидает и возвращается на это место. Оно здесь время от времени останавливалось, как и ворон. Вот и сейчас, как обычно полетав над посёлком, оно вернулось на отдых, безмолвно струясь с небес в свою временную обитель, уступая дорогу солнечному свету. Этого-то и ждала смышлёная птица.
– Каррр! – обрадовался ворон и вприпрыжку устремился к ожидаемой находке.
Это оказалась крошечная матрёшка. Яркая раскраска давно осыпалась с неё, превратив в серую, неприметную болванку. Руками какого-то мастера к ней был приделан не большой металлический стержень от отвёртки. Он то и послужил сигналом, маякнул любопытному, зоркоглазому ворону.
С минуту птица рассматривала найденную вещицу, сужая и расширяя зрачки в раздумьях, будто вспоминая о чём-то. Поразмышляв, ворон перевернул клювом матрёшку-отвёртку. С другой стороны показалась не до конца смытая роспись. Большой красивый, голубой глазик с длинными ресницами, казалось подмигнул птице, а оставшийся лепесток губ, с левой стороны лица, потянулся в исстрадавшейся полуулыбке. Так улыбаются другу, с которым не виделись долгие годы, радуясь неожиданной, но такой долгожданной встрече, несущей тепло, сулящей утешение в нежданном спасении.
– Каррр, каррр! – поприветствовал ворон старую знакомую, тут же взял её бережно в клюв и довольный собой, выпорхнул в окно. На лету обдумывая,сколько она уже здесь лежит, среди обломков ушедшего мира. Совсем одна, брошена, забыта, потеряна. Кто его знает, может пять, может шесть, а может и несколько десятков лет.
Самая маленькая матрёшка, младшая в своей сестринской семье, уже давно перестала следить за временем, бредила одними воспоминаниями. С того момента, как впервые увидела сестер и до того, как в последний раз лицезрела, единственную оставшуюся среди родных, сестру погодку, уносимую беспробудной тоской, куда-то в даль и оттуда больше не вернувшуюся. С той поры, меньшая впадала, то в состояние безудержной веры, что кто-то из родных обязательно вернется и они, как и прежде будут веселить друг друга песенками про тёплое лето с полевыми просторами, добро подшучивать для душевной гармонии, заливаясь радостным смехом, а в минуты грусти, прижимать к теплому, родному боку, приговаривая:
– Эй! Роднулька, ну чего надулась-то? Ну-ка улыбнись, а-то защекочу…
То бывало, наоборот валилась в такую чёрную, непроглядную тьму безысходности и одиночества, что вскоре, поначалу угасла вера, в волшебное возвращение, а после потускнела и надежда, что чудо всё-таки произойдёт. Как и исчезла яркая улыбка, подаренная когда-то отцом художником, осыпались цветики-ягодки с платочка, а под лучистыми глазками, пролегли, щербатые, слезливые бороздки. Осталась лишь горько-сладкая память, событий прошедших лет, которая теперь не отпускала, крепко держала в своих тисках, обволакивая туманом до конца не увядших видений.
Вот они впятером, там в другой жизни, в другой местности, на другом краю своей необъятной Родины, пока ещё все вместе, ещё рядом, под присмотром, под сенью друг друга, нарядные, румяные на подбор хохотушки. Только-только из под отцовской опеки, рождённые вдохновением и в ожидании нового дома, своего дома, гадают на ромашках, в цветастых узорах, кто же придёт за ними, какая доля им уготована. Не подозревая, что впереди их ждёт, пока ещё не ясным, призрачным маревом, долгая дорога, сменяя города, людей, пространство, историю.
Впервые попав из отцовской лавки в барский дом, укрытый в ту пору цветущими яблонями, обрадовались, всё вокруг было так красиво, уютно, безмятежно, казалось конца, и края не будет этому счастью. Комната, в которую их определили, ненадолго, была самой светлой и просторной. Всегда наполненная свежим воздухом, принесённым ветром с цветочного луга, что там за оградами у берёзовой рощи. Деревянные, покрытые лаком полы в этой нарядной комнате, мылись и натирались каждый день так, что пыль просто не успевала появляться, латунные ручки дубовых дверей были натёрты до кристального блеска, а хрустальная, заморская люстра, гордость хозяина, сверкала и искрилась огнём тысячи граней. Пространство дома, куда не кинь взгляд, лучилось гармонией достатка и порядком, поддерживаемым стараниями десятка заботливых рук благодарной челяди, что всегда под ласковым взором добрых хозяев. А главное было наполнено интересными, мудреными вещицами, предметами местного народного и привозного искусства, всем своим видом суля сёстрам матрёшкам добрый мир со счастливыми событиями.
В свой первый, короткий день на новом месте, сёстры матрёшки появились вместе с подарками; расписной деревянной посудой, щедро золочённой внутри; ювелирными столовыми приборами с именными вензелями хозяина дома; чеканными вазами с резными узорами-окошками из цветного стекла; фаянсовым гербовым сервизом с местным пейзажем и эмблемой журавликом; вышитым гладью кухонным, праздничным бельём, сложенным лебедями и прочими приятными презентами, принятыми дарить в этих краях на праздники. Вся эта красота вместе с пятью парами матрёшек, в широких корзинах-ладьях, торжественной армадой приплыла от местных мастеровых, в подарок на именины, дорогому Алексею Гавриловичу, барину, как его звали в уезде.
Не забыл Алёша Гаврилович и крайнюю избу, на пир пригласить, что в конце уезда и там ещё дальше, у болот под пожухлой ивой, вся скачевряжилась, чёрной поганкой скорчилась. Отправлял он туда сенных девиц с посланием, мол, приходите, люди добрые, на праздник, в честь именин по столуемся. А девицы не со зла, но ослушались, побоялись, да и как не спужаться-то? Говорила им Лизавета-кухарочка, всё лицо в муке, расстегаи готовила:Всю округу вокруг себя собрал, в эту светлую дату Алёша Гаврилович, всю местную, крестьянскую знать, да и простому люду в этот день были рады. Каждому место нашлось за хлебосольным столом, угощения на любой вкус и пожелания.
– В той избе обитают злыдни-кикиморы, там их четверо. Мухомара порядка упадница, Тюря-Тюря квашня хромоногая, Кика кривка-перевёртка болотница, да Титяшка ехидная сводница. Цельный день наводят напраслину, глазят, кличат беду и кикиморят, как прицепятся, так в раз не отмоешься, захвораешь обидой, слезами умоешься. Так зачем они Алёше Гавриловчу, дорогому кормильцу нашему на празднике? Напугают народ, настроение по портится. Вы уж лучше на порог им три раза плюньте и бегом без оглядушки, дома будете, так руки по плечи омойте и тогда, всё будет в порядушке!
Закивали девицы в ответ, Лизавете в пол кланяются, мол, спасибо тётка-кухарочка, от беды уберегла, благодарствуем и ну давай, закружились комариком, представляя, что же будет на празднинстве. А кухарка им глядишь, улыбается и мигает глазами, цвета пескарик, чешуйки искринками, а сама боком, шажочком-метлой, хлоп в ладони, испарилась, и нет её. Нет, не Лизка то была, а Гарпинка Гаргониха, смутьянка злодейская, что питала к Алёше Гавриловичу зависть, злыдьбу, отвращение, то, что всё у него гладко и сахарно, и семья, и хозяйство-рог изобилия, и что люд весь честной к нему с распростертым объятием. А её сторонятся по маман Галантине, горьковатой кликуше и по бабке её Горымгеме, ведьме зловредной, поминают проклятием. Даже те вековухи кикиморы, от себя прогоняли, хохотали, смеялись, бородавчатыми пальцами тыкали.
Вот когда прознала, что вскоре праздник у Алёши готовиться, вот тогда-то Гарпина задумала шутку злодейскую, заморочила девицам сенным головушки, знала шельма, что из-за этого станется, что обидятся злыдни-болотницы, затаят хамство к Гаврилычу, вот тогда она покуражится, да отплатит их руками, за обидушку горькую. Но не знала бедняга, проказница, что другая сила уж близится, что сметёт, не успеет опомнится, прежний мир, не оставит и камешка. А пока суть, да дело, слух эхом о празднике, кругом разлетается и в день-икс, ближе к вечеру до болота добрался он.
А в избушке кривой, в тот час, свой пир готовится. У сиротки Краснушки-Веснушки, что кикиморы подобрали в овраге из жалости, тоже день именинный, восемнадцатый и наречённые тётушки угощение расставляют для нечисти. На столе, что серыми, занозными досками, каркодил запечённый в осоке и вяленый пень, полный белых опарышей; прусака таракана легион в сковородах до хруста зажаренный; рыбьи глазки со слизью и потрохом, в кособоких, глиняных плошках крем-паштетом замешаны; мягких тушек топлых животных, раздутых, две высоких корзины на собраны, подкопченные в слепую, безлунную ночь на костре из сухого, могильного вереска; кисель жидкой плесени, полные крынка с кувшином и чан бормотухи, что на трясинной водичке сбадяжена, ну и главное блюдо, болотный коктейль, по курортному, в нём, гостей дорогих любимые кушанья, вавилонскою башней уложены: забродившие раки-подранки первым коржиком, следом сочные, мясные пиявки с недельных утопленных, дальше жабья икра, гузки оводов в щучьи кишочки набитые, ну а сверху жуки-плавунцы, паутиной укрыты, ещё лапками дёргают. Кривота-ляпота, жуть-загляденье.
Веснушеньке-же, любимой племяннушке, на раскидистой иве, беседка-гнездо к ней лесенка, на скатёрке сюрпризом, бидончик морса брусничного с подарочной кружкой эмалевой и пирог именинный, пять начинок-с картошкой, грибами любимая; с зелёным луком, яйцом; следом с окунем, рыбная; с мясом белого рябчика и пятый с капустой, томатами сдобрена. В пироге-серединке плошка сметанного соуса, с чесночком и укропом душистым, для вкуса раскрытия. А пирог-каравай под крышкой-керамикой, от мушек-заноз, да от корки-заветра припрятано, полотенчиком вышитым, новым сверху обёрнуто.
Ещё пару штрихов и грибные людишки, горбуны белопалые с подземелий, через погреб подтянутся, а за ними и леший и бес речной по объявятся, Ступка Баба ежихой из чащи притопает, с лесовихой древесной потаёнными тропами и Бавмода птичий дух, стаей ворон с неба опустится, и прабабка русалка всплывёт, меж кувшинок, сушёною воблою. А Краснушка-Веснушка узнав про праздник у барина, просит кикимор, хоть глазочком одним, хоть у забора постоять, позабавиться:
– Ну пожалуйста милые тётушки. Я ведь мигом, туда и обратно, взглянуть хочу, как у барина народ потешается. В чём наряжены гости, что за песни поют, как забавой играются.
– Да зачем тебе это Краснушка-Веснушка племянушка? Ведь у нас тут не хуже соберётся гуляночка. И подарков тебе наготовили и нарядимся, вот увидишь, не хуже их приоденемся, – приобняв наречённу племянницу, отвечает ей ласково Тюря-Тюря квашня хромоногая.
– Что не видишь, хотит загулять наша ягодка, забродить ядрёным винцом с каким молодцем, – ухмыляясь кривулей, поддевает Веснушку, Титяшка негодница.
– Не ходи ты к ним, обидят тебя, мою клюковку. Ведь ты знаешь, не в чести у них, бессердечных, наше племя безродное. И гадать на воде не придётся, прогонят ведь, а мы плачь потом за тебя, по расстроимся, – уберечь от обид попыталась Краснушку, Мухомара, что в семействе кикимор, самая старшая.
– Но я буду как мышка, совсем незаметная, тётушки. Так в окно загляну потихоньку и след простыл. Ну, пожалуйста! Обещаю ни о чём не просить, аж до следующей осени. Отпустите, а потом прибегу и спою для вас, болотной оляпкой, как вам нравиться.
– Сёстры, пусть сбегает манечка. Именины ведь, как ни как, пусть по резвится, по бесится. А обидят мою рыбку народ, пущай не серчаются, ведь ответ верну за неё, без сомнения. Ты беги моя детонька скоренько, да надолго там себя не задерживай, возвращайся скорей, мы ведь волнуемся, – за Веснушку вступилась кривка Кика, самая добрая.
– Вот спасибо, милые тётушки! Я недолго, – и раз, уже по тропиночке, убежала Веснушка в сторону полюшка, через лес, огородами резво шмыгнула, мимо изб, под тявкот собак до барского дворика, а там притаилась, слилась с заборами. Присела под куст, в предвкушении зрелищ, достала из-за пазухи зелёное, кислое, дикое яблочко, откусила кусочек, захрустела укромно, внимательно на гулянье уставилась.
Ой! А там во дворе дым столбом, шумный гвалт, развлечения. Мужики, что постарше, все в рубахах цветных с вышитым воротом, полосатых штанах, сапогах, что подкованы, бородатые лица суровые. Соревнуются в спорах, словесных баталиях за широким столом, что яствами уставлены. Жёны их наседками-квочками, на завалинке судачат, завернувши плечи платками, что интересной брошью заколоты; волосами-же караваем уложены, юбки в горошек оборками, тесьмою с мелким узорчиком и у каждой в руках, кулёк с карамельками; рядом бочки-столы, на них самовары с Иван-чаем заваренным, чашки-блюдечки, плетёнки со сдобою, чуть поодаль графины с наливочкой ягодной, статуэтные рюмочки, и подносы с закусками; речь ведут, да за мужьями и дитятками зорко поглядывают.
Тут и гармонист Петруша для музыки и лихвы-настроения, и сплет-совет командошь тут, как тут, ну куда же без них-то веселье: Акулька-чаевница, Фекулинка-блинок, Марфутка-сахарок, да Татка-медуница, а с ними сенные молодцы, вдовой купчихи Сафьялихи – Авдюшка чесун, Яшка щекотун, Павка полодрай, да Семён рукомойник, хороводы водят, песни поют, да в танце упражняются. Ох и хороша восьмёрочка, компанеюшка, да только распутная больно, болтушная. И совет дадут, и расскажут всель, образ подберут, оберег в портфель. Всё они чаи гоняют, да всё про всех знают, в хвост и в гриву любую фигуру величают. Про что их не спроси, во всём разбираются, до всего им дело есть, всё их вблизь касается. Нет в свете ни чего, что бы им неведомо было. Знают всё про всё ответ, что не спросишь, о чём только загадаешь, подумаешь, не успеешь представить, а у них уж и слово есть. Им только тему дай, да чуть по отойди, по удобней там по устройся, да послушай их, погляди. Главное чаёк ароматный им подливай, да сладкой сдобы подкладывай, токмо слышь не зевай, да внимай, да на локон курчавый наматывай.
Все младые девицы, косы до пояса, как одна в длиннополые, парадные, цветастые платья-ульянки наряжены, рукавчики буфами, шейки нежные частыми бусами убраны, а серёжки, ясными звёздами в ушках, так и светятся. Да сапожками красными, каблучками земельку утаптыват, под Петруши гармонь, что заводит веселием. А за ними следят горящими взорами молодцы, белый верх, чёрный низ, кушаком синевой, с бахромой подпоясаны, сапоги до кристального блеска начищены. Ждут, когда время придёт, слиться в танце с подругами, меж собою кивают друг другу, охраняют, стало быть, любви своей территорию. Силой, удалью, шуткой играют, эрудицией хвалятся.Рядом шуты-скоморохи с весёлой мартышкой, с пятничной ярмарки, развлекают гуляющих фокусом, колесом проходят, катаются кубарем и вприсядку гарцуют, змейкою по полу, да в потешные фигуры и дуры становятся, весело так, что душа расцветает, да радуется. А мартышка скачет, кульбитами баловно. То на порося с визгом усядется, и давай скакать, в лапке сабелька. То курей гоняет, рожицы корчит, скалится, на метле-балалайке Петру гармонисту подыгрывает.
А ещё сюрпризом, со столицы прима-певица, песней поздравить приехала. Ходит павою, стать величавая, улыбается всем, причёской высокой, в приветствии кланяется. Руки её в чёрных ажурных, по локоть, кружевами, перчатках, на груди медальон малахитовый, по овалу чеканкой украшен, изумруд в серединке так и горит. Платье шёлком, шлейф феи крылом шуршит, тёмно зелёное, чёрной сеткой из газа покрыто, а на ней паетками с бисером, узор фантазийный навеян, завит. Ну а гости всё идут на поклон, да дары несут и столы из дома вдобавок, уже во двор переставили, там костёр развели, для бесед задушевных, дело к вечеру клонится, луна полная на небе взошла, льдинкой прохладной так и поблёскивает.
Челядь с красными, запотевшими лицами, тут без устали носится с кушаньем, то одно принесёт к восхищению публики, то другое на радость столующих. Будь то рыба-осётр с коптильни, заднего дворика, разносолом по краешку блюда украшена иль бедро кабана запечённое, сочное с гарниром толчённым, картофельным с розмарином и маслицем сдобрено; перепёлки в сметане тушёные с пряными травами; каши губернские с мясом в горшочках; грибная икра и кастрюльки с варёными раками; буженина, язык, котлетка на косточке ; медовушенька добрая в серебряных ковшиках, а к ней расстегаи, кулебяки, пироги мясные, овощные, творожные, сладкие; птицы разные и верчённые, и тушёные, жаренные; а паштетов, салатов, заливных и прочая, прочая-караван нескончаемый. Тут же бочки пивные и винные рядком, стенкой дубовою, а у них наготове стоят виночерпии с ковшиком, утолить жажду готовы по одному пожеланию, каждого.
А Веснушка укромно, тихонько за гуляющих радуется и кусочек яблочка кисленький не глотает, смакует, представляя на вкус угощения, пяткой голой, чумазой в такт музыки, кузнечиком дрыгает. Не заметив, что под раскидистым кустиком, не одна она и её заприметили.
– Люди добрые! Отродье кикиморско, сглазить вас под заборами спряталась, – то Гарпинка тайком поглазеть, позлится надумала, а заметив Краснушку-Веснушку, задумала штуку-гадину лютую, прокричала, сама в темень ушла, мерзко хихикая.
Как же в тот миг испугалась Краснушка, вся сжалась в клубочек, ожидая удары, тычки и обидные прозвища, закрываясь руками, вспоминая слова своих тётушек. А народ попритих, по началу, а придя в себя, хотел было, на сиротку набросится, палкой гнать до болот, рвать приготовились.
Услыхав, добрых слов утешение, поднялась Веснушка в полный рост, стройной статью, красивая, платье грязной, штопанной, сизой рогожкой, выше щиколоток; босая, немного чумазая, но хотя бы в косы уложена, гордая, но немножечко дикая.-Стойте! Гости мои, не в моих это правилах, прогонять того, кто в день именин моих, у порога сподобился. Не пугайся дитя, выйди к нам, не откажи в угощении. Кто ты и чего под заборами прячешься?
– Я Краснушка-Веснушка, тётушек дочка приёмная. У меня, как у вас именины сегодня, поэтому вот решила прийти посмотреть, как вы празднуете. Не ругайтесь, я уже ухожу, знаю не в чести вам со мной столоваться и радоваться.
– Отчего же? Я ведь сам из простого народа, хоть и купеческого, да не слушай, что барином кличут, всего-то лишь прозвище. Всех соседей к себе пригласил, да и вам посылал приглашение, где-ж твои тётушки? Манька, Вланька, Серафима, Паранька, Пульхерия! Говорил вам сходить до каждой избы, вы, что же ослушались? Ах вы, ну ещё погодите-ка, – багровея Алёша Гаврилович в дом ушёл, а народ попритихший Веснушку с интересом разглядывает, под союзный всхлип сенных девушек.
– Эх, вы курицы, чтоб вас, умолкните, – повернулся к гостям Алёша Гаврилович, укоряя девиц, а сам не с пустыми руками, с подарками.
– На вот, прими поздравления Веснушка, да за стол садись, рядом со мной, не выдумывай. Мест на всех хватит, ведь правда друзья мои?
– Правда, правда, Алёша Гаврилович, – загудел дружный глас, приглашая к застолью чудную гостью, угощения от потчевать.
Залилась румянцем Веснушенька, ладони замочком скрестила, стесняется, отвечает барину ласково:
– Вот спасибо Алёша Гаврилович, за подарки и приглашение, низко кланяюсь. Не серчай, я идти должна. Мои старенькие тётушки уже заждались меня, наверно волнуются. Я им передам, что и их звал в гости, добрый ты человек, здоровья тебе и семье и достатка, и долгих лет.
– Ну как знаешь. Рад был видеть Веснушка-Краснушка тебя, да на следующий год жду вместе с тётками. На вот наливки за здоровье прими, заешь буженинкой, или хочешь, угостись кулебякою. Манька, Вланька, Серафима, Паранька, Пульхерия, ну-ка быстро соберите гостинцы в корзинку для тётушек, всё самое вкусное. Да быстрей, не стойте столбом, не позорьте меня, чтоб вас, курицы! Эй Петрусь, где гармонь, грянь-ка весёлую. Скоморошки, шуты под играйте-ка, дудки, ложки, бубенцы, треугольник задействуйте.
Загудел, зашумел снова праздник именинный, завертелся волчком, юлой разударился. И Веснушка пошла в пляс на прощание, под гип-гип скомороший, с мартышкой за рученьки. А потом как запела. Ох! Вот это мистерия! Словно мир показала весь, да голосом, унесла журавлями, над простором до неба, пронесла над морями, лесами, до луны дотянулась мелодией сердца, до самого космоса. Замолчал народ, стихла гармоника, слёзы хлынули, души людские очистила. А певица столичная, больше всех удивилась, растрогалась, ресницами, частым веером хлопает, руку тянет к Веснушке, на пальце перстенёк малахитовый. А Веснушка отдышавшись, окончив песнь-откровение, душевный поклон Алёше Гавриловичу отвесила, поклонилась гостям, взяв подарки, корзину с гостинцами, растворилась во тьме, серой мышкой впотьмах затерялась. Только было, хотела певица за ней следом, взлететь птицей-смарагд, перья червлёный-зелёные, да её обступили гуляющие, просят модный романс, что в первопрестольной сейчас на слуху у всех, глядят на неё с ожиданием, певица с улыбкой кивнула, сморгнув капли горькой росы с ресниц, просит минуты собраться ей.
Весь народ, кто стал свидетелем, нежданна события, хвалят, чтят Алёшу Гавриловича, за добро задушевное, видят стержень в нём человеческий, ещё больше сердечно к нему прикипаются. Да сиротке Краснушке-Веснушке дань восхищения талантом, статью, да голосом, без устали хвалятся. Только злюка Гарпинка, раскрыв рот от гнева, закипела, испинала забор, побежала по округе, побила горшки, на шипела бешеной кошкой дворовым собакам, всё ни как не уймётся, мухой пристала, заразою. За Веснушкой помчалась к болотам, а навстречу ей конница.
– Эй! Ну-ка стой, погоди, девица кудрявая. Отвечай, где живёт нелюдь, чей быт с непотребствами, привечает породу бесовскую, попирает мир людской, жадной лапой, себе на потеху и отродью, им порождённую, – задаёт вопрос главарь конницы, Гарпине, что застыла столбом, будто вкопана.
–Покажу, отведу, как не знать, знаю, конечно, скорее, за мной, – настроение чёрное вернулось к Гарпине, злодеянием вспыхнуло, понеслась быстрой, страшной кометой к дому кикимор, следом всадники.
А Краснушка-Веснушка, не спешит к дому тётушек, завернула чуть, к берегу, там в свете полной луны, корзинку с гостинцами кинула, улеглась на траву, развернула подарочки. Голубого неба платок, яблоневым цветом расцвёл, рукой нежной, любовно украшенный, вышитый; бусы синие, в три ряда, голубиковой ягодкой собраны и матрёшка потешная, гуси в ручках, пять хозяек улыбчивых. Тихо счастью, своему крохе, нежданному любится, просит комариков-мошек не есть, не кусать, дать побыть в радости. Но что это? Проскакали мимо неё, кони с наездниками в сторону дома родного, послышались крики и выстрелы.
Подскочила Веснушка, сердце сжалось, уронила подарочки, заломило виски, глаза покраснели, закружило голову водоверть-боязнь за любимых сомнением, затрусились зябко коленочки.
– Бабах! – снова выстрел.
Вокруг вспыхнувшей свечкой избушки скачут, гарцуют драконами, всадники. Ступку Бабу топчут копытами лошади. Лесовица, осенней рябиной осыпалась, тянет в сторону леса ладонь, опалою веточкой, просит скрипло в чаще спасения. Воют ветром сквозным, горбуны белопалые, не успевшие в подземелье скрыться от пуль и жаркого пламени. Дух Бавмода умчался криком ворон, спасся летун, что не скажешь о лешем, рухнувшим старым поленом, термитами-пулями съеденный. Рядом бес речной, расплескался лужей у берега.Помчалась быстрой ланью, ступнями впиваясь, до крови в подмытые ив, змеевые корения. Не чувствуя боли, онемение звуков, только стук сердечный в ушах, перед глазами картина, чудовищней нет, представления.
– Бамс-скрак-скрип-скрип, – сложилась изба тленом, пеплом рассыпалась, в подземель ушла, словно её тут и не было. Веснушка свалилась в камыш, как под кошена, в горле крик застрял:
– Тётушки-мамочки…
Проскакали, промчались жуткие всадники, тенью в свет луны, пыль столбом, гарь пепелища над болотами стелиться. Тихо стало, скорбит всё живое, сказка, лесная душа здесь утеряна, пусть кривые на вид, но всё-таки твари волшебные, добрые, в одночасье подлым пламенем сгинули. Нет прощенья злодейству жестокому, времена равноденствия в один миг навсегда поменявшие.
Не успела вблизь подойти, как Гарпинкой-вражиной у порога родного настигнута, а у той в руках подарки-гостинцы подобраны, платочек голубенький Веснушкин, цветом яблоневым, на плечи накинутый, очи бесстыжие, бледно-жёлтые скривлены в ужасе от ею содеянного. Но натуру свою всё равно проявила, злым словом, Веснушке, словно ядом змеюкиным, брызнула:Встала вся не своя, Краснушка-Веснушка, вновь сиротой, одинокой тоскою, несчастной, без единой родимой души, листиком, что на ветке последний, незваным, не гаданным лихом, на погибель безбожно оставлена. Нет, не хочет идти, но идёт, спотыкаясь, умываясь слезами, душа наружу свисает, рваными клочьями. Боится увидеть, но ищет глазами родных очертания, силуэт пусть хотя бы, но обнять, простится, оплакать, рассказать, как любила их.
– Поделом тебе, подкидыш-грязнуля, где это видано, чтоб таким, как ты с барских плеч подарочки сыпались. И кикиморы эти твои, коптили небо за зря, туда им дорога, забудь. Все вокруг только порадуются… – но сказать дальше, Веснушка ей не позволила. Как набросится на Гарпинку, коршуном-ястребом, за патлы не чёсаны, да об ствол каждого дерева. А из горла Веснушкина, дикий крик:
– Нееет. За чтооо? Как могла ты?
Но Гарпинка сильней, по проворней, годами прыть наработана, раз и налимом, скользким, вырвалась, и в ответную на Краснушку-Веснушку набросилась. Сбила с ног, к воде откатила, стоит над ней, победно сквозь кровоподтёк ухмыляется, лохматая, жуткая. Только было собралась, язвой гнилой, брызнуть снова словами обидными, да из мутной воды, русалка-прабабушка неожиданно резко спружинила, зашипела, схватила Гарпинку костлявой рукой, за загривок и в болотную топь утащила.
– Бульк…
Веснушка снова одна, душат рыдания.
– Всплюм-плюм, – вдруг по болоту круги пошли. Бегемотом, там кажись, кто-то к Веснушке плывёт, разрезая ряску, кувшинки притоплены.
– Чу! – да это-ж Титяшка, гребёт, что-то кричит, но Веснушка подавлена, и все звуки скорбью приглушены, словно бочку на неё, кто одел, глухо, эхом не ясным, всё слышится. Раз, поворот и увидела! – Ах! – миг надежды вспорхнул, от счастья смеётся, плачет, к тётушке тянется.
Услыхав, доброй вести успех, Веснушка воспрянула, с благодарностью к небу руки раскинула. – Не грусти клюквой кислой, ты-ж моя ягодка. Тётки-матушки живы твои, лесовиха и бабушка Ступка спаслись, и дед леший, и чёрт водяной вместе с ними. Удалось им заморочить всадникам жуткие головы, миражами болотно-туманными, сами в подпол ушли ужиком-ящеркой. Ведь не все горбуны пали на смерть, а те что осталися, приютили, увели твоих тётушек-мамок и близких, подземельными тропами, на другую потаённую сторону, в мир другой в верх тормаш-перевёрнутый. Ну а я, как вишь за тобой осталась присматривать и прабабка русалка с нами, скоро будь, по всплывёт, по объявится. Тьфу-ж болотной воды нахлебалась. Погоди, сейчас выберусь.
Завалилась Титяшенька на бок, улыбка застыла, взор потух, боком, камнем уходит под воду:-Бах-бабах! – оглушил вновь жуткий звук.
– Бульк-бульк-бульк, – исчезла, унесла надежду до капли с собой. Веснушка не верит глазам, на колени присела, воду трогает, в скорбном безумии плещется.
– Поднимайся дитя. Всё хорошо, не бойся. Всё позади, кошмары закончились. Ты теперь под защитой моей. Нашлась наконец-то. Вставай, поскорей надо двигаться, – над Веснушкой навис дядька, какой-то. В руках револьвер, усатый, кепка набок, тяжко дышит, сторонами оглядывается.
– Ах, ты гад! Как ты мог? Что же мы тебе сделали? Это тётя моя, моя названа матушка. А ты негодяй, её отнял у меня. Ненавижу тебя! Как мне жить без неё теперь? Что-ж вы наделали. Ну, давай убей и меня, что стоишь, ты ирод проклятый. Давай бей, мне не больно теперь, всё равно. Бей, ты чудовище.
Посмотрела Веснушка в медальончик раскрытый и правда, в нём, в одной половинке, как её отражение. Смотрит с фотокарточки нежно, с благородством в лице, гордо даже, но только в нарядное платье одетая, украшения жемчугом. В другой половинке мужчина в парадном мундире, смотрит будто бы вдаль, видна мощь и сила во взгляде, родные глаза, стало быть, папенька. Успокоилась Веснушка немного, носом хлюпает, с недоверием косится, не простила за тётушку, спрашивает:-Погоди, остынь дочка. Не руби с плеча, не ругайся. Послушай меня. Я подумал на тебя напасть хочет, сожрать это болотное чудище. Я тебя спасти хотел, ведь ты дорога мне. Не чужие мы. Восемнадцать долгих лет искали тебя, с твоей родной матерью. Не теряли надежды, нашли, но случилось ужасное. Нас настигла тень межвременья, и его всадники лютые нагнали нас, Радмила, мамка твоя, в руках у них, напоследок сказала, спасти тебя главное, а она разберётся и догонит нас позднее на поезде. Вот возьми, подарок шлёт тебе именинный, медальон, в нём фото карты с твоими родителями, коль не веришь мне, считаешь погибелью. Посмотри, вы же с мамой твоей, одно лицо, та же стать, цвет волос, профиль, кожа тонкая, статная кость, наша кровь без сомнения. Смотри, коль не веришь, чуешь обманом. Жду.
– А вы кто? Получается дядя мой или брат? Зачем помогать мне обязаны?
– Я твой дядя, двоюродный по батюшке. На моих руках, склонил он головушку, но пред этим взял слово с меня, что найду тебя, никогда отец от тебя не отказывался. Унесли тебя люди лихие, и годика не было. Твоя маменька, певунья-соловушка не смирилась, искала по всюду, я помогал ей. А сегодня час чёрный настиг нас. Но она на прощание, сказала, что рада наконец-то тебя живой и здоровой увидеть, пусть на мгновение. Да, тю, наверстает ещё. Обнимает тебя, – не выдержал дядька, отвернулся, на силу сдержался, продолжил:
– Веснушенька дочка, всё тебе расскажу по пути, скорее пойдём, время уж тикает.
– Всплюм-плюм, – в ряске лицо поднялось, до носа, три глаза синеватые, мутные, то прабабка русалка, всплыла утешить Веснушку, смотрит на дядьку боязливо, опасаясь, выше не кажет, свою иссохшую голову.
– Дядя, стой, не стреляй, отойди, то мне прабабушка названа. С детства рядом, вреда не чинит, всегда защищала меня. Отойди, дай попрощаюсь с ней.
– Хорошо, но ты не затягивай. Ночь за нас сейчас, идти долго придётся, но в этом спасение, – отвечает ей дядя, отступая покорно к пролеску, дав племяннице время проститься с любимой прабабушкой.
– Баба-рыба-пра, не бойся, плыви ко мне. Это мой родной дядюшка. Дай обниму тебя, слёзы утру, Титьянка нас безвременно покинула. Всегда буду помнить её, никогда не забуду добра, что вы с ней и с мамками, для меня сделали. Ты прости меня бабушка-пра, но я должна буду уехать, за нами погоня, сама ведь всё видела. Как же буду без вас…
Обняла Краснушка-Веснушка рыбу-прабабушку и целует её, в впалую щёку, лоб в лоб прижимает к себе, слезы не сдерживает. Говорит:-Тссс! Не печалься родная моя, рыбка, душенька. Всё ведь это должно было стать, таково межвремение гадкое, сколько раз его наблюдала с потопа. Да ну, его! Я решила сейчас к твоим тётушкам, к горбунам белопалым, подводным течением, через лазы уйти в мир другой, там, на время схоронимся. Нам не место теперь здесь, да и ты подальше отсюда беги, на дальний восток. Может там мы и свидимся, встретимся. Есть лазейка одна в тех краях, как уведишь её, сразу поймёшь, что она это, вот она. Эх, моя рыбонька, вижу, скоро придут ещё хуже события, дух Бавмода один будет править здесь, без нас, теперь он тут хозяин, его все владения. За тобой он приглянет, ты птиц, каких покорми, он появится. А ещё вот подарочек-браслетик серебряный, от нас всех, да запомни, когда будешь в смятении, поменяй каменёк центральный браслета. Вот мешочек, а в нём гляди: бордовый камень в крапинку-Земля матушка поведёт по светлым дорожкам, накормит, отведёт от тебя злое, вредное, приведёт доброе, светлое. Синий камень с тёмной прожилкой вставишь-мать Водица напоит, умоет, смоет напрасное, очистит мысль от напускного и грязного. Красный камень-Огонь дедушка, обогреет, сожжёт лишнее, успокоит теплом своим, придаст остроты настроению. Голубой, с белой прожилкой-ветер батюшка Воздух, освежит духом перемен, направит, укажет путь, развеет тоскливое. А ещё фиолетовый камень, в нём все четыре силы собраны, защитит тебя в самый трудный час, приведёт помощь и врагов сметёт. Ты лишь будь судьбе благодарной за всё. Будь что случиться, проси верных защитников, незримых помощников родной матери, через камни, двух Матушек, землю и воду, Деда огня и Батюшку воздух, они рыбка моя, обязательно откликнуться. Да прощай за обиды любого, не носи в себе и смотри вперёд. Кстати на вот смотри, у Гарпинки проклятой, из рук, твои подарочки барские вырвала, – протянула матрёшку и бусы Веснушке, отдала, сама тянет в объятия.
– Погоди прабабулечка милая, – и раз, левую косу ножичком срезала, в клубок замотала и в самую первую, большую матрёшку вложила, как в шкатулочку.
– Прабабушка, рыбонька моя ненаглядная, спасибо за доброту и подарок чудесный от вас, а ты передай матрёшку с косой, моим тётушкам. Да скажи, найди слово, как люблю я их, как ежесекундно теперь тоскую по ним. Обнимай крепко-крепко. Быть может, когда ещё с ними свидимся. А тебе моя, водичка-бабулечка бусики, в тон, твоих глаз синих, чистых, светлых, родных. Дай одену, краса ты моя ненаглядная. Вспоминай добром меня, прабабушка-рыбонька. Не серчай, если вдруг когда, невзначай тебя чем-то обидела. Да давай ещё раз обнимемся.
Обнялись, расцеловали друг друга. Русалка-прабабушка отплыла к середине болотца, рукой помахала и бульк, ушла в глубину, кольца вод разошлись и сошлись, каркодилов за собой утянула всех, будто тут не водилися. Постояла чуток Веснушка у берега, прошептала про себя за всё благодарности, посмотрела в муть воды, на небо взглянула беззвёздное, повернулась на крики и зарево пламени, там другого, не как прежде, теперь объятого страхом селения. Подняла расстегайчик, размяла его мелко в крошево и Бавмоду призвала, слёзы вытерла, косу правую под корень подрезала, во вторую матрёшку сложила и в сторону леса направилась. Обратилась к обретённому дядюшке:
– Поначалу маму спасём, а потом уж на поезд. Без неё не поеду, не смотри на меня с укоризной, да не думай к побегу, без мамы упрашивать, – говорит, а сама синий камень вставляет в браслет, природную мать Воду зовёт на подмогу, просит мысленно помощи. Налетела стая духа Бавмоды ворон, матрёшку схватила и с ней к дому барина к маме Веснушке отправилась, вслед за ними водица с болот устремилась, да с ближайших озёр, речки волнами вздыбились, окружают потопом селение.
А матрёшка третья, в руках у Веснушки не верит глазам, что простилась негаданно с первою, и вторая сестрица покинула их птичьей стайкою. Уголки губ завернулись от болотной водицы паров, стало быть, теперь она старшая…
Сказочная батла старых приятелей – Кьяр Батакич, извини, что перебиваю. А не расскажешь ли, что за облако такое, ну вот ты там рассказывал сейчас, в окно струилось которое. – Марка Геральдьевна, не о нём ледженда-то. Может, всё же про Веснушку и матрёшек хочешь дослушать? – Хочу. Но сначала про облако расскажи. Будь так любезен. Если знаешь, конечно. И на вот вишни в сахаре покушай, полакомись, пожалуйста. Последний кулёк остался с прошлого сезона. – Как не знать. Знаю. Спасибо моя подруга радушная, благодарствую. Вишни, как раз не прочь было бы отведать, на весну молодую поглядывая. – Ну, так кушай, на здоровье, не стесняйся. Смотри, какая вишня-то хорошая, как игриво по полу катается. И главное про облако поведай, пока лакомишься. Не заставляй уговаривать. Молви.
– Хорошо, нежная душенька моя, Марка Геральдиевна, так и быть расскажу, без утайки, предание дальневосточное про облако, облако Надежды.
Глава 2 Облако Надежды
Одинокая Надежда выезжала из посёлка одной из последних. Дом больше чем на половину опустел. Стало тихо и тревожно. Надины подруги детства с самого начала, как только в округе заговорили о том, что посёлок будет заморожен, уговаривали её переехать в райцентр. А ещё лучше на материк, на юга, к чёрному морю, где сами уже приличное время проживали с семьями. А она всё упиралась, надеялась, что всё нормализуется само собой, что слухи останутся слухами, отвечая подругам:
–Ну, куда я на старости лет поеду? Нужна я вам там? Да и как я тут Гену одного оставлю, родителей? Кто их ходить, навещать будет, кто за их могилками присмотрит? У меня здесь вся жизнь прошла. Нет! Буду ждать хороших новостей.
Но нет, потихоньку квартиры рядом пустели, пугая мертвой, гулкой тишиной. Осенью ещё слышался шум-гам переезжающих, прощально скрежетали створками набиваемые домашним бытом контейнеры, гудели призывно моторы грузовиков и КамАЗов, торопясь увезти навсегда знакомых и ставших за долгую жизнь, практически близких людей в неведомые края.
Кто-то уезжал, молча, без сантиментов, а кто-то приходил прощаться со слезами, принося с собой памятные дары. Тётя Аня из квартиры напротив, принесла дерево мандарина в бледно-розовом пластиковом ведёрке; вечно хмурая тётя Валя со второго этажа, каракулевую, игрушечную собаку и чуть выцветший Палехский поднос, а Лидия Андреевна с первого, две резные, трёх ярусные, книжные полочки с треугольной верхушкой-крышей. Обнимали, плакали и говорили столько приятных слов, каких ни разу не произнесли за все года, что жили бок о бок соседями. Надежда благодарила их и, не скрывая, надеялась, что всё ещё образуется, ни кто не уедет и всё будет по-прежнему, всё будет хорошо, все и всё останется на своих местах. Грезила об этом на яву.
А потом наступила зима. Из под дверей, опустевших квартир разило унынием, безутешные сквозняки выли волком, а вечерами окна зияли такой беспроглядной тьмой, что ближе к весне Надежда сдалась. Подруги приехали сразу, как только получили для себя, долгожданную весть. Быстро, оперативно собрали все вещи, сходили на погост проведать родителей, а Надя всё не торопилась. Решила ехать после прощального обеда с подругами и оставшейся горсткой, знакомых односельчан.
В просторной, теперь без мебели, гостиной, в настежь открытое окно, ворвался свежий, весенний ветер, разогнав поселившуюся здесь, за зиму грусть, подарив собравшимся хорошее настроение, заставляя их улыбаться и шутить, будто и не прощание это вовсе, а радость пусть и последней, но встречи.
– Ох! Скучаю Надежда о наших походах с палатками на сопку и на реку. Букет эдельвейсов до сих пор, нет-нет, а приснится. Помнишь, как я со своим рыбалкисом познакомилась? До сих пор с тёплого клёва приносит улов и охапку цветочков, тоже помнит. Любит. Вот не зря мы с тобой на реку выбирались. Не зря, Надь.
– Надя! Работать с тобой, одно удовольствие. Ты как на новом месте по живёшь, обустроишься, набери, помогу с местом хорошим. Ты ведь ценный работник, с богатым опытом, от меня будет протекция. Что толку дома пролёживаться, а так глядишь, в отпуска на курорты скатаемся, погуляем, на красоту полюбуемся.
– Надь-Надь, а помнишь мы на танцы, тайком от родителей бегали. Мишка тогда, который с серого дома, у отца своего из бутылей, медицинским шприцом беленькую вытягивал и на воду менял. А его папан потом, после бани в одном полотенце, бежал с веником в магазин к тёте Тане, ругаться. Помнишь? Смех, да и только!
– Надечка! Мы с тобой с самого садика. Помню, как впервые встретились с тобой. Банты белые, одинаковые курточки, платьица в синий горох, сапоги только разные, а так словно сёстры. Убежали однажды, помнишь, с тихого часа и рванули в библиотеку диафильмы смотреть и пластинки слушать. А туда мамка твоя за нами пришла, вся на нерве, но на нас не ругалась. Тихо сказала:
– Ещё раз убежите, клянусь, как в той сказке, секир башка, будет. И всё. Так сказала внушительно, что больше не бегали. Ох-же, и оторвами мы с тобой были Надюш, выдумщицами.
Надежда отвлечённо слушала подруг, держа в руках бочонок лото с цифрой восемьдесят, найденный во время сборов, в самом дальнем углу задвижки серванта. Кивая с улыбкой, на их реплики, как не помнить-то, помнила. Всю свою жизнь здесь! Примерно с трёхлетнего возраста, ещё в старой квартире, в деревянной двухэтажке на восемь квартир. Когда она впервые ушла во двор самостоятельно, и её в ногу клюнул петух из соседнего сарайчика, хозяйства суровой Рады Филипповны, прошедшей войну и отправившейся вслед за мужем покорять север. Тётка Рада, с которой у всех новых соседей в доме, был перманентный конфликт из-за бочки с водой. Бочка была общего пользования, для всех жильцов дома, но Рада Филипповна считала по своему, так как была единственной, оставшейся из старожил и время от времени, то навешивала замки на крышку бочки, которые соседи, поочередно, не вступая с ней в распри, попросту срезали кусачками; то как только приедет водовоз, Рада Филипповна выдавая неистовую прыть, вычерпывала всю воду до дна, не оставляя шанса на питательную влагу горсткам морковок, свёклам и столовой зелени, что росли на крошечных кусочках земли, полагающихся каждой семье, что тут обретались. То возьмёт курей своих на огороды соседей запустит, и попробуй ей только слово скажи, в такой кокон ругани замотает, не вырвешься.
– Любите меня такую, а не любите, ну что ж, терпите, я-то вас терплю и ни чего, – меньшее из зол, что могла произнести Рада Филипповна. Вредная она была тётка временами. И вот так всё лето, пока тепло, сидит на завалинке тётка Рада, грозно блюдя периметр, кур стережёт, да соседей строит:
– Лидка, ты чего это на сына покрикиваешь, а? Хотела в выходной подольше поспать, так нет, ты развопилась. Ты с этим, давай завязывай. И сын сбежит, вслед за мужем и то, что у тебя на личном не клеиться, всем итак известно. Ори, не ори, а помни, что не одна тут живёшь. И Лёвка твой, не виноват, что у него мать, такая дура крикливая. Он же школьник ещё, имей совесть.
– Николай Андреевич приветствую! Слышала, у вас сын по кривой решил прогуляться. Ну так не удивительно. С вас пример и берёт. Думаете, никто не знает, откуда заборная сетка на заборе вашего огорода срезана? Так вот доношу до вас, знают, не слепые, не глухие мы. И да, за Витьку вашего переживаем. А вам укор и выговор, парня такого хорошего, своим поведением совсем распоясали. Вы бы не за народным хозяйством приглядывали, а за своим собственным, тогда глядишь, и с сыном проблем не было.
– Маринка, ты когда из дома, через окошко на свиданки бегаешь, хоть смотри куда прыгаешь. Байковым всю зелень потоптала, а они потом на моих курочек кивают. Я тебе сейчас раз скажу, а потом, коли повторится, то и отцу передам. Так и знай. Рано тебе на свиданки-то бегать, сначала человеком стань, женщиной, а потом уж и блуждай. Да в дверь, а не в окно, птичка-пук мне тоже.
Никто не вступал в полемику с тёткой Радой, знали, что на бузит на соседей, а потом обождёт день другой и на выручку. Своих в беде не бросит. Не могла Рада Филипповна допустить, чтоб кто-то помимо неё отчитывал её знакомых. Лиду пожалеет, успокоит, приголубит, новый наряд ей на старенькой швейной машине пошьёт, горячих пирожков ей с сыном занесёт. С Лёвой сыном её побеседует, в школьный совет сходит, если надо, на правах ветерана и ближайшей соседки, няньки по детству, объяснить, что почём и почему. Маринку от родителей, втихаря прикроет, мол, у неё она спит, за день умаялась, не чего её тревожить, в гостях у неё она и попробуй только разбуди, потревожь детоньку, прибьёт и скажет, что так и было. А уж сколько раз она сына Николая Андреевича спасала, счёту нет, никогда без него из участка не возвращалась. Наденет все ордена разом, знакомых ветеранов соберёт и на абордаж. Зато её хозяйство единственное в округе, ни разу не подвергалось налётам, все несушки целы, соседи пусть сторонятся, но ценят и уважают, да не редко мешок зерна находила у своего порога Рада Филипповна. Грозной соседкой она была, но ещё больше родной, не чужой, своей.
Надежда побаивалась её колких взглядов и слов с самого детства, но однажды Рада Филипповна удивила. Всегда смотрела она на Надю, сквозь прищур, поджав губы, но в тот день её, как подменили. Наденька тогда будучи в школе, повздорила с хулиганками-старшеклассницами, да так, что они решили подкараулить её у дома и задать дрозда мелкой задире, чтоб не повадно было. Но не знали мстительницы, что каждый жилец этого дома на учёт и под присмотром грозного стража. Только было окружили они Надю, как чёрт из подворотни выскочила Рада Филипповна, в руках кусок резинового шланга.
– А вы кто, такие интересные? Чьи будете? Надька обижает? Так вас дылд-то трое, а она одна, доходяга чумазая. Что-то тут не сходится, я смотрю. Надюшка давай-ка к дому, у крыльца обожди. А я сама тут разберусь, – и раз, шлангом об землю.
– Чтоб духу вашего, здесь больше не было. Ещё раз увижу, резинкой отхожу так, всю жизнь вспоминать будете. А Надьку мою тронете, потом не взыщите, найду и три шкуры спущу. Так родителям и передайте. А теперь всё! Свободны. Кина не будет.
Прогнав хулиганок, Рада Филиповна, повернулась к Наде, покачала головой:
– Эх, ты! Чумоходик-пуговка. Что-ж ты к ним полезла-то, со своими габаритами? У тебя вон ранец, больше тебя. А их трое. Вот оттаскали бы за банты и в него бы положили. Так, что давай, больше не геройствуй там. Переживаю я за тебя Надька, нравишься ты мне. Ладно, с дуйся уже, насупилась она. Да пойдём ко мне в гости, чаю попьём, побеседуем. Я вон орешков со сгущёнкой наделала, ждала тебя. Не хочешь, так кекс ещё остался, а к нему варенье на выбор.
– Меня? – испуганно спросила Надя. Ведь до этого дня Рада Филипповна ни разу с ней не заговаривала, зыркала только, под седой бровью. И честно говоря, Надя искренне считала её, если не Бабой Ягой, то точно её родственницей, ведьмой, призванной изводить их двухэтажку до скончания дней.
– Тебя, тебя. Мамка-то твоя сегодня в сельсовете задержится, собрание какое-то, в магазине слышала, когда за хлебом ходила, а папан на рыбалку уехал, видела, когда возвращалась. Марецкий, дядя Ваня за ним заехал, погремели вёдрами, по басили с полчаса и фьють укатили. Не веришь, записку в двери прочитай. В общем, папа думает, ты с мамкой будешь, а она, что с ним. Так, что я решила, чего тебе одной маяться, пойдём лучше ко мне, маму твою подождём, в лото сыграем. Пообедаешь, пластинку новую послушаем. Дочка с Ленинграда недавно прислала.
– Пластинку? А сказки у вас есть? А Алла или София? – услышав про музыку, Надя сразу забыла, что боялась, и стала заранее притопывать сандалетой, вспоминая мелодии, услышанные по радио.
– Есть, конечно, спрашиваешь. Да не одна. Всяких полно, и сказок и музыкальных, чтоб под разное настроение и поводы. Благо дочь на материке живёт, как что, сразу новинки присылает. Ну чего стоим-то, как оловянные, потопали.
Последние опасения Нади были развеяны, как только она переступила порог квартиры Рады Филипповны. Ни паутин до пола, ни чёрных кошек с котлами, ни кособоких прислужников в кандалах, выглядывающих из-за угла, а очень светлая, уютная обитель, вся в цветах и ароматах выпечки.
Послеполуденное солнце, пробившись сквозь кружевную тюль, нарисовало на дощатом, натёртом до блеска полу, теневой ковёр, на котором, грелся-нежился Марсик, пёсик Рады Филипповны, который завидев хозяйку с гостьей, сразу завилял хвостом.
– Ну, что, сын-чигуль, загораешь? Встречай гостью-то. А ты Надежда давай поздоровайся с Марсом Кутятовым, да как полагается, за лапу, он это обожает. А я пока включу проигрыватель, да на стол накрою. Ты ведь не против перед сказками, Эдиту Пьеху послушать?
– С радостью послушаю. Марсик привет! Приятно познакомится. Я Надя. Вот тебе ладошка, будем дружить, – Марс вместо лапы, сначала ткнулся мокрым носом в протянутую ладонь, а после и вовсе положил в неё голову, сложив ушки. Просил по гладиться, что Надя с удовольствием и сделала. Так они и подружились.
– Надюш, давай-ка мой руки и за стол. Котлетки сами себя не съедят. А песни-то, какие чудесные, ты только послушай. Знаешь, я ведь сама когда-то пела. Правда, давно это было, эхь, ну да ладно. О! Быстро ты, ну тогда, когда я ем, я глух и нем, да?
– Да. Приятного вам аппетита.
– И тебе. Ешь на здоровье. Спасибо, что зашла. Давно я гостей не принимала.
Наде очень понравилось, что трапезничать, предстояло в зале, как в праздники, за круглым столом, убранным цветастой скатертью, вокруг три стула, а не на кухне, как дома. Посуда для трапезы, украшенная по мотивам трёх поросят, добавляла настроения и торжественности. Болтая ножкой в такт песни, Надя принялась за еду, с большим интересом рассматривая жилище Рады Филипповны.
Небольшая однушка, в комнате кремовые обои в бордовый листик, на стенах несколько картин с летним, лесным пейзажем, мебель почти, как у всех, диван-книжка с белым в синюю клетку, вязаным пледом. В углу с ковром под потолок, узкая тахта, заправленная рыжим, колючим, верблюжьим покрывалом, у окна трюмо, напротив, низкий шифоньер, а рядом полный посуды и хрусталя сервант, с которого прямо на них глядел фарфоровый бульдог. Надя сразу узнала этот взгляд, так обычно смотрела на всех Рада Филипповна, брови сдвинуты, глаза пылают в глубине, губы поджаты, ноздри в разлёт, но только не сегодня, не сейчас. Весь вид Рады Филипповны источал благоговение и довольство, смотря на Надю, даже скорее сквозь неё, она где-то витала в своих мыслях, улыбаясь кому-то родному, чему-то радуясь про себя.
– Ох! Хорошо-то как, Надя. День такой замечательный. Ты хоть наелась? Хочешь добавки? Проси, не стесняйся, у меня всего впрок, нам с тобой хватит.
– Спасибо тёть Рада. Очень вкусно и сытно. И правда день сегодня интересный.
– На здоровье, Надь. Так ты расскажи, чего тебя эти школопендры преследовали?
– Да у меня друг есть, Вася, с ним так весело общаться и интересно всегда, но он маленький и драться не умеет. И его всё время Петька-пельмешка задирает.
– Васька, внук Галки Борисовой, что ли?
– Ну да, Васик. Он так плакал, что я решила заступиться и Пельмеху с лестницы столкнула.
– Ну, ты даёшь. Он же, наверное, кабан, больше тебя.
– Большой, да не поворотливый, я попроворней буду. Ну, вот он свалился и так заверещал, что вся школа сбежалась. А эти девочки, его сёстры двоюродные, сказали, из меня фарш сделают.
– Пусть только попробуют. Петька-пельмешка? Дай вспомнить. А! Новенькие, которые прошлой осенью приехали. Отец их ещё молоковозку по пьянке утопил, а мать в колбасном цехе работает. Сына значит, как и родителей пельмешкой называют. Понятно. Ты знаешь, ничего не бойся, ходи-гуляй спокойно, я всё улажу. М-да. Ладно, горячая ты голова, Надюха. Помню, помню, как тебя в трёхлетнем возрасте мой Веник, петух который, в сарайке поклевал. И чего тебя туда понесло, егозу такую? Отчаянная ты Надежда, я тебе скажу. Эхь. Давай, что ли под чай с орешками, партийку в лото сыграем?
– В лото? А я не умею.
– Не тушуйся Надя, научу. Ты пока хош, вон в кресле качалке, по созидай в окошко, за птичками моими присмотри, а я пойду, чай поставлю-заварю, да посуду вымою. Марси, беги-ка гостью нашу развлеки, пока я занята.
Надя послушно встала из-за стола и пошла к окну, решив рассмотреть поближе яркую матрёшку, стаявшую на подоконнике, среди горшков с цветами. Такая яркая, интересная, с гусем подмышкой. А внутри, наверное, есть и другие. Надюша решила проверить это, только протянула руку к матрёшке, как тут же почувствовала мокрый нос Марсика, уперевшийся ей под коленку. Надя вздрогнула от неожиданности, потрепала пса по загривку. Забыв про матрёшку, забралась с ногами на кресло, следом к ней на руки запрыгнул и Марс. При хозяйке ещё выдавая прыть, но стоило ей скрыться на кухне, сразу, же размяк на руках у новой подруги. А Надежда и рада, и гладит и ласковые слова стихами говорит:
– Марсело, ты самый хороший, самый красивый, самый трогательный на свете барбос. И бусины глазки, и ушки-макушки и пимповый, нос-паровоз.
Пока Надя умасливала Марсика, Рада Филипповна вновь накрыла стол. В центр поставила плетёнку с выпечкой, уложенной горкой на ажурной, вырезной бумажной салфетке, рядом пиалку с вареньем и сахарницу в рыжий горох, а напротив друг друга, две чайные пары. А ещё принесла карандаш, блокнот, плоскую картонную, коробочку и два мешочка, один серый, холщовый, а второй из ярко, зелёного атласа.
– Ну, что, Надежда, пимповый нос-паровоз, схлестнёмся в лотошку-то? – спросила она у Нади и раз, выронила серый мешочек. Он шумно грохнулся на пол и раскрылся, но весь не просыпался, только один резвый бочонок выскочил, два раза подпрыгнул, перевернулся и покатился в сторону кресла, с которого уже поднималась Надежда, и, – тынкс, – врезался ей в стопу.
– Держи его. А то сейчас укатиться, ищи его свищи потом. Дай-ка гляну. Ага, бабка выпала. Значит, если будешь целеустремлённой, собранной, держать ситуацию под контролем и приложишь усилия для достижения результата, то достигнешь всего, чего пожелаешь и в гору пойдёшь. Так-то. Вот, напутствие тебе, лотошное.
– Что, ситуация? Это на нём, так написано?
– Ага. А у меня глаза лупы, микро записи читать. Смешная ты Надька. Это ведь значение числа. Долго рассказывать, потом подрастёшь, поймёшь, узнаешь, а пока давай пить чай и бочонки открывать. Игру сначала я поведу, по ходу действий правила объясню, а ты будешь результаты записывать, если хочешь.
– Хорошо.
– Играть будем на значки. Вон у меня их целый мешочек. Половина твоя, половина моя. Выиграет тот, кто все или большую часть соберёт.
Надя кивнула в знак согласия и к тому моменту, как пришла мама с работы, в пух и прах разнесла Раду Филипповну, выиграв у неё все значки. А через день получила их же в подарок. Рада Филипповна пошила нарядный, стёганный, лёгкий жилетик, из чёрного китайского шёлка в голубенький цветочек, на розовой подкладке. Пижонский, как она сказала и почти все выигранные значки, закрепила на нём, а оставшиеся собрала в сюжетную картину, на куске чёрного бархата, натянутого на фанерку и вставила в рамку, которую тоже преподнесла Наде…
– М-да, хорошая соседка она была, тётя Рада. Куда она потом пропала. Видимо дочь на материк увезла. Дочь Ариадной вроде звали, а первую, старшую Авдотью, в посёлке говорили, медведь унёс, – вернувшись из вспышки воспоминаний, Надежда посмотрела на небо. В открытой перспективе окна, на ярком, лазоревом небосводе проплывали чудные, поэтичные облака. Но среди них, было одно, не двигающееся, застывшее на месте, будто впаянное в голубой небосвод и Надежда смотря на него, подумала, вот бы и ей так парить на просторе, останавливаясь при этом там, где ей хорошо. А ей здесь было очень хорошо, другого дома она не знала, да честно говоря, и не хотела.
С этими мыслями, улыбаясь светлому, приветливому дню, напитываясь тёплой, мягкой энергией, радующихся вместе с ней подружек, Надежда, облокотившись на спинку любимого, родимого кресла, на несколько секунд закрыла глаза.
Открыв их, вдруг увидела свой дом с высоты птичьего полёта. Облетела его со всех сторон. Взмыла в высь, а от туда решила слетать на реку, там погонялась на перегонки с взбалмошными чайками, поразмышляла чуток, на сопке Ладошке, с неё понаблюдала за жизнью диковинных зверей, которых ни разу, за всю жизнь здесь не встречала. Последила, как неведомые, будто плюшевые зверьки, вытягивают из прогалин снега, фиолетовый, пушистый прострел. Прогнала тощие тени, которые, как показалось Надежде, охотились за этими милыми зверьками. Поиграла на лесной опушке с лисятами. А потом вместе с вороном, летала за росомахой, делающей припасы. Посмеиваясь над тем, как птица мастерски, раскапывает припрятанные росомахой вкусняшки. Поднявшись к вершинам сопок, восхитилась красотой и грацией снежных баранов, подумав, почему она никогда, не ходила сюда в поход, ведь это не так уж и далеко, от посёлка. А красиво-то как, что душа окрылённая музой, с нею вместе станцевала невесомый, грациозный шакон. Но Надежда хоть и стала почти эфемерной, всё-таки не осталась не замеченной. Шаманка-отшельница, бродившая по тайге, в поисках знамений природы, увидев странное облако, обернувшись поседевшей рыжей медведицей, грозно рыкнула и не оборачиваясь, исчезла в зарослях ельника.
Насладившись вдоволь красотами родного края, Надежда подумала, что пора бы и возвращаться к подругам, рассказать, как чудесен полёт по весеннему небу.
Вернувшись, покружила над домом, заглянула в окно и увидев, как близкие тихонько, в пол голоса шепчутся, о том чтобы пора в путь дорогу, да надо её, Надежду от сна разбудить, решила им радостно крикнуть:
– Эй! Любимые мои, я здесь наверху. Посмотрите, я парю! Я могу летать. И мне так хо-ро-шооо…
Но ветер заглушил её слова и уже звал, уносил с собой далеко-далеко.
Надежда проснулась, бочонка конечно же в руках не оказалось, на кресле тоже, он как и бывало прежде, куда-то укатился и там затаившись, быть может остался дожидаться момента, чтоб вновь явить себя миру числом, дабы принести, своё мудрое, лотошное наставление.
Подруги уже прибрали со стола, собрали последний мусор, чуток всплакнули напоследок, потрогали, погладили растроганно двери, прощаясь навсегда с гостеприимным домом, посидев на посошок, шумно встали и устремились к машинам, уводя с собой Надю, чтобы увезти её далеко, а там ещё дальше, к самому чёрному морю. В новую жизнь, к новому, в будущем родному порогу. Где Надежда проводила светлое время в новом доме на побережье, а в полночь, обратившись не спокойным облаком, преодолевала часовые пояса, чтоб ещё раз насладиться во всю малой родиной. Встречая и провожая солнце, каждые сутки в двух разных часовых измерениях.
Через всю страну, по раскрашенному звёздами небосводу, Надежда мчалась на свидание с таёжной зарёй, к дому, который покинула, как ей казалось, навсегда. Достигнув цели, спускалась туманом в свою оставленную квартиру, свою покинутую крепость, в свой потерянный мир. А там со временем исчезла тревога и испарилась горечь прощаний, круглые сутки теперь были наполнены радостью и лёгкостью бытия. Днём она летала над затухающим посёлком, безмолвно провожая последних уезжающих знакомых; время от времени навещала родных на погосте, кучно, молочно клубясь у земли, оставляя слезливый след росой; часто прогуливалась по сопкам, над расцветающей тайгой; стелилась на реку, колыхаясь паром на волнах, исследуя синеву глубин; а вечерами возвращалась в родные стены, заполняя собой опустевшие комнаты, отдыхала, перед тем, как вернуться на море.
Теперь она была необычайно спокойна. Теперь она была абсолютно счастлива.
Полёты на яву…по памяти…в мечтах
– Да. Счастливая, какая твоя Надежда. Летает, – задумчиво произнесла Марка Геральдьевна, добавив, – Я бы тоже с удовольствием полетала над Питером. Посмотрела бы на него с высоты небес. Созерцала бы, Невские красоты вдоволь, удовольствие растягивая. Ощутила бы, каково это парить в облаках.
– Так и полетала бы на дельтаплане. Хотя нет, сейчас, наверное, над городом нельзя. Да и на вряд ли можно было, когда либо. Кого бы спросить? А вот в посёлках, летали в былые времена. По крайней мере, на дальнем востоке. А может и сейчас, планируют. Слушай, знавал я, давненько это было, одного дядю Сашу, так вот он парил над таёжным посёлком, как горный орёл. А детвора за ним по трассе так и носилась, он в одну сторону, она за ним, он в другую сторону парит, они следом и кричат, кричат ему:
– Дядь Саша, прокати с ветерком. А лучше научи и нас летать. Наташка, Анжела какой у вас папа здоровский. Попросите его, пусть нас научит…
– Эх да, Марка Геральдьевна, было время чудесное. Людей хороших сколько знавал. У той семьи дядь Сашиной, ведь и лосенок, прирученный жил. Спасли, выходили, погибнуть не дали. Как-нибудь и об этом побеседуем с тобой. Есть что по этому поводу вспомнить, сказать. Кстати Веснушка-краснушка с матрёшками которая, тоже на похожем дельтаплане фланировала, – утвердительно закивал Кьяр Батакич.
– Серьёзно? Вот это манифик, вот это брависсимо. Ну, так поведай же скорее об этом, не томи меня Кьярочка. На вот пирожными подзаправься, с малиной и взбитыми сливками. Очень рекомендую. Наташа моя, их очень хвалит, но ей не полезно я считаю, полнит её это. Поэтому угощайся Кьяр Батакич. И молви, молви друг мой.
– Спасибо Марка Геральдьевна за угощение. Не откажусь. Балуешь ты меня, радуешь. Ну, так вот, про дельтапланы-то. Опущу рассказ о том, как Веснушка спаслась от межвременья, скажу, что таки спаслась, это главное, но вот мать вырвать из его лап не сумела. И вот ветром Веснушку на Колыму принесло. Не добрые тогда ветра дули, колючие. Но Веснушка не спасовала, да и был ли выбор у неё. Сердцем ведь туда стремилась, всей сущью своей. Матерью с той земли призвалась, межвременными всадниками на погибель туда в то время отправленную. Да прабабки русалки слово помнила, что мол свидится может получится.
Глава 3 Дунька с агробазы
Загадочная женщина появилась в Мамино, вместе с первым осенним туманом, расползшимся по тайге, с остывающих болот и озёр. Красивая, высокая, стройная, в широкополой шляпе с длинной, ниже пояса вуалью, бежевом шёлковом платье с верхней сеткой из газа, кофейного цвета, щедро усыпанной, объёмными дубовыми листьями из бисера и паеток.
– Одно из последних творений Великой Ламановой. Семейная реликвия, подарок папеньки, отставного генерала, маменьке певице, потомственной аристократе. Перешедшее мне, как приданое, – говорила она окружающим. Таких творений, вместе с этим, у неё было три. Одно которое было на ней, для прогулки, второе домотканое, домашнее-повседневное и самое любимое, выходное, парадное, усыпанное по корсажу и местами по подолу, хрусталиками стекляруса.
Всё было прекрасно в её облике и даже горбатенькая, саморучно приталенная телогрейка и тяжелые кирзовые ботинки, выглядывающие из-под подола платья-элегии, не портили общего впечатления. В одной руке она несла старый, картонный чемоданчик, а другой держала поводья самодельной тележки из деревянного ящика, на котором покоился весь её не хитрый, но очень занимательный скарб: заводной патефон, эффектно добавлял звуковые краски уходящему лету, проигрывая пластинку с Танцем рыцарей; несколько толстенных энциклопедий и свёртки старинных атласов с картами; три глобуса разной величины, без ножек, а ещё полуовальная, высокая клетка, накрытая цветастым платком с бахромой.
Неспешно ступая, вся окруженная клубами тумана, с развивающейся фатой-вуалью, под взрывающийся аккомпанемент оркестра, она победно вошла в ещё только строящийся таёжный посёлок. Откуда и кто она доподлинно известно не было. Сама говорила, что дочь отставного генерала и столичной певицы, бывшей аристократки, проживающих сейчас во Владивостоке.
Шокируя своим видом, встретившихся на пути местных жителей, она прямиком направилась в местную управу. Где обескуражив своим видом и оглушив благородными манерами, местного главу, попросила немедленно помочь ей с жильём и работой, предупредив в случае отказа, выписать с приморья папеньку генерала, чтоб он, если потребуется, помог разобраться в этих вопросах. Глава, сам когда-то из бывшей знати, проверять её слова на деле не стал, поверив на слово и доверившись тому, что увидел. Вместо того, чтоб выдать койку-место в бараке, как всякому в новь прибывшему, отдал ей домик с двумя комнатами и махонькой кухней, на поселковой агробазе. Куда она и отправилась в сопровождении, очарованной её обликом, Любочки Головиной, дочери председателя, под дружный хохот детворы и шушуканье селян, набежавших посмотреть на приезжую, чудаковатую горожанку.
Обретя дом, она с большим энтузиазмом принялась обустраиваться, пока не наступили холода. Мужская половина с радостью откликнулась на призыв о помощи, к большому неудовольствию женской части населения по началу, а всё из-за одной из селянок, телятницы тёть Наташи Горбунковой.
Однажды её муж, дядя Валера, вернулся немного навеселе, после встречи с друзьями, до этого побывав у новой поселянки, помогая той расчищать территорию перед домиком. О чём тёть Наташа, конечно же быстро узнала, от приятельницы прачки Галочки, муж которой тоже там присутствовал. Встретив после разговора с подругой, почтальона Верочку, выяснила, что все, от юных отроков, до седовласых стариков, простых рабочих и высокого начальства, как околдованные шли к тому дому. Кто с мелом, побелить стены, кто с топором, дров нарубить, кто с рыболовным и охотничьим уловом угостить, а кто и просто поглазеть, радостно выполняя поручения прекрасной незнакомки. По мнению Верочки, каждому хотелось поучаствовать в жизни новенькой, получить одобрительный взгляд, насладиться улыбкой, а главное, услышать похвалу из её пухлых, чувственных губ.
Тёть Наташа, была морально подавлена после таких открытий. Ведь своего Валерку она даже постель заправить, заставить не могла, не то чтобы попросить, да и не только она, все её подруги, привыкли всё делать сами, либо долго и муторно пиля вторую половину, а тут вдруг их мужья добровольно, ходят к незнакомой женщине, да ещё и помогают ей. И губы у той, явно ведьмы и профурсетки, чувственные, а у самой тёть Наташи, даже помаду нанести не на что.
Что-то тут не чисто, решила тёть Наташа и замочила в ведре веник, который использовала для жёстких переговоров с мужем, утихомиривая его, если он вдруг перебирал в будни, а так же положила толстый, толковый словарь на табурет, так как была небольшого роста, в отличии от супруга, чтоб если что, дотянуться до его буйной головы и как следует, ошарашить веником. Приготовив ужин, присела в прихожей, в ожидании и тяжких думах.
Разговора, которого она так ждала, не вышло, единственное, что ей удалось узнать у загнанного веником в угол прихожей, набравшегося мужа, и моментально уснувшего, что у незнакомки, большой, вкусный пупок. Так больше ни чего и, не выведав, а ещё больше ни чего толком не поняв, тёть Наташа решила спросить совета у подруг, чьи мужья, сыновья и братья, так же похаживают, в ясное дело, нехороший дом. К утру следующего дня, вся женская часть населения, была в курсе вопроса. Остудив пыл горячих дев, желающих решить вопрос здесь и сейчас, женщины постарше уговорили всех дождаться субботы, и в бане узнать, говорил ли правду муж Натальи, а там действовать по обстоятельствам.
В условный час, собравшись в помывальне, держа наготове тазики, веники, приготовились ждать виновницу переполоха. И вот, наконец, явилась незнакомка, кидая удивлённые взгляды на столпившуюся вокруг неё, грозную толпу, невозмутимо разделась. Явив вопросительным взорам хорошо сложенную фигуру и главное крошечный, почти незаметный, впуклый пупочек. Толпа, разочарованно охнув, разошлась, а тёть Наташа, пылая лицом, пряча глаза, не долго думая вывалила на незнакомку, все, что думает о ней и главное, перейдя на всхлипы и рыдания припомнила, слова супруга про большой пупок. Новенькая, выслушав Наталью, залилась смехом, да ещё и принялась обнимать и успокаивать, окончательно добив этим рыдающую ревнивицу.
Посмеявшись, объяснила собравшимся вновь, вокруг неё и тёти Наташи женщинам, чем вызван этот смех. Из чего её новые теперь знакомые односельчанки узнали, что новенькую зовут Дуня, а большой пупок, это название её фирменного блюда, пирога с пятью начинками. Круглая форма, которого напоминала, аппетитное пузико с полой сердцевиной, похожей на пупок в которую Дуняша ставила стаканчик сметанного соуса, для раскрытия вкуса, каждой начинки. А ещё она с радостью пообещала поделиться рецептом со всеми желающими и даже устроить мастер класс на местной фермерской пекарне, если они захотят. И дабы совсем рассеять сомнения некоторых всё ещё с недоверием смотревших на неё женщин, пригласила всех в гости, на новоселье.
С той поры новенькую поселянку мужчины стали величать кто Дуняшей горожанкой, кто Дуней фантазёркой. А женщины, как одна прозвали её Дунькой с агробазы, да так часто это прозвище применяли, что так и повелось.
Всем кто откликнулся на её гостеприимство, ответил дружбой и помогал обустраиваться, она сполна платила добром, для каждого находила приятное слово, ласковый взгляд, рукодельный подарок, вкусный обед. Щедрой хозяюшкой, обретала новых друзей и с их помощью, за несколько недель, превратила старую, серую развалюху в уютный, милый домик. С выбеленными стенами снаружи, цветочным, трафаретным орнаментом по периметру крыши и вокруг окошек с резными ставнями, как было принято украшать дома, на её уже далёкой, ушедшей в другой мир, родной стороне. Устраивала быт, как подсказывала память, что видела когда-то в домах земляков. Простоватый на вид, но при этом уютный, понятный её натуре антураж. На подоконниках расставила, принесённые и найденные в доме высокие плошки, кастрюльки и ковшики, которые сама раскрасила масляной краской, и посадила в них комнатные цветы, подаренные новой подругой Любочкой, а на кухне высадила столовую зелень. Стены гостиной расписала лесным пейзажем, пол покрывал зелёный ковёр травы с вкраплениями ягод и цветов, а потолок манил небесным простором, с игривыми птицами в кучерявых облаках, пронизанных лучами солнца. Спальня полностью превратилась в звёздное небо-планетарий, с подвешенными к потолку глобусами земли, солнца и луны, а железная, сетчатая кровать словно парила, среди созвездий и планет. Тут же на нарисованном Сатурне, на круглом табурете с высокой ножкой, который сама и соорудила, установила клеть с ручной, хохлатой курицей Пеструшкой, которая каждое утро радовала любимую хозяйку, яичком к завтраку.
В погожее, тёплое утро, одев простую рубаху с воротником стойкой, заправив её в галифе, подпоясанное мягким, видавшем виды ремнём, натянув любимые ботинки из кирзы, на плечи, накинув свою счастливую, подаренную дядей летчиком, кожаную, лётную куртку, украсив серебряными браслетами руку, шею малахитовым медальоном с фотографиями родителей внутри, а голову коричневой, кожаной кепкой, прихватив с собой ружьё, мольберт с красками, куски рогожи, старый походный чайник деда, с перекусом и заваркой уложенным внутрь, Авдотья отправлялась на луга.
Для начала обязательно пролетев окрестности на саморучно собранном дельтаплане. Просить односельчан разогнаться для полёта на буксире моторной лодкой, не составляло и труда. Они сами с радостью бежали помочь чудачке Дуне, завидев её собранной для полёта. Заливисто гигикая ей в след, когда она поднималась к облакам. С высоты небес, любуясь тёплыми временами года, Дуня зорким глазом выбирала место по заповеднее, чтоб ни медведя, ни людей по близости не шастало. Поглядывала по сторонам, чтоб, где бы горка какая интересная встретилась, будто встроенная древним гигантом в самый гущ леса, только по ему веданой причине и надобностям, да чтоб подходила под Дуняшин интерес и поиски, чтоб дала добрый знак Дуняшиной памяти. Или луг попался бы по цветочнее с озерцом по серединке, будто лесной русалки потаённая обитель, чтоб душа при взгляде на эту красоту запела высокой ноткой, чтоб глаза улыбались да радовались, и быть может своим видом дала указатель давненько утерянному. Выбрав, наконец, направление, плавно спускалась. Прятала в высоких травах свой летательный аппарат, после чего пускалась в пеший путь, к тому, что так заманчиво влекло её придирчивый взгляд.
Шла долго, иногда по несколько часов, внимательно осматривая в отцовский бинокль, загадочную, заповедную даль, пока не находила то самое местечко, где не потревоженная случайным прохожим, могла побыть наедине с природой, отыскивая хоть маленький намёк на долгожданную встречу с утраченным. О чём-то шепталась с деревьями, обнимая самые могучие, видно пожившие и много повидавшие на своём веку. Прятала под ними именные комплименты-подарочки, авось найдёт их тот, кто кому адресованы. Гуляла с наслаждением по открытым лесным полянам, осторожно наблюдая за жизнью, их обитателей-бурундуков, белок, евражек, и разных птичек, которые, не обращая особого внимания на Авдотью, занимались своими будничными заботами.
Помимо поисков ниточки к прошлому, запоминала особо яркие моменты похода, чтобы после перенести их в стих, сказку, короткую повесть, для развлечения гостей за праздничным застольем и для поэтических вечеров Мгновенталей, которые обожала устраивать в начале сезонов, воспевая особенную красоту, каждого времени года. Собирала интересные коряги и камни, чтобы потом долгими зимними вечерами, творить из них внезапные интерьерные решения. Иногда просто ложилась палой звездой, усталой кометой, в ворох луговой разнотравицы, подолгу рассматривая кучевые облака или воздушную игру лесных пичужек. А после, напитавшись ароматами природы, с великим удовольствием, переполняющим воображение впечатлением, писала картины и открытки местных красот, для будущих подарков и украшения дома. Продолжая семейную традицию, заложенную наречённым отцом, рисовать сюжеты, вдохновлённые увиденным в художественных походах.
Первой масштабной и самой габаритной работой Дуни, первый кирпичик в её храме творческой реализации души, её особая любовь и особая гордость, стал холст с полосатой красавицей, амурской тигрой. Рыжей хозяйкой тайги, прилегшей отдохнуть после охоты на лесной поляне индиговых ирисов, под лапой трофейный олень, на кустарнике рядом поют свиристели, а над ними бирюзовое, низкое небо. Каждый лепесток цветка, каждый листик папоротника, каждая шерстинка на тигриной шубке, каждая золотая мушка, бронзовая букашка, затаившаяся в траве, да и сам густой воздух, пропитанный сочной хвоёй сибирского леса, всё это дышало жизнью прямо с картины. Выражая Дунин не особенно скрываемый, но очень уважительный восторг, её трепетное отношение, даже к самым мелким деталям. Это её не скромная дань непрошеным и прошеным порывам ностальгии, это торжественное сказание дикой, дальневосточной природы, рождённое под её неистовой кистью. Оживающее каждый раз, стоило только бросить взгляд на это творение.
И Дуня бережно хранила эту работу, но куда бы ни лежал её путь, всегда брала с собой. Время от времени позволяя творению подышать. Разворачивала с особой тщательностью, медленно расправляя каждый сантиметр холста. Здесь в Мамино, эта картина занимала сразу две стены в её домике, от потолка и до пола, превращая на время Дунину спаленку в амурский лес. Даря ей чувство защищённости, будто рядом дядя-наречённый отец, и его заботливая аура окружает её, придаёт уверенности, питает силой, толкает вперёд. Напоминая, что там за дверью домика её ждут ещё не виданные, не открытые пока ни кем, но, безусловно ожидающие её, сокровенные тайны и суровые красоты колымских просторов.
Вот и сегодня она отправилась в художественный поход, решив написать пару-тройку пейзажиков, для новых друзей-поселян, которые вот-вот должны приехать. Для вдохновения Дуняша выбрала пройтись по берегу реки, так как хмурая погода не предполагала к полётам. Перед этим заглянув на любимую поляну-пригорок, где всегда было приятно устраивать пикник-перекус, любуясь озером у подножья.
Перекусив, Дуня вдруг вспомнила, маленьких обитателей леса, делающих припасики тут и там и с этими мыслями, посмеиваясь про себя, решила не брать с собой чайник. Щедро измазав его углём и сажей, припрятала в кочках, подумав, что всё равно каждый раз тут проходит, и на всякий случай, под старой лиственницей прикопала кулёк с заваркой и матрёшкой с солью. Справившись с задачей, пошла по краю берега в сторону протоки, а там завернула к реке, где в зарослях ивняка у неё была припрятана лодка. Вытянув её к воде, немного постояла, раздумывая, куда в этот раз прокатиться, по краю этого берега или рискнуть, побороться с круговертью течений, дойти до третьей сопки, где ещё не была. За неё решила Осень, внезапно выглянув из-за облаков солнечным бликом, позолотив с края вторую сопочку, над которой тот час закружили вороны. Дуняша кивнула солнцу, помахав приветственно птицам, вошла в реку.
Стоило Дуне чуть отплыть от берега, как небо поменяло свой приветливый лик, на мрачную, тучную, не добрую гримасу. Грянул гром, забарабанил по воде противный, продроглый дождь, заставляя расстроенную таким положением Дуню, повернуть назад. Словно оберегая её. Преграждая ход, но между тем поселив в Дуниной душе тревогу, о том, что вдруг из-за клятого дождя она упустила, что-то важное. Что надо было преодолеть непогоду, дойти до второй сопки, пусть и вымокнув до нитки, но доплыть. Но разум всё-таки успокаивал, что хорошо, что отложила этот заплыв. Ведь с той самой минуты, как упала первая капля с неба, до самых заморозков не успокаивалась осенняя склока. Обрушиваясь то нерушимой стылой стеной, казалось не прекращающегося ливня, то леденящим до самых костей порывистым ветром. И Дуня с сожалением для себя поддалась, на уговоры стихии, согласившись отложить поход, до следующего тепла. Пообещав себе, что непременно первым делом следующей поздней весной отправится к загадочной сопке, где что-то тайное незримо манило её к себе. Да будет так, а впереди ждут холода и скоро придёт последний обоз с новыми поселенцами, а значит, пора готовить гостинцы, готовится к встрече, быть может с друзьями, а может, и нет. Кто знает, как повезёт.
Дуня с неприкрытым разочарованием посмотрела вдаль, на другой берег реки, где за стеной дождя уже полностью скрылась вожделенная тайна. Пригрозила небу кулаком, на что в ответ получила новый раскат грома. Хмыкнула, показав язык неудаче, поспешила домой. Ждать гостей. Ждать Зимы, а там глядишь и до Весны рукой подать.
Пижма поспевает
– Друзья новые, это и, правда, сюрприз. Ведь не одну кастрюльку горьких слещей с ними разделить придётся, пока поймёшь друзья ли они или просто случайные знакомые. Ни один сладкий каравай успеха вместе преломить, правда ли твоему счастью радуются.
– Верно, молвишь Кьяра Батакич. Вот только объясни, что значит слещи. Никогда прежде такого слова не слышала.
– Да, дурная похлёбка разочарований, слезами посоленная.
– А, от слова слёзы. Понятно. Ну да, согласна с тобой. А мы знаешь, сейчас ещё побеседуем немного, да в дом пойдём. У меня там Пижма вот-вот поспеть должна, слоями пропитаться. Надеюсь понравиться.
– Пижма? Салат что ли или торт?
– Салат. Наташа моя придумала. Если захочешь, рецептом поделюсь. Для тебя не жалко.
– А, с радостью Марка Геральдьевна. Люблю новые рецепты послушать.
– Ну вот и договорились. Ты скажи, Дунька с агробазы-то друзей обрела?
– Обрела. Одного даже полюбила. Вот ты только послушай, какого мужчину хорошего.
Глава 4 Савва Макарыч и Маська-Смородинка
Савва Макарыч встал рано, позавтракал гречей с молоком, выпил крепкого чая без сахара, причем, делая это тихонько, украдкой, боясь кого-то потревожить. Даже не стал распеваться, как обычно, делал по утрам, каждый день, да и подруга гармонь, впервые за много лет, так и осталась лежать в футляре, с самой последней репетиции. Там в углу, за маленькой печкой-тужуркой, на старом, курчавом тулупе, всё ещё отдыхал его особенный гость. Бархатисто похрапывая, он как кошка, урчал на весь небольшой домик, создавая атмосферу уюта и гармонии.
Вчера, после репетиции в сельском клубе, Савва Макарыч снова бегал на лыжах. И если до этого, он делал это скорее из любви к спорту, так как старался придерживаться здорового образа жизни, то последние несколько недель, вставать на лыжи, его заставила встреча.
– Это судьба! – немного напугал Савву Макарыча, друг и коллега по хоровому пению Пашка Сафьялов, когда застал товарища в полном смятении, провожающего горящим взглядом, удалявшуюся от него новую хористку, фигуристую красотку, Валентину.
– Жаль, только не твоя, – продолжил Пашка.
– Много ты знаешь, балаболка. Лучше бы тексты песен подучил. Подпевала в хоре, то же мне, – беззлобно, с грустью в голосе ответил Савва.
– Да, ладно Саввка, чего ты. Я же шучу.
– А ты Пашут, не шути, не твой профиль это. Ты не ярмарочная петрушка, ты певец. Вот и пой, а не болтай. А лучше иди тексты поучи, а то стыдно за тебя, – осадил Пашку, подошедший к ним руководитель хора Нифонт Петрович, и подождав, пока Пашка отойдет, обратился к Савве Макарычу:
– Савва, брат, репетиция огонь, вот бы и на праздничные выступлении так. Только Пашка картину портит не много. А ты Савв, на него не сердись, он парень-то не плохой, болтун только. Я вот тебя о чём, попросить хочу, ты с ним поработай, помоги тексты заучить, не знаю, что там с ним, но слова и строчки путает. Ты бы помог ему, голос-то, какой, жаль такой талант не раскрытым оставлять. Как друга прошу выручай, ну вот не могу его прогнать, выручай коллектив. Да и дядьке его, упокой его душу, обещал приглядывать за Павкой. Савва, сможешь мне удружить?
– Ну, хорошо. Пусть ко мне в сторожку приходит, поучим.
– Спасибо друг! Слушай, а новенькую-то видел, какая красавица! Наша землячка с тобой, южанка. Учительница, а ещё будет за место меня в месткоме заведовать. Это дядька мне, невесту на Новогодние праздники, прислал, – гоготнул Нифонт Петрович, не обратив внимания, как загорелся и тут же потух взгляд Саввы Макарыча, продолжил:
– Пишет, что там у нас она на хорошем счету и как специалист, и как человек, и хозяйка хлебосольная, а дядька врать не будет, всегда прямо говорит. Я, правда, о женитьбе-то толком и не задумывался, но чувствую пора, засиделся в холостяках. Да и тебя Савка, пристроить бы надо. О! Мысль. Сегодня, как раз иду на ознакомительный ужин к Валентине Николаевне, попробую кухню её, да почву пощупаю, авось у неё сестра имеется. А что? Вдруг породнимся с тобой. Ты мне и так, как родной, а так и вовсе одной семьей станем, – Нифонт Петрович, расплылся довольной, мечтательной улыбкой и вновь не заметив понурого вида приятеля, с ним попрощался:
– Ладно, Савва Макрыч, доброго тебе вечера. Про Пашку не забудь, да и я ему напомню, чтоб к тебе зашёл.
– И тебе доброго, Нифонт Петрович. Незабуду, пусть приходит, – коротко ответил Савва.
– Давай друг, увидимся.
Развлечений в новом, строящемся посёлке было немного, если не брать в расчет охоту, рыбалку и походы компанией в лес и на реку, круглый год, то других культурных развлечений, в общем-то, и не было. Силами, скучающих активистов, удалось уговорить председателя месткома, помочь им выделить один из бараков, под клуб, где в свободное от работы время, могли бы собраться, молодые люди.
Председатель долго не соглашался, ругался и грозил управой, ишь чего захотели. Но однажды амбиции взяли над ним верх. Дело в том, что он обожал говорить с трибуны, и не просто говорить, а выступать, быть в центре внимания, но Нифонт Петрович главным образом ругал и отчитывал, как его дядька учил, провинившихся и не очень, вверенных ему, как он сам полагал поселян.
– Ты их там, как следует пропесочь, бездельников этих. Спуску им не давай. Сделай из них человеков! Покажи, как жить надо, – громыхал дядькин голос, где-то в глубине подсознания, каждый раз, когда Нифонт Петрович оказывался на публике.
Но суть в том, что слушать его никто не хотел, товарищеские собрания у него дома прогуливали, а над ним самим не редко посмеивались и в компанию не приглашали. Нифонт Петрович из-за этого страшно переживал, мучился животом и плохо спал. Ведь он был не намного старше своих подопечных, любил и песни и танцы, но должностные обязательства, не позволяли ему заводить близких отношений со сверстниками, а старшие из руководства, особого интереса к нему не проявляли.
В очередной раз, поджав губы, слушая в пол уха мольбы о бараке, под клуб и о том, что людям негде собраться долгими, зимними вечерами, после работы, негде петь и танцевать, председатель вдруг осознал, что это, в общем-то, не плохая идея-клуб. А главное чётко увидел, как расположить к себе общественность и себя во всей красе, во главе, в центре сцены, за трибуной, а перед ним весь местный народ и ему аплодируют, его любят, несут цветы, выпечку и домашние закрутки в благодарность. Всё как в юности, в родном городке, от куда он с песней и плясками, начал свой путь по комсомольской линии.
– Эх, дядя не тому ты меня учил! Рабочий люд любить надо, хвалить, а не ругать. Петь им, радовать, дружбу заводить. Тогда и мороз, не мороз, да и жить по легче станет, – подумал про себя Нифонт. В красках представляя концерт на майские праздники, фестиваль урожая осенью и озорное колядование на Рождество.
Окрылённый этим видением, уже не слушая прошенцев, напугав их своей внезапной переменой настроения, гордо приосанившись Нифонт Петрович, грозно сверкая глазами и стальными коронками в усатой, широкой улыбке, громогласно выдал:
– Поселковому клубу быть! – глядя на притихших поселян, довольно захохотал. Посмеявшись, добавил:
– Ну чего застыли то, рты раззявили? Айда в сельсовет, с главой порешаем, где, чего, да когда. Появилась у меня тут идейка одна. И вы там не молчите, поддержите, когда говорить стану.
Глава препятствовать не стал, зимой разрешил временно использовать старый пустующий барак, а как потеплеет, в свободное от работы время, всем желающим предложил заняться постройкой полноценного клуба. Так к концу лета было построено небольшое, одноэтажное здание с двумя залами. В большом размещалась сцена, на которой проходили товарищеские собрания и праздничные выступления народной самодеятельности, во втором вытянутом прямоугольником, была сцена поменьше и танцплощадка. Помимо этого, сбоку клуба пристроили помещение с костюмерной, гримерной и кабинетом директора. В выходные, по вечерам, с восьми и до половины одиннадцатого здесь проходили танцы. А по праздникам накрывали столы и приглашались все жители, нового, еще только зарождающегося мирка.
При клубе был организован коллектив народной песни и фольклорного танца, руководителем которого стал, теперь уже бывший председатель месткома Нифонт Петрович, попутно заняв и место директора клуба. Ещё весной, когда всё вокруг просыпалось и пело, Нифонт написал несколько писем на материк, во первых в родной городок, чтоб помогли с костюмами и атрибутикой для выступлений, во вторых дядьке, чтоб съездил в райцентр и все процессы проконтролировал, а ещё своему армейскому приятелю Савке гармонисту, чтоб мол настраивал свой инструмент, собрал музыкантов, да не теряя времени выезжал сюда, на Колыму, строить новый мир, развивать культуру, да поднимать дух рабочих товарищей.
Первым, ранней осенью приехал Савва Макарыч с музыкальным коллективом, а ближе к зиме прибыло и всё остальное, необходимое, костюмы, аксессуары, кое какой декор для украшения клуба, а ещё вкусные, южные гостинцы к новогодним праздникам.
Савву поселили в отдельном домике, бывшей охотничьей сторожке, рядом с протокой, где пару шагов и река. И он был этому очень рад, в шаговой доступности вода, а значит рыбалка, вокруг лес, с ягодами и грибами, у дома можно растить картошку, морковку, свеклу и зелень, молоко давали прямо с фермы, а ещё выдавали северный продовольственный паёк-с крупами, мукой, чаем и сахаром. Оленье мясо и утку можно было выменять у местных охотников, на продукты из пайка или самому при помощи силков поймать зайца или куропатку. А главное рядом не было других домов, что позволяло Савве Макарычу беспрепятственно репетировать в любое время суток, не боясь потревожить соседей.
Суровыми морозами, которыми пугали Савву, такими ему, ни сколько не показались. Зиму он обожал, а здесь особенно полюбилось ему, ходить на лыжах по замёрзшей реке, когда над ним чистое, лазоревое, без единого облака небо, свежий простор, а вокруг синева сопок и благоговейная красота, тихой, уснувшей до весны тайги.
В погожий морозный день Савва Макарыч вставал на лыжи и бежал, бежал, что есть мочи, покуда не лишившись сил, падал в густой сугроб, где раскинув руки, лежал, закрыв глаза, растворяясь в звенящей тишине. Полежав в снегу, Савва неторопливо двигался назад, экономя напитавшую его, энергию ледяной реки, по пути проверяя, не попался ли кто нибудь в силок.
Вот и сегодня, на обратной дороге, ещё издалека Савва Макарыч приметил, что рядом с тем местом, где он установил намедни ловушку, темнеется пятнышко. Поначалу Савва решил, что это, скорее всего ворона, больно уж тёмным казалось пятно, но чем ближе подбирался Савва Макарыч, тем всё больше сомнений закрадывалось в его душу. Заяц, не заяц, зима ведь, белым должен быть. Для соболя великоват, для росомахи маловат, да и не попалась бы она, просто так. Ондатра может быть? Да нет, не она. Точно не птица, вон и четыре лапки видны. Видать, кто-то пушной. Но кто это, не бросится ли кусаться, царапаться?
Савва Макарыч осторожно приблизился к тельцу обнаруженного зверька, который не подавал ни каких признаков жизни, валяясь на снегу плюшевой игрушкой. Такого животного Савва ещё не встречал. По виду чуть меньше средней собаки, грушеподобное туловище, каплеобразные лапки с пятью коготками, шёрстка тёмно смородиновая, со светлыми вкраплениями, пушистая, с ушами и хвостом, как у крупной белки, а мордочка, как у переростка тушканчика.
– Неужели сибирский тушкан существует? Но как его на Колыму занесло-то? – пронеслось в голове у Саввы Макарыча.
Рядом в силке торчала обглоданная лапа зайца, от которой в сторону, неприметной на первый взгляд полыньи, уходил кровавый след, какого-то большого животного, видимо с аппетитом и поглотившего пойманную зайчатину. Савва с интересом и в то же время с глубинным, первобытным ужасом, разглядывал свои находки. Никогда он такого, ещё не встречал. А главное, что теперь со всем этим делать? Бежать без оглядки и забыть? По изучать? Написать в райцентр? Что делать-то?
Пока Савва Макарыч стоял в раздумьях, переводя взгляд с невиданного животного на мрачный омут полыньи, бездыханный казалось зверёк, пришёл на мгновение в себя, устало, протяжно вздохнул, жалобно моргнул, и показалось, потянул лапками-капельками в сторону Саввы. Сердце гармониста дрогнуло. На секунду ему показалось, что мордочка зверька, видоизменилась. То, что ему напомнило это видение, заставило Савву Макарыча принять решение, всё-таки взять найдёныша домой, в сторожку, отогреть его и убедиться, нет ли у него серьёзных ран. А там уже решать, что делать дальше.
Хоть и было довольно морозно, Савва Макарыч, расстегнул пихору, и осторожно подняв тельце крохи со снега, прижал его бережно к груди. Колючий холод поначалу воткнувшийся тысячью иголок в грудную клетку исчез, более того стало легче дышать, а думы о красотке Валентине больше не давили тоскливым грузом, оставив лишь искру очарования первой встречи. Стало так спокойно, хорошо на душе, что Савва Макарыч впервые за несколько недель улыбнулся.
– Эх, ты! Маська! Плюш таёжный. Подлечил мою душу-гармонь. Спасибо тебе, – растроганно шептал Савва, сдерживая по привычке, нахлынувшие слёзы. Но одна всё-таки вырвалась, скатившись льдинкой, бухнулась прямо на мордочку зверьку. Тот не открывая глаз, мотнул головой и тоненько чихнул.
– Ох, ты-ж и-ка-лэ-мэ-нэ! Прости дурака, морожу тебя бедолагу. Да и темень-метель уже надвигается.
Савва Макарыч тотчас застегнулся и, не теряя секунды, помчался к дому. Не заметив, как в полынье скрылась следившая за его действиями, чья-то морда с внимательными, выразительными глазами, как затрещал ледяной покров по всему пути, след в след, чуть позади. А рядом в прибрежном лесу, метров в пятнадцати от него, неслышно двигалась чья-то худая тень, оставаясь незамеченной, иногда сверкая глазами из-за деревьев.
Душа гармониста пела! Тело налилось энергией. Он даже внешне, как то сразу подтянулся, расправился. Тоскливая пелена, упавшая с его лица, явила миру очень симпатичного мужчину в самом рассвете сил, он как будто заново помолодел и обрёл былую лихость, которая напитав все его мышцы силой, буквально за какие-то, как ему показалось мгновения, донесла к сторожке. Там у порога, всё ещё не замечая своих преследователей, Савва Макарыч, прислонил к стене домика, обтянутые оленьим мехом лыжи, подарок местного охотника, забежал скорее в тепло.
Как только дверь за ним затворилась, на протоке, что делала крутой поворот, у правого побережья реки, треснул лёд. От этого места, к пологому берегу, устремилась змейкой трещина и у самого подступа, взорвала фейерверком замороженные толщи воды, образовав похожую полынью, у которой Савва Макарыч подобрал Маську.
В кромешной темноте, моментально наступившего, зимнего вечера, пролесок между сторожкой и протокой, чернел непроглядной чащобой. Там у воды было посветлей из-за снега, но всё также таинственно, неприветливо. Окажись здесь днём, каждый отметил бы, как тут воодушевляюще приятно находится, но в тёмное время, кожей ощущалась опасность. И было от чего. С незапамятных времён, какие только странники, не забредали в эти края, не только люди и животные, шли в эту долину меж сопок, но и таинственные порождения, малоизученной стороны таёжной жизни. Встречаясь, друг у друга на пути, переплетая судьбы и события, разыгрывая драмы и комедии.
Вот и сейчас, во всей своей красе, полная луна, украсив свою чернильно-синюю, парадную мантию, алмазной звездой, укрывшись туманной вуалью, приготовилась наблюдать, очередной жуткий спектакль театра ночи.
– Вввууух! – вступительным аккордом, взвыла вьюга, поднимая снежную пыль, до самых макушек деревьев, которые прикинувшись жутким оркестром мрачного вертепа, заиграли во все лады, на своих скрипочках-ветках. Тотчас у края пролеска, почти рядом с домиком гармониста, от зарослей ивы отделился тонкий силуэт, с длинными, сухими конечностями. Постояв на месте, словно наслаждаясь мелодией мрака, силуэт довольно резво, стал передвигаться от дерева к дереву, всё ближе и ближе приближаясь к сторожке. Шаг-береза, шаг-лиственница, ещё шаг и вот он у цели. Вжавшись, почти встроившись в структуру бревенчатых стен жилища, тощий плавно перекатился от угла сторожки к двери, ощупал её с верху-до низу, словно ища щель чтоб проникнуть в дом, не найдя, закатился за следующий угол к окну, а там осторожно заглянул внутрь.
Савва Макарыч, как только оказался дома, скинув унты, для начала осмотрел найденыша, на предмет ранений, убедившись, что всё в порядке, уложил на постель спящего Маську и сразу принялся суетиться. Раздул угли в тужурке, подкинул туда дровишек для большего тепла. Слазил в подпол за старым тулупом и на всякий случай взял пару банок варенья, смородинового и брусничного. Поднявшись наверх, расстелив тулуп за печкой, услышал необычный, тямкающий звук. Машинально повернувшись в сторону звука, увидел, что это Маська тянет мордочкой, словно ища материнскую грудь.
– А-ха-ха! Что проголодался малец? Ну, давай посмотрим, чем тебя покормить.
От поднесённого в чайной ложечке молока, Маська скривившись, отвернулся. Кусочек хлеба, сначала втянув в себя, выплюнул, как не стал, есть гречу и сушёное мясо. Отчаявшийся было Савва Макрыч, вспомнил, что не предлагал гостю собственноручно заготовленное на зиму варенье. От брусничного привередливый зверёк сморщился и так закашлял, что Савву чуть удар не хватил, от переживания, а вот смородиновое с аппетитом проглотил, облизнулся и снова тоненько затямкал.
– Тям, тям, тям.
– Что, неужели понравилось, наконец? Ну, спасибо, буду считать комплиментом. Сам варил, – погордился перед Маськой, Савва Макарыч, делая тряпичную соску с вареньем внутри, вспомнив рассказы бабушки, о том, как она ему в детстве, заворачивала в марлевую тряпочку кусочек сахара или сладкую толчёную ягоду.
Получив, что хотел, Маська благодарно замурлыкал, обняв вывернутую овчиной наизнанку, верхонку.
– Эх, ты Маська-Смородинка, что же мне с тобой делать? Хороший ты парень смотрю. А знаешь, оставайся-ка ты у меня. Вдвоём всяко веселей. И знаешь варенья этого у меня не мало, тебе до весны с лихвой должно хватить. А не хватит, так местные товарищи выручат, коллектив наш, пропасть не даст. Я вон тебе и петь и на гармони играть буду. Заживём весело. Кто знает, может и моему сыну, кто-нибудь поможет, если вдруг что, – тут голос у Саввы Макарыча сел и он уже тихо продолжил:
– Васькой сына зовут. С матерью его, Катериной характером не сошлись. Однажды возвращаюсь с работы, а их нет. Искал, искал их, а их нет, как нет. Уехала Катерина, записки не оставила. А потом письмо от неё пришло, говорит новая семья у них, попросила не беспокоить. А я стало быть им не нужен, – пригорюнился всем своим видом Савва Макарович. От тяжких дум его отвлёк шум снаружи.
Это тощий так и не найдя лазейки, от злости стал бегать вокруг дома и крушить всё что попадалось на пути. В этих краях он обитал с незапамятных времён, еще, когда по этим землям гуляли другие хозяева, что строили свои города из обтёсанных каменных глыб, а по лесам и лугам тут бродили золотые, на шарнирах болваны. А потом с небес упала звезда. Величественные здания, раскидало по всей округе отдельными фрагментами, золотые болваны рассыпались в пыль, да самородки, а хозяева покинули долину, в неизвестном направлении, оставив после себя лишь тоскливые тени, блуждающие с одной им только, известной целью по тайге. Кто они, для чего они существуют никому не известно.
Бывало по зиме, кто-нибудь из тощих приносил в долину, с вершины сопок, милых плюшевых сонь, ожидая, что смородиновые соплеменники, придут выручать пропажу. И тогда тощие тени всласть наедятся. Но тогда не стало бы гармонии в здешней природе, тощие бы переловили всех смородинок, а этого ну ни как нельзя было допустить, ведь смородинки это вестники весны. Там где они проходят, проснувшись, после долгого зимнего сна, всегда вырастают сиренево-фиолетовые цветы. Колымский подснежник-прострел, сон-трава, пушистый поцелуй после суровых морозов. Но видимо природа и тут позаботилась о равновесии, потому что тени либо не знают, либо не помнят, что смородинки всю зиму спят и собираются большими стайками, только весной с первым теплом.
К тому же тени не славятся выдержкой и последовательностью действий. Выкрав кроху из залёгшей в спячку стаи, забывают о главной цели и попросту сжирают беднягу, так и не дождавшись обильного пиршества. Почему тени сразу не съедят всю стаю? Да, потому что её охраняет другой дух Колымы, водный страж, грозный враг теней, который знает всех смородинок наперечёт и без устали бороздит реку у их зимнего ночлега. Но тени пронырливы, потому, бывает, им удаётся вынести одного-двух и если повезёт, унести его подальше от реки, преследуемые кровожадным стражем.
Вот и эта разбушевавшаяся тьма, намеревалась сегодня поужинать смородинкой, да вначале страж догнал, спугнул, заставив выронить ужин, а после пришёл человек и унёс теневую добычу домой. Поэтому-то от бессильной, что-либо сделать злобы, тощая тьма и бушевала у неприступной сторожки. Наткнувшись на лыжи, схватила одну и хотела было разбить её о стены дома, но поскользнулась и упав на лыжу, съехала на ней прямо к берегу реки.
– Крррааак! Плюмс, скрюмс, – полынья, уже полностью покрытая коркой льда, взорвалась осколками.
В рассеянном, желтом свете полной луны, нависшей над рекой, солнцем заблудившемся во мраке, в черно-белом крошеве зимнего вечера, случайный прохожий мог бы увидеть сейчас прекрасную и одновременно пугающую, ожившую картину-петроглиф. Крупное животное с головой крокодила и туловищем тюленя, эффектно выскочив из мерзлой полыньи, трепало в жуткой пасти тощий, тёмный силуэт. Из ближайшего пролеска к ним, молчаливо сбежались ещё несколько силуэтов с корягами и палками, наперевес. И так же беззвучно принялись этими корягами охаживать речного монстра, который не думая выпускать свою жертву отбивался тяжелым, мощным хвостом и когтистыми ластами. Подбросив воришку-тьму в воздух, и снова поймав, монстр её проглотил, грузно развернувшись, примял троих хвостом в сугроб, двоих же схватил за ноги и плюх в прорубь, был таков.
– Эээй! Кто здесь? Аууу… – это Савва Макарыч запоздало выскочил на мороз, спешно захлопывая дверь, чтоб тепло не вышло.
– Вввууух, – взвыла вьюга ему в ответ.
– Скрим, пилим, пилим, пилим, – в унисон ей затрещали скрипками-ветками жуткие музыканты деревья.
Савва ещё несколько секунд постоял, вглядываясь во тьму и так, толком ни чего не увидев, продрогнув, поспешил обратно в сторожку. Луна тоже ушла, смотреть другие представления ночи, укрывшись туманом, оставив только себе воспоминание о битве у реки, где поднявшись из сугроба в сторону леса, спотыкаясь и прихрамывая, удалялись трое оставшихся в живых теневых силуэта.
Найдя поутру сломанную лыжу, у затянувшейся льдом полыньи, Савва Макарыч решил, этой зимой по реке больше не ходить, посчитав это знаком. Зато с удовольствием стал больше времени проводить с новым другом. Воодушевленно спешил с работы домой. Репетировать с Пашкой Сафьяловым стал в клубе, да и в обще перестал, кого-либо приглашать к себе в гости, а за тужуркой натянул шторку, на всякий случай. А ещё с той ночи, Савва Макарыч стал видеть удивительные сны, после которых в нём проснулось такое вдохновение, что он не только сочинял стихи для песен, а к ним и музыку, но и даже готовя трапезу, обязательно придумывал гастрономическую байку, для настроения и аппетита.
– Ну, что друг Маська, готов сегодня послушать про горячую свадьбу, папки Картоша и матушки Гриббы, что не мясо, не рыба? – загадочно вопрошал Савва Макарыч, ставя на колченогий стул, авоську с продуктами, потирая довольно густые усы, хитро поглядывая на соню-за соню Смородинку.
– Тям, тям, тям, – потянулся на голос Маська.
– Ну, вот и молодец! Давай тогда лакомись вареньицем, да слушай, – продолжил Савва, деловито раскладывая ингредиенты для новой байки.
– Жил, да был среди полей, папка Картош. Вот, всем он был хорош, и добрый, и крепкий, а главное плодовитый, что не куст, то клубни-молодцы. Хрустящие, крахмальные, одним словом крепота-ребята! А в лесу, что рядом, грибница раскинулась, да такая богатая, что ни осень, так невесты нарождаются, а среди них старшая красавица, матушка Грибба, что не мясо, не рыба. Мясистая, добротная, да при шляпе, что сказать, симпатичная франтиха, модница. Увидал её как-то папка Картош, и пропал. Как в себя пришёл, так давай свататься. Так мол, и так, давай-ка Грибба Опятовна свадьбу играть, уж больно ты мне полюбилась. И сестричек, своих опяточек приводи, мои хлопцы, вона тоже жонихи, как на подбор. Глянула на него Грибба Опятовна из под шляпки и тоже вся сразу умаслилась, такой видный господин сватается. Ну и отвечает, а чего не сыграть-то, давай поженимся, погуляем, да любовь отпразднуем. А папка Картош, будь здоров, не стал долго собираться, ну и кликнул родню, да ближайших соседей на празднество. Дед Лукич, как услышал добрую весть, так и прослезился от счастья и на кольца подвенечные рассыпался. Да как только позолотой украсился, так сразу и началась, загудела, за скворчала свадебка, а картохи с опёнками в пляс лихой пошли, и вприсядку, и хороводами. Такой шум, да гам, да кочегарочка. Молодых и солькой и перчиком посыпают, вкусной им доли желают, не нарадуются. Эхь! А под конец зелёным всполохом, фейерверки укропные взорвались! Тадам! Бабах! Феерия! А тут и братья-огурчики захрустели тостами, рассольчиком раз удалились, кружочками уложились, да наливка-рябиновка, добрая, тут как тут, на песню, да на здоровье, проситься. И вот знаешь, Маська, молва об этой свадьбе-то, по всей округе пролетела, да с таким ароматом, что вот сил больше ни каких нет, буду ужинать. М-мням-ням, и правда пахнет чудесно! А вкусно-то как! Ухь, объедение! Ну, давай дружище за здоровье родителей, да и нам, чтоб не болеть!
Только Савва наливки пригубил, как стук в дверь. Едва успел шторку задёрнуть, а гостья уже на пороге. Поклонилась ему, снежинку-оригами протягивает с укрытым в сердцевине приглашением, а сама глазами по дому гуляет, с ним здоровается:
– Доброго тебе ужина Савва Макарович! Вот пришла тебя на ежесезонный, вечерний Мгновенталь пригласить. В клубе не застала, решила сама наведаться. Приходи, будь ласковым, да гармонь с собой прихвати. Бывший глава месткома Нифонт Петрович с Валентиной будут, барон прибалтийский Карл Янович с принцессой нашей таёжной Агафьей, обещались подойти, да купеческий внук, Павлуша Сафьялов придёт. В общем, весь наш свет раскулаченный соберётся, да Любочка Головина, дочь председателя к нам на огонёк заглянет. У меня хоть и не Грановитая палата, но приму хлебосольно, торжественно, песни попоём, зиму отпразднуем, поделимся сказками из жизни друг друга, потанцуем. Без тебя и гармони ни как. Так, что милости просим.
– Спасибо за приглашение, Авдотья Семёновна! Ну, раз надо, раз компания знакомая, уютная, душевная соберётся, почему не прийти? Приду, – отвечает Савва Макарыч, протягивая гостье берёзовую чарку с рябиновкой и брусок картошки с опёнком и кружочком огурчика на вилочке, добавляет:
– На вот, на здоровье, да согрева, не откажи в угощении. А хочешь, проходи, вместе поужинаем.
– Вот, спасибо Савва Макарович! От согрева не откажусь, мороз-злодей, нынче крепкий, лютоватый. Всё лицо мне обдул, обтрепал, за сметаной теперь вот к Агаше идти. А поужинать я бы с радостью, да надо ещё в пару мест заскочить, а потом бегом на агробазу, Пеструшку кормить, да над рифмой-словом работать. Ладно, Савва Макарович, жду тебя в воскресенье к половине седьмого, не забудь хорошее настроение, аппетит и гармонь, – махнула чарку, поклонилась и была такова.
Савва ещё пару минуту постоял у двери, после выглянул за порог, убедится, что внезапная гостья точно ушла. Вернувшись в комнату, заглянул за занавеску. Маська всё так же безмятежно спал, тоненько похрапывая и сопя.
– Уф! Дуняша заходила. Приятная женщина, талантливая, вон какое диковинное приглашение сотворила, но как увижу её, так в ступор впадаю. Такая мощь от неё исходит, как от огня. Смотришь приятно глазу, телу тепло, но чувствую, стоит на миг зазеваться и всё, ожог, пожар, только угольки тлеют. Эх-ма Авдотья Семёновна, роковая красота-огневица, – прошептал Савва, глядя на смородинку. Повздыхал чуток и в погрузившись в мысли о вечере сказок, принялся за еду.
Рецепт от Наташи
-Так ты мне скажи Кьяр Батакич, Дуня с Саввой-то сойдутся? А как же Валентина тогда, а Нифонт Петрович. Неужели любовный многоугольник сложится?
–Подожди Марка Геральдьевна, не торопись. Давай всё-таки по порядку, по ходу истории разберёмся. А там и узнаешь, что да как, да с кем, прелесть-то не в этом. Не в том прелесть-то. А в том, чем история продолжилась.
–Продолжилась?
–Конечно. Скажу больше, до сих пор продолжается. Но не буду далеко вперёд забегать, потомлю тебя немножко. Так приятно, когда есть благодарный и такой хлебосольный слушатель, как ты Марка Геральдьевна. Самородок ведь, каких поискать.
–Потоми Кьяр Батакич, прошу, будь так любезен, потоми, сколько истории потребуется. Слушать тебя одно удовольствие. А главное, как же приятно угощать тебя, ни от чего не откажешься, а мне в удоволь. Кстати пижма-то поспела, думаю. Так что давай-ка в дом перейдём, в гостиную, а то, что ты всё на дереве, да на дереве, да и я тут на балконе, честно говоря, даже и продрогла, можно сказать, комком завалялась, заветрелась. Пойдём в дом Кьяр Батакич, там и пижмы откушаем, и про Мгновенталь Дуняшин расскажешь.
–А и правда пойдём Марка Геральдьевна. Потом отогреемся, да может, ещё на воздух прогуляемся, если захочешь. Пижму растрясём, подышим.
–Милости прошу Кьяр Батакич. Проходи, будь как у себя, не стесняйся. И молви, молви пока салат достаю.
Глава 5 Званный вечер Мгновенталь
Званый вечер у Авдотьи вышел на славу. Угостив новых и старых друзей любимыми фирменными блюдами, Дуня предложила гостям переместиться из гостиной-леса в спальню-планетарий, где на полу был расстелен двухцветный, кофейно-белый самотканый ковёр, с вышитыми на нём континентами и странами мира. На нём раскидала подушки и валики, звёзды. В центр ковра разместила жестяной, чеканный поднос с холодной закуской и напитками, брусничным морсом и местным, полусладким смородиновым. Для более располагающего к сказочным историям настроения, зажгла свечи укрытые в импровизированных подсвечниках корягах, расставленных по комнате тут и там, и даже приспособленных на стенах. Расписанных морозной вязью по случаю зимы белой краской и присыпанных сверху крупной, морской солью, символизирующей хрусталики снега. Завела патефон, поставив пластинку со звуками природы. И как только гости удобно расположились по краю ковра, таинство сказок началось.
Первым свой рассказ повёл Нифонт Петрович, время от времени бросая ласковый взгляд на Валентину, заговорщически подмигивая Савве и нет-нет грозно щурясь на Павку Сафьялова.
–Друзья, а ведь я же как-то видел мамонта. Жаль не в живую, но в довольно хорошем состоянии. Было это тут, под нашим Мамино. Лето стояло жаровня! Не смотря, что север дальнего востока, а солнце так и шпарило. Комаров и оводов столько, что я до сих пор, если глаза прикрыть, слышу их писк, бзиск. Оводы, между прочим, здесь, сладкие, тягучие как мед. Думаю рыбкам, летай они по воздуху, точно бы понравилось. Птичкам-то всяко лучше любого мармелада. Мда, мням-ням. И вот знавал я тут одну евражку, по имени Хечуше. Большая такая, для своего вида, на сурка похожая. Так вот мы с моим товарищем по прошлой работе, Ильюшей Степановичем устроили привал рядом с её домиком-холмом, у одиннадцатого поля. И решил я её, евражку-то печенюшками угостить, стал подходить к её норе и жух-плюх провалился. Оказывается, там покров только с виду крепким, ровным казался, а на деле иссохшие коряги, увитые мхом и пылью. Ну, я-то этого не знал и топориком, метров на десять-пятнадцать ушуршал. Хорошо не сломал ни чего, так царапины-ушибы. Кто бы только знал, что там, в подземелье, лабиринты не хоженые и в одном из залов, прямо в стену вморожен мамонт. Настоящий такой, большой мамонтяра, с хоботом, густой шерстью и всеми четырьмя ножищами. Дело в том, что из-за здешней вечной мерзлоты, его туша не испортилась. Такой свежемороженый экземпляр. А на стенах подземелья рассказ художественный, нашими первопредками оставлен, что, дескать, в стародавние времена, там, где сейчас находится евражкин холм-домик, упала звезда, вернее осколок от неё, метеорит то бишь. Образовалась воронка метров пятнадцать в глубину, которая заполнилась водой из пробегающего рядом ручья. Какое-то время воронка была прудиком, потом когда ручей изменил свой ход, стала болотцем, в котором и увяз тот мамонт, достигнув дна болотца замуфицировался. А потом было землетрясение в соседнем районе, из-за вулкана Манджор, который, кстати говоря, обходят стороной местные жители эвены, коряки и юкагиры, вспоминая легенду проклятие, о том, что в жерле этого спящего вулкана, живет древний дух, который отбирает жизнь, если к нему близко подойти. Говорят, этот дух охраняет огроменный голубой алмаз, который зовется Слезой Небесного Господина. Ну, так вот, после землетрясения, вся болотная жижа ушла глубже, остатки впитала в себя насыпавшаяся в болото земля, последующая землетряска образовала небольшой холм, который облюбовали пришедшие туда евражки. А когда они стали рыть свои ходики-лазики обустраивая домик, обнаружили большой просторный зал с вмороженным в стену мамонтом. Кстати из другой стены того зала торчит голова, еще одного представителя пещерных времен, голова шерстистого носорога, который как и мамонт угодил в то болотце и после стал гордым украшением жилища, моей подруги евражки Хечуше. Тут надо добавить, что упавший столетия назад метеорит наделил это место чудесными свойствами, так евражка эта выросла в размерах и стала жить дольше, чем положено её сородичам, намного дольше, чем полагается и думается, что посетив её домик-холм и я продлил свое существование. Ну по крайней мере надеюсь на это. Так-то.
–Ого! Нифонт Петрович, а снежного человека или вампира встречали, когда-нибудь? – поинтересовался Павка Сафьялов.
