Читать онлайн Именем Предков бесплатно
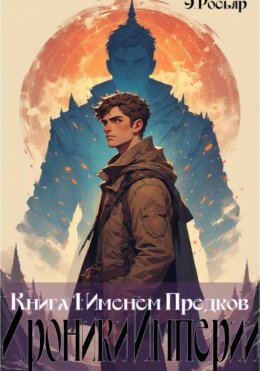
Пролог: Песок сквозь пальцы
Холод въедался в кости, несмотря на толстый свитер и пыхтящую батарею под подоконником. Январский Томск за окном квартиры на улице Шишкова был погружен в синевато-серые сумерки. Улицы, запорошенные снегом, редкие огоньки фонарей, отражающиеся в ледяной корке на асфальте – картина уныло-поэтичная, как открытка из прошлого века.
Артём Туманов, студент третьего курса кафедры культурной антропологии ТГУ, смотрел на этот пейзаж без особого восторга. Его больше занимало ощущение назойливой пустоты где-то под ложечкой. Не голод, с этим у него не было проблем. Скорее… как будто забыл что-то очень важное. Что-то, без чего все вокруг кажется бутафорским, декорацией к чужой пьесе, где он играет роль «студента Артёма».
«Ну да, Антрополог Туманов, специалист по пыльным обрядам и мертвым культурам, – мысленно процедил он, отходя от окна. – Самый что ни на есть живой экспонат в музее собственной жизни. Глубокомысленно».
Он повернулся к комнате, вернее, к тому, что раньше было комнатой его бабушки, Антонины Игнатьевны. Теперь это был лабиринт из коробок, зачехленной мебели и старых вещей, пропитанных запахом времени – смесью лаванды из шкафа, старой бумаги, воска и чего-то неуловимо кисловатого, как будто что-то где-то начало подкисать.
Бабушка ушла тихо, почти месяц назад, и только сейчас Артём нашел в себе силы разобрать ее «архивы». Бабушка Тоня была человеком системы. Каждая пуговица, каждая открытка, каждый клочок бумаги имел свое место. И вот теперь он, ее внук-антисистемщик, должен был навести здесь свой, циничный порядок.
Скрип половиц под ногами звучал громко в тишине квартиры. Артём подошел к массивному комоду цвета выгоревшей вишни – настоящему реликту середины прошлого века. Верхний ящик заедал, как всегда. Пришлось приложить усилие и дернуть с характерным треском.
«Ну здравствуй, бабушкин сейф, – подумал Артём. – Что хранишь сегодня? Секреты кулинарии 60-х? Или список должников по квартплате за 1973 год?»
В ящике царил образцовый хаос, тщательно упакованный в папки, конверты и перетянутые ленточками стопки писем. Артём принялся методично, с присущим ему скептическим любопытством антрополога, изучать содержимое. Старые фотографии: вот бабушка молоденькая, строгая, в платье с огромным бантом; вот дед, которого Артём почти не помнил, в военной форме с загадочной полуулыбкой; вот родители Артёма, такие юные и беззаботные, за год до того рокового ледового перехода через Обь… Артём отложил фото родителей в сторону, легкое покалывание под ложечкой усилилось. Он быстро переключился на другие стопки.
Счета, вырезки из газет с рецептами, поздравительные открытки… Ничего необычного. «Эпическая поэма о советском быте, – пошутил он про себя. – Том первый: «О борьбе с пылью и дефицитом». Захватывающе».
И вот, под толстой папкой с надписью «Документы», внутри которой аккуратно хранились справки о наградах за ударный труд и инструкция по пользованию стиральной машиной «Вятка», его пальцы нащупали что-то тонкое и жесткое. Как карточка или открытка.
Он вытащил небольшой, пожелтевший прямоугольник. Старая фотография, явно дореволюционная, судя по одежде и качеству. На ней был снят молодой мужчина. Высокий, стройный, в добротном, но неброском сюртуке. Лицо серьезное, почти суровое, с высокими скулами и темными, очень внимательными глазами, которые, казалось, смотрели прямо на Артёма сквозь толщу лет. Что-то в этих глазах, в линии бровей… было неуловимо знакомо. Как эхо.
«Интересный тип, – подумал Артём. – Не бабушкин жених, часом? Хотя… стиль не тот. Смахивает на какого-нибудь чиновника из губернского правления. Или ссыльного интеллигента. Классический сибирский типаж».
Он перевернул карточку. На обороте, выведенным аккуратным, но уже слегка выцветшим почерком, чернилами цвета сепии, было написано:
"А.Н. Ты не последний. Помни кровь. Ищи Змея у истока. Когда тень ляжет на Петров крест, путь откроется. Не верь слепым служителям Света. Духи помнят долг. 1911 г."
Артём замер. Он перечитал надпись дважды.
«А.Н.? – мысленно ухмыльнулся он. – Прям как у меня – Артём Николаевич. Оригинально, бабуль. Как в дешевом романе: «Ты избранный. Вот и письмецо из прошлого столетия…». Хотя… Странное совпадение. Или бабушка с чувством юмора? «Ищи Змея у истока»… «Петров крест»… Это что, инструкция по кладоискательству? Или она увлекалась спиритизмом в молодости или на старости лет? Не припомню что-то»
Он потер виски. Ощущение нереальности слегка усилилось. Кровь… Духи… Слепые служители Света… Звучало как бред, но написанное было слишком конкретным, слишком… странным для обычной бабушкиной шутки. И датировано 1911 годом. Задолго до ее рождения.
«Ладно, Антрополог, – сказал он себе. – Не паникуй. Старые вещи часто хранят чужие тайны. Может, это чья-то шутка столетней давности? Или фрагмент какого-то забытого ритуала секты «Сибирские мистики»? Надо копнуть…» – иронично завершил он свою мысль.
Он снова заглянул в ящик, рядом с тем местом, где лежала фотография, нащупал еще один предмет. Конверт из плотной, желтоватой бумаги, не заклеенный. Внутри – сложенный вдвое лист. Артём вытащил его и развернул. Это была карта. Не современная, а старая, отпечатанная на тонкой, хрупкой бумаге. И все это делало ее куда более интригующей.
Карта оказалась картой Томской губернии, судя по обозначениям. Реки Обь, Томь, даже мелкая Ушайка, знакомые названия уездов. Но на ней не было привычной сетки координат, только ручьи, леса, холмы обозначены с удивительной для печатного издания детализацией. Карта явно была ручной работы, копией с чего-то еще более древнего. И вот посредине, примерно в районе среднего течения реки Кеть, чуть севернее обозначения какого-то безымянного притока, было… пятно. Не нарисованное, а словно выжженное на бумаге тонким раскаленным пером. Оно изображало извивающегося змея, кусающего себя за хвост – Уробороса. Это Артем знал, символ встречался не редко. Знак был небольшой, но четкий, обугленные края бумаги слегка крошились под пальцами.
Артём присвистнул тихо.
«Вот это поворот, – подумал он, сравнивая карту и надпись на фотографии. – «Ищи Змея у истока». Вот он, Змей. Аккуратненько выжженный. Как будто кто-то взял паяльник и… Хотя нет, бумага вокруг не повреждена, только сам знак. Странно. Очень странно». Его инстинкты историка воодушевлено оживились.
Он положил карту на комод рядом с фотографией. Ощущение легкого озноба, не от холода, а от чего-то иного, пробежало по спине. Он попытался рационализировать:
«Вариант первый: бабушка коллекционировала антикварные диковинки. Вариант два: это чей-то розыгрыш. Возможно, деда, у него было своеобразное чувство юмора. Вариант три: я слишком много времени провожу в архивах ТГУ, и у меня галлюцинации от пыли XIXвека. Вариант четыре…»
Вариант четыре повис в воздухе, неоформленный, но тревожный. Что если… нет, бред. Духи? Долг? Кровь? Он, Артём Туманов, потомок сибирских крестьян и рабочих, вдруг оказался замешан в какую-то дореволюционную мистическую авантюру? Смешно.
«Ну конечно, – съязвил он внутренне. – Моя бабушка – тайный хранитель древнего пророчества. И оставила мне, любимому внуку-антропологу, загадку с картой и криптограммой. И что теперь, мне бросить учебу, купить кирку и искать «исток Змея»? Стать Индианой Джонсом от Томска? Прямо эпично: «Артём Туманов и Проклятие Бабушкиного Комода»».
Он громко рассмеялся в тишине комнаты. Звук получился резким и немного нервным. Чтобы отвлечься, он решил продолжить разборку. Но внимание снова и снова возвращалось к фотографии и карте. Глаза того мужчины… Почему они казались такими знакомыми? Он подошел к зеркалу, висевшему над комодом. Посмотрел на свое отражение: темные, слегка растрепанные волосы, серо-зеленые глаза, обычные скулы… Ничего особенного. Хотя… линия бровей? Уголок глаза? Мимолетное сходство, на грани воображения.
«Паранойя, – отрезал он себе. – Слишком много Кафки и Лавкрафта на ночь. И архивной пыли».
Разобрав еще пару папок, где нашлись потрясающие экземпляры, такие как билеты в кинотеатр «Октябрь» 1958 года и инструкция по уходу за кактусом примерно того же периода, Артём почувствовал усталость и легкое головокружение. Воздух в комнате был спертым. Он решил выйти, подышать морозцем и, может, заодно развеяться. Натянул старую дубленку, шапку-ушанку, шарф.
Томск встретил его привычным зимним дыханием – колючим, чистым, с запахом снега, дыма из труб и едва уловимой остротой выхлопных газов. Он вышел из подъезда на Шишкова, свернул на улицу Аптекарский мосток, направляясь в сторону площади Батенькова.
Вечерний город был неспешен. Фонари бросали желтые круги света на утоптанный снег тротуаров. Проехал трамвай, перестукивая колесами, и умудрившись брызнуть серой слякотью. Артём засунул руки в карманы, стараясь не думать о фотографии и карте, но мысли возвращались, как назойливые мухи.
«Духи помнят долг… – цитировал он про себя. – Классно. Значит, мне должны? Или я им? И в какой валюте? Волшебные бобы? Или просто вечное чувство вины?»
Он дошел до улицы Ленина и уже видел набережную. Еще недолго и его взору открылся вид на заснеженную долину Томи, на редкие огни домов на том берегу, на темную ленту реки, уже схваченную льдом. Вид был величественный, вечный. Артём прислонился к холодной металлической ограде, вдыхая морозный воздух. Ощущение отчужденности ненадолго отпустило. Здесь, на высоте, глядя на спящий под снегом город и темную реку, он чувствовал… связь. С этим местом. С Сибирью. Это было глубже, чем просто место рождения. Что-то исконное.
«Вот она, моя антропология, – подумал он с легкой иронией. – Чувство места. «Гений Лоци». Только без гения и без латыни».
И тут его взгляд упал на реку. Точнее, на участок открытой воды чуть ниже по течению, где в пустоте обычно ничего никогда и не бывало. Там, где черная вода отражала свет далекого фонаря, на поверхности возник… рисунок. Словно легкая рябь, но не хаотичная, а сложившаяся на мгновение в четкий, извивающийся контур. Контур змея, кусающего себя за хвост. Тот самый Уроборос. Как на карте.
Артём замер, не веря глазам. Он резко моргнул. Рябь изменилась, рисунок распался. Просто игра света, тени и течения. Совпадение. Случайность.
«Галлюцинация от усталости и бабушкиных тайн, – сказал он себе твердо, но голос внутри звучал неуверенно. – Или… «Змей у истока»? Исток Томи? Но это же далеко в Кузбассе…»
Он отвернулся от реки, чувствуя, как по спине снова пробежали мурашки. Надо было идти домой. Или… нет. Завтра с утра у него была работа в университетском архиве. Может, там он найдет что-то о старых картах, о символике? Ради научного интереса, конечно. Чисто антропологическое исследование бабушкиного фольклора.
«Да, именно так, – убеждал он себя, спускаясь обратно в город. – Научный подход. Никакой мистики. Просто артефакты семейного архива, требующие изучения. А видения на воде – это просто мороз и усталость. И точка».
Но точка не ставилась. Тревожное, щекочущее нервы чувство тайны уже запустило свои щупальца. Обычный мир дал первую трещину.
Архив Научной Библиотеки ТГУ (НБ ТГУ) на проспекте Ленина, 34а, встретил Артёма привычным запахом: пыль, старое дерево стеллажей, клей от переплетов. Никакого душка канализации на сей раз, и на том спсибо.
Он пришел пораньше, надеясь найти что-то до начала потока студентов. Сегодня его интересовали не столько материалы для курсовой по погребальным обрядам селькупов, сколько старые карты и, возможно, упоминания о странных символах или… «слепых служителях Света».
«Профессиональная деформация, – подумал он, регистрируясь у вахтера. – Вижу загадку – лезу в архивы. Хотя обычно загадки заканчиваются квитанциями на квартплату или забытыми любовными письмами».
Он поднялся в читальный зал рукописей и редких книг. Здесь царила особая, почти священная тишина, нарушаемая только шелестом страниц и тихим скрипом стульев. Артём заказал несколько подборок: «Картографические материалы Томской губернии, конец XIX– начало XX вв.», «Исторические общества Томска. Документы», «Церковные летописи и упоминания о неканонических практиках в Сибири».
Пока ждал заказ, перечитывал копию надписи с фотографии, сделанную на телефон. «А.Н. Ты не последний…» Кто такой А.Н.? Александр Николаевич? Алексей? Анатолий? И почему «не последний»? Последний в чем? В роду? В каком-то деле? «Петров крест»… В Томске есть Петропавловский собор на Алтайской, но «крест»? Может, имеется в виду какое-то урочище, забытое название? И «тень на крест» – это астрономическое явление? Солнечное затмение? Но в 1911 году в Томске было ли затмение? Надо гуглить. Позже.
Подборки принесли. Артём погрузился в изучение. Старые карты были удивительны своей детализацией, но… его карта с выжженным змеем явно была уникальной. Ничего похожего по исполнению и стилю он не нашел. Больше походило на рукописную копию с еще более древнего оригинала. В документах исторических обществ, таких как Общество изучения Сибири, Томский отдел Императорского Русского Географического Общества, упоминаний о «Змее у истока» или «Петровом кресте» тоже не обнаружилось. Сплошь протоколы заседаний, отчеты об экспедициях за образцами флоры и фауны, сбор фольклора.
Оставались церковные источники. Он открыл папку с копиями страниц из «Летописи Томского Богородице-Алексеевского монастыря» за начало XX века. Сухие записи: службы, визиты архиереев, постриги, ремонт кровли… Ничего о духах или слепых служителях. Артём уже начал зевать от монотонности, когда его взгляд зацепился за запись, датированную осенью 1911 года:
«…сего октября, 12 дня, явился в обитель муж незнаемый, именем Григорий, странного вида и речей. Беседовал с отцом архимандритом долго и тайно в келье. Говорил о древних долгах крови, о тени, что скоро ляжет на Крест Предтечи, и о слепоте слуг Света, кои не ведают истинного Лика. Упоминал он и о знаке Змия-Кольцедержца у истока Кети. Отец архимандрит выслушал, но словам его не внял, почтя за бред бесовский или умопомешательство. Странник удалился в ночь, более не являлся. Записано со слов келейника отца архимандрита, инока Варсонофия».
Артём замер. Сердце стукнуло гулко где-то в горле. Он перечитал запись еще раз, потом сверил с копией надписи на фотографии.
«Знак Змия-Кольцедержца у истока Кети». Уроборос! У истока Кети! Именно там на его карте был выжжен знак!
1911 год.
«Древние долги крови». «Тень… на Крест». В летописи – «Крест Предтечи». В надписи – «Петров крест»? Ошибка переписчика? Или разные кресты? «Слепота слуг Света».
Совпадение? Невозможно. Слишком много совпадений. Дата, термины, символ… Странник Григорий… Офигеть! Неужели Распутин? Он действительно бывал в Сибири, но в Томске? Нужно проверять. Но суть не в этом. Суть в том, что слова с бабушкиной карточки эхом отозвались в монастырской летописи столетней давности.
Артём почувствовал, как по спине побежали ледяные мурашки, куда более отчетливые, чем на морозе. Это был уже не бабушкин розыгрыш. Это была… связь. Сквозь время. Запись в летописи была реальным историческим документом. А надпись на фотографии… была частью этой же истории.
«Окей, – мысленно произнес он, пытаясь сохранить саркастичный тон, но голос внутри дрогнул. – Ситуация апгрейдится от «странного бабушкиного сувенира» до «возможного исторического детектива с элементами мистического бреда». Прогресс. Наверное, мне теперь надо искать этого «Григория»? Или «Крест Предтечи»? А может, сразу купить билет до верховьев Кети? Стать героем квеста «Найди Змея»? Как Индиана Джонс, да, только местного разлива. Да и отпуска давно не было…»
Он откинулся на спинку стула, закрыв глаза. В ушах шумело. Рациональные объяснения трещали по швам. Слишком много фактов. Фотография мужчины, чей взгляд будил смутное воспоминание. Загадочная надпись с пророчеством и предупреждением. Уникальная карта с выжженным Уроборосом. Запись в монастырской летописи, повторяющая ключевые слова. Видение на воде… Может, это и было «тенью», ложащейся на «крест»? На «крест» его собственного рационального мировоззрения?
«Духи помнят долг… – пронеслось в голове. – А мне, похоже, пора помнить, что я учусь на антрополога, а не на экзорциста».
Он собрал документы, поблагодарил библиотекаря, вышел из прохладной тишины архива в шумный университетский коридор. Яркий свет люминесцентных ламп, голоса студентов, звонки – все казалось вдруг слишком резким, слишком громким, слишком… поверхностным. Как будто обычный мир был лишь тонкой пленкой, натянутой над чем-то огромным, темным и древним, что только что шевельнулось под ногами.
По дороге домой, по проспекту Ленина, мимо строгих корпусов университета, мимо вечно спешащих людей, Артём зашел в небольшое кафе «Солянка» на Учебной. Заказал двойной эспрессо. Нужно было прийти в себя. Он сидел у окна, смотрел на падающий снег, пил горький кофе и пытался осмыслить.
«Ладно, Артём, – говорил он себе. – Допустим, это не совпадение. Допустим, просто допустим, в бабушкином комоде лежал кусочек какой-то… неизвестной истории. Забытой истины. Что это меняет? Я – Артём Туманов. Студент. Житель Томска. У меня курсовая горит, завтра семинар по тотемизму, а в холодильнике пусто. По факту-то, у меня нет времени на поиски древних змеев и слепых служителей!»
Но даже эта мысль звучала фальшиво. Ощущение пустоты под ложечкой сменилось другим – щемящим, острым любопытством. И страхом. Но не страхом перед неизвестностью, а скорее страхом… упустить что-то важное. Нечто, что касалось лично его.
Он достал телефон, нашел в интернете информацию о солнечных затмениях, видимых в Томске. 1911 год… 17 апреля 1912 года было кольцеобразное затмение, хорошо видимое в Сибири. Осенью 1911 – ничего. «Тень на крест» – явно не астрономия. Тогда что? Символ? Событие? Или… указание на место? Нужно было выяснить, что такое «Петров крест» или «Крест Предтечи».
Дома, в своей комнате уже в современной части квартиры, Артём снова разложил перед собой на столе три артефакта: фотографию с надписью, карту с выжженным Уроборосом и распечатку той страницы из монастырской летописи. Он включил ноутбук, открыл поисковик и карты.
«Крест Предтечи, Томск… – набирал он. – Крест Иоанна Предтечи…»
Первые ссылки вели к Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю в Томске. Но в летописи говорилось о Богородице-Алексеевском мужском монастыре. Нестыковка. Артём копнул глубже. Исторические форумы, краеведческие сайты. И на одном из них, в ветке про утраченные святыни Томска, он наткнулся на упоминание:
«…а на западной окраине Ярского, за нынешним нефтехимом, стоял когда-то большой деревянный крест. Местные звали его «Петровым». По легенде, поставил его в стародавние времена некий Петр-пустынник, первый поселенец в тех местах. Крест был местным «намоленным» местом, пока в тридцатые его не снесли при строительстве…»
Ярское. Заводская окраина современного Томска. Когда-то – отдельное село. И крест «Петров». Близко к «Петрову кресту» из надписи! А «Предтеченский» в летописи могло быть ошибкой переписчика или местным названием? Вполне.
Артём почувствовал прилив азарта, знакомый любому исследователю, напавшему на след. Он нашел на спутниковой карте район бывшего села Ярское, ныне поглощенного городом. Промзона, частный сектор… Где-то там должен был быть этот «Петров крест». Или место, где он стоял.
«Когда тень ляжет на Петров крест, путь откроется… – процитировал он про себя. – Окей, мистические инструкции получены. Теперь надо выяснить, что за «тень» и когда она «ляжет». Закат? Облако? Птица? Призрак Петра-пустынника?»
Он отложил ноутбук, подошел к окну. На улице снова стемнело. Шел снег. В отражении стекла он видел свою фигуру, а за ней – знакомую комнату, книги, постер с ироничным сюрреализмом. Но теперь это отражение казалось ненадежным. Как и весь его привычный мир. Фотография, карта, летопись… Они были мостиком. Мостиком в иную реальность, где действовали другие правила. Это же был способ хоть как-то развалить рутину? А вдруг там найдется все-таки что-то стоящее
Артём вздохнул. Ощущение бутафорской жизни вернулось, но теперь оно было окрашено не тоской, а странным предвкушением. Он посмотрел на фотографию серьезного молодого человека в сюртуке. Теперь эти темные глаза смотрели на него не просто сквозь время. Они смотрели на него. Знающе. «Чего только воображение не подкинет, хах».
«Ну что ж, «А.Н.», – мысленно обратился Артём к портрету и к самому себе. – Похоже, ты прав. Я явно «не последний» в этой истории. И, кажется, мне пора выяснить, где же я первый. И куда ведет этот чертов «путь». Только, чур, без духов, мне этой шаманисткой эстетики уже хватило. Ну хотя бы до второго эспрессо».
Он убрал артефакты в толстую папку, но не в ящик стола, а в свою походную сумку. На завтра после университета он решил съездить в Ярское. Посмотреть на место, где стоял Петров крест. Просто посмотреть. Чисто антропологический интерес к локальным легендам и историческим артефактам.
Глава 1: Ярское. Крест, которого нет, и прочие неудобства
Утро после архивных откровений встретило Артёма Туманова с характерным сибирским гостеприимством – пронизывающим холодом, пробивающимся сквозь щели в старых рамах его квартиры на Шишкова. Он лежал, укутанный в одеяло как сибирский пельмень в тесте, и с тоской смотрел в потолок.
"Ну вот, Артём, – мысленно констатировал он. – Ты, мать его, антрополог. Изучай лучше погребальные обряды по учебникам, а не лезь в бабушкины комоды с надеждой найти инструкцию по эксплуатации машины времени или, того хуже, приглашение на бал к призракам Романовых. Теперь придется тащиться на край света, точнее, на промзону Ярского, искать крест, которого лет сто как нет. Гениально. Просто шедевр логики."
Он с трудом оторвался от относительного тепла постели. Мысль о том, что герои кино или тех же аниме обычно не носят три свитера поверх пижамы, а эффектно вскакивают по первому зову судьбы в минимальном количестве одежды, вызвала у него лишь саркастическую усмешку. "Да, мой сенсей – это томская зима. И его уроки суровы: сначала надеваешь термобелье, потом все остальное, включая чувство собственного достоинства."
После ритуала облачения, превратившего его в подобие подвижного стога сена, Артём потянулся к походной сумке. Туда уже были бережно уложены папка с Фотографией, Картой и распечаткой из летописи, бутерброды, ибо надежда на приличное кафе в Ярском была призрачной, термос с чаем, потому что "не эспрессо, конечно, но в полевых условиях сойдет", мощный фонарик и телефон с картами. Фотоаппарат он в последний момент оставил. "Зачем? Снимать ржавые гаражи и покосившиеся заборы? И так ясно – место историческое, то есть очень старое и заброшенное. К тому же, телефон всегда с собой."
Выход на улицу был как прыжок в ледяной бассейн. Воздух обжигал легкие. "Ах да, – подумал Артём, спускаясь по обледенелым ступенькам подъезда. – Идеальное время для археологических изысканий. Промозгло, скользко, темнеет в четыре. Прямо как в лучших традициях приключенческих квестов. Только без пиратов. По крайней мере, пока что."
Его путь лежал к трамвайной остановке на Кирова. Трамвай №2, по его расчетам, должен был довезти его до площади Южной, а оттуда – маршрутка до Ярского. "Общественный транспорт – верный спутник искателя древних тайн, – философски отметил он, втискиваясь в переполненный вагон. – Особенно в час пик. Сейчас меня точно примут за святого – такой ореол терпения и всепрощения излучаю."
Трамвай пыхтел, скрежетал и периодически останавливался, будто раздумывая, стоит ли вообще ехать в такую даль. Артём наблюдал за сонными лицами пассажиров. "Вот они, обычные люди, – думал он. – Едут на работу, учебу, по делам. Не подозревают, что среди них затесался офигенный Избранный, которому судьба уготовила… выполнить вымышленный крест на свалке истории. Эпично. Просто мурашки по трем свитерам."
Пересев на маршрутку у площади Южной, он погрузился в созерцание томских окраин. Архитектурный стиль плавно перетекал от «деревяшек» и "сталинского ампира с налетом времени" к "советскому модернизму с элементами разрухи" и далее к "частному сектору с преобладанием синего сайдинга и покосившихся заборов". "Атмосферно, – констатировал Артём. – Прямо декорации для постапокалипсиса местного разлива. Только зомби не хватает. Или они просто еще не проснулись?"
Маршрутка выплюнула его на конечной остановке "Ярское". Перед ним открылась картина, до боли знакомая любому жителю российского города: промзона, перемежающаяся островками частного сектора. Заводские корпуса, дымящие трубы, гудки тепловозов где-то вдалеке. И тут же – покосившиеся деревянные дома, заборы из профнастила, стаи воробьев, оживленно обсуждающих что-то на проводах. Воздух пах снегом, угольной пылью и чем-то химически-нейтральным. Малоприятная картинка. Все как обычно.
"Ну что ж, – мысленно вздохнул Артём, включая на телефоне карту и заметку с примерным описанием места. – Добро пожаловать на Историческую Родину. Вернее, на место, где она когда-то теоретически могла быть. Итак, по легендам краеведов-энтузиастов с сомнительной репутацией, Петров крест стоял где-то за нынешним приборным, ближе к реке. Ориентир – старая березовая рощица. Потому что без старой березовой рощицы ни одно мистическое место не обходится. Это, типа, правило."
Он двинулся вдоль забора какого-то предприятия, утыканного предупреждениями "Посторонним В.", "Соблюдайте чистоту" и "Видеонаблюдение". "Охранник, увидев меня, наверное, подумает, что я либо террорист, либо очень плохой шпион. Если он, конечно, не спит, или не в отключке в силу …иных обстоятельств. – размышлял Артём, чувствуя себя нелепо. – А так, человек в трех свитерах, с огромной сумкой, явно не местный, шастает вдоль забора и тыкается в телефон. Классика жанра."
Заводом, как и ожидалось, начинался частный сектор. Узкие, нечищеные улочки, сугробы по пояс у заборов, редкие протоптанные тропинки. Дома – смесь старых пятистенков, обшитых вагонкой, и новоделов из силикатного кирпича с обязательными кованными, но уже ржавыми воротами. Из труб валил дым – топили печки. Артём старался идти быстро, но не выглядеть подозрительно. "Главное – не встретить местного Рекса, – подумал он. – Судя по объявлениям на заборах, тут водятся 'злые собаки на цепи'. А я не в бронежилете. Моя броня – это три свитера. Вряд ли это остановит цепного пса, воспитанного на идеях защиты синего сайдинга от посягательств."
Он свернул на улицу, которая, по карте, вела ближе к реке. Названия у нее не было, только табличка, сообщающая, что он ступил на "ул. Октябрьскую". "Оригинально, – съязвил про себя Артём. – Видимо, креатив здесь не в чести. Как и по всей остальной территории России."
Примерно через полчаса блужданий по лабиринту заборов и сугробов, Артём вышел на более-менее открытое пространство. Перед ним простилался пустырь, заваленный строительным мусором, старыми покрышками и тем, что когда-то было диваном. За пустырем виднелась "старая березовая рощица" – десяток чахлых березок у кромки обрывистого берега реки Томи. Слева маячили корпуса завода, справа – гаражи и сараи.
"Ну вот и эпицентр, – объявил себе Артём. – Место силы. Чувствуете? Тонкие вибрации… холода и запах мазута. Истинная аура древнего намоленного места. Тут явно молились о скорейшем сносе и начале стройки."
Он подошел к краю обрыва. Вид на Томь отсюда открывался неплохой. Река, скованная льдом, заснеженные берега, промзона на том берегу. "Вот где стоял тот самый крест, – представил он. – Петр-пустынник, мужик, видимо, с чувством юмора, выбрал место с видом на завод. Пророк, что ли?"
Артём начал методично, как и подобает антропологу на полевых работах, пусть и не совсем в поле, осматривать местность. Он обходил пустырь, заглядывал за кучи мусора, изучал заборы гаражиков на предмет древних граффити или знаков. Нашел только надписи "Здесь был Вася" и "ЦСКА – чемпион!", явно не 1911 года.
"Охота на призраков, – комментировал он свои действия. – Этап первый: поиск материальных свидетельств. Находка: кирпич неопределенного возраста, пластиковая бутылка из-под 'Балтики 9' и дохлый воробей. Богато. Прямо клад для антрополога будущего, изучающего культуру «Россия начала XXI века: эпоха синего сайдинга и пластика»."
Он спустился по склону поближе к реке. Лед у берега был покрыт снегом, но ближе к середине виднелись темные пятна. "Вот она, Томь, – подумал он. – Река, на которой привиделся мне тот змей. Теперь тут только лед и тоска. Никаких мистических знаков. Только, может, трещина, похожая на вопросительный знак. Что вполне символично."
Внезапно его внимание привлекло что-то на старом бетонном блоке, валявшемся у самой воды. Кто-то вывел краской нечто, отдаленно напоминающее спираль или… нет, скорее просто мазня. Но приглядевшись, Артём увидел в хаосе линий контур, похожий на хвост, закрученный в кольцо. Совсем как на его карте. Совсем как в видении.
"Вот те на, – пробормотал он. – Граффити-пророчество. Или местные гопники увлекаются алхимией? Вариант: кто-то видел мое видение и решил его запечатлеть. Краской. На бетоне. Как водится."
Он достал телефон, чтобы сфотографировать находку. В этот момент раздался громкий, недовольный лай. Из-за угла ближайшего гаража выскочила крупная, лохматая собака неопределенной породы и цвета. Она не была на цепи. И выглядела крайне недружелюбно.
– А вот и местный босс, – констатировал Артём безо всякого удивления. – Рекс, привет. Я мирный антрополог, изучаю древние граффити. Не кусайся… хмм… пожалуйста? Тебе бутерброд?
Собака, не вдаваясь в дипломатию, рыкнула и сделала предупредительный выпад. Артём, не раздумывая, рванул вверх по склону. Его три свитера и сумка с термосом резко стали казаться непозволительной роскошью.
"Беги, Артём, беги! – мысленно кричал он сам себе. – Твоя судьба – не быть сожранным дворнягой на берегу Томи в процессе поисков мифического креста! Это залог на получение премии Дарвина!"
Бег по глубокому снегу в гору с ревевшей следом собакой – то еще удовольствие. Артём пыхтел, спотыкался, чувствуя, как адреналин смешивается с абсурдностью ситуации. "Я, антрополог, ученый человек, между прочим… улепетываю от шавки по имени Шарик! Вот она, великая история в действии!"
К счастью, пес преследовал его недолго. Добежав до какого-то забора, он остановился, гордо облаял удаляющегося Артёма еще пару раз и важно удалился обратно к своим владениям. Артём, прислонившись к холодному профнастилу, отдышался. Сердце колотилось как бешеное.
"Фух, – мысленно выдохнул он. – Исследовательская миссия «Поиск Креста» успешно перешла в фазу «Спасение от Пса». Очков опыта, надеюсь, накапало. Хотя бы на уровень «Новичок в Беге по Сугробам»."
Он решил обойти пустырь с другой стороны, подальше от гаражей и потенциальных сторожевых псов. Тут местность была еще более заброшенной. Заросли бурьяна выше человеческого роста, торчащие из-под снега, как кости доисторического зверя, остатки кирпичного фундамента какого-то снесенного барака, кучи битого стекла и кирпичей.
«Романтика, – констатировал про себя Артём, продираясь сквозь сухие стебли лопухов и крапивы. – Прямо декорации для постапокалиптического хоррора. Жду, когда из-под снега вылезет зомби в телогрейке и замычит: «Мооои кирпичиии…"
Он наткнулся на небольшое углубление в земле, частично заваленное мусором. Место выглядело странно ровным на фоне окружающего хаоса. «Интересно, – подумал он. – Может, тут и был фундамент? Или яму копали? Или… о, святое место! Помойка священная!» Он все же попытался представить здесь высокий деревянный крест. Не получалось. Место казалось слишком уж обыденно-заброшенным.
"Ну что, «Петров крест», – мысленно обратился он к пустоте. – Где твоя тень? Когда она должна лечь? Может, это тень от той вон заводской трубы? Или от меня? Прям сейчас падаю, вот она моя тень! Путь открылся? Нет? Жаль. Может, чаю попить?"
Он нашел относительно чистый, не заваленный снегом валун, отряхнул его и присел, доставая термос. Пар от горячего чая приятно щипал лицо. Артём осматривал окрестности. Тишина. Только далекий гул завода да карканье вороны где-то наверху. Никаких духов, никаких знамений. Только промзона, снег и чувство легкого разочарования, смешанного с облегчением.
"Ну что ж, – резюмировал он про себя. – Экспедиция завершена. Результаты: подтверждено наличие пустыря, березок, реки и агрессивной собаки. Крест не обнаружен. Тень не легла. Путь никуда не открылся. Зато бутерброды отличные. Бабушка бы одобрила." Он чувствовал себя немного глупо, но и это чувство было знакомым и почти уютным по сравнению с архивными откровениями.
В этот момент из-за кучи битого кирпича появилась фигура. Старик. Очень старый. Ну прям очень и очень старым. Лицо, изрезанное глубокими морщинами, как старая карта неизвестных земель. На нем была потертая телогрейка, шапка-ушанка с оторванными ушами и валенки, обмотанные веревками. В руке – пустая бутылка из-под портвейна. Он шагал медленно, пошатываясь, и что-то бормотал себе под нос.
Увидев Артёма, старик остановился. Его мутные, белесые глаза уставились на него с нездоровым интересом.
– Молодой-то… – прохрипел старик, подходя ближе. От него несло дешевым вином и немытым телом. – Чего ищешь? Золотишко? Али клад?
– Крест ищу, дед, – ответил Артём, стараясь говорить спокойно. – Деревянный. Петров. Говорят, тут стоял.
Старик засмеялся, звук напоминал скрип несмазанных ворот. – Крест? Пфф… Снесли давно. Как и все… Все снесли… – Он махнул рукой в сторону завода. Потом прищурился, вглядываясь в Артёма. – Ты… не здешний. Чужая кровь… Чужая…
Артём напрягся. – Чужая?
– Кровь… – старик ткнул пальцем в его сторону. – Она… помнит. Помнит долг! Духи… они не спят! Они ждут! – Он вдруг закашлялся, долго и мучительно. Потом вытер рот рукавом и продолжил, его голос стал тише, почти шепотом, но почему-то от этого еще более жутким. – Тень… скоро ляжет… Ляжет на крест… настоящий… Не на этот… на тот, что внутри… Понимаешь? Внутри!
Артём смотрел на старика. Рациональная часть мозга кричала: – Бред сивой кобылы! Алкогольная энцефалопатия в чистом виде! – Но по спине снова побежали те самые предательские мурашки. Слова "кровь", "духи", "тень", "долг" – они били точно в цель, повторяя слова с фотографии и из летописи. Слишком много совпадений для простого бомжа.
– Какой крест внутри, дед? – осторожно спросил Артём. – О чем ты?
Но старик, видимо, исчерпал запас связных мыслей. Он покачал головой, бормоча что-то неразборчивое про "слепых", "огонь" и "не верь", потом резко повернулся и заковылял прочь, увязая в снегу и продолжая свой монолог для невидимых собеседников.
Артём смотрел ему вслед. – Ну вот, – подумал он с нервной усмешкой. – Бонусный уровень квеста пройден: «Получение пророчества от местного оракула в состоянии алкогольного транса». Сюжет явно толкают вперед. Скоро, наверное, кат-сцена с драконом или хотя бы с дворником с метлой.
Он допил чай, чувствуя, как абсурдность ситуации вытесняет мистический трепет. – Крест внутри? – переспросил он себя. – Что, в сердце? В душе? В багажнике той разбитой «девятки» за углом? Вариантов много. Все идиотские.
Солнце уже клонилось к горизонту, отбрасывая длинные синие тени. Пора было возвращаться. Артём встал, потянулся, окинул пустырь последним взглядом. Его взгляд упал на лед у самого берега, где снег немного растаял под скудными лучами солнца. Там, на гладкой поверхности льда, проступил узор. Тонкие линии трещин и замерзшие пузырьки воздуха сложились в причудливый рисунок. И опять – извивающийся контур. Змей, кусающий себя за хвост. Уроборос. Четкий, как будто нарисованный невидимой рукой.
Артём замер. Сердце на секунду сжалось. Он быстро моргнул. Узор не изменился. Он подошел ближе, наклонился. Да, это было невообразимо, но это было там. На льду. Совершенно естественно, но абсолютно узнаваемо.
– Ладно, – тихо сказал он льду. – Ты победил. Два раза – это уже система. Знак принят. Но это не значит, что я верю в духов, долги крови и прочую лабуду. Это… совпадение. Игра света. Кристаллизация льда по законам физики, просто принявшая странную форму. Ага. Именно так. Вообще, все закономерно. Люди видят символы и знаки и придают им мистические функции. Значит змея видел не только я, вот и все. Что тут его рисует? Течение?
Он выпрямился, отвернулся от реки и твердым шагом направился обратно к остановке. В голове стучало: "Кровь помнит. Духи ждут. Тень ляжет. Крест внутри. Не верь слепым…"
– Заткнись, глупый внутренний голос, – приказал он себе. – Сейчас главное – успеть на маршрутку. А потом – горячий душ, учебник по тотемизму и полное забвение этого… этого ярского трипа. Чисто антропологическое частное исследование завершено. Результаты отрицательные. И точка. К лешему его!
Но когда он сел в маршрутку, грея окоченевшие руки у теплого дефлектора, он поймал себя на том, что мысленно рисует карту. От Томска – к истоку Кети. К тому месту, где на бумаге был выжжен Змей. И почему-то фраза "ты не последний" звучала уже не как абстракция из прошлого, а как что-то… личное.
Путь, возможно, и не открылся сегодня в Ярском. Но следы, казалось, уже вели куда-то дальше. Глупее, опаснее и абсолютно нерационально. Артём вздохнул, глядя в запотевшее окно на мелькающие огни уходящего поселка. "Да е мое… Антрополог Туманов, ты явно влип."
Глава 2: Архивные страницы
Артём Туманов выковыривал засохшую крошку чёрного хлеба из-под клавиши «Enter» своего старенького ноутбука. Специальным инструментом – скрепкой, разогнутой в тонкую упругую проволоку. Действо требовало концентрации, почти хирургической точности. Идеальный способ не думать о вчерашнем дне. О Ярском, промозглом ветре с Томи, лохматой собаке-терминаторе и особенно – о ледяном Уроборосе, проступившем на серой глади реки, как шрам на совести реальности.
"Полевая заметка №1, – мысленно диктовал он, поддевая упрямую крошку. – Объект исследования: локация «Пустырь в Ярском». Цель: верификация устной традиции о существовании «Петрова креста». Результаты: материальные свидетельства отсутствуют. Обнаружены: а) граффити неустановленного возраста с абстрактным символом (интерпретация: вероятно, подростковый вандализм или арт-акция местного значения); б) агрессивная особь Canis lupus familiaris (интерпретация: стандартный элемент постсоветского ландшафта); в) информант в состоянии алкогольной дезориентации (интерпретация: источник недостоверный, хотя и колоритный). Вывод: легенда о кресте не подтверждена артефактами. Рекомендации: закрыть тему."
Крошка наконец сдалась, вылетела на крышку ноутбука. Артём сдул её. "Ага, закрыть. Как дверь в морозильник." Вчерашний ледяной знак упрямо маячил в памяти. Совпадение? Конечно. Игра света, кристаллизация, особенности течения. Наука знает миллион объяснений. Он знает три. Остальные девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот девяносто семь просто не пришли в голову. Пока.
Он щелкнул мышкой, открыв файл с черновиком диплома. «Погребальные обряды селькупов: трансформация в условиях урбанизации». Курсор мигал на чистом месте. Дедлайн – через три недели. Его научный руководитель, профессор Галина Викторовна Морозова, женщина, чей взгляд мог заморозить кипящий чайник, ждала внятного продвижения. А он копался в бабушкином комоде и бегал от дворняг по промзонам. Гениальная стратегия. Прямо путь к красному диплому и блестящей академической карьере. "Карьера дворового антрополога, специалиста по помойкам и граффити, – съязвил он про себя. – Степень кандидата наук по изучению поведения бомжей в условиях сибирской зимы. Перспективно."
Встал, костяшки пальцев хрустнули. Три свитера – базовый, флисовый и грубый шерстяной свитер деда – создавали ощущение легкой бронированности, но скрипели при движении, как старая кожа. "Экипировка исследователя аномальных зон, версия «эконом», – подумал он, наливая в термос крепкого чая из заварника, пахнущего вечностью и дешевым чайным пакетиком. Сегодняшний маршрут был предсказуем и скучен: университет, архив Научной Библиотеки ТГУ, она же НБ ТГУ, на проспекте Ленина. Храм фактов. Цитадель рациональности. Туда, где мистике было не место по определению. Туда, где он мог снова стать просто студентом Тумановым, а не… кем он себя начал чувствовать после той проклятой фотографии.
Двери НБ ТГУ встретили его знакомым гулом тишины, нарушаемым лишь шелестом страниц да отдаленными шагами. Воздух был сухим, прохладным. Тут было атмосферно и спокойно. Артём направился к стойке информации в отделе рукописей и редких книг.
– Пропуск, – произнесла женщина за стойкой, не поднимая глаз от монитора. Голос ровный, без интонаций, как диктофонное сообщение. На бейдже значилось: «Ирина Петровна. Ведущий библиограф».
Артём протянул студенческий и читательский. Ирина Петровна взглянула, сравнила фото, где он был помоложе и явно оптимистичнее, с оригиналом, ткнула пальцем в журнал регистрации. – Распишитесь. Цель визита?
– Работа над дипломом. Фонды по истории Томской губернии, конец XIX – начало XX веков. Особенно интересны документы городского управления, метрические книги, возможно, личные фонды… – начал он.
– Опись фондов в каталоге. Заполните требование, – перебила она, протягивая бланк. Ее пальцы были длинными, тонкими, с безупречно подстриженными ногтями. Руки архивариуса. Инструменты для обращения с хрупким прошлым.
Артём заполнил бланк, стараясь писать разборчиво. Тема: История городской топонимики и утраченных памятников, на примере легенды о «Петровом кресте» в поселке Ярском. Научно. Корректно. Нормальная формулировка. Сухая, как пыль на стеллажах.
– Сумку – в камеру хранения, – скомандовала Ирина Петровна, приняв бланк. – В зал – только карандаш, бумага, ноутбук. Перчатки обязательны при работе с оригинальными документами до 1945 года, – Она указала на коробку с белыми хлопковыми перчатками у входа в читальный зал. – Фонд 172, опись 3, дела 45-48 – документы Томской городской управы, земельные вопросы, отводы участков. Фонд 431, опись 1 – метрические книги Томского уезда за 1890-1915 гг. Фонд 89 – личный фонд краеведа С.И. Мальцева. Его материалы по селам вокруг Томска. Вам повезло, дела расставлены. Ждите у стола №5.
Читальный зал отдела напоминал скорее лабиринт. Высокие стеллажи из темного металла, до самого потолка, образовывали узкие коридоры. Между ними – массивные деревянные столы, освещенные матовыми лампами дневного света, вмонтированными в полки стеллажей выше. Свет падал холодными, ровными прямоугольниками на столешницы, оставляя углы столов и проходы между ними в полумраке. Воздух был еще холоднее, чем в фойе. Батареи где-то тихо шипели, но их тепло тонуло в этом пространстве, предназначенном для сохранения, а не для комфорта живых. Несколько человек сидели за столами, склонившись над папками, их лица в тени казались сосредоточенными масками. Тишина была густой, почти осязаемой, нарушаемой лишь редким шорохом страницы, скрипом стула или сдержанным покашливанием.
Артём занял указанное место у стола №5. Через несколько минут к нему подошла девушка-дежурная, везя тележку с двумя толстыми папками в коленкоровых переплетах и несколькими коробками с карточками. – Фонд 172, опись 3, дела 46 и 47. И картотека Мальцева по селам. Осторожно, бумага хрупкая, – прошептала она, ставя материалы перед ним. Артём кивнул, надел перчатки. Ткань была тонкой, но ощутимо мешала тактильному контакту с бумагой, делая его опосредованным, дистанцированным. Как будто прошлое можно было изучать только через защитный барьер.
Он открыл первую папку. Дело №46: "Переписка Городской Управы с Земским Начальником 2-го участка Томского уезда о размежевании земель под сенокосы и выгоны близ села Ярское. 1905-1907 гг.". Страницы, исписанные аккуратным канцелярским почерком чернилами, поблекшими до коричневого. Планы, схемы, списки домовладельцев. Артём методично листал, делая пометки в блокноте карандашом. Имена, фамилии: Петров, Сидоров, Козлов… Ничего необычного. Упоминаний о кресте, разумеется, нет. Земельные споры – вот реальная религия того времени.
"Петров крест… Петров крест… – мысленно бубнил он, переходя к делу №47. "Жалобы жителей с. Ярское на захват городской земли под свалку мусора. 1912-1914 гг." Вот он, корень проблем Ярского! Уже тогда. Свалка. Ирония истории. Жалобы были написаны более нервным почерком, с кляксами. "А сего числа, чиновники городские, приехав, отвели под свалку место рядом с Крестом Петровым, коий издревле почитаем..." Артём замер. Вот оно! Упоминание! Мимоходом, в контексте жалобы на свалку, но оно было. "...место рядом с Крестом Петровым…" Значит, крест был. Реальный географический ориентир в 1912 году. Не просто легенда.
Он аккуратно переписал фразу в блокнот, отметив номер дела и листа. Маленькая победа. Научная. Осязаемая. Никакой мистики. Просто факт, зафиксированный в канцелярской переписке. Он почувствовал прилив профессионального удовлетворения. Вот ради этого стоило копаться в архиве. Чтобы вытащить из небытия крохотный кусочек подлинной истории, пусть даже это была всего лишь жалоба на свалку.
Перешел к картотеке С.И. Мальцева. Краевед-энтузиаст начала XX века собирал все подряд: вырезки из газет, заметки о престольных праздниках, записи бесед со старожилами, зарисовки исчезнувших построек. Карточки были пожелтевшими, написаны разными почерками – видимо, сам Мальцев и его помощники. Артём начал просматривать раздел "Ярское (Ярск)".
"1910 г. Престольный праздник в честь Иоанна Предтечи. Крестный ход от церкви до Петрова креста…" – гласила одна карточка. "Из беседы со ст. жителем П.И. Голубевым (1870 г.р.): "Крест Петров стоял на бугре, над самым обрывом к Томи. Высотой в три человеческих роста, лиственничный, с крышечкой. Старики говорили, поставил его еще первый поселенец, мужик Петр, беглый, с Волги. Место считалось…" Запись обрывалась. Следующая карточка была о сенокосе. Артём вздохнул. Вечное "многоточие" истории.
Он листал дальше. Заметки о ценах на овес, о пожаре в двух домах, о приезде земского начальника… И вдруг глаз зацепился за фамилию. Не на карточке о Ярском, а в разделе "Томск. Городские жители. Списки (выборочно)". Карточка была аккуратно заполнена чернилами: "Туманов, Антон Николаевич. Мещанин. Домовладение: набережная р. Ушайки, уч. 15 (быв. дом купца Смирнова). Семья: жена Пелагея (урожд. Козлова), сын Дмитрий (1900 г.р.). Примечание: пропал без вести осенью 1918 г. Дальнейшая судьба неизвестна. Ист.: Городская управа, списки домовладельцев; опрос соседей, 1924 г. (зап. Мальцева)".
Артём замер. Карандаш в его руке дрогнул, оставив маленькую точку на чистой странице блокнота. "Туманов. Антон Николаевич." А.Н. Туманов. Не Туманин, не Туманский. Туманов. Как он. Ну то есть фамилия такая же. Антон Николаевич. А.Н. Инициалы – как на обороте фотографии. И как его собственные – Артём Николаевич.
"Совпадение, – немедленно прозвучало у него в голове. – Фамилия не уникальная. Тумановых – как грязи. Особенно в Сибири. Антон – распространенное имя. Николаевичей – тоже. Просто совпадение. Статистическая погрешность."
Но сердце почему-то стукнуло гулко, как будто пытаясь выбить эту мысль. Он перечитал карточку еще раз. "Пропал без вести осенью 1918 г." Разгар Гражданской войны. Томск переходил из рук в руки. Пропасть без вести – обычное дело. Дом на набережной Ушайки… Артём знал этот район. Старые купеческие дома, часть уцелела. Участок 15… Он мысленно представил карту. Недалеко от того места, где он сейчас сидел.
"Интересно, – заставил себя подумать он, стараясь сохранить спокойный, аналитический тон. – Еще один Туманов в Томске начала века. Возможно, дальний родственник? Бабушка говорила, что корни у нас сибирские, крестьянские, но мещанин – это уже городское сословие. Надо будет проверить по метрическим книгам, может, удастся проследить ветку. Для генеалогического древа. Чисто научный интерес." Он аккуратно переписал все данные с карточки в блокнот, отметил шифр картотеки. Рука была чуть менее твердой, чем обычно. Затем достал телефон, сфотографировал карточку крупным планом. "Для дальнейшего изучения."
Он отложил картотеку Мальцева и потянулся к коробке с метрическими книгами Томского уезда (Фонд 431). Тяжелый фолиант в потрепанном кожаном переплете. "Книга записей браков, рождений, смертей по Томскому уезду. 1910 год." Он искал записи о Тумановых. Перелистывал страницы с колонками аккуратного церковно-славянского письма. Рождения… Смерти… Браки… Вот раздел "Браки". Июль 1910 года. Имена жениха и невесты… Поручители… Священник…
Артём замер. Напротив одной из записей, в самом низу страницы, аккуратным, но явно поздним почерком (не церковным, а светским, похожим на почерк Мальцева или его помощников) была сделана пометка на полях: "Свид. Григ. См. дело о зем. отводе Ярск. 1911 г. странно".
Странно? Что странно? Сама запись о браке выглядела обычной: мещанин Федор Игнатьевич Соколов бракосочетается с мещанской девицей Анной Петровной Беловой. Никаких Тумановых. Поручители – тоже другие люди. При чем здесь "Григ." и земельный отвод в Ярском 1911 года? И почему "странно"? Артём почувствовал легкое раздражение. Эти маргиналии, эти загадки прошлого… Они как крошки под клавишей – мешают сосредоточиться на главном.
Он перевернул страницу. И ахнул. На обратной стороне листа, прямо напротив пометки, к бумаге прилип небольшой, не больше ногтя, кусочек темно-красного сургуча. Очевидно, когда-то здесь была прикреплена печать, и кто-то неаккуратно ее оторвал. Артём осторожно, в перчатке, прикоснулся к нему. Сургуч был твердым, холодным. И на его сломанной поверхности… угадывался рельеф. Не герб, не вензель. Четкий, глубоко вдавленный контур – часть изогнутого тела и кольцо хвоста. Уроборос. Тот самый знак.
"Черт побери!" – мысленно выругался Артём, отдернув руку, как от огня. Сердце опять стукнуло невпопад. Это было уже слишком. Слишком навязчиво. Граффити в Ярском, лед на Томи, а теперь вот – кусочек печати со змеем в метрической книге 1910 года, прилепившийся напротив загадочной пометки про "Григ." и Ярское? "Совпадение, – отчаянно повторял он про себя. – Кусок сургуча отвалился от какой-то другой бумаги и прилип сюда случайно. Знак… ну, просто узор. Могли же поставить какую угодно печать. Может, у нотариуса был такой штамп? Или у землемера?"
Но рационализации звучали натянуто даже для него самого. Он осторожно, пинцетом, который всегда носил с собой для работы с хрупкими документами, поддел крошечный фрагмент сургуча. Тот легко отделился. Артём положил его в маленький бумажный конвертик, который нашелся в кармане блокнота. "Вещественное доказательство случайного загрязнения архивного документа, – мысленно обозначил он. – Образец сургучной печати начала XXвека. Для возможного анализа." Он засунул конвертик в блокнот.
Работать дальше было невозможно. Мысли путались. Фамилия "Туманов". Инициалы "А.Н.". Пометка "Григ." и "Ярск". Кусок печати со змеем. И над всем этим – тень того старика из Ярского, бормочущего о крови и духах. Артём аккуратно сложил документы, вернул их дежурной. "Спасибо. На сегодня все."
На прощание он столкнулся у выхода с профессором Морозовой. Она как раз сдавала какие-то папки.
– Артём Николаевич, – кивнула она, ледяные глаза скользнули по нему. – Продвижение? Архив – не место для праздных фантазий. Документы требуют сосредоточенности. Напоминаю, время поджимает. Структуру глав жду к пятнице. – Ее взгляд не обещал пощады за срыв дедлайнов.
– Работаю, Галина Викторовна, – постарался ответить ровно Артём. – Нашел интересные детали по городскому землепользованию начала века. Уточняю контекст.
– Контекст – это хорошо, – отрезала она, поправляя очки. – Но не увлекайтесь маргиналиями. Факты, Артём Николаевич, факты и анализ. А не домыслы о призраках прошлого. – Она сказала это без тени иронии, совершенно серьезно, словно предостерегая от реальной опасности. Или просто считая его склонным к ненаучным бредням. Артём промямлил что-то вроде "конечно" и поспешил к камере хранения за своей сумкой.
На улице ударил холод. Артём сунул руки в карманы дубленки, стараясь согреть пальцы. В правом кармане пальто он нащупал бумажный конвертик. Достал его, развернул. Крошечный кусочек темно-красного сургуча лежал внутри. Он вытряхнул его на ладонь, уже без перчаток. Сургуч был гладким с одной стороны, со сломом – с другой. Он прижал подушечку большого пальца к рельефному месту – к тому самому фрагменту кольца. И почувствовал легкое покалывание, почти как от статического электричества. Отдернул палец. На подушечке осталось четкое, крошечное темно-красное пятнышко. Как отпечаток. Часть круга и хвост змеи.
Артём попытался стереть его о ткань брюк. Пятно побледнело, но не исчезло. Оно въелось в кожу, как татуировка миниатюрой. Под ногтем забилась красноватая пыль. Он сжал кусочек сургуча в ладони, чувствуя его твердую, холодную неровность, и сунул обратно в конверт, а конверт – глубоко в карман.
Он шел по проспекту Ленина, мимо освещенных витрин и спешащих людей. Холодный воздух обжигал лицо, но он его почти не чувствовал. В голове стучало: "Антон Николаевич Туманов. Дом на набережной реки Ушайки. Пропал без вести. 1918 год." И – "Григ. Ярск. 1911. Странно". И кусочек сургуча, оставивший след на пальце. Физический след. Который он не мог стереть до конца.
"Перепроверить по спискам, – решительно сказал он себе, глядя на красноватое пятнышко на подушечке пальца. – По всем спискам. Городским, церковным, переписным. Найти этого Антона Николаевича. Его семью. Его дом. Чисто научный интерес. Ради генеалогии. Ради фактов." Он сунул палец в карман, сжал его в кулак, будто пытаясь спрятать улику. След был маленьким, но упрямым. Как змей, кусающий себя за хвост. Замкнутый круг вопросов только начинался.
Глава 3: Кости и камни
Поезд «Томск-Абакан» полз сквозь сибирскую ночь, словно усталый зверь по глубокому снегу. Артём Туманов, прижатый к холодному стеклу вагона плацкарта, наблюдал, как в темноте мелькают редкие огоньки деревень, похожие на угли, брошенные в черную бездну. Он кутался в свой верный шерстяной свитер деда (слой №2, базовый – термобелье, слой №3 – дубленка сверху как броня) и пытался убедить себя, что эта поездка – верх рациональности.
«Диплом, Артём, – мысленно бубнил он, – «Погребальные обряды селькупов: трансформация в условиях урбанизации». Хакасия, Абакан. Центр хакасской культуры. Музей имени Кызласова – кладезь экспонатов. Надо же посмотреть аутентичные артефакты, а не картинки из «тырнета». Никакой мистики. Чистая наука. И точка.» Он даже потрогал пальцем то место на ладони, где въелось крошечное красное пятнышко от сургучной печати со змеем. Оно почти исчезло, но подушечка пальца все еще чуть почесывалась. «Аллергия на архивную пыль. Или на собственную глупость. Варианты равнозначны».
Путешествие длилось вечность. Соседи по купе – дед с вечно мокрым кашлем, молодая мама с орущим младенцем и студент, уткнувшийся в ноут, – создавали какофонию, против которой даже скрежет колес казался музыкой. Артём пытался читать статьи по селькупскому тотемизму, но слова расплывались. Вместо них перед глазами вставали: ледяной Уроборос на Томи, безумные глаза ярского старика, карточка с именем «Антон Николаевич Туманов» и этот проклятый кусочек сургуча. Он судорожно потянулся за термосом. Чай был уже холодным и горьким. «Идеально под настроение. Антропологический эквивалент энергетика – без энергии, зато с горечью познания».
Серым, промозглым утром они наконец оказались в Абакане. Вокзал – типичное советское наследие из бетона и стекла, оживленное толпой в разношерстной зимней одежде. Выхлопы десятков машин наполняли воздух неприятным адором. Город раскинулся в широкой долине, обрамленной невысокими, сглаженными временем горами. Архитектура, как и во многих городах Сибири, составляла эклектичный винегрет: старые деревянные домишки, пятиэтажные «хрущевки», современные торговые центры с кричащими вывесками и посреди всего этого парадоксально выделявшееся – здание республиканской филармонии, напоминающее гигантский белый рояль.
«Привет, Абакан, – мысленно произнес Артём, спускаясь по ступенькам вокзала. – Город на стыке степи и тайги. Русских и хакасов. Истории и… и чего? Современного дизайна вроде того рояля? Интересно. Чисто антропологически интересно.» Он поймал маршрутку до центра. Цель номер один – гостиница «Абакан», недорогая и, по отзывам, с горячей водой. Цель номер два – Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова. На Пушкина. Таковы факты. Артефакты. Спасение для диплома и, возможно, спасение от навязчивых мыслей.
Музей оказался солидным зданием, недавно отреставрированным. Широкие ступени, колонны у входа. Внутри – просторные залы, приглушенный свет, тишина, нарушаемая лишь шагами редких посетителей и тихими голосами экскурсоводов. Артём купил билет, получил в гардеробе номерок и, вооружившись блокнотом и карандашом, двинулся навстречу истории Республики.
Первый зал – древность. Каменные изваяния, менгиры, стелы с выбитыми личинами. «Окуневская культура, – читал Артём пояснительные таблички. – Эпоха бронзы. Антропоморфные стелы – вероятно, изображения духов предков или мифических существ». Он подошел к одной из стел. Грубо высеченное лицо с огромными круглыми глазами смотрело в пустоту. Казалось, в камне застыл немой вопрос. Артём почувствовал легкий холодок, исходящий от древней поверхности. «Воображение, – отрезал он себе. – Или сквозняк. Музейный, стандартный».
Он методично осматривал витрины: каменные топоры, наконечники стрел, керамика с геометрическим орнаментом. Все логично, все укладывалось в канву истории древних кочевников. Потом зал раннего железа. Тагарская культура. Знаменитые «скифские» курганы Хакасии. В витринах сверкали золотые бляшки в зверином стиле: олени, кони, грифоны. И вот тут его взгляд зацепился.
Витрина с предметами конской упряжи. Стремена, удила, накладки на седло. Бронза, железо. И одно стремя, явно более позднее, но все же древнее, инкрустированное серебром. На его широкой пластине был выгравирован орнамент. И в центре этого орнамента… извивающаяся фигура, замкнутая в кольцо. Уроборос. Четкий, стилизованный, но узнаваемый. Змей, кусающий себя за хвост.
Артём замер. Сердце стукнуло разок громче обычного. «Совпадение, – немедленно сработал внутренний рационализатор. – Уроборос – древний универсальный символ. Вечность, цикличность. Вполне логично, что кочевники его использовали. Особенно в конской сбруе – символ вечного движения? Или просто красивый узор. Да, именно так.» Он сделал в блокноте пометку: «Стремя таштыкской культуры (?) с инкр. серебром. Орнамент – стилиз. змея, кольцеобразная композиция. Возм. символ цикличности/вечности. Сравнить с общесибирскими аналогами.» Сухо. Научно. Без лишних «ой».
Но тревожное щемящее чувство не уходило. Оно усилилось в следующем зале, посвященном русскому освоению Сибири. Карты, макеты острогов, оружие, предметы быта первых переселенцев. И вдруг – портрет. Небольшая гравюра в деревянной раме. Молодой мужчина в мундире офицера Русской Императорской армии. Лицо… Артём подошел ближе. Высокие скулы, прямой нос, темные, очень внимательные глаза. Почти как у того человека на бабушкиной фотографии. И на груди мундира – орден. На ордене, если приглядеться, угадывался не двуглавый орел, а… та же извивающаяся фигура. Стилизованный дракон или змей в кольце.
«Ну все, – подумал Артём с нарастающей паникой. – Галлюцинации пошли. Или я везде теперь змей вижу? Это просто орден Святого Станислава, что ли? Или Анны? Там вроде кресты…» Он прочитал пояснительную табличку: «Портрет прапорщика Дмитрия Петрова. Участник походов в Хакасско-Минусинскую котловину. 1820-е гг. Из фондов музея». Фамилия не та. Но глаза… «Племянник, – отмахнулся Артём. – Или просто сибирский типаж. Скулы, нос – классика. Игра света на ордене. И точка.»
Он поспешил дальше, в зал этнографии хакасов. Яркие костюмы, шаманские бубны с рисунками духов, модели юрт. Здесь было легче дышать. Чужое, но понятное. Ритуалы, верования – его хлеб как антрополога. Он увлекся, делая зарисовки орнаментов на женских нагрудниках («пель»), сравнивая их с селькупскими узорами. Рациональность брала верх.
В зале, посвященном советскому периоду, его ждал новый сюрприз. Среди прочих экспонатов – фотография раскопок 1940 года. Черно-белый снимок: археологи у основания странного сооружения. Не курган, не изба. Каменные стены с характерной изогнутой крышей… напоминающей пагоду. Подпись: «Раскопки т.н. «дворца» Ли Лина на территории г. Абакана. 1940 г. Объект впоследствии утрачен».
«Китайский дворец? В Абакане? – удивился Артём. – Вот это поворот. Ли Лин… кто это? Перебежчик? Мифический персонаж?» Он записал название. Интересно, но не более. Исторический казус. Как и памятник Ленину в виде… пагоды? Он видел его по дороге в музей – странное бетонное сооружение на привокзальной площади, действительно напоминающее восточную башню, увенчанную бюстом вождя. «Архитектурный винегрет, – подумал он. – Прямо символ города на стыке всего.»
После нескольких часов в музее, с блокнотом, полным сухих заметок и зарисовок, Артём решил сделать перерыв. Он вышел в небольшой внутренний дворик музея, где под навесом стояли каменное изваяние, оно же «баба» – «Иней тас». Морозный воздух обжег легкие, но был свеж после музейной атмосферы. Он присел на холодную скамейку, доставая бутерброд.
Рядом, подметая уже и без того чистый асфальт метелкой из тальника, не спеша работал старик-смотритель. Лицо темное, словно вырезанное из старого дерева, в глубоких морщинах. Одет скромно, но опрятно: телогрейка, валенки и, как ни странно, шапка-ушанка. Он посмотрел на Артёма умными, живыми глазами, явно не соответствующими его почтенному возрасту.
Старик усмехнулся, обнажив беззубые десны. – Диплом… Хорошее дело. Только бумага все стерпит. А вот земля – нет. Она правду помнит. – Он взял метлу. – Ладно, батечка, не замерзай. А то духи холода шутят зло. Особенно с теми, кто не верит. – И он медленно заковылял прочь, поскрипывая валенками по асфальту.– Замерзли, батечка? – спросил он, сипловатым, но доброжелательным голосом. – Внутри-то теплее. – Да нет, воздухом подышал, – ответил Артём. – Интересно у вас тут. Особенно древности. Старик кивнул, прислонив метлу к каменной «бабе». – Место сильное. Испокон веков. Камни помнят. Кости земля хранит. Много родов тут кочевало, селилось. Сильные роды. Которые и след простыл. – Он вздохнул. – Как тот Ли Лин, с его палатами каменными. Сгинул, и дворца как не бывало. Только на картинке остался. – А кто он был? – спросил Артём, заинтригованный. – Кто его знает, – пожал плечами старик. – Беглец, говорят. От большой беды. От большой власти. Искал место, где его не достанут. Нашел? Вроде. Да только земля чужая редко привечает надолго. Особенно если кровь… сторонняя. – Он многозначительно посмотрел на Артёма. – Кровь она… она помнит. Долги помнит. Рода помнят. Даже если люди забыли. Или хотят забыть. Артём почувствовал, как по спине побежали знакомые мурашки. «Кровь. Долги. Рода.» Слова как из проклятого манускрипта его последних недель. – Какие долги? – осторожно спросил он. Старик махнул рукой. – Кто их знает. Старики говорили: были роды, что с землей договаривались. С духами гор, рек. Защиту, силу брали. А потом… договор нарушали. Уходили. Или их с корнем вырывало. А долг оставался. Висит. Ждет. – Он ткнул пальцем в небо. – Вот как тот дворец китайский. Стоял – и нет его. А земля помнит. Камня фундаментного где-нибудь в подвале музея лежит, чай. Молчит. Ждет. – Он снова взглянул на Артёма, и его взгляд стал пронзительным. – Ты, батечка, не здешний. Чужая кровь. Чужая? Или… забытая? Сюда потянуло неспроста. Камни зовут тех, чьи кости стерегут. Или чьи долги не уплочены. Артём съежился внутри. «Местный колорит, – отчаянно думал он. – Старики любят загадочности. Особенно для приезжих. Антропологический факт.» – Я… я просто диплом пишу, – пробормотал он. – По селькупам. Меня, можно сказать, и насильно сюда выпнули.
Артём сидел, ошеломленный. Бутерброд замерз в руке. «Духи холода. Камни зовут. Кровь забытая. Да он просто старый чудак!» Но рационализация не приносила облегчения. Слова старика ложились на уже подготовленную почву его тревог. Он встал, решив вернуться в музей, к безопасным витринам.
Вечером, вернувшись в гостиницу «Абакан», где его номер оказался скромным, но чистым, с работающим душем и скрипучей, но теплой батареей, Артём пытался привести в порядок записи. Но сосредоточиться не получалось. Он сидел у окна, глядя на огни ночного города. Внизу гудели машины, где-то далеко играла музыка. Обычная жизнь.
И вдруг… тень. Напротив, на стене соседнего здания, освещенной уличным фонарем. Тень от дерева? Но деревья были голые, а тень была плотной, движущейся. Она скользнула по стене – длинная, извивающаяся. Как гигантский змей. Всего на миг. И исчезла.
Артём замер. Сердце застучало. «Фары машины, – немедленно подсказал мозг. – Игра света. Или птица пролетела. Совы тут водятся?» Он встал, подошел к окну ближе, прижался лбом к холодному стеклу. Ничего. Только обычный городской пейзаж. «Усталость. Переутомление. Стресс от диплома и этой дурацкой поездки.»
Он принял душ, почти ошпарившись, пытаясь смыть ощущение нелепости и какого-то подспудного страха. Лёг спать. И почти сразу погрузился в странный, навязчивый сон.
Он шел по степи. Высокая, сухая трава шуршала о ноги. Вокруг стояли каменные изваяния – похожие на «Иней тас», но их личины были ожившими. Они смотрели на него пустыми глазницами, и из их каменных ртов лился шепот. Непонятный, древний. Он шел к чему-то большому, темному на горизонте. То ли кургану, то ли руинам. Над ним, в темно-синем небе, сияли незнакомые созвездия, складываясь в причудливые узлы. И он чувствовал, что должен попасть туда. Что его зовут. Изнутри зовут. Во сне это не пугало, а казалось… правильным. Он поднял руку, чтобы разглядеть ладонь, и увидел, что то самое красное пятнышко от сургуча светилось слабым, багровым светом.
Артём проснулся с резким вздохом. В комнате было темно. Часы на тумбочке показывали три часа ночи. Сердце колотилось. Он включил свет, ослепленный резкой лампочкой. Вскочил, подошел к зеркалу в ванной. Включил свет там. Внимательно посмотрел на свое отражение. Усталое лицо, растрепанные волосы, тени под глазами. Ничего необычного. Ладонь чистая. Пятнышко еле заметное, почти обычный след.
«Нервный срыв, – констатировал он себе, плеская ледяной водой в лицо. – На почве академического перенапряжения и недосыпа. Идиотизм полный. Бегать по музеям, слушать стариков-мистификаторов, видеть сны про каменных идолов…» Он чувствовал жгучий стыд. Стыд за свою слабость, за то, что поддался на эту дешевую мистику. Он был ученым! Антропологом! В двух шагах от диплома! Его оружие – факты, логика, анализ, а не сны и тени на стенах!
Он вернулся в комнату, сел за стол, где лежали его блокноты и распечатки. С отчаянной решимостью открыл папку с материалами для диплома. «Селькупы. Погребальные обряды. Вот реальность. Вот что важно.»
Но взгляд упорно скользил к отдельной папке, где лежали копии: надпись с фотографии, страница монастырской летописи, фотокарточки Антона Туманова, снимок сургучной печати… и распечатка из абаканского музея о стремени с Уроборосом и портрете прапорщика Петрова. Он открыл эту папку. Надо было систематизировать. Хотя бы для того, чтобы доказать себе абсурдность этих «совпадений».
Он разложил листы. Сравнивал символы. Уроборос с карты, выжженный у истока Кети. Уроборос на стремени в музее Абакана. Фрагмент на сургучной печати из метрической книги. Стилистика разная, но суть одна: замкнутый круг, змей. «Универсальный архетип», – упрямо твердил он. Сравнивал лица: мужчина на бабушкиной фотографии (1911 г.?), прапорщик Петров (1820-е гг.). Сходство? Общее сибирское строение лица? Или игра воображения?
Он искал в интернете информацию о «дворце Ли Лина» в Абакане. Скудные сведения: раскопан в 1940 году, кирпичная кладка, элементы, напоминающие китайскую архитектуру, но не типичные. Объект не сохранился, точное назначение неизвестно. Упоминания о беглом «китайском принце» – скорее легенда. Ничего о долгах крови или рода. «Мифология местного разлива», – вздохнул Артём.
И тут его взгляд упал на распечатку документа из фондов музея, который он сфотографировал в зале русской колонизации. Это была копия страницы из какого-то реестра земельных отводов начала XIX века. Сухой текст: «…отведено земли под сенокос мещанину города Красноярска…» И ниже, в списке свидетелей или поручителей: «…и Туманову А.Н., состоящему при комиссии…»
Туманов А.Н. Опять. В Абакане. В начале XIX века. За сто лет до «его» Антона Николаевича из Томска.
Артём вгляделся. Даты документа – 1805-1807 гг. Имя: «Алексей Никитич Туманов». А.Н. Но не Антон. Алексей. «Ну вот, – с облегчением подумал он. – Совпадение частичное. Инициалы те же, имя другое. Просто однофамилец. Или очень дальний родственник. Ничего удивительного в Сибири.»
Он уже хотел отложить бумагу, как его взгляд скользнул по тексту ниже. Была приписка, явно более поздними чернилами, возможно, музейного работника или архивиста: «Прим.: Любопытный экземпляр. В реестре Красноярского архива за тот же период упоминается как Алексей Николаевич Туманов. Ошибка писца? Или…? См. также фонд Р-ХХ по Романовым в Хакасии (?!), но там даты не сходятся.»
Артём перечитал приписку дважды. Алексей Никитич в этом документе. Алексей Николаевич – в Красноярске? Ошибка писца? Возможно. Но… «Фонд Р-ХХ по Романовым в Хакасии?!» С вопросительным и восклицательным знаком. Это что? Шутка архивиста? Описка? Романовы в Хакасии? В начале XIX века? Полный бред. Царская фамилия здесь не жила, не владела землями. Это было исторически невозможно.
Но сочетание слов «Туманов А.Н.» и «Романовы» в одном контексте, даже таком сомнительном, ударило его, как током. Он вспомнил слова ярского старика: «Кровь… чужая… или забытая». Вспомнил смотрителя музея: «Сильные роды. Которые и след простыл». Вспомнил старую фотографию и серьезный взгляд человека, который мог быть его… кем? Предком? Но Романовы? Это же абсурд! Полное безумие! Но это было до жути интересно! Если царская семья и вправду добралась до этих мест…
Он сидел в тишине гостиничного номера, глядя на разложенные перед ним бумаги – сухие свидетельства прошлого, которые вдруг сплелись в какую-то нелепую, тревожную паутину. Уроборосы, прапорщики с таинственными орденами, «китайские дворцы», старики, вещающие о долгах крови и зовущих камнях, тени на стенах, вещие сны… и вот теперь – Туманов А.Н. в контексте Романовых? Даже если это ошибка, сама возможность такой ошибки казалась интригующей.
Рациональный подход трещал по швам. Он чувствовал это физически – как напряжение в висках, как холодок в основании позвоночника. Стыд за свои «непрофессиональные» ощущения боролся с необъяснимым, нарастающим чувством связи. Связи с этими людьми из прошлого, с этими местами, с этой землей, которая, по словам стариков, «помнила». Он не верил в мистику. Он верил в факты. Но факты начинали вести себя странно, складываясь в узор, похожий на тот самый замкнутый круг.
Артём медленно собрал бумаги в папку. Руки слегка дрожали. Он посмотрел в окно. Над спящим Абаканом занимался новый день. Обычный. Сибирский. Но для Артёма Туманова он уже не был прежним. Поездка в Абакан перестала быть просто этапом дипломной работы. Она стала первой лопнувшей нитью в ткани его привычного мира. Даже без Тумановых, это все стало очень и очень интересным. Если он вскроет нечто новое в истории России… Артем почувствовал, как его ладони вспотели от волнения.
Мог ли он сейчас все бросить? «Черт! Ну проверить-то я должен! В конце концов, лучше сделать и жалеть, чем не сделать. Или как оно бишь говорится…?»
Сейчас он знал одно: его исследование только начиналось. И оно явно выходило далеко за рамки погребальных обрядов селькупов. Впереди был исток Кети. И Змей, который ждал его там.
Глава 4: Расщелина Старого Мира
Путь из Томска в сторону Кемерово начался с того, что томская маршрутка №27, на которой Артём ехал до автовокзала, застряла в сугробе на нечищенном переулке. Водитель, мужчина с лицом, выражавшим глубочайшую, экзистенциальную усталость от всего сущего, вышел, закурил, посмотрел на занесенный колеса и произнес:
– Ну, вот такой писец.
Это было настолько философски точно, что Артём даже проникся. Он вылез и помог толкать, утопая в снегу по колено и думая, что это, наверное, некий духовный практикум перед основным мероприятием. «Подготовка к просветлению через отчаяние и промокшие ноги», – мысленно заключил он, с трудом втискиваясь обратно в салон, от которого пахло мокрым собачьим мехом и дешевым табаком.
Автовокзал встретил его знакомым хаосом. Очереди к кассам, гул голосов, объявления о задержках рейсов из-за непогоды. Он купил билет до Юрги – ближайшего к его цели крупного узла. Рейс был всего через сорок минут. «Повезло, – подумал он, разглядывая в кафе при вокзале витрину с пирожками, цвет которых вызывал вопросы о их настоящем возрасте. – Или не повезло? Сложный вопрос. Если я еду навстречу своей гибели в тайге, то, наверное, не повезло. Но если пирожок с капустой старше меня, то шансы уравниваются».
Автобус оказался стареньким «ПАЗиком», дремавшим на площадке. Кондукторша, женщина с лицом, не предвещающим ничего хорошего, проверила его билет с таким видом, будто сверяла банкноту на подлинность.
– До Юрги, – бросила она, не глядя. – Садись, куда хочешь. Только не к бабке с курами, она у меня сзади. Перья летят, чихать будешь.
Салон встретил его коктейлем запахов: антифриз, бензин, лук и та самая курица, которая, судя по всему, не слишком хорошо переносила дорогу. Артём нашел свободное место у окна, оттер замерзший конденсат рукавом и уставился на томящийся пейзаж за стеклом. Пока автобус тащился по трассе Р255, белая пустота за окном медленно, но верно смывала остатки городской цивилизации. Бесконечные берёзовые перелески, заснеженные поля, изредка – темные островки тайги на горизонте. Снег валил густой, тяжелой пеленой, превращая мир в черно-белое кино с очень плохим сюжетом. С другой стороны, может оно и к лучшему было. Пейзаж вездесущих болот Томской области ему в целом приелся.
«Ну вот, – размышлял Артём, – едет Артём Туманов, антрополог-недоучка, навстречу своей судьбе. А судьба, судя по всему, – это замерзнуть насмерть где-нибудь у заброшенного лесопункта. Эпично. На моей могильной плите можно будет выбить: «Он искал смысл. Нашел гипотермию». Он достал термос, открутил крышку. Пар от горячего чая ненадолго скрасил уныние. Рядом тетка с авоськой, набитой свертками, что-то жевала, громко чавкая. «Сибирский гламур, – вздохнул про себя Артём. – Прям как в Инстаграме. Только без фильтров. И без смысла».
Через пару часов автобус, поскрипывая всеми своими многочисленными немолодыми суставами, свернул на заправку «Роснефть» у какого-то поселка с названием, стершимся от времени и соли на указателе. «Итатка», – прочитал Артём с трудом. Здесь ему нужно было выходить. Дальше – только попутки или свои обе ходули. Он вылез на холод, от которого все нутро вмиг скукожилось даже сквозь три слоя одежды. Автобус, фыркнув черным дымом, умчался в белую пелену, оставив его одного на обочине.
Метель тут, за пределами относительно оживленной трассы, чувствовалась совсем по-другому. Неприветливая, злая. Ветер свистел в проводах, идущих вдоль дороги, срывая с них игольчатые шапки инея. Артём поднял воротник, натянул шапку на лоб и побрел вдоль дороги, надеясь увидеть хоть какие-то признаки жизни. Через пятнадцать минут промозглого шагания ему повезло – из бокового переулка выполз видавший виды УАЗик-«буханка». Артём замахал руками, как потерпевший кораблекрушение.
В кузове действительно стояли клетки с беспокойно гогочущими гусями. Артём втиснулся на пассажирское сиденье. В салоне пахло бензином, махоркой и птичьим пометом. «Атмосферно, – констатировал он мысленно. – Прямо как книге, где главный герой едет с гусями навстречу погибели. Жаль, у меня нет крутого меча и трагической предыстории. Только диплом по селькупам и чувство глубокой безысходности от происходящего».УАЗик остановился. За рулем сидел мужик в телогрейке и ушанке, с лицом, обветренным до состояния невосприимчивости. – Куда? – прокричал он сквозь шум ветра. – До… до лесной дороги на Кеть, – выдохнул Артём, едва разжимая закоченевшие челюсти. – Садись. Только с курами не брезгуешь? Я птицу везу.
«Расщелина, – подумал Артём, и по спине побежали противные мурашки. – Вот и цель. Проклятое место. Как раз то, что мне нужно для полного счастья».Мужик за рулем оказался разговорчивым. – На Кеть? – переспросил он, крутя баранку. – Туда сейчас только отбитые ездят. Да и дорогу замело, поди. Охотники еще неделю назад вернулись, говорят, зверь глухой, ничего не берет. Метель спугнула. А ты чего там забыл? – Исследую, – уклончиво буркнул Артём. – Места там… странные, – продолжил мужик, не настаивая. – Старики говорят, земля там помнит. Всякое помнит. И не всегда хорошее. Войны там были, беглые скрывались… Кладбища старые, никому не ведомые. Духи, говорят, бродят. Особенно в такую погоду. Им холод нипочем. – Духи? – переспросил Артём, стараясь, чтобы в голосе звучала только вежливая заинтересованность, а не нарастающая истерика. – А то! – оживился водила. – То стон в лесу услышишь, то огонек меж деревьями мелькнет. А то и вовсе… тень какую невиданную увидишь. Моя покойная тёща, царство ей небесное, рассказывала, видела она раз в молодости у Кети всадника. Весь в черном, на черном коне, а лицо – как маска без глаз. И сквозь него деревья видны были. Испугалась, и деру дала. А он – за ней. Не скакал, а как плыл по воздуху. Чуть не загнал. Еле ноги унесла. С тех пор к той расщелине – а дело было у старого разлома, Расщелиной его зовут – и не ходит никто. Место проклятое.
Артём поблагодарил, сунул водителю пару сотен «за спасибо», тот кивнул и развернул свою «буханку», скрывшись в снежной круговерти. Артём остался один. Тишина, наступившая после урчания мотора, была оглушительной. Его закладывало уши. Только свист ветра в вершинах сосен да скрип снега под собственными ногами.УАЗик высадил его на развилке, где уходила в тайгу грунтовая дорога, больше похожая на заснеженную тропу. – Вон туда, – ткнул пальцем мужик. – Километров пять, не меньше. До первого кордона. Если он еще стоит. Смотри, не заплутай. А то помрешь, как тот всадник тёщин явится. Хах. Всадник! Ну бывай!
Он достал телефон. Прием, разумеется, пропал. Навигатор показывал пустой экран с надписью «Нет сигнала». «Спасибо, дорогой смартфон, – мысленно произнес Артём. – Ты всегда вовремя превращаешься в самый дорогой в мире кирпич. Ладно, выручай, бумажная карта». Он развернул распечатку со спутниковым снимком местности, сделанную еще в Томске. Тропа должна была идти вдоль ручья, потом повернуть на северо-восток… В теории. На практике все вокруг было белым, однообразным и абсолютно негостеприимным.
Он двинулся в путь. Первые полчаса были даже бодрыми. Снег хрустел, воздух был холодным и чистым, дышалось легко. «Ничего сложного, – обманывал себя Артём. – Древние люди без GPS жили, и ничего. Правда, они в шкуры одевались и знали местность как свои пять пальцев. А я – студент культурологии в трех свитерах. Но мелочи!»
Еще через час бодрость сменилась усталостью. Ноги начали ныть, спина – затекать от тяжести рюкзака. Снег стал глубже, местами по пояс. Приходилось буквально продираться сквозь сугробы, тратя уйму сил. «Да, – думал он, останавливаясь передохнуть, опираясь на колени. – Вот так и умру. Меня найдут весной грибники. Лежит, бедолага, с выражением глубокой обиды на лице и с дипломом по селькупам в рюкзаке. Напишут в газете: «Трагически погиб, занимаясь полевыми исследованиями». А на деле – просто идиот, который пошел не туда и заблудился в трех соснах».
Метель не утихала. Наоборот, ветер усиливался, залепляя лицо колючей снежной крупой. Видимость упала до пары десятков метров. Ориентиры, которые он с трудом угадывал по карте – кривая сосна, каменная гряда, – тонули в белой мгле. Он сбился с пути. Это стало ясно, когда он вышел к замерзшему ручью, которого на карте не было. «Ну вот. Прекрасно. Просто замечательно. Теперь я официально потерялся. Поздравляю себя с этим выдающимся достижением».
Он попытался вернуться по своим следам, но их уже заметало с пугающей скоростью. Паника, холодная и липкая, начала подбираться к горлу. Он заставил себя дышать глубже. «Паника – плохой советчик. Особенно когда вокруг минус двадцать и тонны снега».
Он решил идти вдоль ручья – вода обычно ведет к чему-то. Хоть к пропасти, хоть к спасению. По крайней мере, это было какое-то решение. Может, получится выйти на чье-нибудь жилище.
Шел он, уже не чувствуя времени. Мир сузился до белого круга перед лицом, скрипа снега под ногами и ноющей боли во всем теле. Мысли путались. Он вспоминал теплую библиотеку, стойку с кофе в университете, свою комнату… Все это казалось сейчас невероятно далеким и абсурдно комфортным. «Великие открытия, – бубнил он себе, спотыкаясь о скрытый под снегом бурелом. – Все великие открытия делают идиоты, которые пошли не туда. Менделеев свою таблицу во сне увидел, а не в метель по колено в снегу. Колумб думал, что в Индию плывет, а открыл Америку. А я что открою? Зато мой собственный труп найдут в отменном состоянии в таком-то холоде!»
Именно в этот момент, когда отчаяние начало брать верх, он ее увидел. Расщелину.
Она зияла в склоне поросшего лесом холма, как шрам на лице земли. Два каменных утеса, покрытые наледью и цепким кустарником, образовывали узкий, темный проход. Снег вокруг был изрыт и переметен ветром, создавая причудливые, неестественные волны и воронки. Оттуда, из темноты, веяло таким холодом, что воздух казался густым и колким. И тишиной. Не природной, умиротворяющей, а гнетущей, абсолютной, как в склепе. Даже птиц не было слышно. Оно и понятно. В такую-то погодку, нормальные сидели дома, в своих дуплах.
«Вот она, – подумал Артём с странным чувством обреченности. – Расщелина Старого Мира. Прямо как по заказу. Хм. Ну и где тут и что искать прикажете?».
Он подошел ближе, с трудом пробираясь через наносные сугробы у входа. Ветер здесь чувствовался значительно меньше, затихший меж скал, но холод лишь усилился. Артём заглянул внутрь. Тьма. Глубокая, почти осязаемая. И из этой тьмы на него пахнуло странным запахом. Запахом старого камня, промерзшей насквозь земли и чем-то похожим на противную вонь полыни. Запах, от которого замирало сердце и холодело в животе.
Он сделал шаг внутрь, доставая фонарик. Луч света выхватил из мрака стены, покрытые толстым слоем инея, свисающие с потолка ледяные сталактиты, уходящий вниз неровный, обледенелый пол. Пещера? Или рукотворная шахта? Сложно было сказать.
И тут под ногой на обледенелом склоне что-то хрустнуло, подломилось. Он не успел даже вскрикнуть. Пятки безнадежно скользнули по льду, и он полетел вниз, в черноту, ударяясь о выступы камней, разрывая на себе одежду, чувствуя, как по лицу течет что-то теплое. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что это была кровь. Падение казалось бесконечным. В ушах стоял оглушительный грохот, смешанный с собственным прерывистым дыханием.
Он рухнул на какое-то скопление камней внизу, отчего больно ударился ребрами и головой. Свет фонаря, выбитый из руки, погас, оставив его в абсолютной, давящей темноте. Боль пронзила все тело – острая в боку, ноющая в спине, пульсирующая в голове. Он лежал, не в силах пошевелиться, и слушал, как его собственное сердце колотится где-то в горле. «Ну вот и все, – пронеслось в сознании. – Финал. Артём Туманов, погиб в глухой дыре, разбившись о камни. Ни тебе диплома, ни известности».
Он попытался двинуться, и новая волна боли заставила его застонать. Судя по тому, что болело абсолютно все, но при этом он четко чувствовал каждый свой болезненный кусочек тела, Артем сделал вывод, что отделался ушибами. «Как же выбраться отсюда…?» Вверх по гладкому, обледенелому склону, в темноте, с более чем вероятно, поврежденными ребрами… Шансы были примерно как у снежинки в адском котле.
И тогда он услышал. Сначала это был просто шум в ушах от удара. Потом – свист ветра наверху. А потом… шепот. Неясный, едва различимый, словно доносящийся сквозь толщу воды или времени. Он не мог разобрать слов. Это был не русский, не хакасский, не селькупский… какой-то древний, гортанный, полный шипящих и щелкающих звуков. Шепот, казалось, исходил отовсюду – из стен, из темноты, из самого воздуха.
«Галлюцинации, – сразу же диагностировал Артём, зажмуриваясь. – Классика жанра. Удар головой плюс переохлаждение. Мозг, спасибо тебе за демоверсию сумасшествия. Очень вовремя. Мне сейчас как раз этого не хватает».
Но шепот не утихал. Он нарастал, обрастая новыми голосами. Кто-то словно спорил, кто-то стонал, кто-то отдавал приказы на том же непонятном языке. В воздухе запахло дымом, каким-то таким едким, древесным, как от старого костра. И вдруг перед его глазами вспыхнул яркий, болезненный свет.
Он увидел… себя. Но не себя. Он стоял, опираясь на длинную, тяжелую винтовку с штыком, в длинной шинели, промерзшей насквозь, в ушанке, из-под которой выбиваются темные пряди волос. Руки в грубых перчатках. Перед ним – заснеженный склон, а на склоне – цепь людей в серых шинелях, бегущих в атаку. Грохот выстрелов, крики, далекий, хриплый звук горна. И чей-то голос рядом, молодой, срывающийся: «Туманов, прикрой фланг! Чтоб они все сдохли, сволочи!»
Вспышка погасла. Артём снова лежал в темноте, на камнях, весь дрожа. Сердце колотилось, как бешеное. «Что это было? – лихорадочно думал он. – Мираж? Сон наяву?» Он потрогал лицо – кровь из рассеченной брови, никакой шинели. Но в памяти с фотографической четкостью стояло лицо того парня, кричавшего ему… ему?.. «Туманов». И винтовка в руках была на удивление реальной, тяжелой.
Еще одна вспышка. Теперь он скакал на лошади. Не он, нет, а тот, в чьей шкуре он сейчас был. Лошадь под ним была горячей, взмыленной, изо рта ее валил пар. Вокруг темнела тайга, мелькали стволы сосен. Он оглянулся – за ним гнались несколько всадников в черных бурках, с обнаженными шашками. Чей-то выстрел грохнул рядом, с визгом рикошетя от сосны. Он почувствовал дикий, животный страх, смешанный с яростью. И снова голос, его собственный, но другой, хриплый от усталости: «Держись, Николай! До своих рукой подать!»
Тьма. Холод камней под спиной. Собственный стон. Артём пытался отдышаться. Это было уже не похоже на галлюцинацию. Это было… воспоминание. Чужое. Но в то же время свое. Оно приходило не как картинка, а как полное погружение – со всеми ощущениями, запахами, эмоциями. «Кровь помнит, – пронеслось в голове чужой, знакомой фразой. – Ты не последний».
«Да заткнитесь вы все! – мысленно закричал он в пустоту. – Какой нафиг Николай? Какие всадники? Я Артём Туманов, я из Томска, у меня диплом горит! Это не я!» Но протест был слабым. Слишком реальными были эти вспышки. Слишком знакомым было это чувство – бежать, спасаться, знать, что позади – смерть.
Он не знал, сколько времени провел так – то проваливаясь в странные видения, то возвращаясь в холодную реальность расщелины. Он видел себя то солдатом в окопах Гражданской, то беглым каторжником, скрывающимся в тайге, то… кем-то еще, в одежде, похожей на старинный мундир, с тем самым знаком Уробороса на пряжке ремня. Все эти «я» были объединены одним – страхом, борьбой и этим местом. Расщелиной. Она фигурировала в видениях постоянно – как убежище, как ловушка, как место встречи.
«Или я схожу с ума, или я стал героем самого дешевого сценария в истории, – бормотал он, пытаясь сесть и снова падая от боли. – Где тут, к черту, сохранение игры? Хочу чекпоинт! Хочу назад, в свою реальность, где самое страшное – это дедлайн по диплому!»
Его силы были на исходе. Холод проникал сквозь одежду, боль становилась тупой, постоянной. Сознание начинало плыть. Видения становились более яркими, более безумными. Вот он стоит у входа в расщелину, но скалы вокруг – не скалы, а гигантские ребра какого-то исполинского существа. Вот по ледяным стенам ползут тени, шепчущие на непонятном языке, и их шепот складывается в слова: «Исток… найди исток… ключ… долг…» Вот он видит себя в современной одежде, но с горящим, как угольки, красным пятном на ладони, и этот свет пробивается сквозь кожу.
Он уже почти смирился с тем, что это конец. Что он так и останется здесь, еще одним призраком в коллекции этого проклятого места. Его глаза закрылись. Сознание угасало.
И в этот самый момент, в самой глубине темноты, он увидел свет.
Не яркую вспышку видения. А маленький, тусклый, но устойчивый огонек. Как от факела или керосиновой лампы. Он мигал, призывно, словно взывая, маня за собой.
Последним усилием воли Артём поднял голову. Это не было галлюцинацией. Это был реальный свет где-то впереди, в конце этого ледяного коридора. Возможно, выход. Возможно, чье-то стойбище. А возможно, просто какая-то ловушка.
Но выбирать не приходилось. Собрав остатки сил, стиснув зубы от боли, он пополз на свет.
Глава 5: Енисейск-Центр
Сознание вернулось к Артёму не мгновенно, а постепенно, как будто кто-то медленно и не очень умело настраивал старый, затуманенный телевизор. Сначала появилась боль. Головная, тупая, давящая на виски изнутри. Потом – холод. Пронизывающий, цепкий, пробивающийся сквозь ткань куртки и свитеров прямо к костям. И только потом – звуки. Не оглушительная тишина тайги и не шепот в расщелине, а неясный гул. Многоголосый, нестройный гул человеческих голосов, скрип полозьев, далекий звон колоколов, лай собак и еще что-то… металлическое, ритмичное, похожее на работу старого парового механизма.
Он открыл глаза. И сразу же зажмурился от яркого, белого света, отражающегося от снега. Когда глаза немного привыкли, он открыл их снова и несколько секунд просто лежал, тупо вглядываясь в деревянный потолок какого-то навеса или сарая. Над ним свисали сосульки, под которыми аккуратными рядами висели заледеневшие бараньи туши. Рядом стояли бочки, от которых тянуло кисловатым запахом квашеной капусты.
«Так, – медленно и тягуче подумал Артём. – Мясная лавка. Я в мясной лавке. Интересный поворот. После расщелины и глюков про гражданскую войну я оказался на складе мясокомбината. Логично. Наверное, меня нашли и привезли сюда. Или это предсмертный бред, и мои нейроны, отмирая, решили устроить последнее шоу в стиле «В мире мяса».
Он попытался приподняться, опираясь на локоть. Тело отозвалось тупой болью во всех мышцах, особенно в ребрах. Он был укутан в какую-то жесткую, колючую, но сухую и теплую ткань – типа старого солдатского одеяла. Под ним – груда мешков, похожих на те, в которых хранят зерно или муку. Не пятизвездочный отель, но после ледяного камня в расщелине это казалось верхом комфорта.
Он выглянул из-под навеса. И мозг его, уже подготовленный к странностям, все равно на секунду отказался обрабатывать информацию.
Он находился на краю какой-то площади. Но это была не знакомая ему площадь Ленина в томском или красноярском стиле. В конце концов, догадка была не хуже прочих. Площадь Ильича была-таки в каждом городе.
Перед ним высилось массивное здание из темно-красного кирпича с арочными окнами и высокой башней с часами. На фронтоне здания красовался не советский герб и не вывеска «Администрация», а золоченый, сильно потускневший от времени двуглавый орел. Но не тот, что на рублях. У этого орла в лапах были не скипетр и держава, а какой-то свиток и… меч? И вокруг орла вились не совсем понятные вензеля, отдаленно напоминавшие те самые змеиные петли.
По площади двигались люди. Много людей. И вот тут начался полный диссонанс. Примерно половина была одета так, словно только что сошла со страниц учебника по истории России конца XIX века: женщины в длинных, до пола, шубах и ботах, с меховыми муфтами; мужчины в поддевках, казакинах, ушанках и шапках-кубанках; дети в валенках и тулупчиках. Но другая половина… Другая половина ломала весь шаблон. Мелькали люди в длинных, похожих на лабораторные, халатах поверх меховой одежды, с блестящими медными очками на носу. Какие-то типа военные в шинелях стального цвета, но с приборами на плечах, похожими не на погоны, а на миниатюрные щитки с мерцающими зелеными огоньками. Мимо прошел человек в обычном пальто, но на шее у него висел не шарф, а гибкая, похожая на змею, трубка, соединявшаяся с небольшим латунным устройством в кармане, от которого шел легкий пар.
И транспорт. Рядом с обычными, хоть и старомодными на вид, грузовиками, запряженными парой лошадей, стояли… экипажи. Но не просто экипажи. Некоторые из них были оснащены вместо передка какими-то сложными механизмами из трубок, поршней и блестящих цилиндров, от которых шел легкий, едва уловимый гул. Один такой экипаж, без лошади, медленно и плавно покатил по утрамбованному снегу, управляемый седобородым мужиком в овчинном тулупе, который крутил не руль, а нечто вроде штурвала с наброшенными на него проводами.
Воздух был насыщен запахами. Вполне обычными, но смешанными в невероятный коктейль: запах лошадиного помета и дыма из труб, запах жареных пирожков с ближайшего лотка и едкий, маслянистый запах горячего металла от тех самых странных экипажей. И еще – сладковатый, пряный запах, который он не мог опознать. Как будто жгли какую-то особую древесину или траву.
Артём заморгал. «Так, – сказал он себе очень медленно и четко. – Вариант первый: я все же умер, и это моя личная версия ада, стилизованная под исторический парк. Вариант второй: сотрясение мозга такой силы, что я теперь вижу историческую реконструкцию в 8К Ultra HD с полным погружением и звуковыми эффектами. Вариант третий… Нет, вариант третий даже рассматривать не будем, он слишком идиотский».
Он с трудом поднялся на ноги, опираясь о скользкую стену сарая. Голова закружилась. Он выглядел настоящим бомжом: помятая, порванная в нескольких местах современная куртка, грязные джинсы, на ногах – один ботинок, второй куда-то пропал при падении. Лицо, как он понял по ощущениям, было в ссадинах и запекшейся крови.
Его заметили. К нему подошли двое мужчин. Один – пожилой, с окладистой седой бородой, в длинном, подпоясанным кушаком, кафтане и меховой шапке. Второй – помоложе, в форменной шинели с медными пуговицами и такой же меховой шапке, но с кокардой, на которой был тот же странный орел. У молодого на поясе висел не пистолет, а нечто вроде короткой, утолщенной палки из темного дерева с металлическими вставками.
– Эй, ты, – произнес старший, и его голос звучал на удивление привычно – сипловатый бас с сибирским оканьем. – Ты чего тут прикорнул, а? У Макарыча под тушами отогреваешься? Вставай, а то замерзнешь окончательно.
Артём попытался что-то сказать, но из горла вырвался только хрип.
– Гляди-ка, Степаныч, – сказал молодой, присматриваясь. – Одежа-то на нем… диковинная. И не местный, по роже видать. Беглый, что ли? С приисков, али из команды ссыльных?
«Беглый, – пронеслось в голове у Артёма. – Отлично. Начало хорошее. Сейчас меня, как в добрые старые времена, побьют и в острог упрячут».
– Я… я не беглый, – с трудом выдавил он. Голос звучал чужим и слабым. – Я… турист. Понимаете? Турист. Заблудился.
Мужчины переглянулись.
– Турист? – переспросил старший, почесав бороду. – Это который по заграницам шастает, на курорты? Ты, милок, видать, совсем тюрюхнулся. У нас тут не курорт, а Енисейск-град. Ты куда, собственно, путь держал-то?
«Енисейск, – зафиксировал мозг. – Ну хоть что-то знакомое. Так, город Енисейск. Значит, меня все-таки вывезли из тайги. Но почему он «град»? И почему все вокруг… такие?»
– В… в Красноярск, – соврал Артём. – Автобус сломался. Я отстал от группы.
– Красноярск? – молодец фыркнул. – Так он ж вон, по тракту, верст триста будет. Ты пешком, что ли, сюда приплелся? В одном башмаке? Да ты, друг, либо врунишка, либо… – Он прищурился. – Аль из тех, что по лесу шастают, с духами знаются? Шаманствующий?
«Шаманствующий? – мысленно повторил Артём. – О, вот это новый термин. Мне нравится. Лучше, чем «беглый»».
– Нет, я не шаманствуюший, – постарался он сказать как можно убедительнее. – Я студент. Из Томска. Археологическую практику проходил. Упал, ударился головой. Наверное, у меня… галлюцинации. – Он надеялся, что это слово поймут.
– Галлю… а, это когда белочка, – кивнул старший. – Бывает. От голода, от стужи. Видения. Ну, тогда тебе не в часть, а в богодельню, либо к знахарю. Степаныч, глянь-ка на него получше.Поняли, но не так.
Молодой парень в шинели шагнул ближе. Его взгляд упал на лицо Артёма, задержался на нем, потом скользнул вниз, на его одежду, на единственный ботинок. И вдруг его выражение из подозрительного стало… заинтересованным, даже почти почтительным.
– Постой, дед Игнат, – сказал он тише. – Гляди-ка, рожа-то… Чистая. И кость широкая. И взгляд… Не мужицкий взгляд. И одежа хоть и странная, но ткань добротная, заморская, поди. А ну-ка, парень, ты не из служивых будешь? Али из каких… потерянных?
Артём почувствовал, как по спине пробежали мурашки. «Потерянных». Прямо как в бабушкином письме. «Ты не последний».
– Я… не знаю, о чем вы, – искренне сказал он.
– Фамилия твоя как? – вдруг строго спросил Степаныч.
Артём чуть не ляпнул «Туманов», но вовремя остановился. Вдруг это здесь что-то значит? Или, наоборот, его сразу куда-нибудь препроводят? Он промолчал.
– Ну, ладно, – старший, дед Игнат, махнул рукой. – Стоять тут нечего. Замерзнешь. Степаныч, ты его в участок отведи, пусть там разберутся. А мне за мясом народ идет.
Артём понял, что «участок» – это последнее место, куда ему сейчас нужно. Он попытался отшатнуться, но Степаныч взял его под локоть довольно цепко.
– Не боись, не съедим, – сказал он, и в его голосе странным образом смешались и официальный тон, и любопытство. – Просмотрим по спискам. Может, ты и вправду чей-нибудь заблудший. Такое нонче время – много кого ветром сюда заносит.
Он повел Артёма через площадь. Тот шел, почти не сопротивляясь, в состоянии глубочайшего ступора. Его мозг лихорадочно пытался анализировать.
Площадь была вымощена булыжником, который местами проседал, образуя колеи. В центре площади стоял не памятник Ленину, а высокий каменный столб, увенчанный тем же двуглавым орлом со свитком и мечом. У подножия столба горел не вечный огонь, а большая чугунная жаровня, в которой пылали не дрова, а какие-то синеватые камни, отдававшие тот самый сладковатый запах. Вокруг жаровни грелись несколько человек, и от нее действительно шел ощутимый жар.
По краям площади стояли здания, в которых Артём с трудом узнавал знакомые по фотографиям енисейские памятники архитектуры, но… измененные. Дом купца Дементьева – тот самый из красного кирпича с орлом. Но на его крыше теперь стояли не телевизионные антенны, а ажурные металлические конструкции, похожие на опоры ЛЭП, но меньшего размера, и между ними переливалось и искрилось едва видимое марево, как от горячего воздуха над асфальтом. Из окон того же дома не светились люминесцентные лампы, а мерцал ровный, теплый желтый свет, исходящий от каких-то подвешенных к потолку сферических светильников. И тени за окнами двигались плавно, неестественно.
Они прошли мимо лотка, где торговка в цветастом платке продавала сбитень и пирожки. Но рядом с лотком на треноге стоял не самовар, а медный аппарат, похожий на дистиллятор, с колбами и трубками, из которого валил пар и исходил тот же сладковатый запах. Торговка налила сбитень покупателю не из ковша, а повернув краник, и струя напитка сама собой, извиваясь, наполнила кружку, будто живая.
«Гарри Поттер и Суровый Сибирский Десант, – промелькнуло в голове у Артёма. – Или, может, это такой новый аттракцион в историческом парке? Очень реалистичный. Даже слишком».
– Эй, смотри! – вдруг сказал Степаныч, одергивая его.
Артём едва не наступил на… на маленькое, мохнатое существо, сидевшее прямо на камнях. Оно было похоже на помесь хорька и куска мха, с парой блестящих бусинок-глаз. Существо держало в лапках объедок пирожка и быстро-быстро его уплетало. Увидев ноги Артёма, оно фыркнуло, испустив маленькое облачко инея, и юркнуло в щель между булыжниками.
– Шнырик местный, – пояснил Степаныч без особого удивления. – Духи мелкие, бестолковые. Еду воруют. Но трогать их нельзя – навлечешь беду. Или насмешишь их. Тоже не лучше.
Артём просто молча кивнул. Его внутренний монолог достиг критической скорости. «Духи. Мелкие. Воруют пирожки. Ладно. Принимается. Поехали дальше. Скоро, наверное, единороги появятся, которые гадают на картах таро и продают страховки».
Они свернули с площади на улицу, которая, судя по сохранившимся табличкам, должна была называться улицей Ленина. Здесь она называлась Большая улица. И выглядела соответствующе. Деревянные двухэтажные особняки с резными наличниками и высокими крылечками соседствовали с каменными зданиями в стиле модерн, но и те, и другие несли на себе следы явно не XIX века. На углу одного дома висел не фонарь, а большой, вделанный в стену кристалл кварца, который изнутри мягко светился голубоватым светом. У другого дома стояла будка, похожая на телефонную, но внутри нее вместо аппарата был установлен медный диск с нанесенными на него сложными концентрическими кругами. К диску был приставлен человек в очках и что-то ему негромко нашептывал.
Из открытых окон одного из трактиров доносилась музыка – не радио, а живая игра на гармони, но звук был странно усиленным, чистым, будто через мощный усилитель, хотя никаких колонок видно не было.
Артём почувствовал, как у него начинает болеть голова уже от попыток осмыслить это. Он пытался найти хоть что-то знакомое, хоть одну деталь, которая вписалась бы в его картину мира. И не находил. Все было похоже на Россию, но чужую, параллельную, развивавшуюся по какому-то совсем другому пути.
– Постой тут, – сказал Степаныч, останавливаясь у массивной деревянной двери с коваными железными накладками. На двери висела вывеска: «Енисейское Городовое Управление. Часть 1-я». – Я доложу о тебе приставу.
Он скрылся за дверью, оставив Артёма на улице под присмотром еще одного такого же шинельного, который вышел из будки и смотрел на него с немым любопытством.
Артём прислонился к холодной стене. Его трясло уже не только от холода. Он сжал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Боль была вполне реальной. Он посмотрел на свои руки. Ссадины, грязь, замерзшая кровь. Он провел языком по губам – вкус железа и пыли. Он видел свое дыхание, парящее на морозном воздухе. Он слышал каждый звук этого странного города – скрип полозьев, смех из трактира, далекий заводской гудок, тот самый ритмичный металлический стук, который теперь казался громче.
«Это не сон, – с ужасом подумал он. – Сны так не пахнут. И так не болят. Галлюцинации… галлюцинации не бывают такими… последовательными. Такими детализированными».
Он вспомнил слова Степаныча: «Много кого ветром сюда заносит». Вспомнил деда из Ярского, смотрителя из Абакана. Вспомнил карту с выжженным змеем. Вспомнил все эти «крови» и «долги».
И тут до него стало медленно, неумолимо доходить. Вариант три. Тот самый, который он отказывался рассматривать. Он не в больнице. Не в коме. Он… совершенно в другом месте. В другом времени? Или в другом… мире?
– Ладно, мозг, – прошептал он сам себе, глядя на причудливый светящийся кристалл на стене напротив. – Кажется, ты победил. Это не галлюцинация. Это… реальность. Какая-то левая, кривая, неправильная, но реальность.
