Читать онлайн Материнское сердце в пенале бесплатно
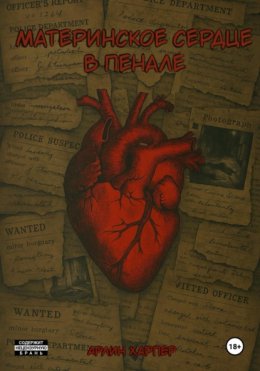
Пролог
В Блэкстоне дождь начинался всегда внезапно. Словно небо, уставшее от молчания, наконец разрыдалось.
Сперва одна-единственная капля. Она падала на ржавый подоконник с тихим звоном, словно крошечный стеклянный шарик, выпущенный из пальцев невидимого игрока. Потом вторая, намертво пригвождающая к земле пыль и сомнения. А там, глядишь, уже и третья, и четвертая…
И тогда весь мир растворялся в серой пелене. Улицы теряли очертания, превращаясь в размытые акварельные мазки. Дома расплывались, фонари меркли, и даже время будто замедляло ход, словно сама реальность становилась старой фотографией, брошенной в лужу.
В доме №184 было тихо. Слишком тихо. Так, что даже стук собственного сердца отдавался в ушах миссис Эверетт глухим эхом.
Она прильнула к окну, и бледные пальцы, похожие на корни выкорчеванного дерева, судорожно сжали бинокль. В горле стоял ком, а в животе холодный, скользкий камень предчувствия. Сегодня что-то не так.
– Опять эти Дэвисы… – прошептала она, но голос предательски дрогнул.
Обычно в это время сквозь тонкие стены пробивался рев телевизора. Даже в домах напротив его было слышно. Отец всегда орал, особенно по вечерам, когда в жилах вместо крови закипал дешевый виски. Мать яростно хлопала дверцами шкафов, словно пыталась захлопнуть саму свою жизнь, загнать обратно в темный угол все то, о чем нельзя было говорить вслух.
А сейчас – тишина.
Только дождь. Монотонный, бесконечный стук по крыше, словно чьи-то пальцы пробуют на прочность этот хлипкий мир.
И капли. Где-то в глубине дома что-то капало. Медленно. Методично.
Кухня. В раковине лежит нож.
Не просто лежит – покоится, устало, как боец после последней схватки. Лезвие его еще дышит, подрагивая в такт каплям, падающим с крана. Алое смешивается с водой, тянется нитями к сливу.. Живыми, упрямыми, не желающими исчезать.
Кто-то моет руки. Долго. Слишком долго.
Вода бьет по коже ледяными иглами, но пальцы продолжают свое методичное движение. Они трут, скребут, соскабливают. Не просто грязь, не просто следы, а самый верхний слой кожи, будто хотят добраться до чистой, нетронутой плоти под ней. Мыльная пена пузырится, шипит тихим упреком.
Кто-то дышит. Глубоко. Неровно.
Словно легкие наполняются не воздухом, а густой, липкой темнотой. Вдох, задержка, выдох. Снова. И снова. Ритм сбивается.
Кто-то считает.
Раз. Два. Три.
Каждая цифра падает в тишину, как камень в черную воду. Пальцы непроизвольно сжимаются, ногти впиваются в ладони, но счет продолжается.
Взгляд скользит к календарю на стене. Сегодняшняя дата аккуратно перечеркнута. Слишком аккуратно.
Идеально ровная линия, проведенная дрожащей рукой. Красным маркером.
Во дворе, напротив покосившегося забора, лежала собака.
Бродячая. Грязно-белая, с желтыми подпалинами, словно кто-то пытался стереть ее окрас, да бросил на полпути. Обычно она спала, свернувшись тугой пружиной у теплотрассы, где бетон хранил остаточное тепло, или рылась в мусорных баках, переворачивая пакеты влажным носом. Но сегодня выла.
Тихо. Надрывно. Горлом, полным песка и тоски. Будто хоронила кого-то. Может, последнего щенка. Может, часть собственной души. А может, весь этот двор, и дом №184, и старика Ренни вместе с ним.
Ренни остановился, оперся на палку. Губы сморщились, будто скукоживались от горечи, он плюнул через плечо. Густо, зло, по-стариковски метко.
– К смерти, – прошамкал он, и поплелся дальше.
Собака подняла на него мутные глаза и вдруг замолчала.
Миссис Эверетт наконец оторвалась от окна.
– Наверное, просто уехали, – сказала она вслух, будто пытаясь убедить саму себя.
Но когда она потянулась, чтобы закрыть занавеску, ее взгляд упал на окровавленный след на тротуаре. Маленький. Едва заметный.
Она замерла. А в доме напротив включился свет.
Глава 1
Он напоминал дубовый корень, вывороченный бурей. Грубые черты лица будто вырублены топором, а глубокие морщины походили на трещины в старой древесине. Холодные серые глаза, мутные как ноябрьское небо, смотрели сквозь людей, будто видели нечто за их спинами.
Его высоченная, чуть сгорбленная фигура казалась инородной в любом помещении. Потрепанный коричневый плащ, выцветший до неопределенного болотного оттенка, сидел на нем с неожиданной элегантностью, словно доспехи ветерана, прошедшего сотни сражений.
Узловатые пальцы с желтизной хронического курильщика никогда не оставались в покое. То перебирали четки из смятых сигаретных пачек, то барабанили по столу ритм давно забытого марша, то сжимали граненый стакан так, будто хотели выжать из стекла последние капли давно выпитого виски.
Особенно запоминалось, как он поправлял плащ. Резким движением, будто отряхиваясь от невидимых паутин. И как его тень, несоразмерно длинная, ползла по стенам, опережая хозяина на полшага.
Эдриан Вольф вошел в полицейский участок Блэкстона ровно двадцать лет назад. Высокий, молчаливый, с потухшим взглядом человека, который слишком многое видел. После отставки в большом городе, из-за того «инцидента» с заложницей-девочкой, по причине которого которой его собственный пистолет стал весить как гиря.
Он знал Блэкстон лучше, чем собственные шрамы. Каждый переулок помнил скрип его сапог. Каждая тень на кирпичных стенах знала его привычный маршрут. Даже бродячие псы переставали лаять, когда он проходил мимо.
Город впитывал его горечь, как старый ковер впитывает виски. А он, в свою очередь, научился читать Блэкстон по едва заметным признакам. По тому, как дрожит свет в окнах борделя на Пятой улице. По тому, какие объявления исчезают с доски у бара «Последний шанс». По тому, как пахнет воздух перед тем, как случится беда.
Вольф стал частью городского пейзажа. Такой же неотъемлемой, как ржавые пожарные лестницы или трещины в асфальте. Он сросся с Блэкстоном, словно плющ с древней кладкой. Медленно, неотвратимо, до полного слияния. История его работы здесь читалась как кровавый роман, где каждая глава оставляла на нем незримую отметину.
Тот случай в приюте «Святой Терезы» начался с тишины. Слишком тихой для места, где должны были слышаться детские голоса. Вольф нашел подвал, пахнущий воском и чем-то сладковато-гнилым, со стенами, увешанными фотографиями, где улыбки казались теперь зловещими гримасами.
Смотритель, седой старичок с глазами младенца, объяснял все так просто: «Я дарил им вечный сон, пока кошмары не успели их разбудить». После этого Вольф три дня не мог смотреть на детские качели во дворе участка.
Потом была невеста. Ее платье колыхалось под мутной водой канала, словно она все еще танцевала. Все видели разбитое сердце. Все, кроме Вольфа. Он заметил, как аккуратно стояли ее туфли на берегу, будто их поставили туда чьи-то заботливые руки.
А когда нашел того красавца-жениха, тот сначала смеялся: «Вы что, думаете, я стал бы пачкать руки? Она сама…» Глаза его бегали, как у загнанного зверя, пока Вольф методично перечислял все несоответствия.
А потом пришли пожары. Шесть домов престарелых, шесть «несчастных случаев». Вольф ночами сидел над картами, пока не увидел закономерность: все начиналось в ванных, там, где старики были наиболее беззащитны.
Пожарный Робертс даже не удивился аресту. Он улыбался, перебирая свою коллекцию зубных протезов, каждый в отдельной коробочке с именем.
«Вы бы видели их глаза, когда они понимали, что это конец», – сказал он, будто оправдывался. Вольф тогда впервые за долгие годы не смог закурить. Руки дрожали слишком сильно.
Эдриан жил в мире, где случайности были лишь замаскированной закономерностью. Его потрепанный кожаный блокнот с выцветшей надписью «Мелочи» на обложке хранил сотни подобных «совпадений». От странного расположения предметов на месте преступления до слишком аккуратных показаний свидетелей. Каждая страница была испещрена пометками, которые со временем складывались в пугающую картину.
По четвергам он закрывался в архиве, где раскладывал перед собой папки с нераскрытыми делами. «Беседы с призраками» – так он называл эти мучительные попытки услышать голоса погибших в пожелтевших документах и размытых фотографиях. Иногда ему казалось, что холодное дуновение между стеллажами – это чье-то невысказанное признание.
Бар «Последний шанс» стал его вторым кабинетом. За дальним угловым столиком, где свет неоновой вывески едва достигал столешницы, Вольф вел свои неофициальные допросы. Виски здесь имело вкус правды: горькой, обжигающей, но настоящей. Старые полицейские шутили, что деревянные стены этого бара помнят больше признаний, чем все протоколы участка. Вольф не смеялся. Он знал, что это не шутка.
Каждый вечер, делая первый глоток, он мысленно поднимал бокал за тех, чьи голоса так и не были услышаны. А потом доставал блокнот и записывал новую «мелочь», которая, возможно, когда-нибудь перестанет быть просто деталью.
***
Эмалированная кастрюлька с пригоревшим дном, оставшаяся еще от прежнего начальника, булькала на конфорке, наполняя душное помещение горьковатым ароматом свежесваренного кофе. Моррис разливал напиток по треснутым кружкам и наблюдал, как черная жидкость оставила маслянистые разводы на стенках.
Ритуал нового понедельника нарушил сержант Харис, ввалившись в дверь с коробкой пончиков. Сладкий запах ванили моментально смешался с кофейной горечью, создавая странный контраст, словно маленькое напоминание, что и в их работе иногда случается что-то хорошее.
– Всем хватит, – проворчал Харис и шлепнул коробку на стол, заляпанный кофейными кольцами. Его мясистая лапа моментально прикрыла сладкий груз, когда к нему потянулись руки голодных коллег. – По порядку, стервятники.
Он демонстративно отломил кусок пончика с вишней, с которого тут же капнуло на свежий рапорт.
– Опять с джемом? – фыркнула офицер Люси Гарсия, откусывая кусок и тут же морщась от сладости. – Ты бы хоть раз принес нормальные, с шоколадом.
– Жалуешься – не ешь, – огрызнулся Харис, вытирая жирные пальцы о рубашку.
В углу зала, заваленном папками и пустыми стаканчиками из-под кофе, детектив Эдриан Вольф сидел, словно грозовая туча посреди ясного неба. Его сгорбленная фигура напоминала хищную птицу, замершую перед броском. Плащ, сброшенный на спинку стула, казалось, в любой момент мог взметнуться, как черные крылья. Пальцы методично перебирали бумаги, будто вороша прошлое в поисках ускользающей истины.
Лейтенант Ричардс подошел, постучав костяшками по краю стола.
– Вольф, вчерашний отчет по нападению на заправке. Где он?
Эдриан даже не поднял глаз. Его голос прозвучал глухо, словно доносился из глубины тех самых папок, что громоздились перед ним:
– В архиве.
– В каком, к черту, архиве? – Шон наклонился, упираясь руками в стол.
Наконец Вольф поднял взгляд. Серые глаза встретились с раздраженными карими. В воздухе повисло напряжение.
– В моей голове, – произнес он, делая паузу между словами. – Нападавший – бывший муж кассирши. Уже в розыске.
Ричардс закатил глаза. Отходя, он пробормотал что-то о «старых упрямых козлах» и «бумажной волоките». Вольф лишь прикрыл глаза на мгновение. Этого хватило, чтобы в памяти всплыл образ испуганной женщины на заправке, ее дрожащие руки и след от обручального кольца, которого она уже не носила.
Он потянулся к потрепанному блокноту, сделал пометку: «Проверить адрес бывшего – 187, Фласк-Стрит». Цифры вышли неровными, рука вдруг дрогнула. Странно. Возраст, должно быть.
На другом конце зала новичок Джимми Тернер нервно теребил кнопки принтера, который бушевал. Бумага вылезала с зелеными разводами, будто техника решила воспроизвести стиль старых матричных мониторов.
– Да чтоб тебя! – Джимми шлепнул ладонью по корпусу, отчего аппарат выдал особенно злобное жужжание и выплюнул очередной лист, весь в кляксах ядовито-изумрудного оттенка.
Офицер Мартинес, развалившись на стуле с видом ветерана полицейских войн, наблюдал эту битву с сардоническим удовольствием.
– Ты же вчера его пинал, когда он зажевал твой отчет? – Он лениво покрутил пальцем у виска. – Техника все помнит. И мстит. Особенно в Блэкстоне.
Джимми обернулся, открыв рот для возражения, но в этот момент принтер вдруг ожил с новым рвением, выстрелив струей тонера прямо в его галстук. По залу прокатился смех, даже Вольф в своем углу едва заметно дернул уголком рта.
– Поздравляю, – Мартинес смахнул невидимую слезу. – Теперь ты официально принят в наш клуб.
Дверь кабинета капитана Морроу с грохотом распахнулась, и его рык разнесся по участку, заглушая все остальные звуки:
– Кто, блять, снова оставил холодильник открытым?!
Тишина. Даже принтер Джимми замер на полпути, застряв с зеленым листом в зубах.
Из угла, где сидел сержант Карлсон, донесся робкий писк:
– Это… это мог быть я.
Капитан Морроу медленно повернул голову, как танковая башня. Его взгляд пригвоздил Карлсона к стулу.
– Карлсон, – голос капитана стал опасным, как скольжение ножа по точильному камню, – если я еще раз найду там твой проклятый йогурт с этими… розовыми кусочками, я засуну его тебе в…
Дверь захлопнулась с такой силой, что со стены упала фотография мэра. В зале повисла напряженная тишина.
– …в рот, – шепотом закончил за капитана сержант Харис, заедая стресс пончиком. – Он хотел сказать «в рот». Наверное.
Карлсон медленно сполз под стол.
Вольф потянулся к нижнему ящику, где между папками с делами лежала потрепанная упаковка аспирина. Он механически вскрыл ее, поднес две таблетки ко рту и проглотил их, даже не поморщившись. Горьковатый вкус растворился на языке, как всегда в 8:15. Ровно через пятнадцать минут после утреннего кофе и за столько же до начала ежедневного совещания.
– Эй, Вольф, – Санчес подкатился на стуле, ловко балансируя на задних ножках. Карандаш в его пальцах вращался с раздражающей ловкостью. – Слышал, вчера в «Последнем шансе» опять праздник был. Бармен говорит, ты двоих уложил одним движением. Буквально.
Вольф даже не поднял головы, продолжая заполнять отчет. – Не был.
– Да ладно тебе, – Санчес наклонился, снижая голос до заговорщического шепота. – Весь город уже знает, как ты стулом…
Ручка в руке замерла. Эдриан медленно поднял глаза.
– Был. Выпивал. Они начали. Я закончил.
Пауза растянулась на три оборота карандаша в пальцах Санчеса. Затем детектив резко встал, стул с грохотом упал на все четыре ножки.
– Понял, старик. Не буду мешать твоему… – он махнул рукой в сторону бумаг, – священнодействию.
Головная боль начинала отступать, уступая место привычному напряжению в висках. Совещание через десять минут.
– Какой клуб? – Джимми уронил галстук, испачканный тонером, и уставился на Мартинеса.
Лейтенант медленно повернулся к нему, подняв бровь так высоко, что она почти скрылась под козырьком фуражки.
– Чего?
– В-вы сказали… – Джимми сглотнул, – что я теперь официально принят в клуб.
Мартинес замер на секунду, потом раздул щеки и фыркнул.
– А-а, – он махнул рукой, будто отмахиваясь от глупого вопроса, – Цирк уродов, конечно же.
За его спиной кто-то хрипло засмеялся. Кто-то крякнул: «Новичок попал!». А сержант Харис, не отрываясь от пончика, добавил:
– Главное – не спрашивай, кто здесь клоун.
***
Звонки в службу спасения редко напоминали стихи. Чаще – кричащий абсурд жизни, вырвавшийся через телефонную трубку.
«Мой кот не слезает с ели уже три часа!»
«Эта сволочь сверлит стену с рассвета, я вам клянусь!»
«Там… там человек в плаще стоит!»
Кармен не морщилась. Не сжимала кулаки. Не позволяла себе даже едва заметной усмешки. Ее голос тек ровно и бесстрастно, будто она зачитывала инструкцию к микроволновке, а не объясняла дрожащему пенсионеру, как вдохнуть жизнь в тело любимой женщины.
Единственное, что выдавало в ней живого человека – едва заметные пометки на полях протоколов. Аккуратные, словно медицинские записи, но куда более откровенные.
«Гражданка С. (розовый парик/НЛО) – повторный вызов. В картотеке: 14 обращений за год. Требуется консультация психоневрологического диспансера.»
«Мальчик, 9 лет. Звонок из-под кровати. Отец – алкоголик, не буйный. Соцработник уведомлен. Проверить через неделю.»
Эти строчки, написанные между официальных строк, были ее исповедью. Тонкой нитью, связывающей бездушный протокол с чьей-то сломанной судьбой.
В тот день Кармен нарушила свой привычный маршрут. Вместо поворота к дому ноги сами привели ее к витрине вокзального магазина игрушек – того самого, где когда-то Майкл топал ножкой, требуя робота-динозавра с «настоящими лазерными глазами».
Дверной колокольчик звякнул слишком весело для её состояния.
– Вам помочь? – продавец, румяный мужчина с искусственной улыбкой, уже протягивал руки к полке.
Кармен молча покачала головой. Ее пальцы сами нашли ту самую коробку, теперь с новым ценником и другим дизайном, но все тем же кричащим слоганом: «Настоящий РЕВ как у Тирекса!».
Она провела подушечкой пальца по пыльной поверхности, оставив чистую полосу. Не купила. Двинулась дальше.
Бар «Кроше» встретил ее затхлым дыханием подвала. Кармен провела ладонью по липкой столешнице, на коже остался слабый сладковатый налет, напоминающий о десятках немытых бокалов.
– Бренди. Двойную, – ее голос сорвался на хрип, будто она долго не говорила вслух.
Бармен, мужчина с потрескавшимися губами, кивнул, не отрываясь от экрана телефона. Стакан звонко стукнул о дерево перед ней. Жидкость внутри колыхалась, переливаясь золотистыми бликами, как те солнечные зайчики, что Майкл любил ловить в их старой квартире.
Она сжала стакан так сильно, что пальцы побелели.
«Не звони. Он даже не заметит».
Но телефон уже лежал перед ней на барной стойке, экран замыленный от следов ее пальцев.
На часах 17:28.
17:29.
17:30.
Палец сам потянулся к кнопке вызова. Сердце забилось так сильно, что она боялась, его стук услышат за соседними столиками.
– Алло? – ее голос прозвучал неестественно высоко, как у актрисы в плохой комедии.
– Мам? – голос Майкла был далеким, будто он говорил через вату.
На фоне – искаженные гитарные аккорды. Отец снова включил свой панк-рок на полную громкость.
– Как… как твой день, солнышко? – она закусила губу, ненавидя это слащавое «солнышко», но других слов не находилось.
– Ну… нормально. Тест по математике писал.
– И как?
– Три ошибки. – в его голосе мелькнула тень разочарования, и Кармен почувствовала, как что-то сжимается у нее в груди.
– Ничего страшного, в следующий раз…
– Мам, папа зовет ужинать, – он перебил ее, и в трубке послышался отдаленный крик: «Майкл! Выключай!»
– Хорошо… спокойной ночи, – она прошептала, но соединение уже прервалось.
18 секунд – новый рекорд.
Кармен резко опрокинула бренди в горло. Алкоголь обжег пищевод, но не смог смыть вкус собственного бессилия. Бармен молча пододвинул вторую порцию.
Кармен допила до дна, оставив на запотевшем столе купюру с загнутым уголком – точь-в-точь как делал ее отец. Дверь бара захлопнулась за ней с глухим стуком, выпуская на улицу облако перегара и одиночества.
Квартира встретила ее ледяным дыханием. В холодильнике кислая наполовину пустая бутылка молока. Майкл всегда забывал его закрывать. Телевизор молчал, отражая в черном экране ее сгорбленный силуэт.
Перед сном руки сами потянулись к верхней полке шкафа. Последняя фотография. Майкл хохочет, морща нос от солнца, его плечо теплым комочком умещается в ее ладони. Она помнила, как тогда боялась слишком сильно сжать пальцы. Вдруг сделает больно? Вдруг отпрянет? Теперь эта осторожность казалась такой наивной…
Кармен провела пальцем по глянцевой поверхности, будто стирая пыль с воспоминаний. Слез не было. Они закончились ровно через месяц после развода. Она просто закрыла альбом, оставив прошлое между страницами, где ему и место.
Будильник зазвонит в 4:30 утра. Резким, пронзительным звоном, разрывающим короткий сон. Она проснется с ощущением, будто не спала вовсе.
Кто-то будет кричать в трубку про маньяка, голос срывать на визг. А потом окажется, что это всего лишь сосед вышел покурить в халате.
Кто-то трижды переспросит: «Вы уверены, что утюг выключен?», будто ее слова могут как-то повлиять на реальность за сотни километров.
Кто-то сделает последний вдох как раз в тот момент, когда ее пальцы будут соединять вызов. Она услышит этот хрип – влажный, клекочущий, навсегда врежется в память.
Но сейчас только подушка, пропитанная дешевым алкоголем и солью от невыплаканных слез. И тень на потолке, очертаниями удивительно напоминающая ту фотографию, где Майкл впервые пошел.
Завтра. Неумолимое. Безжалостное. Просто завтра.
Глава 2
Семь лет в службе экстренного реагирования научили Кармен Рейес различать оттенки человеческого отчаяния.
За это время ее уши впитали весь спектр криков. От истеричных воплей о сгоревшем тосте – такие звонки почему-то всегда случались на рассвете – до тех особенных, липких хрипов, когда человеку оставалось дышать ровно столько, сколько требовалось, чтобы произнести последнее в жизни «помогите». Она выработала профессиональный нюх – безошибочно отделяла запах настоящего ужаса от едкого дыма обыденной паники.
Ее утренняя смена началась в шесть. Ровно в шесть. С точностью до секунды.
Пластиковый стакан с кофе уже покрылся маслянистой пленкой, но Кармен все равно сделала глоток. Привычка, ритуал, маленькое ежедневное самоистязание.
На столе перед ней застыли три свидетеля ее будней. Фотография сына-первоклассника. Улыбка без переднего зуба, слишком большой рюкзак за спиной. Потрепанная наклейка «Сохраняй спокойствие» на органайзере для канцелярии, последняя буква уже отклеилась. Три монитора, мерцающие в полутьме диспетчерской как недобрые глаза ночного зверя.
Рейес растворялась в толпе, как тень в сумерках.
Невысокая, с фигурой, которую можно было бы назвать «удобной» – не для показов, а для жизни. Ее гардероб состоял из практичных вещей, словно собранных по инструкции «как не привлекать внимание». Темные брюки, слегка выцветшие на коленях, белые рубашки с коротким рукавом, купленные в упаковке из трех штук по скидке в супермаркете, кроссовки на плоской подошве – чтобы быстро бежать, если придется.
Ее волосы всегда были стянуты в тугой пучок. Густые, черные, с серебряными нитями у висков.
Лицо нельзя было назвать красивым, скорее запоминающимся. Широкие скулы, будто высеченные из камня. Темные глаза, видевшие слишком много, чтобы еще чему-то удивляться, и тонкие губы, складывающиеся в подобие улыбки раз в полгода. На левой руке шрам от ожога. Она никогда не рассказывала, как его получила. Хотя на самом деле пролила на себя кофе из автомата.
Из украшений только часы с треснувшим стеклом. Подарок бывшего мужа в день их свадьбы. Она носила их не из сентиментальности, а потому, что новые покупать было лень, а эти еще работали. Как и она сама – работали с трудом, но все еще держались.
Телефонный звонок не заставил даже моргнуть. Уже восемнадцатый за сегодня.
– 911, что у вас произошло? – заученная фраза, которую она проговаривала по три тысячи раз на дню.
Ее голос звучал ровно, монотонно, как плоская линия на кардиомониторе. Та самая линия, после которой в больничных сериалах всегда раздается пронзительный писк.
В ответ – тишина. Не та задумчивая пауза, когда человек подбирает слова. И не растерянное молчание. А та густая, вязкая тишина, будто на другом конце провода кто-то прикрыл рот ладонью, боясь выдать даже звук дыхания.
– Алло? Вы меня слышите?
– Да… да, извините.
Голос прорезался неожиданно. Старческий, с хриплым подтекстом многолетнего курения. Кармен моментально нарисовала в голове портрет: седые волосы, собранные в небрежный пучок, ссутуленные плечи.
– Я… может, это глупо, но…
– Ваш адрес, пожалуйста.
– О, нет, это не ко мне. Это… дом напротив. Фласк-Стрит, 184. Семья Дэвисов.
Пальцы Кармен уже бежали по клавиатуре, выбивая привычный ритм – лево-право-энтер, лево-право-энтер. Механический танец, отточенный сотнями смен.
– Опишите ситуацию, – голос оставался ровным, но в глазах вспыхнула едва заметная искорка раздражения.
– Они… не выходят. Не отвечают, – женщина на другом конце говорила так, будто слова застревали у нее в горле, как рыбьи кости.
– С каких пор?
Пауза. Слишком долгая. Кармен слышала, как звонящая нервно перебирает что-то пальцами. Возможно, край халата или телефонный шнур.
– С… вчера? Или сегодня… – голос дрогнул, потеряв последние крупицы уверенности.
Кармен прищурилась. В ее голове моментально сложился образ. Пожилая соседка, миссис «Все-Не-Так», которая вечно подглядывает из-за занавесок. Наверняка забыла очки на холодильнике, а теперь паникует, не разобрав, что машины Дэвисов нет на привычном месте.
– Вы соседка? – Кармен специально сделала голос мягче, как учат на курсах работы с пожилыми.
Тишина. Потом едва слышное:
– Да. Миссис Эверетт.
Кармен отметила в системе: «Абонент – женщина 65+, вероятно, одинокая». Пальцы сами вывели привычное сокращение – «LPC».
– Пытались стучать? Звонить?
– Нет… там…
– Там что? – Кармен невольно наклонилась к монитору.
Голос в трубке стал шепотом:
– Собака. Воет.
Кармен закатила глаза так сильно, что на миг ей показалось, будто она увидит собственный мозг. Очередная истеричка, напуганная городскими звуками.
– Миссис Эверетт, бродячие собаки часто…
– И кровь! – прошипела старуха, и голос ее внезапно стал резким, как скрип ножа по стеклу. – На крыльце!
Кармен почувствовала, как мурашки побежали по спине. Кровь – это уже факт. Факт, а не паранойя.
– Опишите пятно.
– Маленькое… но форма странная. – Миссис Эверетт задыхалась, будто слова давили ее. – Как… как след пальца или что-то подобное.
Кармен резко ввела код 10-54 – возможный труп. На экране всплыло красное предупреждение.
– Вы видите кого-то в доме? – спросила Кармен, одновременно вводя код вызова наряда.
– Нет… – голос миссис Эверетт внезапно стал совсем тонким. – Но свет… свет включился сам. Только что. В гостиной.
Кармен нахмурилась. Как пожилая женщина может издали заметить пятно крови размером с подушечку пальца?
На мониторе перед ней уже мигал статус «Патруль в пути», а боковая панель выдавала тревожную статистику: 37 зарегистрированных вызовов по адресу Фласк-Стрит, 184. Три года. 37 раз кто-то звонил с одинаковыми жалобами: «крики за стеной», «звуки драки», «угрозы». И ни одного подтвержденного случая домашнего насилия.
– Сами по себе лампы не зажигаются, миссис Эверетт, – автоматически ответила Рейес, пока ее пальцы сами листали архив.
Последняя запись от мистера Ренни недельной давности: «Нападение в состоянии алкогольного опьянения». Сосед утверждал, что мистер Дэвис пытался его задушить. На месте полиция нашла лишь перевернутый стул и… ничего более.
– Но… – старуха внезапно замолчала. В трубке послышался странный звук, будто кто-то провел пальцем по мокрому стеклу.
Кармен машинально отметила в карточке: «Абонент демонстрирует признаки тревожного расстройства».
– Не волнуйтесь. Полиция уже выезжает. Они все проверят.
Кармен тяжело вздохнула, откинувшись на потертый офисный стул. Пластиковая спинка неприятно хрустнула под ее весом.
«Типичный случай. Старики уехали к дочери, забыли выключить свет. Собака воет от голода. А «кровь» на крыльце… Господи, да это же наверняка раздавленная банка с томатным соусом».
Но процедура есть процедура. Семь лет работы научили ее: лучше десять раз перепроверить, чем потом разгребать бумаги по поводу несвоевременного реагирования.
Она с неохотой передвинула курсор, изменив статус вызова на приоритетный. В графе «основание» машинально написала: «многократные обращения по адресу». Пальцы сами собой потянулись к фотографии сына. Привычный жест успокоения.
«Все равно ничего страшного. Максимум – патруль побеспокоит соседей. Зато я сделала все по инструкции».
***
Дождь начался ровно в тот момент, когда их Форд свернул на Фласк-Стрит. Не теплый летний ливень, а холодная, пронизывающая морось, которая лезла под воротник и заползала в рукава. Капли барабанили по крыше машины с монотонностью метронома, отсчитывающего последние минуты перед чем-то неотвратимым.
Дэнни Моррис выключил сирену одним движением пальца. Этот жест он повторял уже тринадцать лет службы. Но мигалки оставил. Синие всполохи прыгали по мокрому асфальту, отражались в лужах, превращенных дождем в черные зеркала, цеплялись за ржавые цепи бродячих собак. Его руки, покрытые шрамами, которые белели на смуглой коже, привычно отбивали ритм на руле. Не случайный стук, а именно тот мотив, который крутился у него в голове с самого утра. «Дом восходящего солнца».
Запотевшие стекла превращали мир за пределами машины в сюрреалистичное полотно. Фонари расплывались кровавыми ореолами, силуэты домов теряли четкие границы, а в просветах между зданиями клубилась тьма, густая, как дым после пожара. Где-то там, в конце улицы, должен быть дом №184.
Дэн невольно сбавил скорость, когда стрелка спидометра пересекла отметку тридцати.
– Опять старухи чуют смерть через стены, – проворчал Дэн, прищуриваясь так, что морщины у глаз сложились в веер.
Голос его звучал хрипло, будто наждачная бумага. Последствия двадцати лет курения и сотен таких же вызовов.
Ройс Картер молча кивнул, сжав блокнот. Он был новичком. Всего восемь месяцев в отделе, еще не научился, как Дэн, прятать страх за циничными шутками.
Его блокнот был испещрен не только служебными заметками, но и неровными зарисовками: Дэн в образе ворчливого медведя в бронежилете, сержант Харис с мордой бульдога.
– Там дети, – прошептал Ройс, проводя пальцем по экрану планшета, голос дрогнул на последнем слоге. – Трое. Младшему… тринадцать. Девчонка.
Дэн швырнул в рот мятный леденец. Сахарная сладость смешалась с горечью кофе и тем привкусом, который всегда витал в воздухе перед чем-то плохим – смесью пота, страха и оружейной смазки.
– Значит, либо очередная истеричка, либо настоящий ад, – пробормотал он, намеренно громко разгрызая конфету.
Звук хруста в тишине салона казался неестественно громким. Форд медленно полз по Фласк-Стрит, колеса шуршали по мокрому асфальту. Улица притворялась спящей. Ставни плотно закрыты, занавески неподвижны, но Дэн знал, что за каждым окном кто-то стоит, притаившись.
Здесь давно усвоили простое правило – чем меньше видишь, тем дольше живешь.
Дом №184 стоял особняком, будто отшатнувшись от соседей. Облупившаяся краска шелушилась, как старая кожа, а покосившееся крыльцо скрипело на ветру, словно больной сустав. Окна, черные и пустые, отражали вспышки полицейских мигалок, словно подмигивая пришедшим.
Дэн заглушил двигатель. Внезапно наступившая тишина оглушила. Теперь слышалось только мерное постукивание дождя по крыше и собственное учащенное дыхание Ройса.
– Смотри, – прошептал напарник, и луч его фонаря дрогнул, выхватив из темноты приоткрытую дверь. На пороге темнела лужица, ее края медленно расползались по пористому дереву, впитываясь в трещины. Что-то в ее неестественно ровной поверхности заставило Дэна сглотнуть ком в горле.
Он поднялся по ступеням, стараясь не дышать. Рука сама легла на рукоять тазера – старый рефлекс, отточенный годами.
– Полиция! – голос гулко разнесся по пустому дому. – Кто-нибудь здесь…?
Ответом был лишь тихий скрип где-то в глубине – точь-в-точь как звук наступающей ноги на прогнившую доску. Дэн плечом толкнул дверь, она приоткрылась, но так и не ударилась о стену. Врезалась во что-то на пути. Дерево застонало, словно живое, открывая темноту прихожей.
Луч фонарика выхватил из мрака сначала туфли – дешевые, стоптанные, грязно-розового оттенка. Потом юбку, вывернутую набок. И наконец – женщину. Она лежала лицом вниз, пальцы впились в пол, будто в последний момент пыталась удержать ускользающую жизнь. Темное пятно на спине расползалось по блузке, образуя причудливый крылатый силуэт.
Дэн замер над телом, и вдруг время словно споткнулось. Этот запах. Он узнавал его. Дешевый парфюм, какой Луиза наносила еще в одиннадцатом классе, когда они сидели за одной партой на уроках химии. Она всегда красила ногти в ярко-красный, и лак неизменно облезал к середине недели.
«Лу?..» – прошептал он мысленно, ощущая, как в висках начинает стучать кровь.
В старшей школе она писала ему записки с котиками на полях. В прошлом году, когда он приезжал по вызову в соседний дом, она узнала его сразу. «Дэнни-ботаник!» – рассмеялась тогда, хотя глаза оставались усталыми. Он сделал вид, что не заметил синяка на запястье.
Теперь это самое запястье неестественно вывернуто, пальцы закоченели в последней судороге. Дэн вдруг вспомнил, как она когда-то стеснялась своих рук – «пальцы как у прачки», говорила.
– Ты ее знаешь? – прошептал Ройс, голос его дрогнул.
Дэн молча кивнул, сжимая фонарь так, что пластик затрещал. Где-то на втором этаже громко капнула вода. Звук эхом разнесся по мертвому дому.
– Господи… – Ройс замер на пороге. В свете фонаря его лицо стало восковым, глаза слишком большими, как у испуганного ребенка.
Его рука непроизвольно потянулась к рации, но Дэн резко схватил его за запястье. Кто-то еще мог находиться в доме.
Луч фонаря дрогнул в его руке, выхватывая из темноты очередной кошмар. На полу, лицом вверх, лежал паренек, раскинув руки в стороны. Лицо подростка, едва ли перешагнувшего двадцатилетний рубеж, было искажено последней гримасой ужаса. Глаза стеклянные, казалось, до сих пор видели что-то невыносимое. Рот застыл в немом крике, обнажая сломанный передний зуб, а запекшаяся кровь на губах напоминала нелепый макияж клоуна.
Патрульный явно ощутил, как по спине пробежал ледяной пот. Он узнал этого мальчишку – старший из детей Дэвисов, Джошуа. Всего месяц назад выписывал ему штраф за превышение скорости на своей потрепанной Хонде. Парень тогда клялся, что это в последний раз, глаза блестели, как у щенка.
– Проверь спальню, – его голос прозвучал чужим, хриплым, будто пропущенным через металлическую дробилку.
Они продвигались медленно, словно шли по дну высохшего океана. Каждый шаг оставлял кровавые отпечатки на потертом линолеуме. В спальне их встретила сюрреалистичная картина: Трэвис Дэвис лежал на супружеском ложе, аккуратно укрытый лоскутным одеялом, которое его жена сшила еще прошлой зимой. Лишь багровая лужа, пропитавшая простыню выдавала ужас происходящего. Его лицо, неожиданно мирное, почти умиротворенное, казалось, улыбалось во сне. На полу валялась пара пустых бутылок. Ройс чуть было не споткнулся об одну из них.
– Ванная… – голос Ройса сорвался на шепот, когда луч его фонарика выхватил приоткрытую дверь.
Лорен. Маленькая Лорен с ее смешными косичками и мечтой стать ветеринаром.
Она сидела в пустой ванне, склонив голову набок, точно слушала чью-то тайну. Грязная вода омывала ее ноги в разноцветных носочках. Тех самых, непарных, которые она любила носить. Только страшный рот на шее, похожий на вторую улыбку, рассказывал правду.
Дэн почувствовал, как желудок сжался в тугой узел, а во рту появился привкус медных монет. Где-то в глубине сознания всплыла картинка: Лорен на прошлогоднем школьном празднике, раздающая кексы с розовой глазурью.
«Я сама украшала, офицер Моррис!»
Послышался тихий, совсем едва слышный стон. Дэн и Ройс ворвались в гостиную, оружие в дрожащих руках наготове, сердца выпрыгивали из груди. Они готовились к перестрелке, к маньяку с ножом – к чему угодно, но не к этому.
Колени подкосились, и Энтони осел на пол, как тряпичная кукла, обе руки впились в живот. Кровь сочилась сквозь пальцы, оставляя темные потеки на футболке. Когда свет фонаря ударил ему в лицо, он медленно поднял голову. Серые губы дрожали, но глаза… Глаза смотрели сквозь них.
– Не… – его голос был похож на скрип ржавых петель. – Не стреляйте… – Ладони, липкие от крови, медленно поднялись в немом жесте капитуляции. Пальцы дрожали, оставляя алые мазки на грязной стене.
Внезапный спазм сотряс его тело. Голова дернулась назад, ударившись о кирпич. Холодный пот стекал по вискам, смешиваясь с кровью и пылью, образуя мутные розовые ручейки на щеках.
– Я… – шепот превратился в кровавый пузырь, лопнувший на синеющих губах.
– Скорую! Сейчас же! – рявкнул Дэн, уже срывая с себя куртку. Он рухнул на колени, с силой прижал сверток ткани к ране. – Держись, черт возьми!
Ройс орал в рацию, голос срывался на визг. Куртка под ладонями Дэна быстро пропитывалась теплой липкой массой.
– Повторяю! Четыре трупа! Один пострадавший, состояние критическое! Нужна реанимация, сейчас же!
Его слова повисли в воздухе, перекрывая хриплое дыхание Энтони. Куртка под ладонями Дэнни уже полностью пропиталась кровью, теплая жидкость сочилась сквозь пальцы.
– Где чертова скорая?! – прошипел Дэн, чувствуя, как пульс Энтони становится все слабее под его руками.
Из рации донеслось:
– Экипаж в двух минутах. Держитесь.
Глава 3
Кармен тогда только начинала работать в полиции. Зеленая, но с острым взглядом, который замечал то, что другие пропускали. Дэвид Дженнер, молодой адвокат с идеальной репутацией, защищал того самого ублюдка, что изнасиловал и убил девушку в переулке за закусочной.
Он выиграл дело благодаря юридическим формальностям: недоказанность, ошибки в протоколе. В коридоре суда он поймал ее взгляд:
– Вы знали, что он виновен, да? – спросил он, поправляя галстук.
Его голос звучал… странно. Без триумфа. Почти сожалеюще.
– Да, – ответила Кармен, сжимая папку.
– Я тоже. – Он улыбнулся.
Не победной ухмылкой, а чем-то другим. Почти извиняющимся. Почти понимающим. Она не ответила на улыбку. Но через неделю приняла от него кофе.
«Капучино с двойной порцией эспрессо – вы же пьете только такой, верно? Я заметил в суде».
Через месяц его пальцы уже разминали ее плечи после долгой смены, а через год он надел ей на палец кольцо, бормоча что-то о единственном человеке, который видит мир так же трезво, как и он.
Ирония? Может быть. Но тогда, в первые годы, это работало. Пока не перестало.
Она верила в правила – он искал в них лазейки. Они могли бы дополнять друг друга, как день и ночь, но вместо этого превратились в войну миров.
«Ты не спасаешь людей, Кармен. Ты просто ставишь галочки в системе» – его любимый аргумент, отточенный, как лезвие. Он вонзал его в самое уязвимое место. В ее убеждения.
Он ненавидел ее график. Ненавидел эти бесконечные ночные дежурства, звонки среди ужина, ее одержимость работой.
Однажды устроил ужин при свечах. Белая скатерть, хрусталь, ее любимое вино. Она пришла в четыре утра, с темными кругами под глазами, но с горящими зрачками – «Мы наконец-то задержали серийного вора».
На утро нашла нетронутый ужин в мусорке, остатки вина в раковине.
Он хотел детей «для галочки». Чтобы семья выглядела правильной. Чтобы было, что показать друзьям. Когда родился Майкл, Дэвид нанял няню на полный день.
«Ты же все равно не сможешь быть с ним», – бросил он, глядя, как она застегивает форму.
Кармен так и не уволилась, не ушла в отпуск по уходу за сыном.
А через два года Дэвид и вовсе ушел. Он забрал Майкла так, как конфискуют улики. Методично, без права обжалования. Использовал ее пропущенные звонки, срочные выезды и пустые обещания уделить внимание собственному ребенку, как доказательство «непредсказуемости». Нанял психолога – ухоженную женщину в строгом костюме, – и та, перелистывая папку, бросила:
«Ребенку нужна стабильность».
Без ночных облав, без срочных вызовов, без матери, которая пропадает на сутки, потому что чужие дела для нее важнее.
Дэвид давил на вину методично, как на встречах с очередным клиентом:
«Ты же понимаешь, я могу дать ему то, чего ты не в состоянии обеспечить?»
Она не сопротивлялась. Не потому что боялась суда. А потому что в четыре утра, когда город затихал, а ее руки еще пахли пороховой гарью, она ловила себя на мысли:
«А вдруг он прав?»
Сейчас они не разговаривают. Он присылает фото раз в полгода. Майкл, первый класс, галстук, как у отца. Каникулы на море, ребенок один на фоне воды. Новый велосипед, улыбка на заказ, глаза как у незнакомца.
Единственное, что он никогда не запрещал – телефонные звонки. Потому что знает: ее голос – последнее напоминание Майклу, что у него есть мать. А еще потому что это удобно. Так проще объяснить сыну, почему она не приезжает.
Кармен решила стать диспетчером 911 не просто так.
Последние пять лет в патруле оставили на ней значительные отметины. Не шрамы, а что-то похуже. Постоянная беготня по невидимым следам, ночные засады, адреналин, который уже не бодрил, а высасывал душу. В тридцать лет она выглядела на сорок: морщины у глаз от вечного прищура, пересохшие губы, привычка вздрагивать от звонка телефона.
Перевод на «тихую» должность должен был стать спасением. Но тишина в диспетчерской оказалась обманчивой. Теперь она слышала крики по телефону.
– Меня убивают, помогите!
– Он вломился в дом, он здесь!
– Боже, она не дышит!
И каждый раз, когда она отправляла наряд по адресу, в голове стучало: «А что, если это Майкл?»
Дэвид был прав в одном – график стал предсказуемым. Но голоса в трубке преследовали ее даже во сне.
Все оказалось куда хуже, чем следовало бы ожидать. Многих людей родители или телевизор воспитали неправильно. Большинство звонков не стоили даже гроша. Люди звонили из-за пауков в ванной, из-за холодного кофе, из-за того, что ветка за окном выглядит подозрительно. Настоящие крики о помощи тонули в этом потоке абсурда.
Никто не предупредил Рейес, что диспетчерская 911 – это камера пыток с наушниками.
Когда не хватало операторов, а людей не хватало всегда, смена превращалась в марафон без финишной ленты. Восемь, десять, двенадцать часов прикованной к креслу, где даже поход в туалет нужно было согласовывать.
«Джексон, мне срочно нужна подмена. 60 секунд».
И если повезет, то через полчаса кто-то снисходительно бросал:
«Беги, у тебя три минуты».
А еще существовало негласное правило. Плохой погоды для диспетчеров – не существует. Они были как те солдаты на поле боя, о которых забывают, когда пишут историю.
Но самое страшное началось в ту смену, когда у Кармен лопнул мочевой пузырь. Буквально. После семи часов без возможности отлучиться, сквозь спазмы и туман в глазах она продолжала принимать вызовы.
«Да, сэр, мы уже отправили… нет, я не могу ускорить… да, я понимаю, что ваш кот…»
А когда сменившийся коллега нашел ее в туалете на полу, в луже крови и мочи – первым вопросом было:
«Ты хотя бы передала вызов перед тем, как… ну…»
Кармен тогда впервые задумалась – а звонят ли в 911, когда умирает сам диспетчер? Система не предусматривала поломок.
Она иногда вспоминала, как месяц назад у Марка случился инфаркт. Пока он хрипел, уткнувшись лицом в клавиатуру, его наушники транслировали в эфир:
«Если вы не пришлете кого-то прямо сейчас, я сам его прирежу, понимаете?!»
Приехавшие медики сначала отключили его микрофон, и только потом начали непрямой массаж сердца.
Ответ на ее вопрос оказался прост. Да. В 911 звонят, когда умирает диспетчер. Но только чтобы сообщить, что «оператор не отвечает», и потребовать замену.
У каждого своя чрезвычайная ситуация.
Одни звонят в 911, стиснув зубы, пытаясь вспомнить, сколько нажатий должно быть между вдохами, пока у ребенка под пальцами слабеет пульс. Голос в трубке дрожит, но держится, потому что если сорвется сейчас, то сорвется все.
Другие набирают тот же номер потому, что их чертов пудель Тони в третий раз за месяц залез на стол и включил пожарную сигнализацию. И да, они искренне возмущены – как будто где-то в законах прописано, что оператор обязан выслушивать истерику про «эту тупую систему».
Они должны держать себя в руках.
Даже когда хочется бросить трубку. Даже когда кажется, что весь этот цирк – просто проверка на прочность. Даже когда в голове уже готов ответ:
«Знаете что, пусть Тони сам звонит в следующий раз. Может, у него получится объяснить ситуацию внятнее».
Они не бросают. Не кричат. Не вешают.
Потому что где-то в другом конце города, в эту же секунду, другой оператор принимает звонок про ребенка, который уже не дышит.
Потому что где-то между этими звонками – между «Помогите, я не знаю как ему помочь!» и «Эта дурацкая сирена не выключается!» – проходит тонкая грань.
Грань, которая напоминает, что мир не делится на черное и белое. Он серый. Как экран монитора в диспетчерской в шесть утра. Как пепел от сигареты, которую так и не успеваешь докурить. Как голос человека, который звонит не потому, что ему страшно, а потому, что ему лень.
И если уж кто-то должен сохранять рассудок в этом безумном мире – пусть это будут хотя бы они.
***
Яркий свет прожекторов вырвал дом из ночи, словно хирург, вскрывающий незажившую рану. Всполохи мигалок бились в окна, окрашивая стены в трупную синеву. Вольф вошел медленно, будто боялся потревожить тишину, которая уже была нарушена – не его шагами, а тем, что навсегда застыло на персидском ковре у входной двери.
Щелчок фонарика разрезал темноту. Луч света скользнул по спине Луизы, выхватывая жуткие подробности. Голубая блузка, теперь почерневшая от запекшейся крови. Ткань, прилипшая к позвоночнику, обнажала несколько входных отверстий.
– Удар в спину, – оглушительно громко в мертвой тишине дома.
Эдриан присел на корточки, соблюдая протокол, но не смог удержаться – в перчатке его палец сам собой провел по краю одной из ран.
– Даже не успела обернуться, – добавил он тише, будто извиняясь перед этой женщиной, чей один глаз оставался приоткрытым, застывшим в последнем удивлении перед узором ковра.
Ее пальцы вцепились в ворс так крепко, что пришлось бы отдирать их для транспортировки. Левая нога была подогнута под себя – начало движения, оборванного на полпути. На кухне витал призрачный аромат чая, смешанный с чем-то металлическим.
Гарсия, ее каштановый хвост резко дернулся при движении, перешагнула через тело с профессиональной легкостью, которая граничила с кощунством. Планшет в ее руках светился холодным голубым светом, освещая лицо снизу, как в дешевом фильме ужасов.
– Никаких следов взлома, – констатировала она, тыкая пальцем в экран. – Дверь открыта изнутри.
Пауза повисла тяжелее трупа на полу.
– Значит, знала убийцу, – задумчиво пробормотал Эдриан.
Санчес фыркнул, доставая сигарету:
– Или думала, что знала, – зажигалка вспыхнула оранжевым глазком в полумраке. – Разница обычно в шести дюймах стали между ребер.
– Детектив.
Люси произнесла это слово слишком ровно, слишком правильно, как диктор на похоронах. Ее рука мелькнула перед самым лицом и сигарета исчезла изо рта Ирвина прежде, чем он успел вдохнуть.
– Давайте не будем добавлять помещению еще больше мерзких ароматов, – она сжала сигарету в ладони, убирая ее в карман пиджака. – Здесь и так смердит предательством.
Мужчина недовольно цокнул языком, словно отгоняя назойливую муху, и тяжело двинулся по тесному коридору. Его тень, искаженная неровным светом фонарей из окна, плясала по стенам, как призрак в камерном театре.
– Луиза Эллен Дэвис. Сорок пять лет, трое детей. – голос Люси звучал ровно, как диктофон, выдающий сухие факты. Ее каблуки осторожно ступали между кровавыми лужами. – Работала продавцом в «Бейкер-Беллс», горничной в отеле «Хезерлис-Плейс» и иногда помогала в доме престарелых.
– Одним словом – святая женщина! – Ирвин хмыкнул. Его голос звучал как скрип несмазанной двери. – Только святые обычно не получают нож в спину от благодарных постояльцев.
– Трое детей, – повторила она, и в этот раз голос дрогнул, будто на миг коснувшись чего-то живого под слоем профессиональной холодности. – Самому младшему тринадцать.
– Что насчет мужа? – Вольф бросил вопрос через плечо, его фонарь выхватывал из темноты осколки разбитой вазы.
– Трэвис Скотт Дэвис, пятьдесят два года, безработный… – Люси нахмурилась, ее палец замер над экраном планшета ровно в тот момент, когда за поворотом коридора их фонари выхватили из мрака распахнутую дверь спальни и фигуру на кровати.
Санчес вдруг прыснул смехом:
– Трэвис Дэвис… Придумают же имечко. Прямо как тот певец кантри, помните? «Пьянь да скандалы»? – Его смех оборвался, когда луч света скользнул по лицу мертвеца.
– Только вот этот, – Вольф наклонился ближе, – похоже, пел свою последнюю песню без музыки.
Из ванной комнаты, расположенной прямо в спальне, вышел мужчина, стягивая с рук перчатки.
– Младшая в ванной, – он качнул в сторону открытой двери. – Горло перерезали. А этого сначала пытались задушить. Видите следы? – Он провел пальцем в сантиметре от шеи трупа. – Но что-то пошло не так. Тогда просто пырнули. И не единожды. Он даже не проснулся. Нажрался как скотина.
Люси отвернулась. Где-то в доме тикали часы.
– Значит, сначала девочку, потом его, а Луизу – последней? – спросил Ирвин.
Мартинес пожал плечами.
– Или мать увидела, как убивают дочь, попыталась бежать… и получила нож в спину.
Санчес закурил наконец долгожданную сигарету, от чего девушка тут же нахмурилась. Дым заклубился в воздухе, смешиваясь с запахом крови и виски.
– Веселая семейка.
– Там еще один в коридоре, – Гарсия вышла из спальни, размеренный стук каблуков разнесся по дому.
Узкое пространство между кухней и гостиной стало последней ареной для Джошуа. Кровавая дорожка тянулась за ним, как зловещий след из сказки про Гензеля и Гретель, только вместо хлебных крошек – капли жизни, покидающей тело.
– Бежал, – Ирвин сделал глубокую затяжку, выпуская дым через ноздри. – Да не добежал.
Дерек замер у стены, где застыли кровавые полосы. Его пальцы, не касаясь, повторили траекторию царапин в воздухе – вверх, вниз, словно расшифровывая последнее послание мертвеца.
– Вызывай ребят. Пусть еще раз перетрясут это место. – Он медленно обернулся, взгляд скользнул по фотографиям на стене – улыбающиеся лица, застывшие моменты, теперь ставшие доказательствами. – И найди кого-нибудь, кто разбирается в семейных тайнах.
Тишина в доме была особенной. Густой, насыщенной, будто стены впитали в себя последние крики и теперь хранили их под обоями, вместе с кровью и царапинами.
– Потому что, судя по всему, этот дом слишком много знал. – Дерек наклонился, надевая перчатку, и поднял с пола осколок фарфора от разбитой вазы. На нем остался полустертый отпечаток пальца. – И кто-то очень хотел, чтобы он наконец замолчал.
Где-то наверху скрипнула половица, будто дом и правда попытался что-то сказать. Но теперь это были уже не слова. Только предсмертный хрип.
Глава 4
Старшая школа «Риверсайд» стояла массивной, угрюмой, с кирпичными стенами цвета запекшейся крови. Архитектор, если таковой вообще существовал, явно вдохновлялся дешевыми хоррорами: узкие, как бойницы, окна, облупленная штукатурка, а над главным входом – полустертая надпись «Добро пожаловать», выглядящая теперь как зловещая насмешка.
Стены испещрены граффити, будто чьи-то последние слова перед гибелью. «Здесь был Трой» – кричало желтой краской у спортзала. «Учитесь или сдохните» – черным поребриком вдоль лестницы, ведущей в подвал, откуда пахло сыростью.
Третий этаж давно сдался под натиском времени: стекла в окнах зияли пустотами, осколки поблескивали, как остатки чьих-то надежд. Говорили, их разбили еще в 2005-м, после того, как команда по баскетболу проиграла финал округа. С тех пор никто не удосужился вставить новые, будто школа и не заслуживала ремонта.
А спортзал… О, спортзал был отдельной поэмой упадка. Каждый дождь превращал его в подобие римских терм – потолок протекал, оставляя на полу лужи, в которых отражались ржавые баскетбольные кольца. Влажный воздух пропитывался запахом старого дерева, пота и чего-то затхлого, словно само здание дышало на тебя затхлым дыханием.
Но самое странное? Дети все равно приходили сюда каждый день. Каждое утро ржавые автобусы, скрипя, выплевывали их на разбитую парковку. Они волочили рюкзаки по облупленным ступеням, швыряли в урны недоеденные завтраки, перешептывались в тени облупившихся колонн.
«Риверсайд» не убивал их – он просто медленно вытравливал из них веру в то, что может быть иначе.»
Семья Смитов уехала в прошлом году – отец запил, мать сбежала с дальнобойщиком. У Тейлоров просто кончились деньги на аренду. Джессика Морган исчезла после того, как ее мать нашла работу в другом штате. Просто собрала вещи в два часа ночи и укатила в темноте, даже не попрощавшись.
К весне оставались только те, кому некуда было бежать. Они уже не возмущались протекающей крышей спортзала. Не морщились, отдирая жвачку от стульев в столовой. Они просто ждали.
Выпускного. Совершеннолетия. Первого же поезда на восток.
А школа стояла, как заброшенная фабрика по переработке душ – кирпичная, равнодушная, вечная. Новые граффити появлялись поверх старых. Новые лица на места исчезнувших.
И так – год за годом.
Эллен Ривс приехала в Блэкстон в тот день, когда лето окончательно выдохлось.
Ее бледно-розовые волосы, коротко обрезанные по плечи, напоминали выцветший небосвод на рассвете, словно она привезла с собой кусочек чего-то хрупкого и ненастоящего в этот город, где даже воздух казался густым от пыли и усталости. Карие глаза, в которых изредка поблескивал медовый оттенок, внимательно скользили по улицам, словно искали хоть что-то знакомое. Но Блэкстон не собирался давать ей опору.
Ее мать, миссис Ривс, получила место преподавателя английского в «Риверсайде» – «отличная возможность», как значилось в письме от директора. Возможность для чего? Эллен так и не поняла. Может, для того, чтобы медленно раствориться в этом месте, где время текло, как патока, а будущее казалось таким же туманным, как осенние поля за окном их новой квартиры.
Она стояла у входа, сжимая ремень рюкзака, и думала о том, что «Риверсайд» выглядел так, будто его не строили, а выплюнули из недр какого-то старого, злого сна. Стены старшей школы нависали над ней, словно декорации из того самого фильма ужасов, который она смотрела в десять лет и потом неделю не могла спать. Только здесь не было режиссера, который крикнет «Стоп!», и никакая дверь не вела обратно в безопасную реальность.
Она сделала шаг внутрь и воздух ударил в лицо. Запах. Он обволакивал сразу, густой и многослойный: пыльные фолианты из школьной библиотеки, едкий отбеливатель, которым ночной сторож отчаянно пытался замаскировать следы подросткового бунта. Но под этим – что-то еще. Что-то глубинное, въевшееся в самые стены. Плесень? Да. Страх? Возможно. А может, просто запах времени, застоявшегося в этих коридорах, как болотная вода.
Эллен не умела знакомиться. В этом не было ни кокетства, ни расчетливой отстраненности. Просто ее социальные навыки напоминали выцветшую карту: где-то размытые границы, где-то зияющие пустоты. Она не знала, как первой заговорить, как улыбнуться «правильно», как вплестись в уже готовый узор школьных компаний.
Поэтому она цеплялась. Как утопающий за соломинку. Как потерявшийся ребенок за руку первого взрослого. Если кто-то бросал ей «Привет» у шкафчиков – она тут же прилипала к нему на весь день, становясь тенью, безропотным слушателем, живым подтверждением того, что ее новый знакомый действительно существует.
Так было проще. Не нужно было придумывать, кто ты, достаточно было отражать чужие интересы. Не нужно бояться отказа, ведь это не ты выбрала, это тебя выбрали.
В Блэкстоне эта стратегия дала сбой. Здесь школьники были другими. Они не бросали случайных «приветов», не задерживали на ней взгляд в столовой. Они будто уже знали, что Эллен временная, что ее розовые волосы и мелькающий в глазах мед скоро исчезнут, как исчезали до нее десятки других.
И тогда она совершила ошибку – ухватилась за первое же предложение.
***
«Дэвис? Ты не родственник тому самому Джошуа?»
Фраза, от которой у Энтони сводило челюсти. Он видел, как менялись их лица – эти внезапные вспышки интереса, эти оживленные нотки в голосе. Даже самые замшелые преподаватели, которые за пять минут до этого не могли вспомнить его имя, вдруг преображались.
– О, Дэвис! Ты брат Джошуа?
Голос учителя неизменно теплел, словно он обращался не к Энтони, а к отражению того самого золотого мальчика, который три года назад наконец-то сбежал из этого душного городка. В глазах вспыхивал тот самый противный огонек – смесь ностальгии и глупых надежд, что, может быть, и этот окажется «чем-то особенным».
Даже мистер Харп, обычно непробиваемый, на секунду размягчался, прежде чем хмуро бросал:
– Только не думай, что это даст тебе поблажки.
Как будто Энтони вообще об этом просил.
Джошуа давно уехал, но его тень по-прежнему витала в коридорах «Риверсайда». Она смотрела на Энтони с выцветшей фотографии на доске почета, где его брат улыбался в обнимку с кубком за чемпионат 2013 года. Шепталась из граффити в мужском туалете – «Джош Д. – король!», выведенное кривыми буквами кем-то из его восторженных поклонников.
Звучала в историях, которые учителя с придыханием рассказывали новичкам, словно речь шла не о простом парне, а о каком-то мифическом герое.
А Энтони был всего лишь постскриптумом.
«Джошуа выиграл для нас чемпионат!»
«Джошуа мог уговорить кого угодно!»
«Джошуа…»
«Джошуа…»
«Джошуа…»
«Джошуа…»
Но никто не говорил о том, как Джошуа в последний год почти перестал приходить домой. Как однажды ночью Энтони слышал, как он кричал на мать. Как утром после выпускного он просто исчез, не оставив даже записки.
Энтони стискивал зубы и терпел. Он не был Джошуа. И, черт возьми, он не хотел им быть.
Он выработал свой ритуал до автоматизма: приходить ровно за 15 минут до звонка, когда коридоры «Риверсайда» еще хранили утреннюю прохладу и пустоту. Его кроссовки ступали по выщербленному линолеуму с размеренностью метронома. Он двигался по отработанной траектории – вдоль стен, мимо закрытых дверей кабинетов, там, где не нужно было ни с кем сталкиваться.
Очки были его щитом. Толстые линзы в черной оправе, всегда слегка спущенные на нос. Они создавали нужную дистанцию. Мир за их стеклами становился чуть размытым, менее настоящим. Когда солнечный свет падал под углом, на стеклах появлялись блики, и тогда Энтони мог вообще не видеть лиц, только силуэты, не требующие ответа.
Если кто-то все же окликал его, обычно это были учителя, одноклассники давно перестали пытаться, он делал паузу. Медленно поднимал голову, будто выныривая из глубины. Пальцы тянулись к очкам – механическое движение, отточенное за годы. Он протирал стекла подолом рубашки, выигрывая драгоценные секунды.
– Мм?.. – это было его самое распространенное слово.
Иногда, если вопрос требовал большего, он поправлял очки на переносице. И тогда мир снова отдалялся на безопасное расстояние.
Заброшенная площадка стала его убежищем. Там, где ржавые турники скрипели на ветру, а асфальт давно потрескался, уступая место упрямым росткам сорняков, Энтони мог наконец снять очки и перестать быть «тем самым Дэвисом».
Он приходил сюда после уроков, когда солнце клонилось к закату, окрашивая ржавые конструкции в кроваво-красный цвет. Садился на покосившуюся скамейку, доставал потрепанный томик фантастики и на время забывал о школе, о брате, о всех этих ожиданиях, которые давили на плечи, как тяжелый рюкзак.
Иногда к нему присоединялись Рон и Лиам – такие же «невидимки», как и он. Рон, тощий, как жердь, с вечными синяками под глазами. Лиам – молчаливый паренек с тушью на пальцах и блокнотом, полным странных, пугающих рисунков. Они не требовали от Энтони быть кем-то другим, не спрашивали про Джошуа и не ждали, что он станет душой компании.
Они просто были. Курили дешевые сигареты, украденные у родителей, сплевывали в трещины в асфальте, смеялись над тупыми шутками. Иногда Лиам читал вслух свои мрачные стихи, а Рон рассказывал байки, которые подслушал у дальнобойщиков. А Энтони просто дышал – полной грудью, без этого вечного кома в горле.
И если в эти моменты кто-то случайно проходил мимо, он видел лишь троих невзрачных парней, убивающих время. Но для Энтони это было гораздо важнее.
Они не планировали становиться чьим-то пристанищем. Но так вышло.
Сначала к ним присоединился Рикки – пухлый паренек с вечно перепачканными краской руками, отец держал авторемонтную мастерскую. Он просто присел на соседний турник в тот день, когда его девушка бросила его по смс. Никто не стал задавать лишних вопросов. Просто передали ему банку дешевого энергетика, и этого было достаточно.
Потом пришла Сэм – высокая, угловатая, с коротко стриженными рыжими волосами и взглядом, от которого даже учителя порой отводили глаза. Она принесла с собой гитару и начала наигрывать мрачные мелодии, пока остальные курили и молча кивали в такт.
Они не были друзьями в том слащавом смысле, который показывают в подростковых сериалах. Не давали глупых клятв, не носили браслетов-дружбы.
– Ты еще жив?
– К сожалению.
Этого хватало.
Но с каждым новым человеком Энтони чувствовал себя все более не на своем месте.
Его скамейка. Его тишина. Его уголок безопасности. Теперь здесь было слишком много голосов, слишком много взглядов. Он ловил себя на том, что снова надевает очки посреди разговора, что пальцы сами собой тянутся к книге, как к щиту.
Особенно, когда появилась она. Та новенькая. Слишком навязчивая. Слишком голодная до общения. Слишком похожая на того, кем он не хотел быть.
Сэм привела ее, как бездомного щенка.
Эллен стояла на краю их заброшенной площадки, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, будто боялась, что асфальт под ней внезапно провалится. Ее розовые волосы торчали в разные стороны, словно она только что пережила ураган.
– Вот, смотрите, что я нашла, – Сэм широко ухмыльнулась, толкая Эллен вперед, как нелепый экспонат на выставке.
Рон фыркнул, выпуская дым через ноздри. Лиам даже не поднял глаз от блокнота – просто продолжил штриховать очередной эскиз.
Энтони напрягся. Он знал этот взгляд. Этот отчаянный взгляд человека, который готов вцепиться в первого, кто проявит к нему хоть каплю интереса. Он слишком часто видел его в зеркале, прежде чем научился прятать.
– Она новенькая, – пояснила Сэм, плюхнувшись на ржавые качели. – Ее мамка теперь преподает здесь.
– Эллен, – пробормотала та, слишком быстро, словно боялась, что ее перебьют. – Меня зовут Эллен.
Тишина. Только ветер шелестел страницами книги в руках Энтони.
Потом Рикки неловко хмыкнул:
– Ну… привет, Эллен.
Она улыбнулась слишком широко, слишком радостно, будто эти два слова были для нее целой ораторией.
Энтони почувствовал, как что-то внутри него сжимается. Его люди. Его покой. И теперь здесь стояла она – живое напоминание о том, чем он сам мог бы стать, если бы позволил.
Три дня в неделю – их священный график побега.
Понедельник. Среда. Пятница. В эти дни, ровно в четыре, они стекались к ржавым турникам, будто по какому-то негласному сигналу. Выходные были под запретом – у кого-то родители дома, у кого-то церковь или бессмысленные семейные обязательства. Но трижды в неделю эта площадка становилась их территорией.
Лиам тащил в рюкзаке настолки. Потрепанные коробки с нехваткой фишек, где правила всегда менялись по ходу игры. «Монополия» с самодельными купюрами. «Мафия», в которой Рикки всегда был в числе победителей, потому что умел врать лучше всех.
Сэм была их поставщиком. Ее поддельные права, потрепанная ламинированная карточка с размытой фотографией, открывали двери в мир дешевого пива и вонючих сигарет. Она покупала все в крохотном магазинчике на окраине, где продавцу было плевать, сколько тебе лет, лишь бы деньги были настоящие.
Рон – их неожиданный кормилец. Его карманы всегда были полны сюрпризов: мятые пачки печенья с истекшим сроком годности, батончики с разломанной глазурью, иногда даже консервы без этикеток – «нашел у дяди на складе», бросал он небрежно, и никто не спрашивал, какой именно дядя и что это за склад.
В четверг вечером он исчезал сразу после уроков, а в пятницу появлялся с полиэтиленовым пакетом, набитым тем, что можно было условно назвать едой:
– Вон те чипсы только чуть просрочены, – швырял упаковку Сэм, которая ловила на лету. – А это… ээ… вроде как мясное.
Лиам осторожно нюхал подозрительные пирожки, завернутые в салфетки, но все равно ел первым. Голод был сильнее страха.
Эллен в первый раз осторожно спросила:
– А это… точно можно?
Рон только хрипло рассмеялся:
– Живем же пока.
Энтони наблюдал, как она нерешительно берет кусок пиццы и вдруг понимал – она боится. Боится отказаться, боится спросить, боится лишний раз потянуться за добавкой.
Как и он. И это бесило его больше всего.
У каждого из них была своя роль в этой странной компании и каждый, даже не сговариваясь, следовал своим задачам.
Иногда, если звезды сходились правильно, они собирались у кого-то дома. У Лиама, когда его мать уезжала к сестре. В полутемной квартире, заваленной холстами и банками с краской, они включали старый проигрыватель и спорили о музыке. У Рикки в душном гараже, где пахло маслом и старыми одеялами. Там было тесно, зато никто не мешал. У Рона редко. Только когда отец был в рейсе. Тогда они рассаживались по обшарпанному дивану и смотрели пиратские копии фильмов с отвратительным качеством, пока мать Рона не возвращалась с работы.
Эти вечера были особенными. Более хрупкими. Более настоящими.
Его дом был неприступен. Не в метафорическом смысле, в самом прямом. Отец, давно потерявший работу, превратил гостиную в свой персональный лагерь: вечно включенный телевизор, пустые банки из-под пива на подоконнике, запах пота и немытой посуды. Он не уходил. Никогда. Как будто боялся, что стоит ему отвернуться и дом рассыплется в прах.
А комната Энтони была последним рубежом. Книги, аккуратно расставленные по алфавиту. Одежда, сложенная в стопки. Даже пыль на подоконнике лежала ровным слоем, он вытирал ее каждую субботу, строго в десять утра.
Никто не заходил сюда. Никто. Даже отец.
Если ему вдруг требовалось что-то сказать, он стоял за дверью, постукивая костяшками пальцев:
– Ты там.
Не вопрос. Не просьба. Констатация факта. Энтони отвечал тем же:
– Я здесь.
И этого хватало.
Когда Рон как-то раз спросил:
– А у тебя когда-нибудь собираемся?
Энтони просто покачал головой. Сэм закатила глаза:
– Ну ты даешь.
Они думали, что это он не хотел. Но правда была в том, что он не мог. Эта комната – единственное место, где он мог снять очки и не быть никем. Ни братом Джошуа. Ни тихим парнем с задней парты. Ни даже частью их странной компании. Просто Энтони.
И когда Эллен как-то невинно спросила:
– А где живешь ты?
Он впервые за все время резко оборвал разговор:
– Не твое дело.
Потом, конечно, пожалел – увидел, как ее губы дрогнули, как пальцы сжали край свитера. Но было поздно. Дверь захлопнулась.
Иногда, особенно после тех редких дней, когда им удавалось собраться у кого-то еще, он лежал в темноте и представлял, как это – пригласить их сюда.
Темнота его комнаты становилась тогда экраном. Энтони лежал неподвижно, вглядываясь в потолок, а воображение, предательское, неконтролируемое, рисовало картины одна ужаснее другой:
Лиам у окна, поджав ноги, с карандашом, замершим над страницей. Его профиль в лунном свете выглядел бы как старинная гравюра. Он молчал бы, конечно. Но его присутствие наполнило бы комнату тихим пониманием.
Сэм на полу, прислонившись к кровати, с неизменной сигаретой в пальцах.
«Ты живешь как монах, блять», – фыркнула бы она, но тут же достала бы гитару и заиграла что-то настолько грубое и живое, что даже стены, казалось, вздохнули бы свободнее.
Рон у книжной полки – неожиданно. Его корявые пальцы осторожно перебирали бы корешки, будто ища не название, а текстуру.
«У тебя тут… нормально», – пробормотал бы он и вдруг вытащил из кармана смятый шоколадный батончик, оставшийся неизвестно с каких времён.
А Эллен… Здесь фантазия предательски ярчала.
Она сидела бы на краю его кровати – неловко, как птица, готовая взлететь при малейшем шорохе. Ее розовые волосы в полумраке казались бы не такими кричащими. Может, она даже осмелилась бы спросить что-то вроде:
– Это твоя любимая?
И показала бы на книгу в его руках.
Резкий поворот на бок. Матрас скрипел под ним, как живой укор.
Они не принадлежали этому месту. Никто не принадлежал. Особенно она.
Эллен – эхо без собственного голоса. Она научилась растворяться.
Не физически. Нет, ее розовые волосы все так же выделялись в серой массе школьных коридоров. Но в их компании она стала чем-то вроде теневого отражения: кивала, когда смеялись остальные, морщила нос, когда Сэм сквернословила, даже курила с тем же нелепым выражением лица, что и Рон.
Но иногда – ломалась.
– А вы когда-нибудь думали, что мы все, может, уже мертвы, и это чистилище? – выпаливала она вдруг посреди обсуждения вчерашнего матча.
Тишина. Потом Сэм фыркала:
– Бля, ну ты выдала.
И Эллен тут же сжималась, будто ее физически шлепнули по носу.
– Да… глупость, – бормотала она, торопливо затягиваясь сигаретой и кашляя.
Энтони наблюдал. Его раздражала эта отчаянная мимикрия. То, как она вчера повторяла за Лиамом «чертовы капиталисты», хотя явно не понимала смысла. Как сегодня уже копировала Рона, нарочито грубо сплевывая между турников.
Но больше всего его бесило другое. Он понимал ее. Потому что за всей этой нелепой игрой в «свою» он видел то же, что и в зеркале по утрам – испуг. Страх оказаться лишней.
Именно поэтому в тот день, когда она в очередной раз осмелилась, он неожиданно для себя вступился:
– Да ладно, – пробормотал Энтони, не поднимая глаз от книги. – Не такая уж и глупость.
Эллен замерла. Сэм подняла бровь. А Лиам… Лиам странно ухмыльнулся, будто что-то понял.
Глава 5
Полицейский участок больше походил на лазарет после боя, чем на рабочее место следователя.
Бумаги повсюду. Не аккуратные стопки, а хаотичные завалы, словно кто-то методично перерывал каждый лист в поисках той самой, единственной зацепки. Фотографии жертв, пришпиленные к пробковой доске, казалось, не просто висели там – они наблюдали. Застывшие глаза, открытые рты, бледная кожа под вспышкой фотокамеры.
А в центре этого хаоса – он. Эдриан Вольф.
Сигаретный дым вился вокруг него, как туман над болотом. Третья за час, и явно не последняя. Пепел длинной змейкой тянулся к краю стола, вот-вот готовый обрушиться.
Санчес сидел напротив, отчет судмедэксперта в руках. Его пальцы чуть дрожали, когда он перелистывал страницу за страницей.
– Черт возьми, Эдриан… – Голос его сорвался, будто слова застряли где-то между горлом и губами.
Вольф поднял взгляд.
– Ну?
Санчес швырнул папку на стол, откинулся на стуле, и его лицо вдруг стало старше – не на годы, на десятилетия.
– Это же бойня.
Дым рассеялся у окна, смешавшись с городским смогом. Где-то внизу зазвонил велосипедный звонок, чей-то смех взлетел в воздух, как конфетти. Жизнь – наглая, яркая, не замечающая того, что происходит за этим стеклом.
– Да. – Окурок с хрустом поддался под его пальцами, оставив после себя только серый прах. Вольф не сводил глаз с Санчеса. – Так говоришь, словно своими глазами этого не видел.
Голос его напоминал скрежет металла по льду – холодный, резкий, безжалостный.
Санчес провел рукой по лицу, будто пытаясь стереть с себя следы той бойни, что навсегда впечаталась в сетчатку.
– Видеть-то видел… – Его пальцы сжались в кулаки, потом разжались. – Но копаться в этом – еще того хуже.
Где-то за стеной зазвонил телефон, застучали каблуки секретарши. Обычный день. Обычный кошмар. Вольф потянулся за новой сигаретой.
– Кто-то же должен.
Вольф протянул руку, и Санчес передал ему папку. Старый детектив открыл ее на странице с фотографией Луизы Дэвис.
Его пальцы, шершавые от табачного пепла и вечной работы с бумагами, скользнули по глянцевой поверхности снимка. Фотография запечатлела последний момент жизни женщины. Не саму смерть, а ее след: темные дыры на спине, растекшуюся по полу юбку, неестественно вывернутую руку.
– Пять ударов в спину, – констатировал Вольф.
Голос его звучал так, словно он видел это своими глазами. Первый удар. Нож входит чуть ниже лопатки. Она не кричит – только резко вдыхает, как будто ей перехватило дыхание. Второй. Третий. Она падает, но удары продолжаются. Четвертый. Пятый.
– Нападающий даже не дал ей шанса обернуться.
– Или не успела обернуться.
Вольф медленно поднял на него взгляд.
– Разница есть. – Он отложил фотографию и потянулся к следующей. – Если бы она успела – были бы следы борьбы. Царапины на руках. Может, даже клочок ткани под ногтями. – Вольф прищурился, мысленно поворачивая фотографию под тем же углом, под каким вошло лезвие. – Глубина двенадцать сантиметров, – произнес он, будто отмеряя расстояние на линейке. – Лезвие вошло под сорок пять градусов.
Его указательный палец резко дернулся в воздухе, воспроизводя траекторию удара. Вверх. Глубоко. Чуть вбок – чтобы обойти ребро.
– Повредило левую почку и аорту.
Санчес побледнел. Он все еще представлял себе боль, крик, ужас. Вольф же видел технику.
– Первый удар – смертельный. – Он перевернул страницу. – Но убийца не остановился.
На следующем снимке еще одна рана. Аккуратная. Точно рассчитанная.
– Второй удар. Ниже. Между ребер.
Палец снова двинулся по воздуху, но теперь строго вертикально – будто хирург, знающий, где искать сердце.
– Добивающий.
На столе между ними лежали не просто фотографии. Лежало доказательство, что они охотятся не за человеком. А за часовым механизмом смерти.
Бумага шуршала, как опавшие листья, когда Вольф перевернул страницу. Перед ними предстало лицо Джошуа Дэвиса – того самого «золотого мальчика», чья улыбка еще недавно красовалась на доске почета «Риверсайда». Теперь его черты были искажены предсмертной гримасой.
– Семь ран.
Вольф провел пальцем по снимку, останавливаясь на каждой отметине:
– Шесть – хаотичных. Рваные края, разная глубина, следы борьбы. Первый удар в живот. Второй в грудь. Третий, четвертый, пятый куда попало. Шестой… – его палец замер над последней, седьмой раной. – А вот это… – Тонкая, почти хирургическая линия на горле. – Посмертная.
Санчес наклонился ближе:
– Как будто его подчистили.
Вольф кивнул:
– Убийца дал волю эмоциям. А потом взял себя в руки. – Он откинулся назад, в глазах вспыхнуло понимание. – Он убеждался.
– Что? – Санчес нахмурился.
– Что Джошуа мертв. Шесть ран – это правда. Гнев. Ненависть. Может, даже страх. Потом контроль.
– Одно только не сходится – задумчиво произнес Ирвин, потирая ладонью затылок – Там такой кровавый след тянется по всему коридору, то ли его тащили, то ли…
– Не тащил его никто – наконец подал голос Морроу, щелкая ручкой. – Ты чем вообще смотришь?
Вольф замер с очередной сигаретой на полпути ко рту. Пепел осыпался на фотографию, будто серая пыль на фреску насилия.
– Сам пришел. – Морроу щелкнул ручкой еще раз, нервный, резкий звук, будто отсчет последних секунд перед взрывом. – Следы крови не линейные. – Он ткнул ручкой в снимок. – Капли веером. Мазки на стене. Отпечаток ладони у дверного косяка. Он шел.
– То есть… – Санчес резко вдохнул.
– Боролся. Получил первые удары. Упал. Потом встал.
Он перевернул страницу – фото Джошуа крупным планом. Сломанный нос. Синяки на костяшках.
– Оборонительные раны на руках.
Ирвин присвистнул:
– Нападал в ответ?
– Пытался. – Морроу щелкнул ручкой в третий раз. – Но шестой удар – под ребра, вот здесь – сделал свое дело.
Эдриан отодвинул фотографии и вдруг ухмыльнулся. Жестко, без удовольствия:
– Наш убийца оплошал. Джошуа заставил его немного понервничать.
***
Доктор Андерсен стоял у больничного подъезда, затягиваясь сигаретой так глубоко, будто пытался втянуть в себя не только дым, но и предрассветный холод. Сорок пять лет по паспорту. На вид все пятьдесят пять, если не больше. Время будто текло по нему быстрее, оставляя следы не годов, а бессонных ночей у операционного стола, тревожных ожиданий в лифтах реанимации, бесконечных смен, сливающихся в одну долгую вахту.
Высокий, под метр девяносто, он когда-то, наверное, казался богатырем. Широкие плечи, тяжелые, налитые силой руки. Но теперь его силуэт напоминал скорее медведя, вышедшего из спячки не в срок, мощь еще чувствовалась, но уже придавленная невидимой тяжестью. Спина слегка сгорблена, будто под грузом невысказанных слов, а пальцы, привыкшие вправлять кости и накладывать швы, слегка дрожали, зажимая фильтр сигареты.
Лицо будто карта, испещренная морщинами не от смеха, а от молчаливого напряжения. Глубокие складки у рта, будто прочерченные карандашом – следствие сжатых зубов в моменты, когда приходилось принимать решения за долю секунды. Мешки под глазами, синеватые и плотные, как старые кровоподтеки. А сами глаза серо-голубые, уставшие, но цепкие. Взгляд человека, который уже двадцать лет подряд видит людей на грани и потому разучился удивляться.
Но самое странное – в этом изможденном теле все еще жила сила. Не та, что бросается в глаза, а глубокая, притихшая, как пружина, сжатая до предела. Когда он двигался, чувствовалось, что каждое его действие. Точное, выверенное. Руки, несмотря на дрожь от усталости, все еще помнили, как держать скальпель. Плечи, хоть и ссутуленные, несли в себе упрямую готовность выдержать еще одну ночь, еще один кризис, еще одну попытку смерти забрать своего.
Он докурил сигарету, раздавил окурок под ботинком и потянулся к двери – обратно, в свет больницы, в гул аппаратов, в мир, где его ждали. Где он, несмотря на морщины, дрожь в пальцах и вечную усталость в глазах, все еще был тем, кто стоял между жизнью и смертью.
Его гардероб был продолжением характера. Без излишеств, без показного блеска, только суровая практичность, выстиранная до мягкости временем. На работе синие хирургические костюмы, одинаковые, как близнецы, с желтоватыми разводами от дезинфекции и вечными кофейными пятнами на груди. В кармане вечно торчала ручка без колпачка, оставляющая синие подтеки на ткани, словно вены на изможденных руках.
Дома его одежда обретала какую-то трогательную усталость. Растянутые свитера с вылезшими нитками по швам, джинсы, которые давно следовало бы отправить на покой, но они цеплялись за жизнь, как и их хозяин – потертые на коленях, с оторванным карманом, но все еще удобные, все еще свои. Жена периодически совершала набеги на его гардероб, пытаясь выбросить эти «тряпки», но он неизменно вылавливал их из мусорного ведра с упрямой настойчивостью хронического больного, отказывающегося сдаваться.
И они действительно были удобными. Как и все в его жизни – выстиранное до мягкости, привычное, не требующее лишних мыслей. В конце концов, когда твой день измеряется не часами, а спасенными жизнями, последнее, о чем хочешь думать – это модный крой брюк.
Травма детства у Маркуса Андерсена была не метафорической, а самой что ни на есть буквальной. Хруст кости младшей сестры, падающей с яблони во дворе, ее пронзительный крик, разлетающийся по деревенской улице, и последующее долгое, мучительное выздоровление.
Кость срослась криво, оставив девочку с легкой, но неизгладимой хромотой – вечным напоминанием о некомпетентности пьяного фельдшера, который принимал их на кухне среди немытой посуды.
– Я бы исправил это, – сказал тогда двенадцатилетний Маркус.
Отец, усталый фермер с потрескавшимися от земли руками, лишь фыркнул, вытирая ладонью усы:
– Ты? Да ты даже царапину заклеить не можешь.
Этот смех, грубый и безнадежный, стал первой нитью в хирургический узел, затянувшийся вокруг жизни Маркуса.
Прошли годы. Деревенский мальчишка, не знавший, как подступиться к медицинским учебникам, превратился в студента, затем в ординатора, потом в хирурга с руками, которые не дрожали даже после двенадцатичасовой операции.
Через семь лет после начала практики к нему на стол попал тот самый фельдшер. Аппендицит, ничего серьезного. Старик даже не узнал Маркуса, а тот и не напоминал. Просто сделал свою работу. Чисто, профессионально, без тени личного.
Когда анестезиолог пошутил: «Что, старикашка тебе должен был?», Маркус лишь пожал плечами:
– Все мы кому-то должны.
И продолжил зашивать.
Теперь, спустя десятилетия, глядя на свои руки – покрытые сеткой шрамов от случайных порезов скальпелем, с постоянно воспаленным суставом на указательном пальце – он иногда ловил себя на мысли, что стал хирургом не вопреки, а благодаря тому детскому случаю. Не чтобы мстить, а чтобы больше никто не хромал из-за чужой небрежности.
А когда его сестра, та самая, приходила в гости, он незаметно наблюдал за ее походкой. Все та же легкая асимметрия шага. Все то же тихое напоминание.
И снова шел на дежурство.
Его брак начался с профессиональной ошибки. Она – школьная учительница с переломом лучевой кости после неудачной экскурсии в музей. Он – дежурный хирург, который переборщил с анестезией и оставил ей онемение в пальцах на три дня.
– Подавайте в суд, – мрачно сказал он тогда, протягивая документы.
– Зачем? Чтобы на эти деньги купить еще один чей-то бюст в кабинет литературы?
На следующий день она принесла ему пирог с вишней. Домашний. С косточками.
Так начались их восемнадцать лет совместной жизни. Без детей, судьба распорядилась иначе. Но с двумя рыжими котами, которых Маркус в сердцах называл «уродами», а Лена ловила на том, как он тайком подкармливает их кусочками колбасы из своего бутерброда.
Их быт – это война миров. Он ненавидит, как она ковыряет в его тарелке вилкой со словами «а дай попробую». Ее бесит, что он хранит подшивки «Хирургического вестника» рядом с шампунем. Его приводит в ярость, когда коты спят на его чистой медицинской форме.
Но каждое утро, пока он бреется, Лена оставляет на зеркале записки. Глупые. Нелепые. Совершенно ненужные человеку, который зашивает аорты наизнанку:
«Не забудь поесть»
«Ты сегодня выглядишь особенно брутально»
«Кстати, ты классный врач (но я тебе уже говорила)»
Маркус делает вид, что не замечает их. Но медсестры в ординаторской давно заметили – все важные записи он делает на обороте розовых листочков в цветочек.
А когда Лена в очередной раз жалуется подругам, что ее муж невыносимый упрямец, она забывает упомянуть, как однажды застала его в три ночи, когда он сидел на кухне с учебником по педагогике, пытаясь понять, как правильно проверить тетради, чтобы ей «меньше напрягаться».
Так они и живут. Без пафоса. Без громких слов.
Она – с его засохшей лавровой веточкой между страницами классного журнала. Муж подарил после первой проведенной им сложной операции.
Он – с ее дурацкими записками в кармане халата.
И оба с двумя рыжими «уродами», которые спят ровно посередине их постели.
***
Рев сирены «скорой» оборвался, словно ножом, когда автоматические двери захлопнулись за каталкой. Медперсонал, видавший на своем веку все, от рваных ран до открытых переломов, на мгновение оцепенел.
– Подросток, семнадцать лет, колотая рана живота, массивная кровопотеря…
Голос фельдшера звучал механически, будто он читал сводку погоды, а не констатировал факт того, что жизнь утекала из этого тела с каждым ударом колес по линолеуму.
Энтони лежал неподвижно. Его лицо было бледнее больничных простыней, губы синюшные, почти фиолетовые. Но глаза оставались открытыми. Широкими. Стеклянными. Как у рыбы, выброшенной на лед. Без паники. Без страха. Просто… пустые.
Маркус Андерсен, только что сделавший глоток кофе в ординаторской, почувствовал, как в горле резко пересыхает. Он узнал этот взгляд. Взгляд человека, который уже смирился.
– Готовим операционную! – его голос прорубил тишину, как скальпель.
Его команда прозвучала резко, рубящей волной в застывшем воздухе приемного покоя. Но даже привычный рефлекс действия не мог заглушить того, что Андерсен почувствовал в глубине грудной клетки – холодный, тяжелый укол профессионального предчувствия.
Медсестры засуетились, но их движения потеряли привычную слаженность. Руки, сотни раз набиравшие растворы, теперь слегка дрожали. Глаза, видевшие все, упорно отводились от каталки.
– Жив! – внезапно хирург рявкнул на медсестру, замершую с капельницей.
Та вздрогнула, словно очнувшись, и тут же вонзила иглу. Лифт в операционную шел мучительно медленно. Андерсен сжал кулаки, чувствуя, как по спине ползет липкий пот.
Он ненавидел это. Ненавидел, когда они сдавались. Особенно те, кто еще даже не начал жить.
Двери лифта открылись с тихим шипением.
– Пошли, – бросил он через плечо, уже толкая каталку вперед.
Но в голове крутилась одна мысль: что этот мальчик видел такого, что предпочел бы умереть?
Колесо каталки с громким лязгом застряло в дверном проеме, резко остановив движение. Напряженная тишина операционной взорвалась металлическим лязгом – фельдшер в ярости ударил по заклинившему колесу, и эхо удара прокатилось по коридору.
– Готово! Перекладываем!
Четыре пары рук, в синих перчатках, перепачканных кровью, ухватились за края простыни. На мгновение Энтони завис в воздухе. Бледный, безвольный, с руками, безжизненно свисающими по бокам.
Затем глухой удар. Его тело рухнуло на операционный стол, как мешок с мокрым песком. Голова беспомощно откинулась назад, открывая синеватую шею с пульсирующей яремной веной.
Андерсен уже тянулся к скальпелю, когда заметил, как пальцы мальчика вдруг дернулись. Словно во сне. Или в последней попытке за что-то ухватиться.
Лезвия ножниц со скрипом рвут хлопок. Слишком медленно, черт возьми. Маркус бросает их со звоном на инструментальный столик, предпочитая действовать руками. Ткань расходится, обнажая бледную кожу с синеватыми прожилками вен.
Его указательный палец, не дрогнув, погружается в кровавую щель раны.
Кишечник? Задет. Петля тонкой кишки разорвалась, как перезрелый плод – желтоватая слизь смешивается с кровью. Печень? Цела. Гладкая поверхность мелькает в глубине, слава богу. Селезенка? Похоже, пронесло.
– Давление?
– 70 на 40!
– Черт. Две капельницы, сейчас!
Цифры повисают в воздухе, тяжелые, как свинцовые гири. Маркус не отрывает глаз от раны – его пальцы уже работают, рассекая кожу скальпелем, расширяя входное отверстие. Металл скользит слишком легко, будто режет не живую плоть, а мокрую бумагу.
– Где этот чертов ретрактор?!
Инструмент шлепается в его протянутую ладонь. Стальные лепестки раздвигают ткани, обнажая внутреннюю катастрофу. Тишина.
Именно это пугает больше всего – кровь не бьет фонтаном, не пульсирует ритмичными толчками. Она просто сочится, лениво, как последние капли из опустошенной бутылки.
Маркус бросает взгляд на монитор. Пульс нитевидный, прерывистый.
– Эритроциты! Быстрее!
Медсестра уже вонзает пакет с кровью в подогреватель. Машина завывает, цифры на таймере отсчитывают 30 секунд.
29.
28.
27.
Андерсен засовывает руку в разрез.
– Тонкий кишечник проколот. Ищем выходное отверстие. – Его пальцы скользят по сальнику, раздвигают петли кишок.
– Вот! Нож вышел чуть ниже реберной дуги. Повезло, не задел диафрагму.
Медсестра резким движением вскрывает стерильную упаковку, извлекая систему для переливания. Острый шип прокалывает резиновую мембрану пакета с эритроцитарной массой. Густая, почти черно-бордовая кровь медленно заполняет прозрачную трубку, пузырьки воздуха всплывают в фильтр-камере.
Она перехватывает катетер на руке пациента, зажав трубку пальцами, чтобы не допустить обратного тока. Спиртовая салфетка дважды протирает порт, прежде чем металлическая канюля системы с четким щелчком встает на место.
Пластиковый роликовый зажим ослабляется ровно настолько, чтобы первые капли темной жидкости побежали по трубке. Медсестра считает секунды, наблюдая, как кровь достигает вены, затем открывает поток шире. Пакет поднимается на штатив, его положение тщательно выверено – ровно 110 см от пола, не ниже.
Аппарат для подогрева включается с мягким гудением. Через прозрачную стенку термокамеры видно, как вязкая масса постепенно разжижается, приобретая более яркий, почти вишневый оттенок. В месте соединения с физраствором образуется четкая граница – две жидкости смешиваются не сразу, создавая временный эффект слоистости.
Монитор издал протяжный монотонный звук, зеленая линия на экране распрямилась в идеальную горизонталь.
– Разряд! – Андерсен схватил электроды дефибриллятора.
Медсестра нажала кнопку заряда.
– Отойти!
Тело Энтони резко выгнулось, грудная клетка поднялась, но ритм не вернулся.
– Продолжаем массаж! – Андерсен снова положил ладони на грудь пациента.
Резиновые перчатки скользили по липкой от крови коже.
– Адреналин 1 мг внутривенно!
Медсестра незамедлительно ввела препарат в катетер.
– Готово к повторному разряду!
Андерсен отошел, электроды снова прижались к груди. 300 джоулей.
Тело Энтони резко выгнулось дугой. Грудная клетка вздыбилась, пятки ударили по столу, пальцы судорожно сжались. На мгновение он замер в неестественной позе, затем грузно рухнул обратно.
И тогда – реакция.
Зрачки, до этого широкие и темные, резко сузились в острые точки под ярким светом ламп. Глазные яблоки закатились вверх, обнажив мелкие прожилки капилляров, затем медленно опустились обратно.
– Зрачковый рефлекс положительный! – крикнула медсестра, направляя луч фонарика в глаза. – Синусовый ритм!
Андерсен тут же повернулся к ране:
– Гемостатическая губка сюда! Зажим!
Его пальцы быстро нашли кровоточащий сосуд, зажим щелкнул, пережав поврежденную артерию.
– Давление?
– 85 на 50, пульс 110!
– Продолжаем переливание!
Медсестра сменила пустой пакет с эритроцитами на новый. Андерсен кивнул ассистенту.
– Готовь шовный материал. Будем ушивать кишку.
Глава 6
Белый свет зимнего солнца, бледный и безжизненный, как потухшая лампа, косо падал на тротуар, превращая снег в сероватую, хрустящую кашу. Каждый шаг Энтони оставлял четкий след – углубление, заполненное мутной жижей. Руки глубоко зарыты в карманы, плечи слегка ссутулены. Дыхание вырывалось из его губ короткими белыми клубами. Призрачными, мимолетными, как его собственные мысли. Они появлялись, зависали в морозном воздухе на мгновение и растворялись, будто их и не было.
Он не любил выходные. Дом в эти дни становился склепом тишины, где каждый обитатель прятался в своей раковине. Это и пугало больше всего. Шум здесь был привычен, а вот тишина заставляла ужас клубиться где-то внутри.
Отец, с перекошенным от вчерашней попойки лицом, храпел на диване, распространяя тяжелый запах перегара. Мать, сжав губы в тонкую ниточку, молча вытирала стол, будто в этом движении заключался весь смысл ее существования. Лорен, уткнувшись в мерцающий экран, смотрела мультики.
И потому Энтони шел туда, где шум не был обязательным. Где можно было раствориться среди стеллажей, притвориться пылинкой в луче света, пробивающемся сквозь высокие окна. В книжный магазин. Там пахло бумагой, старым переплетом и чем-то неуловимо потусторонним, словно само время замедляло ход среди этих страниц. Там он мог быть никем. Или кем угодно.
Дверь звякнула усталым колокольчиком, его тонкий, дребезжащий звук казался голосом самого магазина, встречающим редких посетителей. Продавец, пожилой мужчина с седыми висками и очками, чьи толстые линзы делали глаза похожими на рыбьи, даже не поднял головы от разбираемой стопки книг. Он знал Энтони. Этого тихого мальчика с книжным голодом, который приходил сюда каждую неделю, словно на свидание.
Воздух в магазине был густым и насыщенным. Терпкий аромат старой бумаги смешивался с пылью десятилетий и едва уловимым горьковатым шлейфом кофе, который хозяин пил литрами. Полки росли в хаотичном порядке, как лес после урагана. Криминальные романы с кровавыми обложками стыдливо прижимались к ярким кулинарным альбомам, потрепанные томики классики терялись среди раздутых от важности учебников по психологии и брошюр с гороскопами, обещавшими счастье за три копейки.
Энтони направился в дальний угол, где под потолком висела одинокая лампочка в плетеном абажуре. Там, на покосившейся полке, жили его старые друзья – уцененные книги, которые никто не покупал, но которые ждали именно его. Их корешки, потертые множеством рук, шептались между собой, когда он проводил пальцем по шероховатой поверхности. В этом углу время текло иначе, а воздух был гуще и слаще, словно пропитанный медом забытых слов.
Его пальцы скользнули по корешкам, будто перебирая струны невидимой арфы. «Психология травмы» – потрепанный том, чьи страницы хранили отпечатки чужих пальцев. Книга говорила шепотом о том, как души, словно сломанные сосуды, пытаются удержать утекающую сквозь трещины жизнь. Каждая глава была похожа на приоткрытую дверь в чужие кошмары, и Энтони заглядывал туда с осторожностью человека, узнающего в чужих ранах свои собственные.
Рядом лежали «Основы криминалистики» – учебник, побывавший в десятках рук. На полях чей-то старательный студент оставил пометки. Синие чернила выцвели, буквы растеклись, но все еще можно было разобрать: «важно!», «запомнить», «спросить на семинаре». Эти заметки казались криками из прошлого, попыткой незнакомца зацепиться за знания, как за спасательный круг. Дэвис представлял, как кто-то так же, как он сейчас, водил пальцем по схемам места преступления, пытаясь понять, где заканчивается случайность и начинается злой умысел.
Но больше всего его манил «Атлас анатомии» – старый, разваливающийся на части, с выпадающими страницами, которые он аккуратно вставлял обратно, будто собирая пазл. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь пыльное окно, ложился на иллюстрации: алые артерии, переплетенные в причудливые узоры, белые кости, чистые, как математические формулы, схемы ран с аккуратными подписями – «рваная», «резаная», «колотая». В этих страницах не было тайн – только факты. Тело не лгало. Оно просто было.
Здесь, среди книг, все подчинялось логике. Каждая травма имела объяснение, каждое преступление – мотив, каждая мысль – причину. Никаких недомолвок, никаких пьяных криков за стеной, никаких слез, капающих в раковину. Только ясность.
Полки в этом углу напоминали своеобразный «медицинский морг» знаний. Здесь покоились десятки брошенных учебников, принесенных студентами после сессий. Казалось, можно было проследить историю всего университетского курса по этим потрепанным корешкам. «Судебная психиатрия» с закладками-шпаргалками, «Основы реаниматологии» с пятнами кофе на страницах о сердечно-легочной реанимации, «Фармакология» с подчеркнутыми названиями препаратов, которые кто-то отчаянно пытался запомнить перед экзаменом.
Продавец, ворчливый старик, принимал эти книги без особого энтузиазма.
«Опять этот хлам несешь?» – бурчал он студентам, но все равно брал, кладя в дальний угол и назначая цену ниже, чем стоимость чашки кофе в соседней забегаловке.
Иногда, заметив Энтони за изучением очередного «неликвидного» тома, кряхтел:
«Бери уже, мальчик, все равно никто не купит».
Особенно много здесь было книг по психиатрии – потрепанных, с выдранными страницами, с похабными рисунками на полях. Видимо, будущие врачи, изучив основы душевных болезней, спешили избавиться от напоминаний о человеческих страданиях. Дэвис же находил в них странное утешение. Эти учебники говорили о боли как о чем-то измеримом, классифицированном, поддающемся анализу. В отличие от невнятного страдания, витавшего в его доме.
Иногда среди этого «медицинского хлама» попадались настоящие находки. Например, учебник по судебной медицине 50-х годов с жутковатыми черно-белыми фотографиями или старый справочник по аномалиям развития с потрясающе детальными иллюстрациями. Эти книги становились для Энтони своеобразными окнами в иные миры, где даже самые страшные вещи имели названия, объяснения и, главное – конец. В отличие от жизни, которая, казалось, будет длиться вечно в этом полумраке между пьяным отцом, уставшей матерью и телевизором, орущим цветными мультфильмами.
Тень перечеркнула страницу резкой диагональю.
– Что читаешь?
Голос прозвучал слишком близко, нарушая установленные границы личного пространства. Энтони вздрогнул, будто его поймали на чем-то постыдном. Перед ним стояла Эллен. Ее розовые пряди создавали неестественное сияние вокруг лица, словно дешевый нимб, а на макушке сидела дурацкая серая шапка.
– Ничего, – он захлопнул книгу с резким щелчком, и пыль, поднявшаяся со стеллажа, закружилась в луче света, как микроскопический снегопад. Том вернулся на место с глухим стуком, будто захлопнулась дверь в чужую жизнь.
Энтони бросил взгляд на ее руки, сжимающие целую башню знаний. Учебники по психологии, а сверху, будто специально для контраста, тонкая книга о посттравматических расстройствах. Ее обложка была испещрена закладками, как шрамами, а поля пестрели заметками, превратившимися в тайный шифр чужого отчаяния.
– Просто… – он отступил на шаг, пятка наткнулась на выступ пола.
Плечо задело стеллаж, и книги качнулись, как пьяные, готовые рухнуть вниз. В горле запершило. Не от пыли, а от этого внезапного ощущения ловушки.
Раздражение поднялось по спине холодными мурашками. Она всегда так появлялась не вовремя, со своими книгами, со своим «я просто хотела помочь», со всей этой…
– Подожди. – Ее рука взметнулась вверх с неожиданной грацией.
Пальцы скользнули по корешкам, не колеблясь, не сомневаясь, и остановились на тонкой книге с синей обложкой. Слишком точное движение. Слишком уверенное. Как будто она приходила сюда, когда магазин был пуст, и запоминала расположение каждой книги.
– Вот. – Книга зависла между ними. Обложка поблескивала в свете, выгоревшая от времени, но гордая своей подлинностью. – Первое издание. Без дурацкого предисловия.
Он замер, глядя на протянутую книгу, а потом на ее лицо. В глазах Эллен не было даже намека на насмешку. Только понимание, которое резало глубже любых слов.
Энтони не поднял руки, чтобы принять ее. Его губы искривились в гримасе, которая должна была выражать безразличие, но выдавала раздражение.
– Зачем? – Слово вырвалось резче, чем он планировал.
Эллен не отводила взгляда. Ее пальцы слегка сжали обложку, оставив на ней едва заметные вмятины.
– Потому что ты трижды цитировал «Пикник» за последний месяц. – Она положила книгу на край полки, ровно на границе солнечного пятна, где пылинки танцевали в свете. – И каждый раз ошибался в цитате.
Энтони замер, почувствовав, как кровь приливает к лицу. Его пальцы непроизвольно дернулись, будто пытаясь схватить невидимые аргументы в воздухе.
– Я не… – начал он, но голос предательски дрогнул.
Эллен повернула книгу к нему корешком, где золотыми буквами было вытеснено: «А. и Б. Стругацкие. Пикник на обочине. 1972».
– Страница сорок шесть, – тихо сказала она. – Там, где Рэд говорит о «счастье для всех». Ты всегда пропускаешь слово «даром».
Солнечный луч дрожал на обложке, превращая золотые буквы в живые. Энтони вдруг представил, как она сидит где-то вечером, сверяя его случайные фразы с текстом, отмечая карандашом в библиотечном экземпляре…
– Зачем ты это… – он не закончил.
Эллен поправила шапку, которая опять съехала набок, и вдруг улыбнулась.
– Чтобы в следующий раз ты цитировал правильно.
И повернулась к выходу, оставив его наедине с книгой и странным ощущением, будто кто-то только что аккуратно вскрыл его грудную клетку, заглянул внутрь. И ничего там не украл.
Дэвис ощутил, как сжимаются его челюсти. Так сильно, что боль резкими волнами расходилась к вискам. В ушах застучало. Она не просто слушала, она изучала его, как один из этих проклятых учебников, методично собирая по крупицам каждую оговорку, каждый провал.
– Если заметила, то почему ничего не сказала? – голос звучал чужим, сдавленным.
Эллен обернулась не сразу. Сначала поправила шапку, давая себе время собраться с мыслями. Когда она наконец повернулась, то слегка наклонила голову, и розовая прядь соскользнула вниз, как занавес, за которым можно спрятаться.
– Не хотела подставлять тебя перед друзьями. – Она произнесла это тихо, но четко. – Вряд ли бы ты это оценил.
В ее словах не было ни жалости, ни упрека. Просто констатация факта: она знала его довольно хорошо. Знала, как он ненавидит, когда его поправляют при всех. Как краснеет до корней волос, когда кто-то вскрывает его ошибки.
Энтони резко выдохнул.
– А теперь решила, что можно?
– Теперь мы не с друзьями. – Девушка пожала плечами.
Энтони медленно разжал зубы.
– Спасибо, – выдавил он наконец.
Дышать стало немного легче.
***
Будильник не сработал, но Кармен проснулась ровно в четыре тридцать. Ее внутренние часы, заведенные годами сменного графика, не признавали выходных. Она лежала неподвижно, уставившись в потолок, где сеть тонких трещин за ночь успела разрастись новыми ответвлениями.
За окном хрипло перекликались вороны, те самые три завсегдатая, что каждое утро устраивали совещание на пожарной лестнице. С кухни доносилось мерное капанье. Этот звук давно стал частью домашней симфонии, таким же привычным, как скрип входной двери у соседа в пять пятнадцать пять. Старик Морозов никогда не отклонялся от своего ритуала. Газета, утренняя прогулка, два куска сахара в чай.
Кармен потянулась, ощущая, как позвонки похрустывают в унисон. Вчерашняя двенадцатичасовая смена оставила после себя знакомую ломоту в теле.
Она закрыла глаза, вдыхая густой коктейль ароматов. Вчерашний пережаренный кофе, въевшийся в занавески табачный дым, едва уловимый запах плесени из-под раковины. Эти стены давно перестали быть просто стенами; они впитали в себя каждый ее вздох, каждую ночную бессонницу. Где-то на границе сознания мелькнул полуобраз. Другая жизнь, другой сценарий, но рассыпался, как пепел с кончика сигареты. Мечтать было непозволительной роскошью, а Рейес научилась соблюдать жесткую экономию даже в мыслях.
Тело поднялось с кровати без участия сознания. Ноги, помнящие каждую щель в линолеуме, провели ее к кофемашине. Пальцы, движимые мышечной памятью, нашли сигареты в привычной вмятине подоконника. Первая затяжка обожгла легкие, первый глоток кофе горький, как все ее утра последних лет. День начал раскручиваться, как старая кинолента, где каждый кадр был до боли знаком. Ни неожиданных поворотов, ни новых декораций. Только проверенная временем рутина, надежная в своей предсказуемости.
За окном каркали те же вороны, на том же месте лежала недопитая бутылка текилы, даже трещина в потолке удлинилась ровно настолько, насколько это было ожидаемо.
Рейес сделала еще один глоток, наблюдая, как солнечный луч медленно ползет по облезлым обоям, отмечая неумолимый ход времени. Сегодня будет как вчера. Завтра будет как сегодня. И это было почти утешительно.
Телефон внезапно вздрогнул на тумбочке, издавая глухое жужжание, будто раздраженный шершень. Рейес замерла с сигаретой на полпути к губам. Она точно помнила – всегда, абсолютно всегда переводила аппарат в беззвучный режим. Эта привычка въелась в подкорку после ночных вызовов на работу, после пьяных звонков бывших, после всего того, от чего хотелось отгородиться хотя бы во сне.
Экран светился в полумраке комнаты, отбрасывая синеватые блики на потрескавшуюся штукатурку. Пять утра. Кто мог… Нет, она точно не хотела знать. Рука сама потянулась к аппарату, но замерла в сантиметре от него. Пусть. Пусть звонит. Пусть этот настойчивый кто-то там, в другом конце города, поймет наконец, что некоторые номера лучше не набирать. Тем более в такую рань.
Жужжание прекратилось так же внезапно, как началось. Комната снова погрузилась в серую предрассветную тишину, нарушаемую только тиканьем старых батарей. Кармен сделала глубокую затяжку, наблюдая, как дым смешивается с паром от кофе. На экране телефона замигал значок пропущенного вызова. Один. Потом второй. Она перевернула аппарат экраном вниз.
Сегодняшний день уже перестал быть предсказуемым, и это раздражало больше, чем сам звонок.
Кармен ненавидела торговые центры. Эти искусственные оазисы с их стерильным блеском, где люди, словно манекены, разыгрывали спектакль благополучия.
Ее ноги сами выносили к речному излому, где бетонные плиты набережной сдавались под натиском дикого ивняка, а земля пахла не асфальтом и жареным миндалем, а тиной и свободой. Здесь можно было закурить, не ощущая на себе ни жалостливых, ни осуждающих взглядов. Только равнодушное скольжение утиного взора по воде. Тишину нарушал лишь сдержанный диалог волны с берегом, да пронзительный скрип фрикционного тормоза на древней удочке.
На ее камне, а Кармен уже давно мысленно считала этот плоский валун своим, сидел старик. Его выцветшая кепка с облезлой эмблемой какого-то рыболовного клуба будто приросла к седой голове. Руки, испещренные коричневыми пятнами, безвольно лежали на коленях, и только легкое подрагивание указательного пальца выдавало, что он не спит. Поплавок застыл среди кувшинок, образуя идеально круглые разводы на зеркале воды.
– Клюет? – бросила Кармен, зная ответ прежде, чем задать вопрос.
Старик не шевельнулся. Только его желтоватый глаз, мутный, как речная вода в межсезонье, медленно перевелся с поплавка на горизонт, где свинцовое небо цеплялось за трубы дальнего завода.
– Нет, – выдохнул он, и это короткое слово повисло между ними, густое, как смог над промзоной. В нем уместились все утренние зори без поклевки, все пустые ведра и потрескавшиеся от времени удилища.
Кармен достала сигарету, прикрывая ладонью пламя зажигалки от несуществующего ветра. Они стояли так – она с сигаретой в зубах, он с удочкой в одеревеневших пальцах. Два островка в реке времени, где можно было не притворяться рыбаками, не изображать занятых людей.
Поплавок дернулся, но старик даже не пошевелился. Кармен усмехнулась уголком губ. Может, это была рыба, а может, просто ветер, или тот самый невидимый груз, что тянет всех ко дну. Неважно. Здесь, где вода лизала ржавые банки и битые бутылки, вопросы тонули быстрее, чем поплавки.
Она докурила, раздавила окурок о бетон и пошла прочь, оставляя за спиной старика, реку и утро, которое так и не стало ничьим уловом.
Глава 7
Больница дышала стерильной тоской. Запах хлорки смешивался с привкусом человеческого страха, въевшегося в стены. Флуоресцентные лампы мерцали, как умирающие светлячки, наполняя коридор призрачным свечением. Стены, некогда белые, теперь походили на старую зубную эмаль – желтоватые, с трещинами и пятнами. Где-то вдалеке методично капала вода. Ровные, размеренные звуки, словно чьи-то невидимые часы отсчитывали последние минуты чьей-то жизни.
Вольф стоял у грязного больничного окна, разминая затекшие мышцы шеи, когда за спиной раздались мерные, утяжеленные годами шаги.
– Ищете меня? – Голос напоминал скрип ржавых петель – низкий, с характерной хрипотцой, выдававшей многолетнюю дружбу с Мальборо.
Доктор замер в полушаге, скрестив мясистые руки на груди. Его когда-то белый халат теперь больше походил на географическую карту – желто-коричневые пятна образовывали причудливые архипелаги. Йод? Кофе? Следы давнишних операций?
– Да. О вашем пациенте. – Вольф медленно повернулся к нему.
– О котором именно? – Андерсен нервно почесал щетинистый подбородок. – У меня их было пятеро за последние сутки.
– О том, кто по всем законам медицины должен был стать трупом.
Тень пробежала по лицу врача, словно облако по осеннему полю. Его пальцы автоматически полезли в карман, доставая помятую пачку. Сигарета замерла между зубами, но так и не была зажжена. Даже он, похоже, соблюдал здесь правила.
– Пройдемте, – Андерсен резко развернулся, халат взметнулся, обнажая потертые джинсы и стоптанные кроссовки. – В мой… так называемый кабинет.
Его «кабинет» оказался крошечной комнатенкой, заваленной историями болезней и пустыми кофейными стаканами. На стене диплом с пожелтевшим стеклом, на столе череп, мирно улыбающийся всем тридцатью двумя зубами. Андерсен швырнул пачку сигарет в ящик, который закрылся с протестующим скрипом.
– Садитесь, – буркнул он, – если найдете где. – Сам он опустился на стул, который жалобно заскрипел, но выдержал. – И спрашивайте. У меня ровно пятнадцать минут.
Эдриан пристроился на краю стола, нарушая все границы личного пространства.
– Начнем с самого простого, доктор. Как вытащили парня с того света? По учебнику или есть свой секрет?
Андерсен усмехнулся.
– Учебники, – прошипел он, – пишут те, кто никогда не стоял по локоть в крови в три часа ночи. Так что спрашивайте конкретнее, детектив. У вас осталось четырнадцать минут.
За окном завыла скорая, привозя новую порцию человеческого горя. Вольф достал блокнот, щелкнул авторучкой, и звук прозвучал неожиданно громко в маленьком кабинете.
– Эдвард Дэвис. – Он произнес имя медленно, смакуя каждый слог. – Колотая рана в живот. Потерял почти сорок процентов крови. Вы вели его операцию.
Андерсен откинулся на спинку стула.
– В этом месяце у меня было четверо таких. На прошлой неделе парень с ножом в печени. – Его пальцы нервно постукивали по ручке кресла. – Рутинная работа.
– Но не все ваши пациенты, – Вольф сделал паузу, – перед операцией зарезали отца, мать и брата с сестрой.
Тишина повисла плотной завесой. Даже часы на стене, до этого громко тикающие, будто затаились. Где-то вдалеке взвыла и тут же затихла сирена, словно призрак пронесся по коридорам больницы.
Андерсен медленно вынул незажженную сигарету изо рта, аккуратно положил ее на край стола, выровнял словно по линейке.
– Конкретнее, детектив. – Его голос внезапно стал очень тихим. – Что именно вы хотите знать? Как он выжил? Или почему?
Вольф медленно перевернул страницу блокнота, оставляя на бумаге едва заметные отпечатки потных пальцев.
– Ранение. Насколько критично?
Маркус провел ладонью по лицу, оставляя красноватые следы на усталой коже.
– Сквозное проникновение в тонкий кишечник. Чистый разрез. Повезло, что не рваная рана. Перитонита удалось избежать чудом.
– Возможность самоповреждения? – Вольф не поднял глаз от блокнота.
Уголки губ Андерсена дрогнули в чем-то, отдаленно напоминающем улыбку.
– Вы хотите спросить, мог ли подросток аккуратно всадить себе нож под ребра? – Его палец описал в воздухе дугу. – Технически возможно. Но траектория… – Он резко ткнул указательным пальцем в свой живот под неестественным углом, – требует либо невероятной гибкости, либо посторонней помощи.
Ручка Вольфа замерла на мгновение, оставляя кляксу на бумаге.
– Если предположить внешнее вмешательство…
– Тогда ваш «доброжелатель» полный профан, – доктор перебил, раздраженно постукивая по столу. – Полмиллиметра влево и он бы истек кровью за три минуты. Здесь либо дилетант, либо…
– Либо?
– Либо кто-то очень точно рассчитал силу.
Вольф записал это особо крупными буквами.
– Клиническая смерть, – произнес он, наблюдая за реакцией врача.
Андерсен впервые за разговор напрягся.
– Одна минута сорок семь секунд. Полная остановка сердечной деятельности. Мы его вытащили буквально с того света. – Он сделал паузу, глядя куда-то сквозь Вольфа – Вы уверены, что именно он их убил?
Вольф медленно поднял голову, встретив его взгляд.
– А что? Будете сожалеть, что спасли его?
Хирург резко рассмеялся. Коротко, сухо, без тени веселья.
– Сожалеть? Ни капли. – Он скрестил руки, мотнув головой. – Это моя работа. Кем бы он ни оказался – убийцей, святым, чудовищем или просто парнем, которому не повезло, – я был обязан. Но если он действительно сделал это… – Андерсен наконец зажег ту самую сигарету, игнорируя запрет. Дым заклубился в воздухе, смешиваясь с запахом антисептика. – …то, возможно, я вернул его не для того, чтобы он ответил. А для того, чтобы он запомнил.
– Жизнь – худшее наказание?
Андерсен сделал глубокую затяжку.
– Иногда – да.
***
В тот день Сэм ввалилась на площадку с таким видом, будто только что ограбила швейную мастерскую. Из карманов ее потертых джинсов торчали иглы всех калибров – от тонких, едва заметных, до толстых, словно спицы. Ее уши, и без того напоминавшие колючую проволоку из-за обилия сережек, теперь грозили превратиться в полноценный арсенал.
– Смотрите что притащила!
Рикки лениво раскачивался на ржавых качелях, которые скрипели, как старухи на лавочке. Сигарета, прилипшая к его нижней губе, дымилась, угрожая в любой момент свалиться и оставить очередной ожог на его и без того испещренной пятнами куртке.
Лиам тем временем методично перебирал их скудные припасы на рассохшейся лавочке. Его пальцы, с обкусанными ногтями, лениво пересчитывали две банки тушенки, пачку начатых чипсов и три сигареты без фильтра, будто это было целое сокровище фараонов.
Эллен подняла голову, оторвавшись от потрепанного журнала, который Энтони принес вчера. Ее взгляд скользнул по Сэм, оценивая новый улов.
– Ты опять была на барахолке? – спросила она, в голосе прозвучало не столько осуждение, сколько привычная усталость.
Сэм лишь усмехнулась, вытаскивая из кармана очередную иглу – на этот раз такую длинную, что она могла сойти за шило.
– А где еще? В магазинах за это просят деньги, – она ловко перекинула иглу между пальцами, будто фокусник, готовый к трюку.
– И что, собираешься зашить себе рот наконец? – Рикки фыркнул, выпуская кольцо дыма в воздух.
Лиам отвлекся от своих сокровищ, бросив взгляд на иглы.
– Может, хоть зашьешь мне карманы, а? А то последние крохи вываливаются…
Сэм в ответ пнула его ногой, от чего Лиам чуть не покатился с лавки. Рон залился смехом.
– Сможешь мне ухо проколоть? – неуверенно спросила Ривс, откинув прядь волос за ухо – Давно уже хотела еще одну серьгу добавить.
Саманта оживилась моментально, как будто только и ждала этого вопроса. Ее глаза блеснули азартом.
– Без проблем, подруга! – она щелкнула пальцами и тут же швырнула Эллен небольшую жестяную коробку, когда-то бывшую упаковку для печенья. Теперь она гремела, как пиратский сундук, доверху наполненный сокровищами – десятками сережек от простых колец до причудливых шипов и подвесок с цветными камнями.
– Лови. Выбирай любую.
Ривс осторожно открыла коробку, глаза расширились от изумления.
– Боже… Ты их все сама носила?
– Некоторые – да, – Сэм самодовольно ухмыльнулась, доставая из кармана пачку влажных салфеток. – Остальные… ну, считай, коллекция.
– Ты хоть знаешь, как это делать правильно?
– А что тут знать? – девушка уже доставала самую тонкую и острую иглу из своего арсенала. – Чистым инструментом, быстро и без лишних раздумий.
Рикки фыркнул, но, кажется, был впечатлен.
– Только не ори, – пробормотал он, но в голосе сквозило любопытство.
Лиам даже приподнялся с лавки, забыв про драгоценные припасы.
– Давай уже, – Эллен закрыла глаза, сжав кулаки. – Только… не промахнись.
Саманта ухмыльнулась, поднося иглу к ее уху.
– Расслабься. Это будет легче, чем кажется.
В этот момент даже Энтони, обычно предпочитавший оставаться в тени, невольно заинтересованно приподнял голову. Он никогда не горел желанием добавить себе пару лишних дыр в теле. Но со стороны это казалось не так уж и страшно. Даже довольно заманчиво.
Энтони наблюдал, как Сэм уверенным движением подносит иглу к уху. Его пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Не от страха, а от странного возбуждения, которое он не мог объяснить. Воздух вокруг будто наэлектризовался, наполнившись тем особым напряжением, которое всегда возникает перед моментом, когда сталь вонзается в плоть.
– Готовься, – предупредила Саманта, в голосе прозвучала та самая смесь хладнокровия и азарта, которая заставляла Энтони задерживать дыхание.
Ривс зажмурилась сильнее. Даже Рикки перестал раскачиваться на качелях, застыв с полузабытой сигаретой в зубах.
Резкий вдох. Быстрое движение. Игла пронзила кожу.
– Готово! – торжествующе объявила Сэм, вставляя в свежий прокол маленькое серебряное кольцо.
Эллен открыла глаза, сначала с удивлением, потом с восторгом потрогала новую серьгу. Капля крови алела на ее пальце.
Энтони почувствовал, как в его груди что-то екнуло. Он неосознанно провел рукой по собственному уху, представляя, как холодный металл пронзает плоть. Боль, да. Но вместе с ней и освобождение. Возможность оставить на теле отметину, видимый знак того, что он контролирует хотя бы это. Хотя бы свою боль.
– Кто следующий? – спросила девушка, оглядывая компанию с вызовом в глазах.
И Энтони, к собственному удивлению, почувствовал, как его рука сама тянется вверх.
– Я, – ответил он тихо, но твердо.
Впервые за долгое время он хотел чего-то. Хоть и такого маленького поступка, но по своей собственной воле.
Саманта замерла с иглой в руке, ее брови поползли вверх. Даже Рикки выплюнул сигарету, не веря своим ушам.
– Ты серьезно? – Эллен первой нарушила ошеломленную тишину.
Энтони не ответил. Он просто шагнул вперед, и в его обычно пустых глазах появилось что-то новое – решимость, смешанная с легким безумием. Его пальцы дрожали, но не от страха, а от странного предвкушения.
– Ну что ж… – Сэм медленно ухмыльнулась, протирая иглу салфеткой. – Где хочешь проколоть, тихоня? Ухо? Язык? Может, бровь?
Он покачал головой и неожиданно для всех поднял руку к нижней губе.
– Здесь, – прошептал Энтони.
Рон ахнул. Лиам присвистнул. Даже Рикки замер, впечатленный его выбором. Сэм наклонилась ближе, ее дыхание пахло мятной жвачкой.
– Будет больно.
Энтони лишь кивнул. Боль – это то, что он знал лучше всего. Но впервые это будет его выбор. Его контроль. Его отметина.
Когда холодная сталь вонзилась в плоть, он даже не дрогнул. А когда Саманта вставила тонкий серебряный лабрет, Энтони впервые за год широко улыбнулся.
***
Очередной звонок раздался ровно в шесть, когда Кармен, стоя на коленях перед дышащей на ладан духовкой, пыталась засунуть в нее противень с сырой курицей. Черный дымок уже вился из щели дверцы, а запах горелой проводки смешивался с ароматом лимонного маринада, которым она так старательно натирала тушку три часа назад.
– Черт бы побрал… – прошипела она, вытирая ладонью пот со лба и оставляя на коже след муки.
Телефон продолжал вибрировать на кухонном столе, подпрыгивая с каждым звонком, как раздраженная оса. Кармен пнула дверцу духовки ногой. Ручка, которую она все собиралась прикрутить, с характерным лязгом отвалилась. Курица с грохотом съехала на пол, оставив жирный след на и без того сомнительного вида линолеуме.
Запах гари висел в воздухе густым удушающим одеялом. Кармен стояла посреди кухни, босиком, в луже куриного сока, и смотрела на черный дым, валивший из духовки. В руке висел кухонный половник.
Телефон зазвонил в третий раз, прежде чем она наконец отреагировала. Она схватила его, едва не выронив из скользких пальцев. На экране снова незнакомый номер. Опять эти проклятые коллекторы или, что хуже, работа. Кармен уже открыла рот, чтобы рявкнуть в трубку, но…
– Миссис Рейес? – женский голос звучал неестественно четко. – Это доктор Рэдлин из городской больницы Элсфорта.
Кармен машинально потянулась выключить плиту, но рука дрогнула, и половник с грохотом упал на кафель.
– Мы не смогли дозвониться до вас утром. Ваш муж и сын попали в аварию этой ночью.
Мир сузился до точки. Кармен схватилась за край стола, оставив жирные отпечатки пальцев на белоснежной скатерти, которую купила в прошлом месяце «на случай, если Майкл когда-нибудь приедет».
– Дэвид в тяжелом состоянии, но стабилен.
Где-то в подсознании мелькнула мысль: «Он всегда был крепким, чертов ублюдок».
– Мальчик отделался легкими ушибами.
Губы Кармен сами собой сложились в беззвучное «Майкл…».
– Он очень напуган и просил, чтобы вы приехали.
Пять лет. Пять лет она видела его только на фотографиях, которые Дэвид изредка присылал – школьные снимки, где Майкл всегда стоял чуть в стороне от других детей. Пять лет она звонила строго по расписанию, которое установил суд.
И теперь…
– Я… я выезжаю. Сейчас же.
Она бросила телефон в сумку, даже не попрощавшись. Черный дым из духовки теперь казался смешным. Курица, лежащая на полу – нелепой.
Рейес мчалась в спальню, оставляя разводы на паркете. Чемодан, который она достала с верхней полки шкафа, был покрыт пылью. Она не уезжала из города с тех пор, как потеряла сына.
Руки дрожали так сильно, что она трижды ошиблась, набирая номер такси.
– Все будет хорошо, – шептала она, запихивая в сумку телефонную книжку с вырванными страницами. – Все будет хорошо, – повторяла, хватая первую попавшуюся пару обуви. – Все будет…
Голос сорвался, когда она случайно задела рамку с фото – последним их совместным снимком. Стекло разбилось, но Кармен даже не остановилась.
У нее наконец-то был веский повод нарушить правила. И она не собиралась терять ни секунды.
Глава 8
Джошуа Дэвис был тем, кого замечали сразу, даже когда он стоял в толпе таких же, как он, рослых парней в футбольной форме.
Он и так был капитаном команды. Лидером не по назначению, а по праву той необъяснимой харизмы, что заставляла других невольно к нему прислушиваться. Его плечи, будто созданные для того, чтобы держать груз ответственности, казались еще шире под напором взглядов болельщиков.
Высокий, под метр восемьдесят пять, он двигался с той легкой небрежностью, которая выдавала в нем прирожденного спортсмена. Даже когда просто шел по коридору школы, слегка сутулясь, будто стараясь стать чуть меньше. Но это не работало.
Резкие скулы, следы давнего подросткового угрева, которое он то ли стеснялся, то ли давно перестал замечать. Карие глаза, всегда улыбающиеся первыми, еще до того, как губы подхватывали движение. Взгляд открытый, но с легкой тенью усталости: капитанство давалось ему не только победными голами.
Темно-русые волосы, с рыжинкой на солнце, вечно спадающие на лоб, несмотря на все попытки зачесать их назад. Он откидывал их резким движением, будто отмахивался от чего-то. Может, от внимания, которого было слишком много.
Он не старался быть тем, кем его видели. Но у него это получалось без слов.
В «Риверсайде» его знали все. И в этом не было ничего удивительного.
Капитан футбольной команды, забивавший решающие голы в последние минуты матчей. Король выпускного, чья улыбка красовалась на всех школьных постерах. Любимец учителей, способный одной шуткой разрядить даже самую напряженную атмосферу в классе. Он был тем самым парнем из подростковых комедий – слишком идеальным, чтобы быть правдой, слишком ярким, чтобы оставаться незамеченным.
Но если бы кто-то действительно присмотрелся, то увидел бы больше. Увидел бы, как его улыбка становилась чуть менее искренней после десятого за день «Эй, Дэвис, дай пять!», как он задерживался в пустой раздевалке после тренировок, будто эти несколько минут тишины были единственным временем, когда он мог просто быть собой. Увидел бы, как его карие глаза, обычно теплые и смеющиеся, на мгновение теряли блеск, когда он думал, что никто не смотрит.
Проблема с ярлыками в том, что они редко оставляют место для человека. А Джошуа, вопреки всему, был именно человеком. Не картонным героем школьных легенд, а живым, устающим, иногда сомневающимся. И, возможно, именно поэтому, куда более интересным, чем любое клише.
Как и у любого старшеклассника, у Дэвиса была своя банда. Не свита подхалимов, не фанаты, а настоящие друзья, проверенные временем и дурацкими выходками.
Мэтт, с его чудовищным чувством юмора, которое могло бы разозлить кого угодно. Но Дэвис только фыркал, когда тот в сотый раз за месяц вставлял дурацкую шутку про физрука и его вечную борьбу с лысиной. Они знали, что если Мэтт замолчал – значит, случилось что-то серьезное.
Артур, который менял девушек не потому, что был козлом, а потому что искренне верил, что в этом мире слишком много прекрасных людей, чтобы останавливаться на одной. Его фирменное «Четверг, детка!» стало в школе мемом, но Дэвис знал, что за этим скрывается – парень просто боялся, что полюбят не того, кем он был на самом деле.
И Райан. Просто Райан. Тот, кто помнил Дэвиса еще до того, как он стал капитаном команды, звездой школы и всем этим дерьмом. Тот, кто мог молча протянуть ему банку колы после тяжелого дня, даже не спрашивая, что случилось.
Они не просто тусовались вместе, они знали друг друга насквозь. И если бы кто-то спросил Дэвиса, что для него самое ценное в «Риверсайде», он бы, не задумываясь, кивнул в сторону этих идиотов, громко спорящих у его шкафчика о том, чья очередь покупать пиццу в эту пятницу.
А еще была Эва. Эвелин Барнс. Они столкнулись в коридоре средней школы буквально. Она уронила стопку учебников, он наступил на ее канцелярию. Она тогда посмотрела на него не как на будущую звезду школы, а как на идиота, который только что сломал ее последний отточенный карандаш. Он попытался отшутиться – получилось плохо. Она сказала, что его шутки хуже, чем почерк у врача. Он рассмеялся. С этого все и началось.
Их отношения развивались стремительно, как подростковые чувства – ярко, неистово, с драматизмом, которого хватило бы на сериал. Они стали той самой парой школы: то неразлучные, то кричащие друг на друга так, что учителя закрывали двери кабинетов. Расставались и сходились снова по три раза на дню. Сегодня она швыряла в него учебником, завтра они целовались у его шкафчика, вызывая завистливые взгляды.
Но за этим цирком было что-то настоящее. Она – единственная, кто не боялась сказать ему: «Ты ведешь себя как придурок», когда он зазнавался. Он – единственный, кто видел, как она плакала после ссоры с родителями, и вместо глупых утешений просто молча держал ее за руку.
Их отношения были токсичны? Возможно. Драматичны? Безусловно. Но это была их история – неидеальная, громкая, живая. Так продолжалось ровно до того дня, когда он встретил Айлу.
Выпускной класс. Последний школьный год несся с бешеной скоростью: подготовка к балу, нервные сборы документов для поступления, бессонные ночи перед экзаменами. Все шло по накатанной колее до тех пор, пока колесо не начало соскальзывать с обрыва.
Пять лет. Целых пять лет они с Эвелин были вместе. Они выросли из тех взрывных подростков, что ссорились из-за взгляда, брошенного не на того человека, в людей, которые уже не узнавали себя на старых фотографиях. Она мечтала о Нью-Йорке и бездельной жизни, наполненной тусовками и весельем, а он о спортивной стипендии в колледже где-нибудь на юге. Они все чаще спорили, все реже смеялись, и даже их знаменитые «расставания на три часа» теперь затягивались на дни, наполненные тягостным молчанием.
А потом появилась Айла.
Негромкая, нерезкая, не бросающая вызовы. Она пришла в их школу в середине года, и Дэвис впервые за долгое время почувствовал, что может просто дышать, не ожидая очередного взрыва. Она говорила тихо, но каждое ее слово имело вес. Улыбалась редко, но когда это случалось, казалось, солнце зажигалось специально для нее.
И самое страшное – он ловил себя на мысли, что хочет этого. Тишины. Покоя. Человека, который не превращает каждую мелочь в битву. Но как сказать это Эвелин, которая пять лет была его войной и миром?
Айла стала тихим спасением посреди всего этого хаоса. Девушка, о которой Джошуа никому не рассказывал. Даже Райану, даже после третьего бокала дешевого пива в гараже у Мэтта, когда все вокруг откровенничали о своих тайнах. Она существовала в его жизни как щемяще личное, слишком хрупкое, чтобы выносить на свет.
Они встречались в библиотеке, куда он теперь заходил не только перед контрольными. Айла сидела в углу, заваленная книгами по искусству, и что-то зарисовывала в блокнот с кожаной обложкой. Он подсаживался, делал вид, что учится, а на самом деле наблюдал, как ее пальцы выводят линии. Она никогда не спрашивала, почему от него сегодня опять пахнет перегаром или откуда царапина на скуле.
Айла просто протягивала ему наушник, и они слушали какой-нибудь абстрактный джаз, под который никто в «Риверсайде» даже не стал бы танцевать. Странные, ломаные ритмы, будто отражавшие весь хаос в его голове. Она не спрашивала, нравится ли ему. Он не притворялся, что понимает эту музыку. Они просто существовали в этом моменте без ожиданий, без ролей, без необходимости быть кем-то.
И это было предательством. Не громким, не показным. Тихим, как шелест страниц в библиотеке, где они прятались от всего мира. Но от этого не менее жестоким.
Каждый раз, принимая этот наушник, он предавал Эвелин. Предавал пять лет криков, страсти, драм и «я тебя ненавижу», которое всегда означало «не уходи». Предавал ту версию себя, которая знала, как быть с ней, но забыла, как быть просто собой.
Выбор. Это слово жгло изнутри. Как выбрать между человеком, который помнил его мальчишкой с разбитыми коленками, и тем, кто видел в нем что-то большее, чем легенды школьных коридоров? Между тем, что было частью его ДНК, и тем, что обещало глоток воздуха?
Айла перематывала трек, их пальцы случайно соприкасались. Он не отдергивал руку.
Значит, выбор был уже сделан? Или это просто еще одно мгновение, которое он украл у судьбы, прежде чем все рухнет?
Это случилось после выпускного. Тот вечер должен был стать завершением целой эпохи. Последние танцы, последние фотографии на фоне голубых и золотых шаров, последний раз, когда он надевал этот дурацкий смокинг, в котором Эвелин сказала, что он выглядит «ну прямо как настоящий мужчина». Но все пошло не так.
Они с Эвелин снова поссорились. Из-за чего он даже не помнил. Может, из-за того, что он слишком долго разговаривал с молодой учительницей. Или потому что не заметил ее новое платье сразу. Неважно. Она ушла, хлопнув дверью, оставив его одного среди гирлянд и растерянных взглядов.
А потом он увидел Айлу. Она стояла у открытого окна в конце коридора, в простом платье. В руках потрепанная книга, которую она всегда носила с собой. Музыка из зала доносилась сюда приглушенно.
– Ты не танцуешь? – спросил он, подходя ближе.
Она повернулась, и в ее глазах не было ни жалости, ни ожидания. Только тихое понимание.
– Не мое, – просто сказала она, а после добавила: – Ты знаешь, что это конец?
Он понял, о чем она: выпускной, школа, «Риверсайд» – все, что держало их в этих стенах, завтра превратится в воспоминание.
– Это не конец, – ответил он, но голос выдавал неуверенность.
Айла повернулась к нему.
– А что тогда?
Он не нашел слов. Вместо этого шагнул вперед, взял ее лицо в ладони и поцеловал.
Это не было похоже на те театральные, полные страсти поцелуи, которые он когда-то делил с Эвелин. Это было медленно, нерешительно, будто он боялся, что она исчезнет, если приложит хоть немного больше силы.
Но она не исчезла.
Айла ответила ему осторожно, затем увереннее, ее пальцы вцепились в его рубашку, сминая ткань. В этот момент он понял, что совершил что-то непоправимое.
Потому что теперь он знал вкус ее губ. Потому что теперь он не мог сказать, что это «ничего не значит». Потому что где-то там, внизу, Эвелин, возможно, все еще ждала его.
Где-то вдали гремела музыка, смеялись люди, рушились чьи-то планы. Но здесь, у этого окна, было только оно. То самое чувство, которое он так долго не мог назвать.
Он отстранился, ожидая увидеть в ее глазах укор, страх, вопрос. Но Айла просто прикоснулась к своим губам кончиками пальцев, как будто проверяя: реально ли это?
– Я… – он начал, но слова застряли в горле.
– Знаю, – она прошептала.
И этого было достаточно.
***
Первое, что он ощутил, – боль.
Острая, горячая, пульсирующая где-то глубоко в животе, будто кто-то вогнал туда раскаленный гвоздь и забыл вытащить. Нечеловеческая. Удушающая. Он попытался закричать, но из горла вырвался лишь хриплый стон.
Энтони открыл глаза.
Потолок. Блекло-белый, с трещиной, которая расходилась лучиками от угла, как паутина. Он следил за ней взглядом, медленно, по миллиметру, пока сознание не вернулось полностью, принося с собой обрывки воспоминаний.
Запах антисептика, въевшийся в стены. Навязчивое жужжание лампы дневного света где-то сверху. Холодная капельница, впившаяся в вену. Его собственные руки, лежащие на одеяле – бледные, почти прозрачные, с фиолетовыми подтеками вокруг катетеров.
Он был жив. Один.
Дверь приоткрылась с тихим скрипом. Вошла медсестра – женщина лет пятидесяти с усталыми, но добрыми глазами. Увидев, что он не спит, замедлила шаг.
– Вы уже с нами, – сказала она мягко. Голос у нее был низкий, спокойный. Так говорят с ранеными зверями. – Как себя чувствуете?
Энтони не ответил. Она не стала настаивать, поправила подушку, проверила капельницу. Действовала осторожно, будто боялась разбудить что-то, что спало в нем.
– Врач скоро подойдет, – сообщила она на прощание.
Дверь закрылась. Он снова остался один. Как и должно было быть.
Боль пульсировала в такт мерному пиканью монитора, напоминая: ты жив, когда они – нет. Как это вообще возможно?
Он закрыл глаза, но это не помогло. Перед веками вставали тени. Нечеткие, размытые, но знакомые. Мамин смех, доносящийся с кухни. Отец, чинящий крыльцо, его рубаха в пятнах краски. Младшая сестренка, которая вечно влетала в его комнату без стука…
Стоп.
Энтони резко открыл глаза, впиваясь взглядом в потолок. Не сейчас. Не здесь.
Но мысли, как предатели, лезли в голову:
«Почему я?»
«Почему именно они?»
«Какого черта я должен теперь делать?»
Он сжал кулаки. Слабо, слишком слабо – и тут же отпустил, когда боль рванула из живота вверх, к горлу.
Живой. Один. Никому не нужный.
За окном зашумел дождь. Капли стучали по подоконнику, словно торопились сообщить какую-то тайну.
Может, это они?
Но нет. Они не вернутся. Никогда.
И он остался один. С этим. С пустотой. С невысказанными словами, которые теперь навсегда застряли в горле колючим комом.
– Сколько времени прошло? – Голос хриплый, чуждый, будто не его собственный.
Ответа не последовало, только тиканье часов на стене. 14:23. Полоска солнечного света, упрямо пробивающаяся сквозь полузакрытые жалюзи, легла на одеяло, обжигая глаза.
День. Обычный день. Мир продолжает жить.
– Что теперь будет?
Вопрос повис в воздухе, и вдруг – неожиданно, резко – в груди что-то дрогнуло. Не боль. Не пустота. Что-то новое, острое, почти пугающее.
Страх. Настоящий, животный, сжимающий горло.
Он впервые за… сколько? Дней? Недель?.. почувствовал что-то.
Руки сами потянулись к лицу, но остановились на полпути. Слабость, боль, катетеры. Вместо этого он засмеялся. Тихо, сдавленно.
Вот оно. Еще не совсем мертв.
Солнечный луч упрямо полз по одеялу, освещая пылинки, кружащие в воздухе.
Они больше не увидят этого. Ни солнца, ни пыли, ни…
«Что теперь будет?»
Вопрос снова ударил в висок, но теперь вместе с ним пришло другое чувство – странное, почти неприличное в этой палате, среди этих мыслей.
Желание узнать ответ.
Медсестра сказала, что ему повезло. Какая ирония.
Глава 9
Кафе «У Мэри» на окраине Блэкстона – последнее место, где стоило ждать чуда.
Луиза, еще просто Лу – худая девчонка с кисточками для акварели в рваном рюкзаке, сидела у окна, кутаясь в тонкий кардиган, который не спасал от сквозняков. В пальцах конверт, густо набитый, краденый, пахнущий табаком: все, что она смогла стащить из отцовского ящика, пока он спал пьяным сном.
В голове – расписание автобусов до Чикаго. Мечта о студии где-то возле парка. О том, чтобы наконец дышать, не оглядываясь на пьяные крики за стеной.
Но потом дверь распахнулась.
Он вошел, как ураган в душном августе. Трэвис Дэвис, высокий, неуклюжий, с руками, которые не знали, куда деть себя в мирной обстановке. Волосы соломенного цвета, всклокоченные, будто он только что встал с постели. А зубы слишком белые, слишком ровные, как у героя дешевого романа.
– Ты выглядишь, как девчонка, которой срочно нужен кофе, – сказал он, плюхаясь на стул напротив без приглашения.
Луиза нахмурилась, но он уже махал официантке:
– Два эспрессо. И тот пирог с вишней.
Она собиралась сказать что-то колкое. Но он засмеялся. Громко, искренне, всей грудью, когда она съязвила про его ботинки.
«Выглядят так, будто их пожевали, а потом выплюнули»
И неожиданно Луиза поняла, что это первый раз, когда кто-то действительно слушал ее шутки.
– Я уезжаю, – вдруг выпалила она, сжимая конверт. – Сегодня. В Чикаго.
Трэвис откусил кусок пирога, кивнул:
– Хороший город. Но холодный.
– А тебе откуда знать?
– Потому что я там был. – Он наклонился, и в его глазах появилась та самая искра, которая потом будет сводить ее с ума годами. – А еще я знаю, что ты передумаешь.
– О чем ты?
– Я отвезу тебя куда угодно, – сказал он просто, как будто предлагал подвезти до дома, а не перевернуть всю ее жизнь. – Но не сегодня.
И Луиза, которая никогда никому не доверяла, поверила.
Они уехали из Блэкстоуна на рассвете, но не в Чикаго.
Трэвис появился под ее окном на третье утро после той встречи в кафе – за рулем старого Шевроле, с царапиной вдоль всего борта и картой, испещренной пометками.
– Поехали, – сказал он, как будто это было самое простое решение в мире.
Луиза, с внезапно проснувшейся дрожью в коленях, села в машину. Конверт так и остался лежать на тумбочке в ее комнате.
Первые месяцы были хаотичными, как мазки неопытного художника.
Техас, где они ночевали в придорожном мотеле, а Трэвис целую неделю подрабатывал мойщиком машин, чтобы купить ей набор хороших красок.
Нью-Мексико, где Луиза впервые продала свою картину пожилой паре, владевшей закусочной. Трэвис повесил вырученные 50 долларов на зеркало заднего вида как талисман.
Аризона, где они чуть не расстались после жаркой ссоры. Он хотел на север, она мечтала об океане. В итоге проснулись в обнимку на заднем сиденье, и он прошептал:
«Черт с ним, едем в Калифорнию».
Он учил ее не бояться.
Когда она робко показывала ему свои эскизы, он хватал их и вешал на стену дешевых номеров.
«Чтобы я каждое утро просыпался рядом с твоим талантом».
Когда она впервые расплакалась от ностальгии по родным краям, он не утешал. Просто включил громкую музыку и потащил ее танцевать под звездами.
Она учила его быть настоящим.
Он скрывал, что бросил колледж. Она узнала и купила ему учебник по архитектуре.
«Ты слишком умный, чтобы просто возить меня по стране».
Он боялся глубины – она научила его плавать в озере Тахо, держа за руку и смеясь над его паникой.
А потом был тот вечер в Неваде, когда Шевроле сломался посреди пустыни. Они сидели на капоте, потягивая теплое пиво, когда Трэвис вдруг сказал:
– Давай поженимся. Не когда-нибудь. Завтра.
Луиза засмеялась:
– У нас даже колец нет.
Он сорвал колючку с кактуса, скрутил в кольцо и нацепил ей на палец:
– Вот. Теперь есть.
Она сказала «да».
Все пошло под откос именно в тот момент, когда казалось, что дальше падать уже некуда.
Они вернулись в Блэкстон спустя восемь лет. Не в том самом разбитом Шевроле, что когда-то увез их прочь от сонного городка, а на потрепанном междугороднем автобусе, который пах дешевым бензином. С собой один потертый чемодан на двоих, пачка неоплаченных счетов из Лос-Анджелеса и тяжелое молчание, которое копилось между ними всю долгую дорогу.
Причина первая: деньги.
Письмо пришло внезапно, как удар под дых. Отец Трэвиса умирал. Старый дом, клочок земли, груда долгов – все теперь его.
«Мы сможем начать сначала», – говорил Трэвис, вертя в руках потрепанную фотографию.
Дом на окраине выглядел обшарпанным, но крепким, с широким крыльцом и пустующими окнами, будто ждущими, когда в них снова зажжется свет.
Луиза не ответила. Она стояла на пожарной лестнице их съемной конуры в Лос-Анджелесе, затягиваясь сигаретой до хруста в легких. Внизу мигали неоновые вывески, гудел ночной город, а где-то там, за поворотом, оставались их несбывшиеся мечты.
Именно тогда они поссорились по-настоящему. Не с криками, а с ледяным молчанием, которое резало больнее, чем любые слова.
Причина вторая: ребенок.
Луиза узнала о беременности за неделю до отъезда. Дешевый тест, купленный в круглосуточной аптеке по дороге с работы, лежал на краю раковины, его две розовые полоски расплывались от капель воды.
Трэвис ворвался в ванную, не постучав. Его глаза горели, как восемь лет назад в прокуренном кафе «У Мэри», когда он впервые сказал ей:
«Давай махнем куда подальше».
– Мы сможем вырастить его там! – крикнул он, размахивая письмом с гербом Блэкстона.
Ее губы уже сложились в «Я не готова», но язык будто прилип к небу. В его взгляде читалось то же безумие, что и в ночь их побега. Только теперь вместо чемоданов с мечтами был ребенок, а вместо открытой дороги – прогнившие половицы отчего дома.
Она промолчала. Потому что иногда молчание – единственный способ не разбить сердце тому, кто еще верит в сказки.
Блэкстон встретил их пыльным ветром.
Особняк скрипел, как старый корабль на мели. Отец Трэвиса – уже похороненный чужими руками, долги – втрое больше, чем в письме, а в пепельнице у порога все еще валялся окурок с отпечатком его губ. Луиза стояла посреди гостиной, где пахло затхлостью и чужим прошлым, и чувствовала, как скрип половиц под ногами повторяет одно:
Ловушка. Ловушка. Ловушка.
Но Трэвис носился по дому, как мальчишка, волоча за собой чемодан.
– Здесь будет твоя студия, – он тыкал пальцем в заплесневелую стену. – А здесь… – его голос дрожал, – …детская.
Перелом случился в ноябре.
Ребенок ушел тихо, как последний свет в захлопнувшемся холодильнике. Трэвис, вместо того чтобы стать стеной, которую можно разбить кулаками, зашептал:
«Мы попробуем снова».
И тогда она ударила его. Не сильно, ладонью в грудь, но он отпрянул, будто от удара ножом.
На следующее утро он притащил холст и кисти.
– Рисуй. Как раньше, – сказал он, в глазах плавала та самая девочка из кафе «У Мэри», которая когда-то верила в будущее.
Луиза взяла кисть. Провела по холсту одной алой полосой, ровно такой, как дорога на карте, по которой они так и не уехали. Отложила. Вышла во двор.
А потом пришли счета.
Первый. Второй. Третий.
Трэвис начал пить. Сначала по вечерам, потом с обеда, потом уже к полудню его дыхание пахло дешевым виски. Однажды он швырнул ее палитру об стену, и краски брызнули по обоям, как запекшаяся кровь.
– Почему ты больше не рисуешь?!
Луиза собрала чемодан ночью. Но когда вышла на крыльцо, увидела на дороге гололед, скользкий, как ее оправдания, в кармане двенадцать долларов и чек из аптеки, в животе новую жизнь, которая уже не спрашивала разрешения.
Она развернулась. Вернулась в дом. А на утро сказала Трэвису, что ждет ребенка.
***
В тот день все пошло наперекосяк с самого рассвета.
Энтони проснулся от странной тишины – будильник не звонил. Провод зарядки, всю ночь болтавшийся на краю кровати, окончательно выскользнул из телефона, оставив экран черным и безмолвным. Он ткнул в кнопку включения – ничего. Мертвая батарея.
На автобус он опоздал ровно на те три минуты, что потратил, пытаясь оживить телефон. Следующий только через тридцать минут. Энтони побежал, чувствуя, как рюкзак бьет его по спине в такт шагам. В горле запершило от холодного утреннего воздуха.
А потом – деревянное ограждение у школы. Торчащая балка, которой раньше не было, или он просто не замечал ее, крюком зацепила ремень рюкзака. Резкий рывок, и теперь сумка болталась на одном плече, как сломанное крыло.
Поэтому, когда на полпути домой его настиг дождь, Дэвис даже не удивился.
Вода хлестала с неба, будто кто-то опрокинул ведро, забыв предупредить землю. Он побежал, но было уже поздно: за считанные секунды футболка прилипла к спине, несмотря на надетую поверх толстовку, а кроссовки захлюпали, как две маленькие лодки, безнадежно набравшие воду.
Добежав до вывески супермаркета, Энтони остановился, отдышался и вытер ладонью лицо. Бесполезно. Он был мокрым насквозь. Ровно настолько, чтобы холодная струйка воды уже подбиралась по спине к пояснице, обещая не самые приятные следующие пару часов.
«Ну конечно же», – усмехнулся он про себя, отряхивая капли с рукавов.
«Идеальный конец идеального дня».
Жалкий навес у магазина оказался предателем. Он кокетливо прикрывал разве что верхушку головы, пока косой дождь методично заливал воротник, а порывы ветра устраивали ледяные экзекуции по всему телу. Каждый новый шквал проникал под одежду, вытесняя последние крупицы тепла. Казалось, даже кости промокали насквозь.
Энтони ежился, прижимая локти к бокам, но это лишь заставляло мокрую ткань сильнее прилипать к коже. Еще пять минут и он начнет превращаться в сосульку. У бездомного под соседним навесом хотя бы было одеяло.
Но он, похоже, был не единственным, кого вселенная решила сегодня потрепать.
Плеск чужих кроссовок по лужам прорвался сквозь шум дождя – резкий, торопливый. Дэвис обернулся и увидел Эллен. Ее розовые волосы липли к щекам, словно выцветшие лепестки, а тушь размазалась по лицу, превратившись в подобие трещин на фарфоровой кукле.
– Следишь за мной? – хмыкнул он, вытирая ладонью воду с подбородка.
Она подняла на него глаза и вдруг улыбнулась, будто этот промозглый вечер внезапно стал чуть теплее.
– Стечение обстоятельств, – пожала плечами, отбрасывая мокрую прядь. – Не думала, что ты тоже в этой стороне живешь.
Дэвис хотел ответить что-то едкое, но в горле запершило. Он резко отвернулся, подавив кашель. Даже тело сейчас против него.
– В этом районе? – выдавил он, скептически оглядывая потрескавшиеся фасады. – Серьезно? Да тут даже фонари горят через один.
Эллен провела пальцем по мокрой металлической стойке навеса, собирая капли в ладонь.
– Ну, знаешь ли… – ее голос дрогнул, будто она взвешивала каждое слово, – не у всех есть возможность выбирать.
Дэвис молча наблюдал, как дождь стекает по ее розовым прядям. В голове крутилось:
«Ну конечно, именно Эллен. Именно сейчас, когда я выгляжу как утопленник».
Они состояли в одной компании – пили один и тот же дешевый энергетик на площадке, смеялись над одними и теми же тупыми шутками. Но вот так, наедине? Никогда. Почти никогда.
Сейчас, под этим жалким навесом, в этом проклятом районе, она казалась слишком уж неуместной. Как будто кто-то специально подкинул ему эту картинку, чтобы окончательно добить.
Ее карие глаза казались темнее обычного. Может, из-за размазанной туши, а может, из-за того, как она прищурилась от порыва ветра.
«О чем она вообще думает?»
– Ты… – начал он, но голос прозвучал хрипло.
Она подняла на него глаза.
– Да?
Энтони вдруг осознал, что стоит слишком близко. Что видит, как капля дождя скатилась по ее носу. Что между ними сейчас меньше расстояния, чем было за все эти месяцы в одной компании.
И что он не знает, что с этим делать.
– Да? – повторила Эллен, и в ее карих глазах мелькнуло что-то, что Дэвис не мог расшифровать.
Дождь барабанил по жестяному навесу, заполняя паузу, которая уже начала казаться вечностью.
– Ты… – он сглотнул, – Ты тоже живешь где-то здесь?
Она усмехнулась, но в уголках глаз не появилось привычных смешинок.
– Да. Совсем рядом. А ты? – она скользнула взглядом по его промокшей толстовке. – Опять забыл зонт?
– Да вроде он у меня сломанный где-то…
– Как всегда, – она покачала головой.
Тишина снова натянулась между ними, но теперь она была не такой неловкой.
Где-то вдали прогрохотал грузовик, и Энтони вдруг осознал, что не хочет, чтобы этот разговор заканчивался. Идти домой сейчас хотелось меньше всего.
Эллен вздохнула, стряхивая воду с рукава.
– Ладно, хватит мерзнуть. У меня квартира через две улицы, – она кивнула в сторону узкого переулка. – Мать сегодня у подруги в гостях, раньше полуночи вряд ли вернется. Можешь переждать, если хочешь.
– Ты… серьезно?
– Ну да, – она пожала плечами, но взгляд скользнул в сторону. – Только предупреждаю – у нас жуткий бардак. И кот. Кот, кстати, псих.
Дэвис неожиданно рассмеялся.
– Пугаешь?
– Предостерегаю, – уголки ее губ дрогнули.
Они рванули вперед, и мир превратился в водяное месиво под ногами.
Дождь хлестал по лицу, слепил глаза, но Эллен бежала так, будто знала каждый камень на этой дороге – уверенно, резко, держа Дэвиса за рукав, как будто боялась, что он отстанет. Их кроссовки шлепали по лужам, вздымая фонтаны брызг, холодная вода заливалась за шнурки, но было уже неважно.
Энтони, пытаясь не отстать, споткнулся о край размытого тротуара, но Эллен резко дернула его за собой, даже не оглянувшись.
– Не тормози! – крикнула она сквозь шум дождя, ее голос смешался с ревом воды в сточных канавах.
Внутри все сжалось в комок.
Ее пальцы цеплялись за его рукав, он чувствовал каждый ее рывок – слишком близко, слишком неожиданно. Раньше он терпеть не мог ее розовые волосы, которые она вечно накручивала на палец, когда нервничала. А теперь она тащила его за собой по мокрому асфальту, и он, как дурак, бежал, не в силах вырваться.
«Черт, почему я вообще согласился?»
Но это была ложь. Он мог бы остановиться. Мог бы огрызнуться, как делал всегда, когда она случайно задевала его в школьном коридоре. Вместо этого его ноги сами двигались за ней, будто под гипнозом.
И это пугало.
Ее смех, раздававшийся сквозь шум дождя, резал слух. Раньше он казался ему фальшивым – слишком громким, слишком нарочитым. Теперь же в нем слышалась какая-то странная заразительность, от которой в груди екало.
«Она что, издевается? Или…»
– Ты живой? – она повернулась к нему, вытирая ладонью лицо.
«Нет. Нет, я не живой. Потому что мертвые не чувствуют, как у них сводит живот от одного твоего прикосновения.»
Но вслух он только хрипло выдавил:
– Да… Все норм.
И тогда она улыбнулась – не своей обычной дурацкой улыбкой, а какой-то другой, мягкой, и от этого стало еще хуже.
«Прекрати. Прекрати смотреть на меня так, будто я что-то значу.»
– Тогда поехали дальше! – она уже повернулась и снова потянула его за собой, а он.
Он последовал.
Как будто за эти десять минут что-то внутри переломилось, и теперь он больше не мог притворяться, что ненавидит ее.
На последнем повороте Ривс вдруг резко свернула к пятиэтажке с облупившейся краской, подпрыгнула и с хлопком ударила ладонью по мокрой табличке с номером дома.
– Финиш! – она расхохоталась, запрокинув голову, дождь стекал ей прямо в открытый рот.
Дэвис, опираясь на колени, пытался отдышаться, но не мог не рассмеяться в ответ.
– Ты… ненормальная, – выдавил он, но это звучало почти как комплимент.
Эллен только подмигнула, вытирая мокрое лицо.
– Зато не мерзну.
Глава 10
Такси неслось по шоссе, залитому холодным лунным светом. Кармен впилась пальцами в потрепанную обивку сиденья, не чувствуя ни усталости, ни голода. Только ледяной ком в груди, который рос с каждым километром, отделяющим ее от сына.
Водитель, молодой парень с наушником в ухе, нервно покосился на нее через зеркало заднего вида.
– Извините, мэм. Вы уверены, что вам надо именно в Элсфорт? Там сейчас дороги…
– Я знаю, – отрезала она, отвернувшись к окну.
За стеклом мелькали огни придорожных мотелей – желтые, размытые. Где-то там, за этими мигающими точками, лежал ее мальчик. Возможно, плакал. Возможно, звал ее.
Пять лет. Пять лет она не держала его маленькую руку, не чувствовала, как его пальцы доверчиво сжимаются вокруг ее ладони. Пять лет не слышала его заливистый смех по утрам, когда он бежал к ее кровати с новой игрушкой. Пять лет не гладила его мягкие волосы, когда у него поднималась температура и он просил почитать сказку.
Теперь он лежал в больнице. Один, напуганный, среди чужих людей в белых халатах. Без отца, который всегда знал, как утешить. Без нее. А она мчалась к нему по темной дороге, как в каком-то дурном сне, повторяя про себя:
«Прости, малыш. Мама уже едет. Мама почти приехала».
Господи, только бы успеть. Только бы он был жив. Невредим. Чтобы эти пять лет не стали вечностью, которая разделила их навсегда.
Водитель снова обернулся, встревоженный ее бледностью:
– Леди, вам плохо? Может, остановимся?
– Нет, – голос Кармен звучал хрипло. – Просто везите. Быстрее.
Машина резко затормозила перед светофором, отбрасывая Кармен к потрепанной обивке сиденья. В ушах звенело – не от резкой остановки, а от привычного гула диспетчерской, который никогда по-настоящему не покидал ее.
Дэвид настоял на разводе, когда Майклу было два года.
«Ты выбираешь чужие трагедии вместо нашего сына», – бросал он, а его новая подруга уже ждала в машине с Майклом на руках. Ребенок плакал, тянулся к ней, но Дэвид просто увез его – как вещь, которую она забыла забрать.
Пять лет. Пять лет она слушала чужие крики о помощи, пока ее собственный сын учился ходить, говорить, читать с другой женщиной.
Она инструктировала: «Оставайтесь на линии, помощь уже в пути», – хотя сама никому не могла помочь.
Майкл… Маленький предатель, который через год после развода уже называл «мамой» ту блондинку из студии йоги. Та самая блондинка, у которой всегда были идеальные ногти и время на чужую семью.
Здание больницы возвышалось в ночи, словно гигантский бетонный монстр, испещренный светящимися окнами-глазницами. Его холодные стены дышали запахом антисептика и тревоги, просачивающимся сквозь автоматические двери.
Кармен выскочила из такси, швырнув купюры водителю, не дожидаясь сдачи. Ноги понесли ее к входу по скользкому асфальту, сердце колотилось где-то в горле, отдаваясь глухими ударами в висках.
Регистратура встретила ярким люминесцентным светом и гулкой тишиной. За стойкой сидела медсестра – женщина с лицом, на котором годы ночных смен прописались глубокими морщинами. Ее глаза, цвета выцветшего неба, поднялись на Кармен с безразличной усталостью.
– Майкл Рейес. Его доставили вчера, – голос Кармен прозвучал сдавленно, словно горло сжала невидимая рука. – Дженнер. Майкл Дженнер, – тут же поправила она саму себя.
Медсестра медленно провела пальцем по экрану компьютера. Взгляд скользнул по лицу Кармен, задерживаясь на следах слез и растрепанных волосах.
– Вы мать? – спросила она, в голосе прозвучала не простая формальность, а тихое, но отчетливое осуждение.
Словно она уже видела слишком много таких «матерей», появляющихся с опозданием в несколько лет.
– Да! – это слово вырвалось у Кармен слишком громко, эхом отразившись в почти пустом холле. Она сглотнула, пытаясь взять себя в руки. – Я его мать.
Медсестра тяжело вздохнула, протягивая бейдж посетителя.
– Палата 314. Только тихо. Он только заснул после процедур. Не будите его.
Кармен кивнула, сжимая пластиковый бейдж в дрожащих пальцах. Каждый шаг к лифту отдавался в ней гулким эхом – не от звука шагов по кафелю, а от биения собственного сердца, готового разорваться от страха и вины.
Лифт медленно поднимался на третий этаж, издавая монотонный гул, который казался саундтреком к ее нарастающей тревоге. Кармен впилась взглядом в меняющиеся цифры над дверью, каждый миг ожидания ощущался вечностью.
Когда двери наконец разъехались, ее встретил длинный пустой коридор, залитый холодным светом. Пахло лекарствами, страхом и одиночеством.
Она шла, почти не дыша, считая комнаты: 310… 312… 314. Дверь была приоткрыта. Сквозь щель пробивался тусклый ночной свет, смешанный с мерцанием мониторов.
Кармен замерла на пороге, внезапно охваченная парализующим страхом. Что, если он ее не узнает? Что, если проснется и испугается? Пять лет – вечность для семилетнего ребенка.
Она сделала шаг внутрь. И увидела его. Маленький силуэт под белой простыней. На его лице не было ни синяков, ни ссадин. Рядом на стуле спала женщина, та самая, что заменила ее, с идеально уложенными волосами, которые даже во сне выглядели безупречно.
Палата была тихой, если не считать ровного дыхания Майкла и тихого посапывания его мачехи. Никакого Дэвида. Никакого ледяного приема. Только тиканье часов на стене, отсчитывающих секунды ее мучительного ожидания.
Кармен медленно опустилась на колени у кровати, ее пальцы дрожали. Она протянула руку, чтобы коснуться его щеки, но остановилась в сантиметре от кожи.
– Прости, – прошептала она так тихо, что слова растворились в тишине.
Она не могла здесь находиться. Кармен вырвалась из палаты, как призрак, не оставив после себя ничего, кроме легкого колебания воздуха. Дверь бесшумно закрылась, поглотив последний след ее присутствия.
«Беги».
Единственная мысль, отстукивающая в такт ее бешено колотящемуся сердцу. Ноги несли по бесконечному коридору, отражающему тусклый свет ночных ламп.
Он не проснулся. Он так и не открыл глаза. Не увидел ее унижения, ее паники, ее трусости. Не увидел, как его мать… Нет, не мать, чужая женщина, в ужасе бежит прочь.
Они все спали. Идиллическая картина: мальчик под белоснежным одеялом, его новая мать, склонившаяся в неудобной позе на стуле. Ничто не нарушало их покой. Кроме нее. Ворвавшейся и сбежавшей. Нарушительницы спокойствия.
Лифт, казалось, ждал ее. Двери разъехались с тихим шелестом, предлагая холодное металлическое убежище. Кармен вжалась в угол, стараясь дышать тише, стать меньше, исчезнуть.
Когда лифт тронулся вниз, она закрыла глаза, но перед ними стояло лицо Майкла – спокойное, безмятежное, абсолютно безразличное к ее драме.
Он не нуждался в ее покаянии. Не нуждался в ее слезах. Не нуждался в ней. И в этом заключалась самая страшная казнь.
***
Рядом с Айлой он чувствовал себя так, словно попал в один из тех приторных любовных романов, которые она так обожала – написанных начинающим автором, еще не научившимся скрывать клише за изящными фразами. Слишком сладко, слишком идеально, слишком по-детски наивно.
С ней Джошуа мог говорить часами, с упоением разбирая сюжетные повороты нелепого фэнтези-романа, краткий пересказ которого он лихорадочно проглотил за полчаса до встречи в приложении для чтения. Лишь бы не показаться глупцом. Лишь бы продлить это странное, теплое чувство, возникающее, когда она смеялась его шуткам и смотрела на него широко раскрытыми, доверчивыми глазами.
Он ловил каждое ее слово, каждую интонацию, как будто от этого зависела его жизнь. А потом возвращался домой и до глубокой ночи сидел в интернете, изучая авторов и жанры, о которых она упоминала, готовясь к следующей встрече, как к важнейшему экзамену.
Это было изнурительно. И прекрасно. Потому что в эти моменты он мог притвориться тем парнем, которым всегда хотел быть – начитанным, остроумным, идеальным. Тем, кто заслуживал ее улыбки.
Но как бы он ни старался вживить себе под кожу эти розовые очки – его жизнь упрямо отказывалась становиться идеальной. За пределами уютного мира, созданного Айлой, его ждала Эвелин.
Они не жили вместе, но их связывали годы, прошедшие с момента, когда они, смеясь, бросали в воздух свои школьные кепки. Эвелин все еще писала ему каждый день – милое, привычное «Доброе утро, Джоши», от которого теперь сводило челюсть. Она планировала их общее будущее с уверенностью человека, не сомневающегося в своем праве на это.
Джошуа возвращался с встреч с Айлой, весь пропитанный ее смехом и легкостью, а на телефоне уже мигало уведомление: «Когда заедешь? Мама спрашивала про тебя».
Он откладывал разговор снова и снова. Встречал ее на выходных, брал за руку, слушал планы о переезде в другой город и чувствовал, как стены его вымышленного мира с Айлой дают трещины. Эвелин говорила о совместной аренде квартиры, а он в это время вспоминал, как Айла цитировала ему строки из книг, которые он так и не прочел.
Он пытался порвать. Набирал номер и сбрасывал. Писал длинные сообщения и стирал их. Каждое «нам нужно поговорить» застревало в горле, когда он видел ее знакомую, такую родную улыбку.
И он застревал в этом подвешенном состоянии – между вчера и завтра, между долгом и желанием. Между девушкой, которая знала его всего ничего, но видела тем, кем он хотел быть, и той, что знала его годами, но не замечала, как он меняется.
А розовые очки, которые он так старался вживить в тело, больно впивались в кожу, напоминая, что за иллюзией всегда последует расплата.
Он существовал в странном промежутке между двумя реальностями. С Айлой он был тем, кого придумал – парнем, цитирующим Кафку наизусть и разбирающимся в современной поэзии. С Эвелин он оставался тем же Джошуа, который когда-то списывал у нее алгебру.
По утрам он просыпался от сообщений обеих. Айла присылала цитаты из книг, которые он тут же гуглил, чтобы поддержать разговор. Эвелин – фотографии их общих знакомых и напоминания о предстоящих событиях. Он отвечал обеим, чувствуя, как его сознание раскалывается надвое.
Иногда, за завтраком, он ловил себя на том, что путает детали их жизней. Рассказывал Эвелин о выставке, на которой якобы был с друзьями, но на самом деле посещал с Айлой. Или обсуждал с Айлой новый сериал, который на самом деле смотрел с Эвелин.
Ложь окутывала его паутиной, с каждым днем становясь все плотнее. Он начал вести календарь, чтобы не перепутать, кому что рассказывал. Записывал детали, придуманные истории, даже шутки, которые можно было повторить.
Но хуже всего были моменты, когда реальности сталкивались. Когда он видел у Эвелин фото с вечеринки, где должен был быть, но вместо этого гулял с Айлой по набережной. Или когда Айла случайно упоминала кафе, где они сидели в тот день, когда он сказал Эвелин, что занят с семьей.
Каждый такой момент заставлял его содрогаться. Он ждал, что вот-вот все раскроется, что обе поймут, кто он на самом деле – не идеальный книжный герой и не надежный парень, а просто лгун, запутавшийся в собственной паутине.
Но дни шли, и ничего не менялось. Только розовые очки впивались все глубже, и иногда по ночам ему казалось, что он чувствует, как они врастают в кость.
Он начал терять границы между вымыслом и правдой. Порой, разговаривая с Эвелин, он ловил себя, что цитирует стихи, которые будто бы знал с детства, но на самом деле выучил вчера для Айлы. Его собственная биография обрастала фантастическими подробностями: несуществующей поездкой в Прагу, умершим дядей-художником, выдуманными детскими травмами.
Джошуа создавал себя заново для каждой из них, как автор, пишущий два разных романа одновременно. Но герои начали смешиваться, сюжетные линии путаться. Он мог спросить Эвелин, понравилось ли ей то самое место в ботаническом саду, где он на самом деле никогда с ней не был. Или начать обсуждать с Айлой новый альбом группы, которую ненавидел, но любил для Эвелин.
Иногда, просыпаясь среди ночи, он не мог сразу вспомнить, где находится и в какой роли должен проснуться. Его руки сами тянулись к телефону, проверяя, не отправил ли он случайно не то сообщение не тому человеку.
Он больше не мог отличить, где заканчивается ложь и начинается он настоящий. И это пугало больше, чем возможное разоблачение.
Все достигло критической точки, когда в одно дождливое воскресенье его миры едва не столкнулись.
Он договорился встретиться с Айлой в уютной кофейне на окраине города – месте, которое казалось безопасным удалением от привычных маршрутов Эвелин. Они сидели у окна, и Айла, смеясь, пыталась прочитать его судьбу по кофейной гуще, когда дверь кофейни открылась.
Вошла Эвелин. Не одна, с подругой. Сердце Джошуа провалилось куда-то в бездну. Он замер, не в силах пошевелиться, ожидая неминуемой катастрофы.
Но судьба сыграла с ним злую шутку. Эвелин, увлеченная разговором, прошла мимо их столика, даже не взглянув в его сторону. Она смеялась чему-то, и этот знакомый, такой родной смех прозвучал для него как погребальный звон.
Айла заметила его внезапную бледность.
– Джош? С тобой все в порядке? Ты выглядишь так, будто увидел призрака.
Он попытался улыбнуться, но мышцы лица не слушались.
– Все хорошо, просто… показалось.
В тот вечер, вернувшись домой, он получил сообщение от Эвелин: «Я почти поклялась, что видела тебя сегодня. Ты же был у Мэтта?»
Ледяные пальцы сжали его горло. Она видела. Не узнала, но видела. Его замок из карт начал рушиться.
Он ответил что-то про двойника и сломя голову побежал в ванную. Его вырвало. Организм на физическом уровне отвергал двойную жизнь, которую он себе выстроил.
Джошуа смотрел на свое бледное отражение в зеркале и не узнавал себя. Глаза лгуна. Уста обманщика. Он стал тем, кого всегда презирал.
В тот момент Джошуа осознал – его роман медленно подходит к концу. И финал будет катастрофическим. И понял, что должен выбрать. Не между двумя женщинами – между двумя версиями себя. Прежде чем его мир окончательно рухнет и погребет всех под обломками.
Он сидел на холодном кафеле ванной комнаты, прижав ладони к вискам, пытаясь заглушить навязчивый стук в висках. На экране телефона одновременно мелькало два сообщения:
От Эвелин: «Мама приглашает на ужин в воскресенье.»
От Айлы: «Нашла ту самую книгу, о которой ты говорил! Завтра принесу в кофейню»
Два мира. Две реальности. Две версии себя, каждая из которых требовала целостности.
Дэвис медленно поднялся, опираясь о раковину. Он провел пальцем по стеклу, словно пытаясь стереть этого человека, которого сам же и создал.
Внезапная ясность накрыла его, холодная и безжалостная. Он не мог продолжать воровать моменты, обманывать доверие, жить в постоянном страхе разоблачения.
Его пальцы дрожали, когда он набирал сообщение Айле: «Завтра мне нужно тебе кое-что сказать. Важное».
Затем – Эвелин: «Нам нужно серьезно поговорить. Можем встретиться завтра?»
Ответы пришли почти мгновенно.
Айла: «Конечно! Все в порядке?»
Эвелин: «Опять про переезд? Ладно, только без драм, хорошо?»
Он выключил телефон и впервые за долгие месяцы почувствовал странное спокойствие. Решение было принято. Завтра он перестанет бежать. Перестанет лгать. Даже если правда будет болезненной. Даже если он потеряет обеих. По крайней мере, он снова сможет смотреть себе в глаза.
Глава 11
Это одна из тех бездн, в которую страшно заглядывать. Чья глубина отталкивает и кажется непостижимой для человеческого сознания. Причина этого ужаса в том, что корни подобного зла никогда не бывают единственными – они сплетаются в темный, перекрученный клубок из сломанных судеб, извращенной воли и глубокой душевной болезни.
Это не монолит зла, а сложный и уродливый сплав. Здесь смешивается все: невылеченная травма, переданная как рок по наследству; эгоизм, возведенный в абсолютную степень; патологическое стремление к власти над тем, кто слабее и не может дать отпор. Это попытка больной души утвердить свое мнимое превосходство, растоптав хрупкий мир другого человека. Часто за этим стоит невообразимое одиночество, вывернутое наизнанку, искаженное понимание близости, где боль становится единственным известным языком общения.
Это предательство самого понятия «взрослости». Взрослый по природе своей – защитник, опекун, тот, кто проводит границы и ограждает неокрепшее сознание от хаоса мира. Тот, кто растлевает, – не просто преступник. Он – разрушитель основ. Он крадет у ребенка не только невинность, но и саму способность доверять, любить, чувствовать себя в безопасности в этом мире. Последствия такого надлома простираются на десятилетия, а иногда и на поколения, словно трещина в стекле, что ветвится и множится, искажая все, что через нее видно.
Почему? Возможно, правильнее спросить – как? Как человеческое сознание допускает подобную мысль? Как рука поднимается на свершение такого? И ответа, полного и исчерпывающего, нет. Есть только тихий ужас перед этой бездной и понимание, что единственный способ с ней бороться – это бескомпромиссное освещение ее тьмы ясным светом закона, морали и беспрестанной работы здорового общества, которое обязано видеть, слышать и защищать своих детей. Всегда.
В основе этого мрачного феномена зачастую лежит порочный круг насилия. Самый прочный и самый проклятый из всех кругов на земле. Жертва, вырвавшаяся из лап собственного кошмара и повзрослевшая, порой не находит иного выхода для невыносимой боли, кроме как самому стать палачом. Искалеченная душа, с младых ногтей познавшая лишь унижение и боль, взывает не к исцелению, а к слепой и утробной мести. Она стремится утвердить свою власть над миром единственным известным ей способом: отыскав того, кто слабее, кто беззащитнее, кто станет безмолвным зеркалом ее собственного некогда беспомощного страха.
Это не оправдание. Ничто не может служить оправданием. Это попытка разглядеть ту роковую трещину в самом фундаменте человеческой психики, из которой прорастает это ядовитое, смертоносное растение.
Ребенок в такой извращенной системе координат перестает быть личностью. Он низводится до уровня объекта, инструмента, способа компенсировать собственную, разъедающую изнутри слабость. Палач, терзая жертву, в своем помраченном сознании вновь переживает момент собственного унижения, но на сей раз с другого конца. Это дает ему иллюзию тотального контроля, того контроля, которого он был навеки лишен в прошлом.
А иногда в основе лежит не сломленность, а порок. Холодный, отполированный и расчетливый. В этой душе нет и намека на смятение, ибо царит в ней не буря, а абсолютная, леденящая пустота.
Отсутствие. Отсутствие эмпатии, совести, способности ощущать чужую боль как свою. Такой человек смотрит на мир как на гигантскую шахматную доску, а на других людей, и в особенности на детей, как на фигуры. Пешки, которыми можно двигать, которыми можно пожертвовать ради удовлетворения своего желания, своей прихоти, своей изощренной воли.
Но какой бы тропой, через больную память предков или через собственную выжженную пустыню души, ни пришел человек к этой пропасти, он всегда окружает свои действия плотной, удушающей паутиной самооправданий. Он ткет ее изо лжи, убеждая прежде всего себя, что творит не насилие, а «особую любовь». Что несет не растление, а «тайное знание». Что ребенок «сам хотел», «соблазнял», «ничего не поймет» или «быстро забудет».
Эта ложь – его спасательный круг в море собственного презрения, необходимый ритуал, чтобы по утрам встречать в зеркале свое отражение, не содрогаясь сразу от всего ужаса собственного падения.
В конечном же счете, сколь бы сложны ни были причины, это всегда – акт величайшего, немыслимого предательства. Предательства доверия, власти, ответственности. Взрослый, чья священная роль от века – защищать, оберегать и направлять, использует данную ему силу не для созидания, но для разрушения. Он не строит мост в будущее, он подрывает его опоры.
И нет такой причины в прошлом, такой душевной болезни или такой глубины страдания, что могли бы послужить оправданием. Объяснение не равно прощение. Понимание мрачных механизмов этой трагедии нужно миру не для того, чтобы простить непростимое, но чтобы сделать единственное возможное: предотвратить, защитить, выявить и разорвать порочную цепь раз и навсегда. Ведь самое молчаливое и самое беззащитное зло – это то, что творится за закрытыми дверями, прикрытое ложью, стыдом и страхом.
Иные же движимы другим демоном – невыносимого, всепоглощающего одиночества. Их пугает сложный и требовательный мир взрослых отношений, построенный на хрупком равновесии взаимности и уважения.
Они не способны выдержать этого равноправия, этой ответственности. И тогда их взор падает на чистоту и доверчивость ребенка. Им мнится, что эта чистота – тихая, безопасная гавань, где их наконец-то примут, не требуя ничего взамен, не бросив и не предав. Но это – самообман, чудовищная и сладостная иллюзия, порожденная больным сознанием.
В глубине души они понимают, что не ищут любви, ибо любовь требует диалога, риска, взаимности. Они ищут податливую глину. Ищут безгласную жертву, которую можно облечь в удобную для себя форму, не встречая ни малейшего сопротивления, ни тени осуждения. Они творят себе кумира по своему образу и подобию, уродуя хрупкое сознание, которое доверилось им. И в этом вся мера их духовной нищеты и абсолютной, леденящей душу пустоты.
Принято считать, что дом – это убежище. Для Лорен Роуз Дэвис эта аксиома перестала быть истиной в один день, когда ей едва исполнилось восемь лет. Инцидент, о котором не принято говорить вслух, случился там, где ее должны были оберегать стены, а не предавать их молчаливое свидетельство.
Возможно, именно в этом и заключался главный ужас. Не в самом акте насилия, а в том, как рухнула сама концепция безопасности. Это был не взрыв извне, а тихий, методичный распад изнутри.
***
Дверь в палату отворилась с тихим скрипом. В щель, озаренную мертвенным светом коридора, вплыла тень на колесах – знакомая инвалидная коляска. Она двигалась не плавно, а с навязчивым шуршанием, словно что-то перемалывая под своими бездушными шинами. Сэм сидела в ней не как живой человек, а как изваяние, высеченное из бледного мрамора, ее пальцы судорожно сжимали ободья колес. Хирургическая бритва оставила ее голову голой и уязвимой, обнажив синеватые прожилки на висках. А веснушки, те самые яркие отметины жизни, что когда-то походили на рассыпанное золото, теперь на восковой коже казались зловещими пятнами. Не следами солнца, а следами тления, проступающими изнутри сквозь тонкую бумагу того, что когда-то было лицом. Она была похожа на увядший цветок, усердно старающегося сохранить форму, но в котором уже вовсю хозяйничает смерть.
Она замерла у кровати, врезавшись в пространство комнаты, как призрачный бриг в туманную бухту. Ее глаза уставились на лежащую фигуру без тени интереса, лишь с холодным, отрешенным любопытством энтомолога, рассматривающего булавкой приколотую бабочку.
– Ну что, сосед… – ее голос сорвался с губ чуть громче шепота. Он был сух и безжизнен, как шелест столетиями не потревоженных страниц в запечатанном склепе. – Продолжаешь притворяться трупом? Небось, уже успел с Эллен повидаться?
Из неподвижной груды простыней и боли родился ответ.
– Очень смешно.
Каждое слово было мукой, отзывалось тупой, разрывающей болью где-то глубоко под ребрами – там, где, казалось, все живое уже было выжжено дотла. Это был не голос, а его тень, его горький осадок.
Она подкатила ближе, беззвучно, как привидение по натянутой струне тишины. Энтони заставил себя сфокусироваться. Мир плыл в лихорадочной дымке, но этот жест требовал ясности. Взгляд скользнул вниз, упал на ее руку, лежащую на ободке коляски. Руку, которая казалась выточенной из старой слоновой кости. И там, на запястье, тонком и почти прозрачном, сидел он. Тот же самый больничный браслет – грязновато-белая полоска дешевого пластика, уродливый ярлык, с безликим шрифтом. Его собственный браслет впивался в кожу, натирая ее до красной, воспаленной полосы, словно клеймо скотины, ведомой на убой.
И вид ее браслета вызвал у него не просто отвращение. Это была почти физическая тошнота, горький привкус несвободы на языке, внезапный спазм где-то в глубине, где еще теплилась жалкая искра того, что когда-то было его волей.
Он уже успел забыть, что она тоже здесь. А если бы и помнил, то это ничего бы не изменило. Он не знал, в каком именно крыле ада оказался сам. Эта обитель скорби была столь обширна, что ее коридоры терялись в тумане морфия и отчаяния.
Они не обменивались ни словом, ни взглядом с тех самых пор, как Саманта оказалась в этом месте. Дэвис не мог выносить ее присутствия. Видеть ее было олицетворение крушения. Слышать ее – значило слышать эхо собственного падения. Допустить мысль о ней – признать, что человек, выжегший его хрупкий, выстроенный с таким трудом мир дотла, дышал тем же спертым воздухом, что и он.
И по чудовищной, изощренной иронии этого проклятого места именно она теперь сидела у его кровати. Та, чье присутствие было для него открытой, незатягивающейся раной. Не врач, не друг, не ангел-утешитель, а живое напоминание о том, почему его сердце внутри было столь же мертво, как и ее неподвижные ноги.
Судьба, казалось, издевалась над ними, сводя их в одной палате, как двух последних актеров в трагедии, где все роли уже были сыграны, но занавес отказывался падать.
Из кармана ее больничных штанов, безликих и выцветших от бесчисленных стирок, появились две маленькие, мятые пачки пудинга. Жестяные крышки были сорваны небрежно, края их гнулись.
– Держи.
Ее голос был плоским, лишенным даже намека на интонацию. Она протянула ему одну пачку. Липкая, темно-коричневая гуща заляпала ее пальцы, и эта жирная сладость странно контрастировала с бледностью ее кожи.
– Сегодня давали шоколадный. – Констатация никчемного факта. – Вчерашний, ванильный, был еще хуже. Отвратительная бурда. Даже я съесть не смогла.
В этих словах не было жалобы. Была лишь горькая, всеобъемлющая правда об этом месте: даже еда здесь была лишена вкуса, лишь функциональной массой для поддержания жалкого существования.
Они ели пудинг молча. Это был не прием пищи, а ритуал без веры, механическое отправление телесной функции. Мерный гул аппаратуры, впивающейся в его тело щупальцами проводов и трубок, заполнял паузу, как навязчивый, монотонный звук капающей в подвале воды. Звук, который сводит с ума, потому что его нельзя остановить.
Сэм ковыряла ложечкой в пластиковой упаковке, ее движения были точны и лишены какого-либо удовольствия. Ее взгляд блуждал по стерильным стенам, по потолку, по мигающим лампочкам мониторов. Куда угодно, лишь бы не встречаться глазами с ним. Но взгляд снова и снова, предательски, возвращался к его перевязанному тощему торсу. К этим белым, кричащим повязкам, за которыми скрывалось то, во что она боялась всмотреться. Каждый взгляд на эти бинты был молчаливым вопросом, на который у нее не было ответа.
– Говорят, меня выписывают на следующей неделе.
Голос прозвучал глухо, приглушенно, словно она говорила из-под толщи плотной, мутной воды. Она не поднимала глаз, внимательностью изучая коричневые разводы, засохшие на дне пластиковой пачки.
– Ноги, конечно, все еще не работают. Зато голова в порядке. Почти.
Это «почти» повисло в воздухе тяжелее всего. Маленькая, ядовитая частица, заключавшая в себе всю невысказанную правду: о боли, о таблетках, о ночах, пробитых в крик. О памяти, которая то возвращалась ослепительно яркими и ранящими вспышками, то отступала, оставляя после себя лишь зияющие провалы.
– А дальше что?
Энтони не осилил даже пары ложек дешевого пудинга. Ком в горле стоял куда больше и плотнее, чем любая еда.
– А дальше… ничего.
Сэм тихо хмыкнула. Губы исказились в кривой, безрадостной усмешке, лишенной всякого тепла.
– Обвинения мне уже выдвинули. Когда начнется суд – дело времени. Мой адвокат уже называет это «процессом». Как будто это что-то естественное. – Она отложила пачку, жестяная крышка с тихим лязгом ударилась о прикроватный столик. – Будут допросы, показания. Будут смотреть на меня, как на экспонат. Разбирать жизнь по косточкам, раскладывать по полочкам. А в конце вынесут вердикт. И все.
– Как ты вообще можешь об этом так спокойно говорить? – у парня свело челюсть.
Слова вырывались сквозь стиснутые зубы, пропитанные горечью и шоколадной гущей.
– Смирилась. – Она пожала плечами, ужасающе неестественно, будто марионетку дергали за ниточки. – Чего паниковать-то? Все равно ничего уже не изменить. Если бы я могла…
– Если бы могла бы, то что? – Дэвис сорвался на крик, голос ударил по стерильным стенам, заставив вздрогнуть тишину. – Что бы ты сделала? Ну, давай, расскажи мне! Вернула бы все назад?
Саманта застыла, словно ее обдали ледяной водой. Губы сжались в тонкую, почти исчезнувшую, белую линию.
– Не говори со мной так, словно… – голос дрогнул, в нем впервые появилась трещина, но ее снова внезапно перебили.
– Словно что? – он рванулся вперед, будто пытаясь подняться, но провода и боль вновь пригвоздили его к кровати. – Словно ты во всем виновата? Если не ты, то кто? Скажи мне! Кто?!
– Слушай, Дэвис! – Нервы были на пределе, Саманта тоже повысила тон. – Я не отрицаю, что это моя вина! Ясно? Я никогда этого не отрицала! Никогда! Но виновата же не только я, верно? Почему ты пытаешься перекинуть все на меня? Почему ты делаешь из меня единственного монстра? Ты был там! Ты видел! Ты тоже… ты тоже мог что-то сделать!
– Что я должен был сделать? – Из его уст вырвался истерический смех. – Вправить тебе, пьяной идиотке, мозги? Выцарапать их когтями и вставить обратно, уже трезвые?
Он задыхался, каждое слово давалось ему ценой адской боли, но остановиться уже не мог.
– Так я пытался! Вам обеим! Меня хоть кто-то послушал? Хоть на секунду задумался? Нет!
Его голос сорвался в шепот, хриплый и полный беспомощной ярости.
– Вы обе решили поиграть в бессмертных. И проиграли.
Глава 12
На столе, похожем на поле недавней битвы, громоздились папки с делами. Ветхие саваны, хранящие немые крики и следы чужих трагедий. Фотографии жертв с Фласк-Стрит, будто портреты с последней выставки отчаяния, были приколоты к пробковой доске. Их лица, искаженные последним ужасом, были перечеркнуты резкими стрелками и соединены алыми нитями, сплетаясь в зловещий паутинный узор, где каждая точка соединялась с другой линией чьей-то прерванной судьбы.
Воздух в комнате был густым и вязким. Он состоял из едкого дыма старых, давно потухших сигарет, смешанного с горьким, обжигающим ароматом свежего кофе. Двумя крайностями, что держали сознание в тисках между оцепенением и лихорадочной ясностью.
Вольф не верил в совпадения. Для него Вселенная не была хаотичным театром абсурда. Каждое убийство было изощренным пазлом, вырезанным из самой тьмы, где все кусочки, каждая капля крови, каждый молчаливый свидетель, каждый клочок забытой улицы – должны были сойтись в идеальную, пусть и ужасающую, картину. Он искал не просто преступника. Он искал автора, художника хаоса, и в тишине своего кабинета прислушивался к шепоту деталей, складывавшихся в единственно возможную истину.
Он стоял перед доской, словно жрец перед алтарем, вглядываясь в лица Дэвисов. Его взгляд, холодный и методичный, скользил по фотографиям, выискивая малейшую трещину в фасаде случившейся трагедии.
Луиза. Убита первой? Нет, слишком много борьбы. Значит, она видела нападавшего. Ужас был запечатлен в широко раскрытых глазах, в неестественном изгибе пальцев. Она сражалась. Она знала.
Трэвис. Убит во сне? Но синяки на шее… Душили. Значит, он проснулся. Успел ощутить панический прилив адреналина, холодящую хватку, беспомощность. Его смерть была не миром, а удушающим кошмаром.
Джошуа. Семь ран. Семь. Ярость. Слепая, неконтролируемая ярость. Или… личная месть? Каждый удар – отдельное послание, высеченное сталью. Это была не просто смерть. Это было уничтожение.
Лорен. Один точный разрез. Почти клинический. Жалость? Милосердие? Или что-то иное, куда более пугающее? Быстрая, безболезненная смерть, выделявшаяся на фоне остальной бойни. Почему?
Он провел ладонью по лицу, смазывая тени под глазами в единую темную полосу.
Слишком мало информации. Слишком мало деталей.
Эти мысли кружились в его голове уже в сотый, если не в тысячный раз, вытаптывая сознание выхолощенной тропой бессилия. Он знал каждую морщинку на лицах жертв, каждый изгиб планировки того проклятого дома, каждую запятую в протоколах. И все равно картина рассыпалась. Не хватало одного-единственного кусочка, того самого, что превращает набор фактов в истину.
Он чувствовал себя слепым, который на ощупь пытается разглядеть фреску, зная лишь, что она написана кровью. Каждый вывод, к которому он приходил, оказывался хрупким, как паутина, и рвался под тяжестью новой, пусть и призрачной, версии.
Его пальцы, шершавые от бумаги и табака, взяли новую фотографию. Эдвард. Он прикрепил ее в самый центр доски, к пустому пространству, где сходились все алые нити в одной точке. Выживший. Аномалия.
– Почему ты выжил? – голос Вольфа был низким шепотом, обращенным не к комнате, а к самому себе, к той бездне, что смотрела на него с пробковой доски. – Удачливый удар? Случайность? Или… расчет?
Он отступил на шаг, вновь окидывая взглядом всю картину. Его мозг, отточенный годами борьбы с преступным миром, отказывался верить в случайность. Выживший был не ошибкой. Он был новой деталью. Ключом. Возможно, самым важным, последним кусочком пазла, который превращал хаотичную бойню в нечто с ужасающим смыслом.
Вольф уставился на фотографию Эдварда. В тишине кабинета его внутренний диалог звучал оглушительно ясно.
«Кто же ты?»
Два образа, два полярных полюса, боролись в его сознании.
Вариант первый: Безжалостный хищник. Тот, кто в течение нескольких часов методично оборвал нити жизней самых близких людей. Тот, чья ярость или холодный расчет оставили на стенах и телах кровавую симфонию. Этот вариант был чудовищен, но… прост. Он обладал ужасающей, железной логикой. Он закрывал все пробелы в этой истории, объяснял все. И доступ к жертвам, и знание распорядка дома, и отсутствие следов взлома. Он был удобен. Он был очевиден.
Вариант второй: Случайная пешка. Свидетель, которого преступник, торопясь или ослепленный яростью, счел мертвым. Всего лишь ошибка в расчетах мясника. Этот путь был полон несостыковок. Почему убийца, столь тщательный с остальными, проявил непростительную халатность с ним? Почему не добил?
Разум с отвращением отшатнулся от хаоса второго варианта и вновь возвратился к первому.
«Этот вариант куда логичнее».
Он произнес это про себя не с торжеством, а с тяжелой, свинцовой горечью. Ибо признать эту логику – значило поверить, что самый страшный монстр не пришел извне. Он вырос внутри семьи. И это всегда было самой горькой и самой частой правдой в подобных делах.
Представьте себе сосуд. В самом начале он чист и пуст, как утреннее небо. Это душа ребенка. Затем, капля за каплей, в него начинают попадать жидкости. Сначала это чистая вода материнской любви, отцовской защиты, тепла домашнего очага.
Но что, если в этот сосуд вместе с водой начинают подмешивать яд? Медленно, незаметно, день за днем. Яд унижения. Яд безразличия. Яд жестокости. Яд тотального контроля или, наоборот, полного забвения.
Сосуд стоит годами. Снаружи он просто сосуд, может быть, с трещиной, с пятнышком, но не разбитый. А внутри тихо, настаивается, бродит и превращается в гремучую смесь, коктейль из ненависти, обиды, страха и боли. И вот однажды, последняя капля. Ничтожный, с точки зрения внешнего наблюдателя, повод: отказ дать денег, упрек за несделанные уроки, запрет выйти из дома – падает в этот сосуд.
И он взрывается.
Феномен детей-убийц, совершающих самое немыслимое предательство, – это не внезапное помрачение рассудка. Это логичный, хотя и чудовищный, финал долгой трагедии. Это не вспышка молнии с ясного неба. Это извержение вулкана, чью лаву и пепел годами копили недра.
Ребенок, выросший в атмосфере, где агрессия – единственный язык общения, не знает иного. Если отец бьет мать, мать срывается на нем, а он на младшей сестре или собаке, то мир предстает как арена для жертв и палачей. И единственный способ не быть жертвой – стать палачом.
Насилие становится инструментом решения проблем, привычным, почти родным. Убийство в такой парадигме – не преступление, а всего лишь самый радикальный, «окончательный» способ разрешить конфликт.
Не всегда нужны кулаки. Иногда, чтобы сломать душу, достаточно взгляда. Тотальный контроль, гиперопека, унижение словами, холодное отвержение, сарказм, завышенные, невыполнимые требования – все это тонкие иглы, которые годами прокалывают самооценку, пока от нее не остается решето. В таком аду ребенок живет в состоянии перманентной войны с самыми близкими людьми. Они не защита и опора, а тюремщики, цензоры, мучители. Уничтожив их, он, в своем искаженном восприятии, не убивает семью. Он совершает побег. Сносит стены своей тюрьмы.
Порой корень зла заключается не в ненависти, а в ее полном отсутствии. В ледяном безразличии. Когда ребенок – это просто предмет мебели в доме, его существование не подтверждается взглядом, словом, прикосновением. Он – призрак. И в какой-то момент в этом призраке просыпается жгучее, всепоглощающее желание почувствовать что-то. Даже если это будет боль, ужас, страх других. Убийство становится зверским, извращенным способом заявить: «Я ЕСТЬ!». Спросить у мира: «Вы теперь видите меня? Я значим? Я существую?».
И вот наступает тот самый «один момент». Но этот момент лишь финальная сцена в длинной пьесе. Это может быть угроза разоблачения. Украл деньги, провалил экзамены, узнал о беременности девушки. Очередное унижение перед друзьями или собой. Отчаянная попытка получить наследство, свободу, деньги. Патологический страх перед наказанием за незначительный проступок, взращенный годами.
В этот миг ломается последняя, самая хрупкая перегородка, отделяющая больное сознание от действия. Рациональное мышление отключается. Срабатывает дремучий, животный инстинкт: уничтожить источник своей боли. Весь свой накопленный, выношенный ад он обрушивает на тех, кого в иных обстоятельствах должен был бы любить.
Они убивают свою семью потому, что для них семья и есть персонификация того ада, в котором они живут. Это не любящие люди, а функции. Убийство – это акт тотального разрушения этой системы. Это не нападение на чужих. Это попытка разрушить собственный мир, который невыносим. Выжечь его каленым железом, чтобы больше не болело.
Это страшная, уродливая, непростительная ошибка. Заблуждение израненной души, которая, желая прекратить свои страдания, выбрала самый чудовищный и бесповоротный путь. Они не приходят извне. Они вырастают из самой гущи семейного болота, становясь его самым ядовитым и смертоносным цветком.
Их трагедия в том, что, пытаясь убить своих тюремщиков, они убивают и самих себя. Ибо после выстрела, после взмаха ножа они остаются на руинах собственной жизни. Совершенно одни, наконец-то получив ту свободу и внимание, которых так жаждали, и понимая, что это и есть самое страшное наказание, которое только можно было придумать.
Вольф замер, его дыхание стало тише шелеста переворачиваемой страницы. Лупа в его руке превратилась в магический кристалл, выхватывающий из хаоса одну-единственную, ничтожно малую деталь.
Крошечная золотая заколка. Та самая, что он видел на других фотографиях в волосах Лорен. Но здесь ее волосы были распущены. А заколка лежала на кухонном полу, рядом с телом Джошуа, в стороне от основного места борьбы, будто ее отшвырнули или обронили.
Мозг Эдриана с грохотом перезапустился, отбрасывая предыдущие, казалось бы, незыблемые построения.
– Значит, она была на кухне? – его шепот был полон не вопроса, а жгучего осознания.
Весь ход событий начал перестраиваться с этой точки. Возможно, Лорен не была застигнута врасплох в своей спальне. Она пришла сюда, на кухню, в эпицентр ада. Зачем?
Услышала шум? Попыталась вмешаться? Или кто-то принес заколку сюда?
Этот вопрос был еще страшнее. Он рисовал иную картину: холодный расчет, а не слепую ярость. Убийца, который не просто убивал, а расставлял улики. Который взял заколку Лорен и бросил ее рядом с телом Джошуа, чтобы запутать следы, направить расследование по ложному пути. Чтобы сделать из ярости месть, а из случайности план.
Эта блестящая безделушка перечеркивала все. Она была свидетелем, который мог говорить либо о последнем мужественном поступке жертвы, либо о расчетливости убийцы. И Вольфу предстояло понять, какая из этих правд была страшнее.
***
Джошуа родился в разгар летней грозы. Небо над Блэкстоном почернело, ливень хлестал по крышам, словно пытался смыть весь город в мутные воды реки.
Трэвис довез Луизу до больницы с перегаром от вчерашней выпивки и дикой тревогой в глазах. Руль под его ладонями был скользким от пота.
Первый крик сына совпал с оглушительным раскатом грома, будто сама природа признавала рождение нового человека. Медсестра положила младенца Луизе на грудь. Та застыла. Не улыбнулась. Не заплакала. Только смотрела на это сморщенное личико и думала: «Теперь мы навсегда прикованы к этому месту. К этому дому. Друг к другу».
Трэвис стоял в дверях палаты, мокрый и неуместный. В руках сжимал жалкий букет полевых цветов. Рваных, перекошенных, собранных у обочины по дороге.
– Он… красивый, – выдавил он, и голос дрогнул, затерявшись в шуме дождя по крыше.
Луиза не ответила. Она лишь закрыла глаза, прижимая к груди новую жизнь. Свою тюрьму.
Трэвис сделал шаг вперед. Еще один. Подошел к кровати. Его грубый палец, привыкший к машинному маслу и щербатой поверхности бутылочного стекла, медленно, почти благоговейно коснулся крохотной ладони сына.
Джошуа сжал его палец. Рефлекторно, но с неожиданной силой. И это крошечное доверие, этот инстинктивный жест переломил что-то в Трэвисе.
Он разрыдался. Не сдерживаясь. Грубо, по-мужски, сдавленно. Уткнулся лицом в больничную простыню, плечи затряслись от рыданий, которые он копил, кажется, всю свою жизнь.
– Я буду лучше, – прошептал он в сторону Луизы, не смея поднять на нее глаза. – Клянусь.
Поверила ли она ему хотя бы на секунду? Нет.
Но он сдержал слово. На время. Бутылки исчезли. Он устроился на две работы, возвращался затемно, пахнущий потом. По вечерам качал Джошуа на руках, напевая хрипловатым голосом старые песни. Те самые, что они с Луизой слушали в машине, когда пересекали пустыню и думали, что впереди вся жизнь.
Луиза иногда ловила себя на том, что застывала в дверном проеме, наблюдая за ними. За этим большим, неуклюжим мужчиной, чьи руки, привыкшие ломать и ронять, теперь с бесконечной осторожностью качали колыбель. И в глубине ее охладевшей груди шевелилось что-то неузнаваемое. Хрупкое, как первый ледок на реке, и такое же обманчивое. Надежда.
Однажды ночью, когда Джошуа заливался плачем от колик, Трэвис взял его на руки, прижал к своей потрепанной фланелевой рубашке и прошептал, покачиваясь:
– Ничего, сынок. Мы справимся. Я с тобой.
Луиза, притворяясь спящей, смотрела в потолок, и сквозь детский плач эти слова показались ей заклинанием, способным отогнать тьму.
«Может быть, – подумала она, закрывая глаза. – Может быть, мы и правда сможем».
Но Блэкстон никогда не отпускал так легко. Этот город держал своих обитателей на ржавой цепи.
Через год умерла мать Луизы. Она оставила после себя не фотоальбомы и кружевные салфетки, а пачку счетов и тихую, унизительную бедность. Потом треснул фундамент их дома – старая балка сгнила насквозь, и ремонт съел последние сбережения. Потом Трэвиса сократили на заводе. Он пришел домой, сел за кухонный стол и ничего не сказал. Просто сидел, глядя в стену.
В тот вечер, когда Джошуа сделал свои первые шаги, перебираясь от дивана к креслу, Трэвис вернулся пьяным. Запах дешевого пойла и поражения шел от него облаком.
Луиза молча забрала сына, уложила его в кроватку, не целуя на ночь. Она не кричала, не плакала. Она просто села на пол рядом, положив голову на деревянный борт, и смотрела, как он спит. Ровное дыхание ребенка казалось единственно верной вещью во всем мире.
Она понимала: их победное шествие длилось ровно год. Их побег окончательно закончился. И теперь единственное, что ей оставалось – стать стеной. Сделать так, чтобы Джошуа никогда не узнал, какими они были раньше, когда смеялись в машине с открытыми окнами, путешествуя по миру. Какими они могли бы быть, если бы не этот город, не долги, не эта медленная, но неотвратимая яма. Она должна была похоронить тех людей глубоко внутри себя и сделать вид, что их никогда не существовало.
Годы текли медленно и однообразно, как вода по жестяному стоку. Они не приносили перемен, лишь постепенно стирали черты былых надежд, оставляя после себя выцветшую фотографию жизни.
Трэвис так и не нашел достойной работы. Остались лишь подработки – грузчиком, разнорабочим, мойщиком машин. Его плечи, когда-то казавшиеся Луизе опорой всему миру, теперь были постоянно ссутулены под тяжестью неудач. В глазах поселилась тупая, привычная усталость. Он приходил домой, молча ужинал и засыпал у телевизора, даже не раздеваясь. А иногда и вовсе не выходил из дома, проводя дни на диване с банкой пива в руке, уставившись в мерцающий экран.
Луиза работала на трех работах. Уборщицей в школе, кассиром в ночной смене на заправке, где за стеклом ее кабины мелькали чужие лица. И иногда – официанткой в том самом кафе «У Мэри», где когда-то Трэвис все началось.
Ее руки, которые когда-то держали кисть с такой уверенностью, смешивая краски на палитре, теперь были исцарапаны, покрыты мозолями и пятнами от чистящих средств. По вечерам она стирала пеленки и детские комбинезоны в старой машинке, что стояла на кухне, и гудела, как умирающий шмель. Этот звук стал саундтреком их жизни – монотонным, надрывным и бесконечным.
А потом в их жизни появился Эдвард. Когда Джошуа исполнилось три года, в доме, уже насквозь пропитанном запахом несбывшихся надежд и дешевого пива, раздался новый звук. На этот раз не ссор и не гудения стиральной машинки, а тихого, но настойчивого детского плача, который будет преследовать их долгие годы.
Эдвард появился на свет не просто болезненным. Природа наложила на него особую, жестокую печать – тяжелейшую форму атопического дерматита. Его кожа, нежная и хрупкая, стала его вечным проклятием. Она воспалялась от малейшего прикосновения, покрывалась мокнущими алыми блямбами, невыносимо зудела и болела, лишая мальчика сна, а всю семью – последнего подобия покоя.
Ночью дом погружался в особый ад. Эдвард не спал, заходясь в приступах невыносимого зуда. Его крики были не плачем, а тихим, хриплым стоном отчаяния, будто маленькое тельце разрывалось изнутри.
Луиза часами сидела у его кровати, при свете ночника в виде кролика, что когда-то купили для Джошуа. Ее пальцы с болезненной осторожностью втирали в воспаленную кожу дорогие крема. Их тюбики, словно издеваясь, быстро пустели, съедая последние деньги из заветной консервной банки на полке. Она пела колыбельные хриплым, сорванным голосом, и слова путались, превращаясь в бессмысленный убаюкивающий шепот.
Трэвис лежал рядом, отвернувшись лицом к стене. Он не мог вынести ни вида страданий сына, ни звука усталости в голосе жены. Его собственное бессилие душило его, и с каждым днем он все глубже топил его в алкоголе. Пятно от вчерашнего пива на полу у кровати было красноречивее любых слов.
Их жизнь стала бесконечным, изматывающим марафоном: очереди в поликлиниках, тюбики мазей, гипоаллергенные продукты в холодильнике, отчаяние в глазах и ночи без сна.
Джошуа, еще совсем малыш, научился играть в одиночестве в углу комнаты. Он украдкой наблюдал, как мать, отвернувшись к окну, тихо плачет от бессилия, а отец, ни слова не говоря, молча уходит на улицу, громко хлопнув дверью.
Но они не сдались.
Луиза обошла все инстанции и выбила направление к лучшему аллергологу в округе. Трэвис на месяц завязал с выпивкой. Его трясло по ночам, но он держался. Он взял дополнительные смены на изнурительной стройке, таская тяжести под палящим солнцем, чтобы оплатить консультацию. Они вынесли из дома все, что могло накапливать пыль: старые шторы, ковры, даже плюшевого мишку Джошуа. Перешли на строжайшую диету, питаясь почти одними крупами и индейкой.
И чудо случилось. Медленно, месяц за месяцем, кожа Эдварда начала очищаться. Ужасный зуд стихал, уступая место сначала настороженной тишине, а потом и спокойному, ровному дыханию во сне. На его щеках, наконец, появился здоровый детский румянец, а не красные, шелушащиеся пятна.
Эдвард выздоровел. Болезнь отступила, оставив после себя лишь легкую сухость на сгибах локтей и коленей, как шрамы после долгой войны.
Но эта победа далась им слишком дорогой ценой. Она выкачала из них последние силы, как насос, выжала досуха все ресурсы и выжгла дотла те жалкие остатки надежды на лучшую жизнь, что еще тлели где-то в глубине. Трэвис, не выдержав колоссального напряжения, сорвался и снова ушел в глубокий, беспробудный запой. Луиза окончательно замкнулась в себе, ее плечи согнулись под невидимой тяжестью всех этих лет борьбы, которые она теперь молча носила в себе, как свой собственный, единоличный крест.
А Джошуа, наблюдавший за этой битвой молча, из своего угла, с детства усвоил главный и беспощадный урок: в этой жизни ничего не дается просто так. Ни здоровья, ни покоя, ни счастья. За все надо платить. Все надо вырывать с боем.
Глава 13
Свет лампочки на первом этаже мерно мигал, раз за разом высвечивая граффити на стенах. В такт ему по штукатурке пробегала нервная дрожь. Воздух был спертым и влажным, пах затхлой землей, прогнившими балками и едкой химической сладостью, словно кто-то пытался смыть в раковину дешевые духи, но они намертво въелись в стены.
Дэвис медленно поднял голову, ведя взглядом по автографам забытых людей: чьи-то имена, признания, кривые сердца. Взгляд зацепился за аккуратные, почти каллиграфические буквы: «Ты мне все еще снишься». Горло неожиданно сжалось. Он резко отвел глаза.
На площадке третьего этажа, в полосе света из окна, лежал собачий ошейник. Кожаный, с оторванной пряжкой и потертой латунной биркой. Пыль лежала на нем ровным, нетронутым слоем.
Он шел за Эллен, не отставая ни на шаг. Вода с промокшей толстовки и изношенных кед стекала на ступени, оставляя за ними темный, прерывистый след.
Эллен плечом толкнула неподатливую дверь, и Дэвис замер на пороге, пытаясь охватить взглядом это странное пространство.
В прихожей царил творческий хаос. У стены громоздилась гора из обуви. Потрепанные кеды лежали вперемешку с лакированными туфлями на шпильках, словно здесь жили два совершенно разных человека.
На старой деревянной вешалке мирно соседствовали два полюса: безразмерный, выцветший плащ с протертыми локтями и ослепительно-белая, слишком яркая куртка Эллен, брошенная наспех, одним рукавом волочащаяся по полу.
И над всем этим – зеркало в потемневшей раме. Кто-то детской рукой, судя по неуверенным линиям, вывел черным маркером улыбающуюся рожицу с глазами-запятыми. Она смотрела на Дэвиса с тихим, глупым простодушием, будто ничего не понимая в окружающем ее хаосе.
Энтони стоял в дверях, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. Его влажные кеды оставляли на полу мокрые следы, которые тут же впитывались потрепанным ковриком. Он замер, наблюдая, как Эллен, облокотившись ладонью о стену, одним резким движением стягивала с себя промокшие кроссовки. Ее пальцы скользнули по шнуркам, развязанным еще на улице, и на мгновение в прихожей воцарилась тишина.
Позади Энтони оставался весь вчерашний мир – мокрый асфальт, уличный шум, тревожная неизвестность. А здесь, в этой странной прихожей, пахло старой древесиной, лавандовым освежителем и чьей-то неспешной, оседлой жизнью. Он чувствовал себя незваным гостем, застигнувшим этот дом врасплох.
– Чего стоишь-то как вкопанный? – ее голос прозвучал уже из глубины коридора.
Энтони даже не заметил, как она успела прошмыгнуть мимо него и вернуться обратно.
В ее руках теперь были сложенные стопкой махровые полотенца с каким-то нелепым рисунком в виде то ли цветов, то ли овец.
– Заболеешь же, – она сделала шаг вперед и торжественно протянула ему одно из них.
Полотенце было теплым и мягким, будто только что из сушилки. Оно висело в ее руке пушистым белым облаком, контрастируя с сумрачной прихожей и ее собственным насмешливым, но внезапно мягким взглядом.
– Спасибо, – единственное, что удалось промямлить в ответ.
– Не стой столбом, – уже из глубины коридора донесся ее голос, смешавшийся со звуком открываемого шкафа. – Не съест тебя тут никто. Пока что.
Ее слова растворились в полумраке прихожей, оставив после себя лишь эхо и легкий запах лаванды от полотенца. Энтони машинально поднес его к лицу, мягкая ткань впитала капли дождя с его щек. Он сделал неуверенный шаг вперед, потом еще один, словно проверяя правдивость ее слов, оставив обувь неряшливо валяться у входной двери.
Из гостиной доносился ровный шум – возможно, работающий телевизор или радио, приглушенный до неразборчивого мурлыканья.
Энтони медленно прошел по короткому коридору. Стены были увешаны фотографиями в простых деревянных рамках: какие-то пейзажи, старые групповые снимки с выцветшими лицами. Одна привлекла его внимание: молодая женщина с таким же, как у Эллен, упрямым подбородком и смеющимися глазами обнимала темноволосого мужчину в военной форме.
– Присаживайся, – ее голос донесся из кухни, сопровождаемый звоном посуды. – Чай будешь? Или кофе? Грог, кстати, тоже могу предложить.
Он остановился на пороге. Кухня оказалась уютной и немного старомодной: крашеный деревянный стол, застеленный вязаной скатертью, глиняные горшки с геранью на подоконнике, медный чайник на плите. Эллен стояла спиной к нему, доставая из шкафа чашки.
Над столом висел небольшой пробковый стенд, плотно забитый открытками, счетами и парой детских рисунков. Прямо по центру кто-то аккуратно приколол клочок бумаги с выведенной шариковой ручкой фразой: «Не забыть купить молока».
– Чай, – лишь коротко кивнул Энтони, все еще не решаясь переступить порог.
Его взгляд скользнул по уютному беспорядку кухни, задержавшись на детском рисунке, приколотом к доске. Кривыми разноцветными каракулями было изображено что-то отдаленно напоминающее кота под радугой.
Эллен метнула на него быстрый взгляд через плечо, и в уголках ее глаз заплясали смешинки.
– Чай так чай. Только предупреждаю, сорт такой себе. На вкус… своеобразный.
Ловким движением она поставила на стол фарфоровую чашку с трещинкой по краю, в которую тут же хлестнула струя кипятка из свистящего чайника.
– Но если добавить малиновый джем, то очень даже ничего, – она поставила на стол маленькую баночку с яркой этикеткой. Сквозь стекло просвечивал густой рубиновый сироп.
– Джем? В чай? – Энтони с недоумением покосился на баночку, потом на свою чашку с темным настоем.
– А что такого? – Ривс коротко рассмеялась, откручивая крышку. Сладкий ягодный аромат мгновенно смешался с горьковатым запахом чая. – Это ж лучше всякого сахара. Бабушка всегда так делала.
Она зачерпнула ложкой густое варенье и с легким плеском отправила его в его чашку. Рубиновые разводы поплыли по темной поверхности, закручиваясь в причудливые узоры.
– Попробуй, прежде чем морщиться, – она протянула ему ложку, с которой капал малиновый сироп. – Обещаю, не отравлю. Проверено на трех поколениях нашей семьи.
Энтони неуверенно покосился на подругу, но все же принял ложку.
– Кощунство, – пробурчал он себе под нос, делая первый осторожный глоток. Теплая сладость неожиданно приятно разлилась по горлу, смешиваясь с терпковатым вкусом чая.
– Зануда, – цокнула языком девушка и расплылась в улыбке, наблюдая, как он невольно делает второй, уже более уверенный глоток. – Видишь? Не так уж и плохо, правда? – Она отодвинула стул, движения стали чуть более порывистыми. – Сиди, согревайся. Я найду тебе что-нибудь сухое. – Ее взгляд на мгновение задержался на дверце старого платяного шкафа в коридоре, будто оценивая что-то в памяти. – Должно было остаться…
Прежде чем он успел что-то ответить, Эллен уже скрылась из виду, оставив его наедине с парящей чашкой и непривычным, но уютным ощущением, что здесь, в этой странной квартире, пахнущей чаем и старыми книгами, его действительно никто не съест.
***
Ноги были ватными и подкашивались на каждом шагу. Пальцы одеревенели, отказываясь сгибаться. На спину давила громада больницы. Слепые окна, штукатурка, облупившаяся до бетона, весь этот фасад дышал на нее ледяным равнодушием.
Кармен с силой сжала в ладони холодный металл зажигалки. Резкий щелчок, и на мгновение в лицо ударил свет. Она успела увидеть собственные пальцы, белые от напряжения, и влажный асфальт под ногами. Затем мрак поглотил все снова.
– Черт, – ее голос был хриплым шепотом, в котором стояла паника.
Второй щелчок. Третий. Рука дрожала, большой палец соскальзывал с колесика. Внутри поднималась волна беспомощной ярости. Она чувствовала, как холод проникает под кожу, а где-то в горле застревает комок отчаяния. Еще один пустой, сухой щелчок.
А затем перед самым лицом вспыхнул свет. Ровный, уверенный, не ее дрожащий огонек.
Дженнет стояла неподвижно, протянув зажженную зажигалку. Пламя отражалось в ее глазах, не добавляя им ни тепла, ни выражения. Каждая прядь ее волос была уложена с безупречной точностью, мягко ниспадая на плечи. Бежевый костюм сидел безукоризненно, без единой морщинки на идеально выглаженной ткани.
– Выглядишь уставшей, – ее голос был ровным и безжизненным, как плоский серый свет перед рассветом. – Зачем приехала?
Пламя Дженнет дрогнуло, и Кармен, торопливо наклонившись, наконец смогла прикурить. Первая затяжка ударила в легкие едкой щелочью. Она сглотнула ком горького воздуха, сдерживая спазм в горле. Глаза от неожиданности застелили слезы, и она на миг отвела взгляд, чтобы скрыть эту мгновенную слабость.
– Мне… мне позвонили из больницы, – голос Кармен предательски сорвался на фальцет. Она сжала сигарету так, что та затрещала, пытаясь заткнуть дрожь в пальцах.
Дженнет медленно покачала головой. Тень от ресниц легла на неподвижные скулы.
– Видимо, произошла какая-то ошибка, – она произнесла это ровно, выдыхая слова вместе с струйкой прохладного воздуха. – Извини, что они тебя так резко дернули.
Ее рука с зажигалкой исчезла в кармане пальто. Внезапно наступившая тишина была гуще и тяжелее, чем предрассветный мрак.
– Как Дэвид? – выпалила Кармен, не в силах сдержать вопрос, который жег ее изнутри.
Холодная маска на лице Дженнет не дрогнула, лишь веки медленно опустились и вновь поднялись.
– Паршиво, – последовал ответ после тяжёлой, вымеренной паузы, в которой повисло всё: ночь, их общее прошлое и немой укор. – Но прогнозы хорошие. Выкарабкается, куда уж денется.
В груди у Кармен что-то оборвалось, и она позволила себе короткий, сдавленный выдох. С бывшим мужем они разошлись зло, оставив за спиной выжженную землю, полную обид и ядовитых упреков. Но мысль о том, что он может просто исчезнуть, вызывала не праведный гнев, а тихий, подлый ужас. Она тысячу раз твердила себе, что ему место в аду, но сейчас с болезненной ясностью осознала: это была ложь, которую она отчаянно пыталась выдать за правду.
Они клялись в вечности, пока смерть не разлучит их. Но жизнь – куда более искусная палач. Она не наносит милосердный удар, а медленно травит ядом будней, пока однажды двое не просыпаются по разные стороны баррикады, возведенной из осколков былого. И к ужасу своему обнаруживают, что чувствуют не скорбь, а ненависть.
Любовь – это не храм. Это кафедральный собор, возведенный на зыбком болоте общих иллюзий. «Мы – одно целое», – молились они, но это была ересь, прекрасная и обреченная. Развод – это не катастрофа. Это обвал сводов, под обломками которого гибнет не тело, а вера. И тогда, в пыльном хаосе, один начинает с безумной яростью раскапывать завалы не для спасения, а чтобы найти доказательства: смотри, фундамент был гнилым! Своды – картонными! А этот лик святого на витраже – всего лишь умелой подделкой! Ненависть здесь – не пламя. Это фосфический огонь, холодный и липкий, в котором тлеет не прошлое, а его изуродованный труп. Это ярость на самого себя за то, что так долго поклонялся идолу, высеченному собственными руками из пустоты.
Брак – это не зеркало. Это магический кристалл, в котором два отражения сплетались в одно, более прекрасное и цельное, чем каждый в отдельности. Вы вверяли ему свое уродство, свои тайные ужасы, свою неприкаянную нежность. А когда кристалл падает и разбивается, обнажается страшная правда: он не разбивается на два прежних отражения. Он дробится на тысячу осколков, и в каждом – уродливый, гипертрофированный облик. Этот кристалл кричит не «мы разрушены», он визжит на дочеловеческой частоте: «Я – урод! Я – неудачник! Меня невозможно любить!». И ненависть к тому, кто держал хрустальную сферу, – это инстинктивное, животное движение: раздавить паука, укусившего за руку. Это щит от неминуемого падения в бездну собственного ничтожества.
Когда империя любви гибнет, начинается не дележ, а грабеж на пепелище. Делят не провинции – вырывают друг у друга клочья земли, пропитанные кровью. Общих друзей превращают в шпионов или трофеи. Привычки в обвинения. А дети… О, дети становятся живыми реликвиями, знаменами в этой священной войне на уничтожение. Любовь к ребенку, проходя через призму обиды, преломляется в чудовищный спектр: «Он хочет вырвать из моей груди самое святое!», «Она превращает мою плоть и кровь в орудие мести!». Эта ненависть – не яд, который пьют, надеясь на смерть врага. Это яд, который тайком подсыпают в колодец, зная, что отравятся оба, но хотя бы последним, предсмертным взглядом увидишь, как захлебывается противник. Она произрастает не из страха потери, а из садистического желания увековечить боль, сделать другого пожизненным узником совести.
И есть тайна, самая темная и невыносимая. Порой ненависть – это не антипод любви. Это ее зомби, ее ходячий мертвец. То, что было нежностью, становится изощренной жестокостью; страсть – одержимостью; забота – тотальным слежением. Это значит, что великое чувство не умерло, но Бог отвернулся от его души, и оно восстало из гроба – слепое, гниющее, алчущее. Предать забвению божество невозможно. Но можно попытаться его убить. Осквернить алтарь, разбить лик, растоптать мощи. Пламя ненависти – это костер, на котором сжигают ведьму, чтобы изгнать из мира ее чары. Жестоко? Да. Но зато окончательно.
Так почему же они ненавидят?
Потому что развод – это не маленькая смерть. Это Апокалипсис частного мира. Это день, когда небо, которое было общим для двоих, затягивается мраком, и начинает идти пепельный снег, хлопьями оседая на руинах. И одни, закутавшись в холодное одеяло одиночества, находят в себе силы ждать, когда земля хоть немного остынет, чтобы построить новый, более уютный и тесный мирок. А другие так и остаются стоять на этом пепелище, с факелом ненависти в руке, поджигая им самих себя, – вечные стражи рухнувшей вселенной, чье пламя не согревает, а лишь освещает путь в никуда.
И кем в этой истории была Кармен? Она не знала. Никто не знал.
Зеркало, разбитое вдребезги, больше не давало ответа, лишь бесчисленные, искаженные версии ее лица, каждая из которых лгала.
Была ли она жертвой? Обиженной на весь мир женщиной, что в одночасье лишилась не мужа, а целой вселенной, будущего, что они рисовали на потолке в спальне, смешанных запахов завтрака, тихой гордости за общий диван, на котором осталась вмятина от его тела? Да. Возможно. По ночам, когда город замирал, а в щели подступала беззвучная пустота, она чувствовала себя именно так – ограбленной, выпотрошенной, оставшейся с ничем.
Но была ли она виновата? Вполне.
Виновата ли рука, что годами лепила из глины идола, а потом, обнаружив, что это всего лишь глина, в бессильной ярости размазала его по полу? Виновата ли она в том, что когда-то увидела в нем не человека, а персонажа для своей сказки, и, ослепленная этим сиянием, не разглядела первых трещин? Она винила его за ложь, но разве ее собственная вера не была самой изощренной ложью самой себе?
Она была и жертвой, и палачом. И палачом для самой себя – это было больнее всего. Ее ненависть к нему была лишь тенью, отбрасываемой ее ненавистью к той Кармен, что была так слепа, так наивна, так отчаянно хотела верить. Та Кармен умерла. И теперь, словно тень на краю могилы, новая Кармен – ожесточенная, протравленная кислотой разочарования – служила по ней панихиду, где каждое проклятие в его адрес было заупокойным гимном по самой себе.
Она была призраком, оплакивающим другого призрака. И в этом заколдованном круге не было ни выхода, ни дна.
Глава 14
Выбраться из паутины лжи, которую ты сам же и сплел, – это одно из самых мучительных и сложных внутренних испытаний. Это путь, наполненный переплетенными в один плотный клубок чувствами, где страх, стыд и отчаяние сливаются в уникальную форму психологической агонии.
Все начинается не с решительного рывка к свободе, а с горького и парализующего прозрения. Человек вдруг с ясностью осознает, что он не просто немного соврал, а оказался в самом центре лабиринта, который построил собственными руками. В этот момент на него обрушивается волна страха. Это страх разоблачения, страх потерять все, что было построено на обмане. Отношения, репутацию, доверие близких.
Одновременно с этим приходит гнетущее чувство стыда и самоотвращения. Смотреть в зеркало становится невыносимо, потому что в отражении видишь не себя, а лжеца, предавшего свои же собственные принципы.
Это осознание запускает мучительный процесс метаний. Начинается изнурительная внутренняя борьба, известная как когнитивный диссонанс. Психика, пытаясь снизить невыносимое напряжение, ищет оправдания: «Я делал это ради их блага», «У меня не было выбора». Но эти попытки самооправдания приносят лишь временное облегчение, сменяясь новой волной паники.
Жизнь превращается в состояние постоянной боевой готовности. Каждый невинный вопрос, каждый странный взгляд воспринимается как угроза, как шаг к краху. Человек становится тенью самого себя. Слишком бдительным, подозрительным, вечно настороже.
А самое тяжелое – это всепоглощающее одиночество. Он отрезан от других непробиваемой стеной собственного вранья. Даже в кругу самых близких людей он остается абсолютно одиноким, играя роль, которую сам же и придумал, и это невероятно истощает душевные и физические силы.
Рано или поздно наступает момент выбора, точка кипения. С одной стороны – панический ужас перед последствиями признания, перед тем, что рухнет весь тщательно созданный мир. С другой – нестерпимое, растущее с каждым днем давление правды и тоска по освобождению от чудовищной ночи. Человек оказывается в ловушке, видя лишь два тупиковых пути: продолжать врать до конца или признаться и потерять все. И если, набравшись невероятного мужества, человек делает шаг к признанию, его ждет болезненное и противоречивое освобождение.
Сам акт говорить правду, каким бы разрушительным он ни был, приносит с собой странное затишье и чувство опустошенного облегчения. Тот груз, что годами давил на плечи, наконец-то сброшен. Но на смену ему приходит хрупкая и пугающая уязвимость. Все теперь зависит не от него, а от тех, кому он солгал. Примут ли они его, простят ли. Это горькое, но чистое чувство ответственности, первый шаг на долгом пути искупления.
Даже когда паутина уже разрушена, ее тень еще долго преследует. Чувство вины может оставаться на годы, как и глубокое недоверие к самому себе, травма от собственных поступков. Путь из лабиринта собственной лжи – это путь через ад самоосознания, полный самых темных человеческих эмоций.
Но в самом его конце, если хватит сил дойти, мерцает крошечный, но жизненно важный огонек надежды. Надежды на то, что однажды можно будет снова посмотреть в глаза другому человеку и в собственное отражение без страха и стыда.
Оглушительный удар выжег все вокруг, оставив лишь вакуум, звенящий от ярости. Щека горела, как от прикосновения раскаленного металла.
Джошуа инстинктивно отвернулся, сглотнув ком боли, что подкатил к горлу. Он выпрямился, стараясь дышать ровно, но предательское дрожание пальцев, которыми он коснулся кожи, выдавало его с головой. Внутри все кричало, заливаясь стыдом.
«Я виноват, – беззвучно твердил он сам себе. – Во всем виноват».
Но внешне – лишь замкнутое спокойствие, хрупкий лед над бездной.
А Эвелин… Ее злость была живой, темной и плотной субстанцией. Взгляд скользил по стенам, по полу, впивался в потолок. Куда угодно, лишь бы не встретиться с ним.
Каждый мускул на ее лице был напряжен, каждый нерв пел о ненависти. Она ненавидела его за этот удар, за эту боль. Ей хотелось кричать, рвать в клочья, но она лишь сжимала кулаки, чувствуя, как ее собственная дрожь рвется наружу.
– Как долго? – вырвалось у нее наконец.
Шумный выдох, в котором слышался хруст надломленной веры. Она с силой прикусила нижнюю губу, до боли, до крови, лишь бы не расплакаться от ярости.
Джошуа молчал. Не потому, что искал слова. Они давно уже кончились. А потому, что мысленно он уже сорвался с места и бежал. Бежал прочь, в тишину и забвение, где не нужно было смотреть в ее глаза и признаваться в том, что навсегда останется черной дырой между ними.
– Я тебя, черт возьми, спрашиваю! – голос сорвался на крик, рваный и сиплый. Следом пробилось сквозь сжатые зубы: – Как. Долго.
– С начала… – едва слышно выпалил он, и слова застряли комом в горле. Он сглотнул, сжал челюсть так, что кости свело, и вытолкнул из себя, уже громче, на выдохе: – С начала учебного года.
Эвелин отшатнулась. Не физически – душой. Ее гнев, такой яростный и шумный, вдруг лопнул, как мыльный пузырь, оставив после себя ледяную, оглушительную пустоту. Она медленно покачала головой.
«С начала учебного года».
Месяцы. Не недели, не дни. Целые месяцы лжи. Она пыталась примерить на себя эту цифру, ощутить ее вес, но не могла. Это была абстракция, невыносимая в своей чудовищной конкретности.
Она посмотрела на него сквозь пелену ярости. И увидела не монстра, а испуганного мальчика, заигравшегося во взрослого и доигравшегося до края. Жалкого. И от этого стало еще больнее.
Джошуа смотрел на нее, и ему вдруг до тошноты захотелось, чтобы она закричала. Ударила его снова. Что угодно, только не это молчаливое отступление, этот взгляд, в котором он читал не просто гнев, а стремительное крушение всего, что они строили вместе.
– Сдохни, – прошептала она. Голос был тихим и ровным, без единой дрожи. Именно это и было страшнее любого крика. – Просто сдохни. Пожалуйста. Не попадайся мне больше на глаза. Иначе я собственными руками тебя прикончу, Дэвис.
Джошуа замер, будто надеясь, что это еще не конец, что сейчас начнется буря с упреками, с битьем посуды – все, что угодно, лишь бы не это мертвое спокойствие. Но в ее глазах он прочел только приговор.
– Я… – начал он, но голос сломался.
– Заткнись. – Ее шепот был острее крика. Он прорезал тишину и обездвижил его. – Просто… заткнись.
Она медленно покачала головой, развернулась и вышла из комнаты, оставив за собой дверь, приоткрытую в темноту коридора. Он остался стоять один, среди звенящей тишины, лицом к лицу с осколками своего вранья, понимая, что собрать их уже невозможно.
Шаг. Еще шаг. Он заставил себя подойти к двери и посмотреть вдоль темного коридора. Никого не было, лишь отзвук торопливых шагов, уходящих вниз по лестнице. Эхо, которое скоро тоже умрет.
Его взгляд упал на ее чашку, стоявшую на столе. В ней еще оставался недопитый кофе. Он помнил, как она смеялась, разливая его всего час назад. Теперь на поверхности темнела тонкая пленка, и это казалось самым страшным признаком конца. Когда горячее становится холодным, а свежее старым.
Он потянулся к чашке, но не поднял ее. Просто провел пальцем по краю, смахнув невидимую пыль. Потом медленно опустился на стул, положив голову на сложенные на столе руки. В ушах все еще стояла тишина, но теперь она была оглушительной.
Где-то за стеной завелся лифт, зашумела вода в трубах – жизнь возвращалась своими обычными, безразличными звуками. Но здесь, в этой комнате, время, казалось, остановилось. Навсегда застыв на моменте, когда он сказал: «С начала учебного года».
Он закрыл глаза. Не для того, чтобы не видеть, а чтобы попытаться найти в себе то, что позволило ему так долго лгать. Но находил только пустоту. Такую же, как за той приоткрытой дверью.
Почему люди изменяют? Этот вопрос, подобно настойчивому эху, звучит в тишине разрушенных доверий и опавших сердец, и ответ на него столь же многогранен и изменчив, как сама человеческая душа.
В основе этого поступка часто лежит неутолимая жажда быть увиденным заново. Со временем самые яркие отношения рискуют превратиться в уютную, но тесную комнату, где каждый предмет знаком до боли, а собственное отражение в глазах любимого человека становится привычным, как старый портрет.
И тогда душа, изнуренная предсказуемостью, начинает метаться в поисках нового зеркала, в котором она сможет увидеть себя не спутником жизни, а загадкой, страстью, желанным незнакомцем.
Это мучительная попытка вырваться из плена собственной роли, сбросить маску супруга или родителя и в трепетном взгляде другого вновь ощутить трепет от самого себя, вернуть себе утраченную остроту бытия.
Это бегство не только от другого, но и от себя, от призрака внутренней пустоты, которая проступает сквозь щели размеренного существования. Когда будущее простилается не как сияющая даль, а как бесконечная прямая дорога без поворотов, ими овладевает панический страх душевного удушья.
И измена в этом случае становится отчаянным, разрушительным глотком свободы, бунтом против тирании гармонии. Это иррациональный порыв к хаосу, рожденный ужасом перед душевной смертью, страх, что ты уже просто функция, а не живой, дышащий человек, способный на безумие и страсть.
Порой корни этого поступка уходят глубоко в прошлое, в старые, не зажившие раны. Тот, кого однажды предали, кто познал горький вкус брошенности, может бессознательно стремиться нанести удар первым.
Это не поиск любви, а попытка самоисцеления через причинение боли, извращенная терапия для укрепления собственной уязвимости.
«Смотри, – словно говорит он сам себе, – я силен, я тот, кто бросает, а не брошенный». Это яд, который пьют в надежде стать невосприимчивым к страданию.
А иногда двое, живущие под одной крышей, постепенно становятся обитателями разных, не соприкасающихся вселенных. Их внутренние миры, когда-то бывшие единым целым, беззвучно расходятся, как материки. Они говорят на разных языках своих душ, и их молчание становится оглушительнее любых слов.
В такой ледяной пустоте измена рождается как шепот отчаяния, как поиск не тела, а родственной души, способной услышать ту самую мелодию, которую партнер отказывается слушать. Это трагедия двух одиноких кораблей, так и не сумевших стать друг для друга гаванью.
И, конечно, существует соблазн древний, как сам мир, – гедонистический порыв, лишенный трагического флера. В эпоху, культивирующую наслаждение как высшую ценность, верность для некоторых становится не добродетелью, а скучным анахронизмом. Это философия коллекционера ощущений, для которого главный грех не само искушение, а добровольный отказ от него.
В конечном счете, измена – это всегда симптом, а не сама болезнь. Это горький плод, взращенный на почве невысказанных слов, неуслышанных мольб и угасшей бережности. Это безмолвный крик души, задыхающейся в пустоте, которую она не смогла заполнить вместе с тем, кто был рядом. И пока два сердца не научатся вновь и вновь находить друг друга в водовороте дней, тень этого выбора будет вечно стоять за плечом, напоминая, что любовь – это не данность, а вечный труд, требующий смелости быть уязвимым и мудрости – быть внимательным.
Но Джошуа не искал оправданий в тонких материях души. Для него не существовало этой сложной музыки чувств. Лишь оглушительная тишина внутри, которую он пытался заглушить чужим дыханием. И потому он собственноручно решил все сломать. Не из трагического порыва, не из жажды жизни, а из трусливого бегства от необходимости заглянуть в ту пустоту, что зияла между ним и тем, кто когда-то был ему ближе всех. Он разорвал чужую, когда-то родственную, душу голыми руками, прикрывая свой побег ложью, которая казалась ему изящным решением.
И он оставил ее. Оставил с открытыми ранами разлагаться в одиночестве, словно бросил на произвол судьбы существо, чье доверие он взял и не сберег.
Он думал, что строит себе новую жизнь на обломках старой, не понимая, что первый и главный обвал произошел внутри него самого. И пока он прятался в чужих объятиях, пытаясь согреться чужим огнем, ее душа, преданная и отравленная, медленно угасала в холодном вакууме его молчания.
Он не был трагическим героем, сражающимся с судьбой, – лишь мародером, ограбившим собственное сердце и бросившим его сокровища на растерзание. И эта рана, которую он нанес, возможно, никогда не затянется, превратившись в вечное напоминание о том, что некоторые разрушения не имеют обратного хода, а некоторые пустоты так и остаются пустотами, даже если заполнить их обломками чужих судеб.
***
Сумерки за окном сгущались, наползая тягучей, свинцовой мутью и стирая границы между днем и ночью. Вольф сидел застывший в кресле, и только слабый скрип старого дерева под его весом выдавал присутствие жизни. Перед ним, на грубом столе, лежала карта Блэкстона – лабиринт из улиц и переулков, испещренный нервными, как шрамы, пометками. В углу комнаты, на замызганном столике, дымилась кружка с кофе; горьковатый, обжигающий воздух висел в безмолвии тягучими облаками.
Он взял телефон. Тяжелый, холодный. Пальцы, помнящие каждую впадину корпуса, набрали номер сами собой, будто совершая давно заученный ритуал.
В трубке что-то щелкнуло, захрипело, и затем донесся голос Санчеса – не просто уставший, а выдохшийся, пропахший потом и бессонницей. В фоне, словно отголосок другого, суетливого мира, стоял гул офисной суеты и сухой, безостановочный стук клавиатуры, похожий на стрекот механических цикад.
– Ты не на смене? – голос Вольфа прорвал тишину комнаты. Низкий, ровный, выточенный из гранита и льда.
– Заканчиваю отчет по вчерашнему ограблению на Винт-авеню. – Санчес ответил так, будто слова давались ему с трудом. – Что-то срочное?
Вольф медленно перевел взгляд на карту. Его глаза, казалось, впитывали все ее линии, все ее тайны.
– Отложи. Мне нужно, чтобы ты завтра первым делом поднял архивы.
Раздался сухой, костяной щелчок зажигалки. Вспыхнул огонек, осветив на мгновение скулы Вольфа, и погас, оставив в полумраке тлеющую точку сигареты. Он затянулся медленно, с наслаждением обреченного, и выпустил струйку дыма.
– Какие архивы? – Голос Ирвина преобразился. Усталость будто выветрилась, уступив место служебной хватке. Фоновый гул офиса стих, он отодвинулся от микрофона.
– Все, что связано с семьей Дэвис. За последние… пять лет.
– Пять лет? Вольф, это же… – детектив замолк, и в этой паузе слышалось не просто удивление, а почти физическое усилие, попытка осознать масштаб. – Это не запрос, Вольф. Это раскопки целого пласта. Судебные тяжбы, вызовы патрульных, школьные табели, медицинские карты… Ты ищешь иголку в стоге сена или тебе нужен весь стог?
– Мне нужен стог. До последней соломинки. Жалобы соседей, заявления, анонимные звонки в службы опеки, даже квитанции за парковку. – Эдриан поднялся и медленными шагами подошел к своей доске, испещренной фотографиями и веревками, связывающими события в причудливую паутину. Его взгляд утонул в снимке Трэвиса Дэвиса. – Особенно все, что связано с отцом. Трэвисом.
– С ним что-то не так?
– С ним все так. Слишком уж так. – Вольф провел пальцем по поверхности фотографии, по лицу Луизы Дэвис. – И найди все, что можно, по Луизе. Ее медицинскую историю от педиатра до последнего дня. Может, она обращалась к психологу, в кризисный центр… Любую щель, куда можно было заглянуть.
– Думаешь, было насилие в семье? Классика.
– Классика, – Вольф с усмешкой бросил это слово, выдыхая его вместе с дымом, – редко заканчивается тем, что тинейджер с кухонным ножом в руках режет всю свою семью под чистую. – Он с силой придавил окурок в пепельнице, затушив не только сигарету, но и это предположение. – И еще одна вещь. Самый главный запрос.
Он сделал паузу. Его взгляд, тяжелый от размышлений, не отрывался от фотографии, будто выпытывая у застывшего изображения какую-то тайну.
– Найди все заявления, где фигурирует имя Эдвард Дэвис. Школьные инциденты. Жалобы соседей. Все подряд. Особое внимание – последнему году.
– Понял. – В трубке донесся сухой шелест, он уже что-то быстро записывал, выводя буквы на бумаге с привычной поспешностью. – Сделаю. Это официальный запрос?
– Пока нет. Тихо. Используй свои каналы. Старые. Я не хочу, чтобы об этом знал кто-то еще в участке. Ни одна бумажка не должна выйти за стены архива.
– Проблема в том, что там трое детей. Это… это целая гора бумаг. – Санчес снова вздохнул, но на этот раз вздох был иным – вздохом человека, уже смирившегося с предстоящим подвигом. – Тебе нужно что-то, что выделяется. Какой-то триггер. Крючок.
– Триггер… – Вольф медленно повторил это слово, растягивая его, пробуя на вкус. – Ищи конфликт. Не бытовую перепалку, не сиюминутную ссору. Ищи конфликт явный, затяжной, хронический. Такой, который не стихает годами. Такой, который разъедает все изнутри, как ржавчина.
Глава 15
Ее нарекли Самантой. Именем, звучащим, как нежное обещание, как колыбельная. Но то имя осталось в том мире, что лежал теперь в обломках.
Сэм. Это имя родилось позже, выковалось в горниле отчаяния, став щитом и кольчугой.
Ей было четырнадцать, когда она, стоя в прохладном полумраке гаража, взяла в руки садовые ножницы. Они были тяжелыми и холодными, чужими в ее тонких пальцах. А потом первый хрустящий щелчок, и на цементный пол, покрытый пятнами машинного масла, упал первый пучок волос. Медно-рыжих, отливающих золотом даже в этом сумеречном свете.
Эти косы так любила заплетать ее мама, погружая пальцы в живую, теплую, шелковистую волну. Прядь за прядью, они ложились к ее ногам безжизненным ручьем. И с каждой отсеченной прядью с хрупких плеч будто спадала незримая тяжесть. Тяжесть быть удобной, милой, «папиной принцессой». Мир, в котором водятся принцессы, перестал для нее существовать. В новом, жестоком и неуютном мире, им было не выжить.
А старый мир рухнул за два года до этого. Обычным дождливым вечером, на скользком шоссе. Стальной грузовик, будто слепое чудовище, вынесло на встречку. Мамы не стало в тот же вечер. А папа… Папа сломался раньше, чем успели зажить его физические раны. Он не пил до этого. Он начал после.
Летчик, отлученный от неба, он теперь днями напролет сидел в своем потертом кресле, уставившись в мерцающую пустоту телевизора. Его ясный взгляд, когда-то видевший землю с высоты птичьего полета, теперь затуманился, обратившись внутрь себя, в кромешную тьму воспоминаний. И каждый вечер щелчок открывающейся банки звучал похоронным звоном по тому мужчине, которым он был, и по той жизни, которая у них была.
Саманта училась жить в тишине. Это была особая, гулкая тишь, что нарушалась лишь двумя звуками: шипением открывающейся банки и приглушенным, фантомным смехом из телевизора. Вечным саундтреком к ее новому существованию.
Она быстро освоила нехитрую науку выживания: как варить макароны, чтобы не пригорели, как считать скудные купюры для оплаты счетов, как с ровным, пустым лицом лгать в школе, что папа в командировке.
Взгляд учителей становился скользким, неуверенным; они, кажется, все понимали, но предпочитали не видеть. Так Саманта стала невидимкой. Девочкой-призраком в стенах собственного дома.
Первая сигарета была украдена у отца, из сплюснутой пачки, валявшейся на подоконнике. Она выкурила ее, стоя в своей комнате, высунувшись в распахнутое окно. Ночной ветер трепал ее короткую, колючую гриву. Горький, едкий дым обжигал легкие, щипал глаза, но глубоко внутри, подступая к самому горлу, что-то сжималось – не в комок тоски, а в тугой, уверенный узел воли.
Это был не просто подростковый бунт. Это был немой, яростный акт протеста. Протеста против безмолвия смерти, против смиренной слабости, против вопиющей, удушающей несправедливости мироздания. И с каждым горьким вдохом призрак Саманты таял, а Сэм – крепла.
А потом она и вовсе ушла. Не с грохотом хлопнувшей двери, не с гневными криками, а с тихим щелчком замка на рассвете. Когда город еще спал тяжким сном, а в гостиной, угасшим вулканом, дымился отец в своем кресле. Он словно и не заметил отсутствия своего единственного ребенка. Последнего живого существа, что оставалось с ним рядом, вопреки череде его неудач. Вопреки тому, как он сам, день за днем, предавал их общую память.
И пускай совсем юная Саманта, с ее детскими руками и огромными, полными жалости глазами, мало чем могла помочь сломленному взрослому человеку, она все равно оставалась. Она была живым маяком в его темном море, тихим напоминанием о том, что они еще есть друг у друга. Она пыталась облегчить его горе, сама тонув в нем.
А Сэм… Сэм перестала видеть в этом какой-либо смысл. Она поняла простую и жестокую истину: нельзя согреть другого, когда сам превратился в лед. Нельзя вытащить утопающего, если он с наслаждением идет ко дну, утягивая тебя за собой. Ее уход был не побегом. Это было молчаливым самоубийством той, что верила в спасение, и рождением той, что решила выжить.
И вот она жила. Не в привычном смысле этого слова, а ютилась, как бездомный котенок, в углу чужого существования. Пристанищем стал гараж ее друга. Того, чье настоящее имя давно стерлось из памяти, оставив после себя лишь нелепое, отрывистое прозвище «Бим».
Бим был старше ее на лет пять, не меньше, и эта разница в те годы казалась пропастью. Он уже тогда работал в крошечном магазинчике, где торговал дряхлой техникой. Оживлял то, что другие давно списали.
А она, в своей потертой куртке, все еще была ученицей старшей школы Риверсайда, пытаясь уловить смысл в формулах, в то время как ее собственная жизнь представляла собой нерешаемое уравнение с двумя неизвестными.
Гараж был ее крепостью и склепом. Воздух здесь был густой, пропитанный запахом бензина, старого дерева и вечной осени. По стенам, словно трофеи забытой войны, висели мертвые моторы, а по углам громоздились ящики с призраками радиоприемников и телевизоров.
Бим заглядывал к ней довольно редко. Их диалоги состояли из обрывистых фраз, тонувших в тишине, изредка нарушаемой шипением открываемой банки с дешевым пойлом. Иногда Бим что-то паял, и едкий дым канифоли смешивался с дымом ее сигарет, создавая странный, горьковатый фимиам их общего одиночества.
Она спала на старом диване, с которого слезала кожа, обнажая желтую поролоновую потроху. Пружины впивались в бок, но это была ее территория, ее четыре квадратных метра свободы. По ночам, когда Бим уходил к себе, она лежала без сна и смотрела на потолок, где паутина колыхала тени в такт пролетающим фарам. Она учила историю или химию при свете голой лампочки, и буквы в учебнике плясали, смешиваясь с воспоминаниями о мерцающем экране в гостиной отца.
Школа стала для нее театром абсурда. Она оттачивала мастерство невидимки, скользя по коридорам так, чтобы не задевать чужие взгляды. Ее успехи были такими же серыми и незаметными, как и она сама. Учителя, кажется, смирились с ее вечными «папиными отъездами», а одноклассники обходили ее стороной, инстинктивно чувствуя чужую, взрослую боль, которая витала вокруг нее.
Иногда, вернувшись в гараж, она заставала Бима за разбором какого-нибудь старого магнитофона. Он молча протягивал ей отвертку, и она садилась рядом, пытаясь повторить его движения. Под ее пальцами винтики покорялись неохотно, но в этом механическом труде был свой, особый покой. Здесь все было понятно: есть неисправность – ее нужно найти и устранить. В отличие от жизни, где поломке не было ни названия, ни ремонта.
Так и текли ее дни. Между школой, где она притворялась обычной ученицей, и гаражом, где она была никем, и в то же время собой. Между формулами прошлого и призрачным настоящим. А где-то там, за пределами этого мира ржавых железок и учебников, медленно, но верно, крепла Сэм. Та, что уже не верила в чудеса, но научилась полагаться на холодную сталь собственной воли.
И вот портрет ее новой жизни складывался из намеренно грубых, чуждых красок. Она подводила глаза черным карандашом не для красоты, а словно вычерчивая защитный контур, за который не должна была переступать чужая жалость. Карандаш спустя пару часов послушно расплывался, создавая вокруг век эффект разбитости, усталости за тридцать лет. А на губах, еще недавно обветренных от детского смеха, все чаще появлялась темно-бордовая помада. Цвет спелой вишни, почти черной в тени. Цвет, который по всем законам света подошел бы зрелой женщине, но никак не юной девчонке. Это был вызов, брошенный всему миру: смотрите, какая я старая изнутри.
Ее образ был броней, сшитой наспех из чужих вещей и чужих ролей. На ногах громоздкие мужские ботинки, намеренно не по размеру, чтобы чувствовать свою неуклюжесть. На плечах болталась потертая кожаная куртка, пахнущая чужим потом, бензином и непогодой.
А в кармане, рядом с зажигалкой и смятыми купюрами, лежали ее главные документы – фальшивые водительские права. Она не просто достала их: она методично, с каким-то странным тщанием, потерла пластик об шершавый асфальт и несколько раз согнула, чтобы на поверхности проступила сеточка мелких трещин.
Новая вещь, даже поддельная, вызывала недоверие. Ей была нужна не новая жизнь, а бывшая в употреблении, со всеми царапинами и потертостями, как эта куртка, как эти ботинки. Чтобы ни у кого не возникло сомнений: да, она здесь своя. Это был ее пропуск в мир, где не было места для Саманты.
И вот, когда в ее руках оказался этот жалкий ключ к миру взрослых, жизнь начала раскручиваться с иной, куда более стремительной скоростью. Лазейка открыла ей доступ к запретным плодам, недосягаемым для обычных несовершеннолетних. И круг ее общения, до того тесный и замкнутый, вдруг резко и шумно расширился.
Кличка «Поставщик» приклеилась к ней не просто так. Она приросла к коже, как вторая куртка. Сначала шепотом, потом уже в открытую: «Спроси у Сэм, она может».
К ней потянулись старшеклассники с нагловатыми ухмылками, забитые тихони, мечтающие о храбрости в банке, и просто любопытные. Она была для них не человеком, а функцией, живым автоматом, исполняющим мелкие, полузапретные желания.
Вскоре слухи просочились сквозь стены школы Риверсайда, и поток потенциальных клиентов превратился в устойчивый ручей.
Сэм не была альтруисткой. Альтруизм – роскошь для тех, у кого есть тыл и горячий ужин дома. Ее философия была проста: любая услуга имеет свою цену. Она брала свой процент. Не грабительский, но ощутимый – ровно такой, чтобы не отказались, но почувствовали вес операции. Процент мог выражаться в деньгах, в сигаретах, а иногда и в неких мелких одолжениях, которые она бережно копила, как скупой рыцарь, чувствуя, что в этом мире влияние часто ценится дороже наличности.
Она вела свои дела с холодной аккуратностью. Никакого панибратства, никаких лишних слов. Встречи назначались в безлюдных углах школьного двора или за гаражами, неподалеку от ее логова.
Деньги – вперед. Сделка – четко и быстро. Ее лицо под размазанным карандашом и бордовой помадой оставалось каменным. В этих мутных подростковых сделках она оттачивала свое главное умение – умение не чувствовать. Не чувствовать презрения к их мелким слабостям, не чувствовать страха быть пойманной, не чувствовать ничего, кроме приятной тяжести в кармане и хруста купюр, которые пахли не свободой, но возможностью продержаться еще одну неделю. Это была не торговля, а скорее взимание дани с того самого «нормального» мира, который когда-то вышвырнул ее за порог.
И вот тогда появились они.
Не клиенты, не просители, а просто ребята. Она долгое время наблюдала за ними украдкой, стоя в тени деревьев, что окружали заброшенную детскую площадку. Они были младше ее, эти мальчишки, но в их безделье сквозила не лень, а та же знакомая ей тоска – отчаянная, гулкая, не по годам взрослая. Они болтались на ржавых качелях, курили, сплевывали сквозь зубы и смотрели на мир вызывающе-равнодушными глазами, в которых читалась готовность ко всему. Или уже усталость от всего.
Сэм и сама не поняла, как ее ноги, словно сами по себе, однажды принесли ее через щербатый асфальт к их островку. Не было ни приглашения, ни вопросов. Просто молча потеснились, давая место на облупленной скамейке. Так она примкнула к этой маленькой группе отбросов. Не по приказу, а по молчаливому, безошибочному закону тяготения одиноких душ.
И она ни о чем не жалела. Хоть они и были младше, с ними ей было… весело. Если это слово вообще можно было применить к их существованию. Это была не радость, а скорее смутное, но крепнущее чувство плеча.
Все они были разные, совсем друг на друга не похожие: колючие, как дикобразы, с разбитыми сердцами и несложившимися судьбами. Но они решили держаться бок о бок, инстинктивно, как стая бездомных псов. Потому что иначе кто-нибудь из них рано или поздно завязал бы последний узел на собственной шее. А так был кто-то, кто мог вовремя заметить, вовремя сказать грубое слово, вовремя сунуть в руки банку с дешевой газировкой.
В их компании Сэм впервые за долгое время позволила плечам расслабиться. Куртка-броня все так же болталась на ней, но здесь, в этом кругу, она весила меньше. Здесь не нужно было ничего объяснять, не нужно было притворяться. Они были живым щитом от всего внешнего мира, и в этой роли Сэм обнаружила незнакомое ей до сих пор чувство – нечто вроде покоя.
Вот так, бок о бок, они и коротали время. Грозили тумаками воображаемым врагам, делились последней затяжкой, молча сидели под дождем, когда слова становились не нужны.
Они были островом. Убогим, холодным, затерянным в океане всеобщего безразличия, но своим. И Сэм, глядя на их нелепые, наивно-озлобленные лица, понимала: она уже не может просто взять и уйти. Потому что уйти – значит оставить их там, где была она сама. Одну. Наедине с мерцающим экраном и шипением открывающейся банки. А это было бы предательством. Первым и последним в ее жизни, которое она бы себе никогда не простила.
***
Если бы у Кармен был шанс прожить свою жизнь заново – она бы, не колеблясь ни секунды, ухватилась за него обеими руками. Она мысленно примеряла эти «возможно», как когда-то примеряла бронежилет, и каждое ложилось на нее идеально, без привычной, давящей на плечи тяжести неудачи.
Возможно, она не стала бы ставить карьеру на первое место. Та самая карьера в полиции, что начиналась с блеска в глазах и желания менять мир, а обернулась бумажной волокитой, корпоративным предательством и пулей, которая хоть и прошла мимо, но навсегда поселила внутри леденящий страх. Она променяла уют семейных вечеров на ночные дежурства, доверие Дэвида – на сомнительную лояльность напарников, которые в итоге подставили ее.
И теперь ее мир – это комната диспетчера, где чужие трагедии превращаются в безликие номера заявок, а ее главная задача – не спасти, а просто передать вызов дальше, сохраняя ровный, бесстрастный голос.
Возможно, она бы не развелась с Дэвидом, и они прожили бы вместе ту самую жизнь – не идеальную, но настоящую. Ту, где ссоры заканчиваются примирением, а не хлопком двери, за которой остается человек, не выдержавший ее одержимости работой, которая в итоге все равно рассыпалась в прах.
Возможно, он бы все равно встретил Дженнет на той злополучной корпоративной вечеринке, но не обратил бы на нее никакого внимания, поскольку был бы сыт и спокоен в своем браке, как в крепости, которую они построили бы вместе. Его взгляд скользнул бы по ней, как по красивой, но чужой вещи, – и тут же вернулся бы к сообщению от жены: «Не забудь купить молока».
Возможно, она бы прошла весь путь взросления Майкла рядом с ним. Не откупалась бы от его вопросов дешевыми подарками, чувствуя, как между ними вырастает стена из обид и невысказанного. Она стала бы ему опорой и поддержкой, а не мамой, чье беспокойство выражается в редких, неловких звонках между вызовами, когда она, слушая его скупые «все нормально», параллельно следит за мелькающими на мониторе тревожными сообщениями.
Уж слишком много «возможно». Они висели в воздухе ее бессонных ночей, в паузах между звонками отчаявшихся людей. Каждое – идеальный, отполированный до блеска мир, в котором она была счастлива. Но дверь в эти миры была заперта навсегда. Оставалось лишь одно, самое горькое «наверное»: наверное, счастье – это не про то, чтобы любой ценой догнать призрачный идеал служения закону, а про то, чтобы вовремя разглядеть настоящий закон жизни – любовь, семью, доверие.
И понять это, увы, когда уже ничего нельзя исправить. Стоя у карты города, где чужие крики о помощи стали фоном ее собственного, запоздалого раскаяния. А ее ребенок растет там, за стеклом этой карты, в том самом доме с панорамными окнами, где когда-то могла бы жить она. Рядом с женщиной с идеальной прической, от которой пахнет не порохом и остывшим кофе, а дорогим, удушающим парфюмом. Женщиной, которая не путает дни его школьных спектаклей и не вздрагивает от звонка телефона. И которую он теперь называл своей матерью.
Смирение с реальностью медленно, но верно начало проникать в ее сознание только сейчас. Не раньше, не в день развода, не когда она сдавала значок, не когда слышала в трубке робкое «Здравствуйте, это кто?» от сына.
Только теперь. После того, как она встретилась лицом к лицу с чужой жизнью, которая, возможно, могла когда-то стать ее реальностью. А возможно, и нет. Возможно, Дэвид все равно ушел бы, возможно, Майкл все равно отвернулся бы. Возможно, ее карьера все равно бы рухнула, пусть и по другим причинам.
Само понятие «возможно» – довольно скользкое и неустойчивое. Оно не дает ответов, лишь множит вопросы. Но в этой хрупкости она наконец разглядела не проклятие, а освобождение. Не было единственно верного пути, который она проморгала. Была лишь череда выборов, сделанных той, кем она была тогда. Уставшей, напуганной, жаждущей признания женщиной.
И теперь, глядя на карту, испещренную огнями чужих трагедий и надежд, она поняла: ее жизнь – не ошибка. Это просто жизнь. Со всеми шрамами, потерями и вот этим тихим, одиноким постом.
Возможно, счастье – это не вернуться назад и все исправить. А принять тяжесть этого «сейчас». Принять то, что ее сын счастлив с другой женщиной. Принять то, что ее служба теперь – это ровный голос в трубке, способный стать якорем для тонущего. Принять. И сделать следующий вдох.
