Читать онлайн Такие разные дети бесплатно
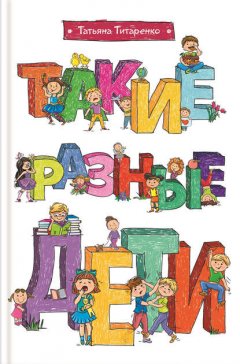
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2016
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2016
© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2016
От автора
Родителям обычно очень хочется найти в интернете, прочитать в книге, получить от психолога или педагога четкие ответы на вопросы: «Правильно ли развивается мой ребенок? Если отстает, то в чем? Как это исправить?», «Почему так отличаются друг от друга братья – ведь они растут в одной семье? Кто из них развивается нормально?», «Какие шалости или проступки считать отклонениями, а какие можно просто переждать?», «С какого возраста начинать форсировать развитие своего малыша?».
Мамам, папам, бабушкам и дедушкам бывает трудно принять, что советы на все случаи жизни, как правило, бесполезны, что одинаковые для всех эффективные психологические рецепты никто им не выпишет, что разработать однозначные рекомендации практически невозможно.
Замысел книги «Такие разные дети» впервые возник у меня во время многочисленных лекций для родителей, учителей, воспитателей детских садов, которые были так популярны в советское время и организовывались обществом «Знание».
За десятилетия психотерапевтической работы я сталкивалась с множеством ситуаций, показывающих, как важно, чтобы родители понимали, ценили, поддерживали индивидуальную неповторимость дочери или сына, чтобы у них крепло желание творчески подходить к воспитанию своего ребенка. Творчески – то есть всегда по-новому, самостоятельно и ответственно искать ответы на постоянно возникающие вопросы о детских нуждах, проблемах, сложностях. Быть готовыми изучать особенности развития своего подрастающего сына, взрослеющей дочери, понимать их, считаться с ними, вместе со своими детьми искать уникальные для каждой семьи, каждого ребенка рецепты и рекомендации.
Человек входит в мир непросто, ему нужен проводник, лоцман в бурном житейском море. Такими внимательными и чуткими помощниками могут (и должны! призваны!) стать для малыша близкие взрослые, папа и мама. Что им как лоцманам желательно знать, чтобы умело обходить рифы и мели? Какой необходимо быть семье, дабы она стала надежной опорой для подрастающего малыша? Помочь найти ответы на эти вопросы и призвана эта книга.
Человек входит в мир
Вы хотите, чтобы в вашей семье вырос исполнитель, готовый подчиняться жестким дисциплинарным требованиям и не умеющий отвечать за свои решения и поступки? Вряд ли. Никто не стремится видеть в своих детях будущих роботов, собранных по единой схеме даже на самом современном конвейере. Все мы надеемся, что вырастим свободных людей, творцов, которые будут готовы постоянно преобразовывать себя и окружающий мир.
Может, вы хотите, чтобы ваши дети были очень похожими на вас, а когда не получается – расстраиваетесь? На самом деле, если бы отцам однажды удалось воспитать детей сугубо по собственному образцу, остановился бы прогресс. Появились бы просто клоны. А там, где останавливается развитие, начинается деградация. Дети всегда растут в иных условиях жизни, у них иные потребности и возможности, их опыт далеко не во всем напоминает родительский. Поэтому непохожесть младших на старших – обычное явление.
Главное – не похожесть на папу и маму, не соответствие родительским ожиданиям и представлениям. Главное – чтобы ребенок был счастлив. Это возможно, если становятся востребованными творческие задатки, расцветают способности, заложенные в каждом ребенке, формируется самоуважение, желание развиваться.
Человек входит в мир. Когда начинается этот путь? Завершается ли он в определенном возрасте или длится до конца жизни? Как происходит этот процесс? Можно ли на него влиять? До каких пределов эти коррекции желательны? Ведь неосторожное, самонадеянное вмешательство иногда оказывается опаснее пассивности, безразличия. Сначала мы пытаемся представить свое будущее, этапы жизненного пути. Мы соотносим свои возможности, вернее, то, что знаем о них, с требованиями, диктуемыми жизнью. Особенно интенсивны подобные раздумья в юности, в пору профессионального самоопределения. Не менее животрепещущими становятся эти вопросы для будущих родителей. Молодые папа и мама, впервые осознав помимо гордости и радости от того, что появилось на свет маленькое воплощение их стремлений и надежд, еще и ответственность за его судьбу, как бы начинают все сначала, оказываются у порога новой жизни.
Вводить малыша в мир за ручку, оберегая от ушибов и ссадин, или бросать на глубину, чтобы сразу учился плавать? В балансировании между этими крайностями ищут свой путь молодые семьи.
Дети не выбирают себе родителей, хотя некоторые мистически настроенные взрослые думают по-другому. Рождаясь, дети оказываются в определенной семье, через которую и начинают свой путь вхождения в социальный мир. Первые впечатления, радостные и горькие, удивление и заинтересованность, обиды и разочарования, истоки будущих отношений с людьми – все возникает в семье. В эту пору проявляются индивидуальные особенности, закладываются нравственные ценности, формируются основы будущей личности, открытой людям или направленной только на себя.
С семьи, с папы и мамы, их взаимоотношений, микроклимата, который они создают, начинается каждая детская биография, жизненная история, полная приключений, препятствий, сюрпризов и испытаний. Эта индивидуальная история требует уважения, бережного отношения со стороны тех, кто является ее полноправными соавторами.
Итак, главные герои индивидуальной истории ребенка – это он сам и его близкие, окружающие малыша с самого рождения. Именно они становятся его проводниками, переводчиками, послами в сложном и неоднозначном взрослом мире. От них во многом зависит избираемый путь, они задают скорость движения, темп развития индивидуальности, их усилиями определяется успешность социализации. Поэтому только саморазвитие, самосовершенствование, постоянная работа родителей над собой создают в семье необходимую для нормального развития детей атмосферу.
Подсчитать, в каком возрасте какие потребности ребенка следует удовлетворять, наверное, нетрудно. Однако такой бухгалтерский подход не заменит повседневного поиска, внимательных наблюдений, изучения собственного ребенка, самого себя во взаимодействии с ним, результатов этих контактов. В воспитании нет и не может быть рецептурного справочника или единого стратегического курса. Слишком много нюансов приходится учитывать в каждом конкретном случае, слишком неожиданными оказываются поправки, постоянно вносимые жизнью.
Законы социального прогресса требуют, чтобы каждое новое поколение поднималось на все более высокие ступени образованности и культуры, гражданской активности, экологической грамотности, творческого овладения профессией. Как осуществить эту задачу? Только учитывая богатство и разнообразие жизненных устремлений, интересов и возможностей каждого. Не усредняя, не приводя к общему знаменателю, не пытаясь стричь под одну гребенку.
С чем мы входим в мир? Чего от него ждем? Чему радуемся? От чего страдаем? В чем видим собственное предназначение? Согласитесь, эти вопросы в значительной мере предопределены нашими родителями, их установками, отношением к своим родительским обязанностям. Одни рассматривают мир как источник приложения своих сил, возможность проявления способностей и дарований. Другие ищут в окружающем развлечений, удовольствий, новых впечатлений. Третьи постоянно пребывают в ожидании ненужных перемен, тревог, неприятностей, необходимости приспосабливаться к новым требованиям, людям, обстоятельствам. Есть и те, кто постоянно стремится проверить характер, – они рискуют, ищут неожиданностей и проблем. И ведь все эти люди, да и многие другие с совершенно разным восприятием мира и своего места в нем растят детей.
Папы и мамы! Вы – полноправные соавторы биографий ваших детей, архитекторы и прорабы их миропостроения. От вас, а не от судьбы зависит их будущее. В семейном жизнетворчестве значимо все: ваши слова, интонации, оценки, повседневные действия и экстраординарные поступки. Любая мелочь незаметно определяет развитие индивидуальности ваших сыновей и дочерей.
Семья готовит малыша к созиданию собственной жизни, а следовательно, и себя как индивидуальности, к умению не просто приспосабливаться к обстоятельствам, но видоизменять их в нужном направлении, не удовлетворяться достигнутым, не почивать на лаврах, но постоянно идти вперед. Ведь, созидая и преобразуя условия своей жизни, человек созидает и преобразует себя. Поэтому его жизнь по своей сущности является творчеством и, следовательно, его творением, произведением.
Семья лишь тогда оказывается на высоте стоящих перед ней задач, когда все ее члены, взрослые и дети, юные и пожилые, не только поодиночке, но и совместно делают, выстраивают, конструируют свою жизнь. Не уповая на удачу, не полагаясь на волю случая, не опуская рук под гнетом обстоятельств. Хотя случай, конечно, может в один миг все изменить, разрушить планы, потребовать новых усилий. И неожиданное везение тоже может резко изменить жизненные перспективы.
Однако главной для семьи и растущих в ней детей является повседневность, все те маленькие шажки, которые мы делаем навстречу друг другу, пытаясь заметить, прислушаться, понять, поддержать, создать зону ближайшего развития для своих близких.
Оглянемся вокруг, посмотрим внимательно на знакомые нам семьи, сравним их с собственной. Что бросается в глаза? Непохожесть! Совершенно не прав Лев Толстой с его знаменитым утверждением: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Да ни одной похожей семьи вы никогда не встретите! Разнообразие потрясает, в том числе и среди счастливых.
Просто удивительно, каким разным бывает семейный климат, как неповторимо и уникально складываются отношения между супругами, родителями и детьми, бабушками и дедушками, свекровями и тещами. А насколько каждый член семьи не похож на другого, какие у каждого разные запросы и ожидания, привычки и предпочтения, способы радоваться и грустить, умения разрешать конфликты, прощать обиды, проявлять сочувствие и сострадание!
Однако помимо несхожести таких разных индивидуальностей, из которых состоит семья, на этом маленьком континенте всегда есть и много общего. Например, одни и те же жизненные обстоятельства, определяемые социальным статусом взрослых, авторитетом, известностью кого-то из них, бо́льшим или меньшим финансовым благополучием. Хорошо, когда общими для всех становятся выработанные за годы совместного существования общие ценности и интересы, вкусы и предпочтения, способы преодолевать трудности, разрешать конфликты, достигать желаемого, формы проведения досуга, организации праздников и выходных.
К сожалению, далеко не все семьи становятся дружным сообществом единомышленников, однако всем молодоженам этого безумно хочется. Молодые супруги обычно стараются побольше быть вместе, стремятся выработать некую общую платформу ценностей и смыслов, единую направленность, семейную стратегическую линию жизни, из которой вытекают совместные жизненные задачи и коллективные пути их решения, способы жизнетворчества.
Если партнеры проявляют одновременно гибкость и настойчивость, открытость и креативность, терпение и принятие, новый семейный континент постепенно осваивается и становится все более благоприятной средой для появления детей.
В сплоченной или разобщенной, счастливой или несчастной семье малыш развивается совершенно по-разному. И не факт, что в сплоченной и счастливой всегда лучше. Мне известны чуть ли не противоположные примеры. Вам, наверное, тоже. Иногда, например, в полной любви и поддержке родительской семьи давно выросшей, почти тридцатилетней девушке настолько хорошо, защищенно, комфортно, а за ее пределами все для нее настолько сложно, непонятно и неправильно, что готовности к самостоятельному плаванию по житейскому морю не наблюдается.
Вообще-то каждый появляющийся на свет здоровый человеческий детеныш имеет от природы достаточный диапазон задатков и возможностей, чтобы стать активным и самостоятельным взрослым человеком, взять на себя ответственность за собственную жизнь и жизнь своей будущей семьи. Одаренные и не очень, сильные и слабые, рассудительные и импульсивные, послушные и неугомонные – все имеют шансы стать счастливыми и удовлетворенными. И точно так же все они имеют шансы прожить безрадостную, серую, пустую жизнь.
Многое зависит от первоначальной среды обитания, в которую погружается ребенок после рождения, от родительской семьи со всей ее неоднозначностью. Именно семья с ее теплотой или холодом, пониманием или отчужденностью, гармонией или конфликтами создает условия, в которых все мы когда-то начинали осваивать мир, искать свое место в нем.
Поэтому причины наших взрослых взлетов и побед, потерь и просчетов нужно определять в каждом конкретном случае, не замалчивая детских бед, не игнорируя страданий от одиночества и непонимания. Невероятно важно, верил ли подрастающий ребенок в честность старших, их искренность и принципиальность, много ли лжи и разочарований было в его детской жизни. Наше умение мужественно и последовательно признавать совершенные ошибки, наша открытость по отношению к взрослеющим детям, не замалчивание собственных страхов, сомнений и проблем, а совместный поиск выхода из кризисных ситуаций – единственный способ не потерять доверие собственных детей, исправить ошибки в воспитании, наверстать упущенное.
В семье переплетены супружеские, родительские, детские взаимоотношения, интересы разных поколений, потребности и устремления непохожих индивидуальностей. Кроме влияний, привносимых индивидуальной жизненной историей каждого ее члена, этот микроколлектив, как барометр, откликается на все и всяческие потрясения и перемены, происходящие в мире и стране, моментально реагирует на меняющиеся общественные ценности, социальные ожидания. Нет таких государственных, внешнеполитических, экономических проблем, которые бы так или иначе не сказывались на стиле жизни семьи, ее решениях относительно желательного количества детей, их воспитания, будущей профессиональной ориентации.
Через образ жизни семьи, ее активность, направленность, толерантность ребенок шаг за шагом постигает все расширяющийся по мере взросления социум. От того, чем занимаются родители, насколько они увлечены своей работой, вникают ли в проблемы друг друга, умеют ли уступать и еще от великого множества различных причин, факторов, условий зависит успешность вхождения маленького человека в большой мир.
Хорошо, когда членов семьи связывают искренние чувства, эмоциональные узы, привязанность друг к другу, когда есть психологическая совместимость. Такая семья дает ребенку то самое чувство родительского дома, которое ничем нельзя компенсировать или заменить. В семье мы чувствуем защищенность от случайных ролей, которые приходится играть в школе и на работе, в общественном транспорте или магазине. Дома человек становится самим собой, отдыхает от функциональных обязанностей, которые приходилось исполнять, делится своими впечатлениями, успехами и неудачами, обидами и надеждами.
Вам хотелось бы, чтобы ваш ребенок и в школе, и дома старательно изображал благополучие и послушание, а не выражал подлинное, сегодняшнее, актуальное состояние? А ведь известно, что, не надеясь на понимание старших, он вынужден будет искать где-то вне семьи ту среду, в которой почувствует защищенность, где его будут принимать всяким, раздраженным и усталым, хохочущим без причины или угрюмо молчащим. Опасность в том, что компания сверстников, берущая на себя эту роль, не всегда отличается желательной направленностью.
Чтобы ребенок чувствовал себя во взрослом мире не гостем, не случайным посетителем, а преемником, законным наследником всего, что уже достигнуто, ему необходим эмоциональный фундамент, получаемый в семье. Уверенность в себе, своих силах и возможностях, устойчивость к стрессам, умение бороться с трудностями – все это зарождается в дружной, теплой атмосфере уютного семейного дома.
Хочется надеяться, что в недалеком будущем каждая семья, если у нее возникнет такая потребность, сможет обратиться в специальные государственные консультативные службы. Там опытные специалисты разных профилей – психологи и педагоги, юристы и неврологи – будут принимать всех желающих, помогая разобраться в возникающих проблемах, обучая эффективному, конструктивному поведению в конфликтных ситуациях, умению без особых потерь выходить из кризисов, а главное – предвидеть, упреждать их.
Такие центры возникнут не только в мегаполисах, где уже сегодня можно найти хороших экспертов, но и на периферии, куда лучшие специалисты будут приезжать на выездные консультации. Как это делают, например, врачи, предлагающие пройти УЗИ, посетить маммолога, онколога, эндокринолога или пульмонолога в передвижных мобильных амбулаториях. Так же будут предлагать свои консультации семейные и детские психологи, конфликтологи, реабилитологи, психотерапевты.
Молодые супруги, собирающиеся стать родителями, будут посещать специальные циклы занятий, на которых получат необходимый минимум знаний по развитию ребенка. Если в их маленьком городке или деревне подобных школ для родителей не будет, у них будет интернет, благодаря которому станет возможно онлайн-участие в работе стационарных консультативных центров. Обязательно будут работать скайп-консультации, и не только на базе дорогих приватных центров, как это происходит сегодня, но и центров государственных, бюджетных.
Будут организованы не только лектории и индивидуальные консультации, но и психологические тренинги с элементами психогимнастики, ролевыми играми, групповыми дискуссиями и другими формами повышения родительской «квалификации», которые уже сегодня может предложить психологическая наука.
А если учесть гигантские возможности социальных сетей с их открытыми группами «Семейная психология и психотерапия», «Родители и дети», «Практическая психология», «Психология и жизнь», то возможности родительского самообразования становятся практически безграничными. Главное – чтобы этого хотелось, чтобы была мотивация изменяться, развиваться, совершенствоваться.
Для личности важна открытость чему-то высшему, большему, чем она сама, устремленность в будущее. Поэтому мечтать полезно, важно, необходимо. Так мы строим идеальные представления о себе, своей семье, своих детях. Так формируем программы-максимум для личностной, супружеской, родительской самореализации, для создания гармоничного микроклимата, творческого воспитания детей. Так закладываем основы для постоянных самоизменений и для такой же постоянной неудовлетворенности достигнутым.
А общество наше если еще и не достигло такого уровня социального развития, когда не может себе позволить потерять ни одного подрастающего человека, то скоро обязательно достигнет его. Пассивно ждать, когда все это произойдет, бесполезно. Будем по мере сил действовать. Будем волонтерски создавать условия для как можно более полного раскрытия дарований каждого мальчика и каждой девочки, входящих в мир. И тогда все у нас обязательно получится.
Что такое индивидуальность
В каждой семье свои представления о том, что такое индивидуальность и насколько ребенок ею является. Одни родители придают решающее значение природе, натуре младенца, то есть уверены, что все определяется генотипом, наследственными особенностями. Другие убеждены в ведущей роли сотрудничества с ребенком, значении микроклимата, взаимоотношений в семье. Третьи понимают, насколько зарождение новой индивидуальности повлияет на мироощущение, привычный образ жизни, взаимоотношения взрослых, как рождение малыша изменит всех его близких. Поиск ответа на вопрос о том, что такое индивидуальность, предполагает в каждом конкретном случае возвращение к истокам. Мать и отец совместно решают, что для них важнее в индивидуальном своеобразии сына или дочери, как избежать эгоцентризма и своеволия, какими путями идти к самостоятельности, зрелости, ответственности. Судьба будущей индивидуальности зависит от установок семьи. Рассмотрим, как они формируются, что помогает выработке единой системы координат, в которой родители постоянно наблюдают своего ребенка, изучают его, сопоставляют свои впечатления и оценки, создают основы собственного неповторимого индивидуального подхода, личное отношение к поощрениям и наказаниям, стратегии воспитательных воздействий.
Когда ребенок становится индивидуальностью?
На этот вопрос большинство родителей воскликнут: «Как только появляется на свет!» А многодетные матери уточнят, что еще не родившиеся дети не похожи друг на друга, еще во время беременности одни любят «гулять», другие – «спать», третьи – «слушать музыку». В родильном доме новорожденные ведут себя совершенно по-разному: кто-то требовательно, громко кричит, когда испытывает дискомфорт, кто-то покорно и вяло терпит голод, а кто-то будто не замечает неудобств. Гордые и счастливые мамы целыми днями сравнивают своих долгожданных детишек, обсуждают их характеры, вспоминают своих первенцев, других хорошо знакомых малышей: «Мой такой ленивец! Совсем сосать не хочет, хоть и голодный». – «А моя – трудяга, работает на совесть». – «Нет, вы взгляните, спит и спит, и выражение лица такое мечтательное, проза жизни его не интересует».
Все мамы с нетерпением ждут неонатолога, малышового педиатра, который сообщит не только данные относительно физического здоровья ребенка, но и собственные впечатления, и эти слова врача сейчас же передают по телефону молодому папе, друзьям, ближайшим родственникам: «Малыш с хорошим характером – веселый, живой, общительный». – «Наш, говорят, чересчур беспокойный, активный. Весь в тебя». А ведь этот малыш бодрствует всего пару часов в сутки, остальное время мирно спит, в то время как его индивидуальные особенности все-таки подмечаются, фиксируются, домысливаются.
Так с самого начала, с первых дней жизни, создается неповторимая психологическая биография каждого человека. В ее написании авторство вначале почти целиком принадлежит матери, а затем круг соавторов расширяется, в него включается все более широкий коллектив людей, близких ребенку, и, наконец, он сам. Чем старше человек, тем безраздельнее он захватывает инициативу, постепенно становясь главным автором, творцом своей судьбы. В начале жизненного пути, о котором мы сейчас ведем речь, доля авторства малыша невелика и практически всю фабулу развития индивидуальности задает семья, самые близкие взрослые.
Читатель может возразить, что родители имеют дело с готовым, данным от рождения набором индивидуальных особенностей ребенка. Несомненно, генетически заданные характеристики есть, существуют и врожденные, сформировавшиеся в процессе внутриутробного развития. Однако некоторые индивидуальные черты вызывают восторг взрослых, их постоянно замечают, демонстрируют окружающим, всячески одобряют, что создает благоприятные условия для развития преимущественно в данном направлении. Другие особенности почему-либо не нравятся, с ними никто не хочет мириться, считаться, их решительно стремятся изменить.
Так, в одной семье уже достаточно зрелым родителям, более пятнадцати лет ждавшим появления первенца, очень нравится, что их восьмимесячная дочь проявляет безудержный интерес буквально ко всем окружающим ее предметам. И они разрешают малышке трогать, рассматривать, открывать, рвать, ломать все, к чему бы она ни потянулась. Друзьям с гордостью говорят: «Маше ни в чем отказа нет. Пусть развивается. Разве что в мусорное ведро не даем заглянуть. Так она, умница, услышав неожиданное “нельзя!”, злится и требует». Другая семья уверена, что главное – режимные моменты, порядок, четкие, постоянные требования. Папа с мамой радуются, что рано выработали условный рефлекс на время питания, что их сын никогда не путает день и ночь, знает, когда ему положено купаться, когда собираться на прогулку.
Неудивительно, что растущие в этих двух семьях дети будут совершенно не похожими друг на друга, даже если предположить, что наследственные и врожденные предпосылки развития индивидуальных особенностей малышей достаточно близки. Не всегда можно определить, насколько эта непохожесть зависит от биологически заданных предпосылок, а насколько связана с совершенно разными внешними условиями развития, ожиданиями, установками близких взрослых, микроклиматом семьи.
Что важнее: непосредственность или самоконтроль? Эмоциональность или рассудительность? Смелость или осторожность? Любопытство или послушание? Эти вопросы решают в каждой семье по-своему. И от того, как именно папа с мамой отвечают на них, во многом зависит формирующаяся индивидуальность.
Есть черты, которые рассматриваются как показатель принадлежности к данной нации, этнической группе. Они, как правило, культивируются с самого начала, может быть, не всегда осознанно для родителей, но последовательно, устойчиво. Бурное выражение своих чувств, яркая интонационная окраска голоса, богатая мимика и пантомимика, характерные для южан, почти не представимы где-нибудь в Скандинавии, где ребенок рано усваивает традиции сдержанности, хладнокровия, умения владеть собой.
Существуют и так называемые фамильные черты характера, которые стараются найти, обнаружить у нового, самого молодого члена семьи. «У нас все мужики страшно упрямые, – гордо говорит бабушка, держа внука на руках. – И Сереженька, уж если чего решил, вытребует, добьется, хотя ему еще года нет! Мать сердится, говорит, что с капризами надо бороться, а я не даю. Мужчина и должен быть таким. Иначе не характер будет, а тряпка».
Чем старше становится ребенок, тем больше проявляется его своеобразие, четче вырисовываются склонности, сложнее и богаче оказывается натура. Поэтому ответить на вопрос, с которого мы начали главу, непросто. Когда же все-таки малыш становится индивидуальностью? Ясно, что становление личности начинается очень рано. Существуют так называемые морфологические свойства человека, оказывающие большое влияние на формирование индивидуальности. Это наследственно обусловленные задатки, пол, специфические особенности телосложения и т. п. Учитывая их, можно с уверенностью сказать, что уже новорожденные – совершенно разные представители рода Homo sapiens, отличающиеся друг от друга по многочисленным параметрам индивиды. Однако индивид – еще не индивидуальность.
Индивидуальностью малыш является потенциально, то есть в будущем он может ею стать. Ожидания, надежды, мечты и прогнозы родителей, сама атмосфера семьи – вот условия, которые нужны для превращения потенциальной возможности в актуальную, приближения мечты к воплощению.
Если индивидом можно назвать малыша со всем набором присущих ему, отличающих его от других характерных особенностей, то индивидуальность – продукт творческих воздействий окружающих людей, осознанных и неосознаваемых, целенаправленных и стихийных воспитательных усилий. Главное – контексты, в которых начинается и продолжается индивидуальная история жизни человека. Каждый близкий взрослый привносит в общение с ребенком свой особый контекст, и взаимопереплетение, взаимовлияние этих контекстов создают уникальное для каждого малыша поле родительских влияний.
«Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают», – высказывание принадлежит известному психологу Александру Григорьевичу Асмолову. Почему отстаивают? Да потому, что собственную непохожесть, нестандартность, своеобразие приходится оберегать и защищать. Ребенку в этой сложной работе могут помочь только близкие взрослые. Благодаря жизни с ними ребенок постепенно начинает ценить свою неповторимость и уникальность, не давая социуму унифицировать, усреднить, обеднить и упростить себя.
Обратимся к истории. В конце IV – начале III века до нашей эры жил ученый Феофраст, современник Платона, Аристотеля, Александра Македонского. Он написал первую из дошедших до нас книг, посвященных человеческой индивидуальности, – «Характеры». Читая его труд сегодня, спустя более чем два тысячелетия, мы узнаем знакомые черты, видим собственные слабости и пороки.
Неужели люди никак не изменились с тех далеких времен? Менялись экономические, политические, социальные условия существования, трансформировались ценности и идеалы. Однако индивидуальные особенности человека, комплексы неповторимых свойств и качеств оставались относительно стабильными.
Если бы Феофраст просто описал непохожих друг на друга людей, взяв в качестве образца своих друзей и врагов, родственников или соседей, его книга не оказалась бы в числе почетных долгожительниц. Дело в том, что античному автору удалось найти то общее, характерное, типичное, что объединяет людей в группы. Рассматривая вереницу случайностей, он обнаружил нечто повторяющееся, выявил тенденции типологического развития.
Особенно богата исследованиями человеческой индивидуальности эпоха Возрождения. После Средневековья с его проповедью христианской добродетели, смирения духа, многовековыми попытками усреднить, обезличить массы людей пробудился интерес ко всему новому, нестандартному, уникальному. Географические открытия Марко Поло, Ибн-Баттуты, Васко да Гамы, Христофора Колумба, Фернандо Магеллана привели к экономическому, художественному, интеллектуальному всплеску, породили богатую мемуаристику.
Возникло множество жизнеописаний, ставивших во главу угла неповторимость индивидуальной истории жизни человека. Для мемуаров того времени характерна эстетика героического и необычайного с ее неизбежными преувеличениями, страстной восторженностью. Такая неприкрытая идеализация способствовала росту веры в человека, рожденного для великих дел. Некоторые из этих биографий сохранились, и ознакомление с ними побуждает задуматься о безграничных возможностях, заложенных в каждом из нас. Яркий пример мемуарной литературы – «Жизнь Бенвенуто Челлини», современника Франсуа Рабле, натуры могучей, волевой, целеустремленной, отразившей в себе и черты эпохи, и нравы века, и атмосферу загадочной Флоренции, породившей такое множество гениев. Романтизм как этап в истории культуры с его повышенным интересом к индивидуальному, единичному, неповторимому оказался особенно плодотворным для последующих научных изысканий в области психологии индивидуальности.
Строго экспериментальное изучение проблемы индивидуальных различий началось сравнительно недавно – около ста тридцати лет назад. Сначала с помощью приборов в специально оборудованных лабораториях фиксировались отличия в скорости реакций разных людей, особенности запоминания и забывания бессмысленных слогов и отдельных слов, объем внимания, его колебания, ход решения мыслительных задач разной степени сложности. Затем наступила пора изучения свойств нервной системы, открытия закономерностей высшей нервной деятельности, построения типологий, характерологий, авторы которых стремились обобщить бесчисленные индивидуальные различия, найти то общее, что является стержнем индивидуальности человека. Позднее возродился интерес к проблеме темперамента, поставленной еще в Древней Греции, появились работы по психологии человеческих способностей, формированию характера, первые исследования жизненного пути личности. Однако психологической науке еще предстоит сделать фундаментальные открытия в этой области, богатство и сложность человеческой индивидуальности пока ожидают своих исследователей.
Как ни странно, знания об индивидуальности нередко пополняются данными входящих время от времени в моду околонаучных направлений типа графологии, хиромантии, френологии, иридологии, физиогномики. Адепты этих учений определяют характер человека по почерку (графология), его жизненный путь по линиям на руке (хиромантия), диагностируют индивидуальные особенности по выпуклостям черепа (френология) или чертам лица (физиогномика), а склонность к определенным болезням – по радужной оболочке глаза (иридология). Как алхимия при всей сегодняшней странности ее средневековых задач во многом способствовала развитию современной химической науки, так и бесчисленные парапсихологические отрасли собирали и собирают ценный материал по индивидуальным различиям характера, их взаимосвязям, причинной обусловленности.
Экспериментальная проверка этих данных, обобщение тех из них, которые удается подтвердить и объяснить, дают возможность использования, к примеру, в криминалистике графологической экспертизы, частично применяющей отдельные, добытые графологией факты. Любители детективов знают, что не пропали даром и данные хиромантии, и хотя по отпечаткам пальцев не предскажешь судьбу, отличить одного человека от другого можно безошибочно. Генетика уже сегодня нашла подтверждение необъяснимых пока зависимостей между цветом глаз и отдельными заболеваниями, вернее, склонностью к ним. Многие отвергнутые своими современниками гипотезы и предположения относительно неповторимых индивидуальных особенностей человека, всеохватывающей взаимозависимости всех свойств и качеств психологической науке еще предстоит понять.
Потребностью в познании своей индивидуальности, по всей видимости, следует объяснять и популярность гороскопов, и женскую слабость к гаданиям на кофейной гуще, картах, по ладони и др. Будучи внимательной, как Шерлок Холмс, и владея несколькими формулировками на все случаи жизни, опытная гадалка умеет поставить экспресс-диагноз своей посетительнице. Описывая особенности ее натуры, относя к тому или иному типу, она «угадывает» если не сюжет жизненной драмы, то ее эмоциональную окраску, интенсивность переживаний, оптимизм или пессимизм в отношении к происходящему, поиски виновных среди окружающих или преобладание самообвинений. На этой основе, согласитесь, можно и рассказать о прошлом, и довольно успешно прогнозировать будущее.
Бытовая диагностика индивидуальных особенностей друг друга производится каждым из нас постоянно с бо́льшим или меньшим успехом. Одни люди обладают более развитыми способностями понимать окружающих, у других эти задатки практически не развиты. Без попыток представить индивидуальность того или иного человека трудно рассчитывать на установление контакта, взаимопонимание, успешность совместной деятельности.
Житейские, обобщенные портреты индивидуальностей есть в каждой семье. Родители с самого раннего возраста всматриваются не только в форму носа или цвет глаз малыша, но и постоянно определяют, на кого он похож по характеру. «Весь в деда, такой же бесхитростный», «И я в ее возрасте, говорят, была привередливой. В меня, значит», – такие высказывания можно услышать в любой семье. По несущественным иногда признакам строятся обобщения, отдельные черты кажутся предвестниками тяжелого или легкого, удачливого, жизненного пути, который прошел кто-то из родственников. Проблема индивидуальности волнует каждого, и все мы в меру своих знаний и сил принимаем участие в ее изучении.
Личность и индивидуальность
Трудно представить, что есть родители, которые не хотели бы, чтобы их ребенок стал личностью. Почему это так важно – быть личностью? Каждый ли человек – личность? Как они взаимосвязаны, эти два понятия: личность и индивидуальность? Словом «личность» определяют то самое главное, важное, что в нас есть, – наше социальное лицо, то, какими видят нас другие люди.
Личность – это гибкая, текучая целостность. Она умеет воскресать, возрождаться после каждого, самого разрушительного кризиса. Даже кардинально преобразовавшись, сменив обличье, отказавшись от значимых ценностей, сменив круг общения и профессию, она остается узнаваемой благодаря тому жизненному миру, в котором живет, который обустраивает, обживает и видоизменяет, благодаря пройденному пути, собственной истории.
Личность не просто пассивно адаптируется, приспосабливается к окружающему миру. Она для такой мимикрии, свойственной, например, хамелеонам, слишком сложна. Ее опыт, стремления, ни на кого непохожесть преломляют, видоизменяют внешние воздействия. Мир вокруг нас тоже совсем не юн и не прост, чтобы покорно приспосабливаться к нашим капризам. Поэтому приспособление оказывается творческим и взаимным, происходит активно, диалогично.
Понятно, что личностью человек не рождается, а становится. Оказавшись вне социального окружения, личностью он может и не стать, примером чему выступают многочисленные дети-маугли, по разным причинам выросшие среди животных. Если ребенку не хватает общения с близкими взрослыми, которые очень заняты своей карьерой, если он испытывает дефицит эмоционального тепла, это почти неизбежно приводит к задержкам личностного развития, усложняет вхождение в детский коллектив, мешает адаптации к дошкольному учреждению, а затем и к школе, затрудняет психическое и даже физическое развитие.
Медики давно знают, что дети, формированию личности которых с раннего детства не уделялось должного внимания, более пассивны и ослаблены, чаще и дольше болеют. Справедливо и обратное: у ослабленных постоянными соматическими болезнями детей замедлено становление личностных свойств.
Предпосылками развития личности являются складывающиеся у ребенка в раннем возрасте отношения с окружающим миром, который воспринимается как доброжелательный или враждебный, с другими людьми, которым можно или нельзя доверять, и, наконец, позитивное или негативное отношение к самому себе.
Каждая мать следит за тем, как малыш набирает вес, когда начинают резаться зубы, в каком возрасте появляются первые долгожданные слова. Если ребенок позже сверстников начинает ползать или ходить, взрослые спешат обратиться к врачу, хотят знать причины и совместно устранять их. Но всегда ли мы столь же внимательны к развитию у дочери или сына избирательного отношения к окружающим? А ведь именно в избирательности – истоки будущего осознанного отношения к людям и самому себе.
В том, когда и как проявляется избирательность ребенка, формируются вкусы, предпочтения, привязанности, в каком возрасте возникают симпатии, насколько они устойчивы, можно довольно четко проследить основные тенденции развития вашего ребенка.
Вспомните, когда вам удалось впервые заметить разные реакции на приход в гости бабушки, вашего брата, подруги, детского врача. Почему малыш симпатизирует одному человеку и боится другого? Чем вызваны эти реакции? Как меняется его отношение к близким взрослым с каждым днем? Верно поступают родители, которые интересуются этими проблемами с не меньшим интересом, чем вопросами закаливания или рационального питания.
Как правило, первым человеком, к которому у ребенка формируется устойчивое положительное эмоциональное отношение, является мать или тот, кто ее заменяет и постоянно общается с малышом, ухаживает за ним. Затем круг людей, с которыми маленький человек контактирует, расширяется. Постепенно родители начинают делать выводы о том, насколько их сын приветлив, общителен, застенчив или нелюдим.
Со временем все более значимым оказывается общение не только со взрослыми, но и со сверстниками. Формируется избирательное отношение к детям ваших знакомых, соседям, затем к товарищам по группе в детском саду. Одни дети явно вызывают симпатию, других ваш ребенок обходит стороной, третьих вроде не замечает, с четвертыми часто ссорится. Если кто-нибудь из детей вашей дочери нравится, она ведет себя, на ваш взгляд, как-то по-взрослому: может и яблоком угостить, и дать поиграть новой игрушкой. А другим детям она почему-то отказывает, проявляет неуступчивость.
Жадность малыша обычно пугает родителей, приводит к скоропалительным выводам о дурных наклонностях, которые следует искоренять. Такие страхи преждевременны, с печальными диагнозами не стоит торопиться. Конечно, малыш должен почувствовать, понять, что его жадность вас огорчила, что вам за него стыдно, но делать это нужно мягко, учитывая особенности возраста.
Ребенок двух – четырех лет руководствуется во взаимоотношениях со сверстниками скорее симпатиями-антипатиями, а не правилами поведения, утверждающими, что быть жадным нехорошо. В пять – шесть лет ребенок уже знает правила взаимодействия, оценивает поступки героев сказок или мультфильмов, но по отношению к себе еще не всегда умеет их применять, особенно когда задеты его интересы. Правила поведения должны быть близки опыту ребенка, пережиты им, иначе они не станут руководством к действию. Вот почему столь велика роль взрослого, его оценочных суждений, его помощи.
Как и когда у ребенка формируется отношение к себе? Это происходит в ходе общения со сверстниками, появления избирательного отношения к ним. Ребенок всматривается в товарищей по играм, учится видеть их достоинства и недостатки, оценивать поступки и постепенно начинает предъявлять к себе те же требования, что и к ровесникам. Общество сверстников – важнейшая среда, создающая условия для благополучного развития личности.
Ваш малыш, особенно пока он единственный, безусловно, нуждается в детском коллективе как своеобразном социальном зеркале. Не только в детском саду, но и в группе по раннему изучению английского языка, в спортивной секции, музыкальной школе работают такие своеобразные зеркала. Сравнивая себя с другими, ваш дошкольник постепенно начинает понимать, в чем его поведение лучше, а в чем – хуже других. Расширяется кругозор, растет опыт принятия непохожих на себя мальчиков и девочек. Появляется знание, чему он может поучиться у других, а что делает лучше многих, в чем его преимущества.
Проследите, когда и как сын или дочь начинают оценивать товарищей. Видят ли они только недостатки, неправильные поступки сверстников или с удовольствием хвалят кого-то, повторяют высокие оценки воспитателей? Помогите им в новой и важной оценочной деятельности. Попытайте стать примером доброжелательности, формируйте у ребенка умение прощать обиды, уступать в спорах. Ведь, облегчая общение со сверстниками, вы незаметно влияете на становление его личности, развиваете его способность видеть себя глазами других людей.
На основе отношений к окружающим и к самому себе еще на пороге дошкольного детства начинает складываться все более осознанное отношение к миру, к живой и неживой природе. И здесь роль семьи трудно переоценить. Где, как не в семье, малыш получает первые уроки отношения к животным? У кого учится не топтать мухоморы и поганки в лесу, не рвать охапки полевых цветов? Кто, если не родители, учит ребенка видеть красоту заката, звездного неба, приближающейся грозы, утреннего спокойного моря? Семья – первоисточник и эпицентр экологического воспитания, значение которого все мы так непростительно долго недооценивали.
Все ли индивидуальные особенности являются одновременно и свойствами личности? Конечно нет. Для характеристики личности не очень важно, хорошая ли у дочери зрительная память, насколько развит музыкальный слух, подвижная или инертная нервная система. Зато для личностного развития важно знать, как она относится к своей старенькой прабабушке, заботится ли о ней, умеет ли уступать детям, ладить с ними, считаться с чужими интересами.
Качества личности обусловлены окружением, социумом, семьей как важнейшей средой обитания. Можно сказать, что личность – это человек с социально обусловленными и индивидуально выраженными качествами.
Говоря о личности ребенка, мы постоянно подчеркиваем его зависимость от окружающих, условий развития в семье, способа воспитательного воздействия. Когда же речь идет об индивидуальности, имеется в виду ребенок с тем же комплексом личностных свойств, однако акцент делается на своеобразии, относительной независимости от внешних влияний, заложенной в каждом возможности оставаться в любых условиях самим собой, невзирая на обстоятельства.
Далеко не у всех получается отстаивать собственную индивидуальность. И не обязательно потому, что родители давят, не дают ей проявлять себя, требуют быть таким, как все, а потому, что в детстве не очень хорошо знаешь, в чем именно ты так нестандартен и уникален, что в себе надо развивать и ценить, а что – менять или даже безжалостно выкорчевывать.
Значимый для расцвета индивидуальности возраст – отрочество. В подростковом, а затем и в юношеском возрасте потребность выделиться, продемонстрировать свою непохожесть на других иногда просто зашкаливает. И тогда начинается поиск какой-то группы, сообщества, которое оценит, примет, поддержит. Так юноши и девушки становятся членами определенных молодежных субкультур (рэперов, готов, эмо, фурри). Они усваивают характерные эстетические вкусы, прически, наряды, сленговые выражения, способы поведения, не умея и не пытаясь найти более независимые, соответствующие собственной индивидуальности формы самовыражения.
А может, не нужно специально заботиться о формировании индивидуальности, это же может привести к эгоизму, нарциссизму, индивидуализму? Этот вопрос нередко задают молодые родители.
Сама по себе, вне целенаправленных воспитательных усилий, индивидуальность, конечно, тоже будет развиваться. Ведь помимо родительских педагогических ухищрений огромное влияние на ребенка оказывают стихийные впечатления, получаемые из окружающей среды, обстановки в семье, культурных традиций, телевидения и интернета.
Случайные влияния не отменяют продуманных родительских воздействий. Ведь плодоносят и заброшенный, и тщательно взращиваемый садовые участки, но качество, вкус выращенных в разных условиях плодов не идут ни в какое сравнение.
Конечно, нечасто встречаются родители, которые бы сознательно отказались от развития индивидуальности своего ребенка, уповая на то, что она и так проявится. Другое дело, что многие взрослые об этом просто не задумываются. Да и свои задачи каждая семья понимает по-разному. Одним родителям хочется, чтобы их ребенок был ни на кого не похож, другие видят свою задачу в том, чтобы их дети ничем не выделялись, были «не хуже других».
Для некоторых взрослых индивидуальность звучит ругательски, почти так же, как самовлюбленность, эгоцентричность. Не получится ли, беспокоятся они, что, увлекшись развитием задатков ребенка, потакая его желаниям, расширяя круг интересов, мы упустим самое главное – умение замечать интересы других, считаться с ними? Хорошо, что такой вопрос возникает. Значит, в семье всерьез думают о том, какой личностью окажется их сын или дочь, какие ценности будет исповедовать.
Конечно, читателю известны случаи непомерного увлечения индивидуальным своеобразием растущего в семье малыша со стороны родителей, а особенно бабушек и дедушек. То у ребенка коллегиально обнаруживают способности к фигурному катанию, танцам, гимнастике, то срочно покупают скрипку, потому что после пяти лет учить играть на этом инструменте поздно, то откуда ни возьмись возникает идея занятий в изостудии, которую посещают дети шефа, и квартира переполняется красками, фломастерами, мелками, то две недели кряду с экрана телевизора или компьютера звучит иностранная речь, чтобы малыш незаметно учился говорить по-английски. В этой суете, в ожесточенной конкурентной борьбе взрослых за первенство в обнаружении новых талантов нередко упускается из виду сам малыш с его актуальными потребностями, состояниями, фантазиями.
Надо ли спешить выявлять дарования в столь нежном возрасте? И зачем так торопиться? Чтобы ничего не упустить, не прозевать? Ну, а развивать задатки ребенка до виртуозного уровня зачем? Создавать непомерные нагрузки своим детям, чтобы выиграли в вокальном или танцевальном конкурсе?
Часто родители не хотят сами себе признаться в том, что изо всех сил пытаются для своего чада сделать то, чего им самим так не хватало в собственном детстве. Или что они жаждут славы, известности, хотят видеть своего малыша на обложках журналов и давать интервью тележурналистам. Или что для них будущий успех ребенка намного важнее его безмятежности, свободы, здоровья.
Попытки вырастить яркую индивидуальность направлены на стремление служить людям, быть интересным и значимым для многих, быть личностью. Хорошо, если так. Однако эту далекую перспективу не может увидеть маленький вундеркинд, он еще не заглядывает в столь отдаленное будущее. Зато неусыпное внимание взрослых, их отказ от всего ради кумира семьи воспринимается весьма благосклонно. Малыш привыкает к тому, что он – центр мироздания. Ради его тренировок папа откажется от футбола, мама не пойдет в парикмахерскую, бабушка отвергнет санаторную путевку. Семья, как известно, является для ребенка действующей моделью общества. Раз центр семьи, то и центр любой группы, любого коллектива. Раз для мамы интересы шестилетнего вундеркинда – закон, то почему воспитательница в детском саду с ним не считается?
Что мы получим в результате столь «старательного» и самоотверженного формирования индивидуальности? Много тщеславия, эгоизма, самовлюбленности и совсем мало внимания к окружающим, сочувствия, сопереживания, доброты. Отказ близких от собственных потребностей и интересов ради суперталантливого ребенка всегда оборачивается против них самих. И не только против них.
Парадокс в том, что индивидуализм и индивидуальность «не дружат». Индивидуализм обычно сопровождается снижением индивидуального своеобразия. Игнорируя разнообразные возможности ребенка, стремясь подчинить его развитие какой-то одной ими выбранной цели, любящие родители подавляют задатки и способности, время проявления которых, может быть, просто пока не наступило. К тому же у маленького вундеркинда неизбежно возникают переживания отчуждения от сверстников, что всегда переносится болезненно и не способствует его внутреннему комфорту.
Семья, открытая для радостей и бед всех живущих в ней людей, не может взрастить эгоцентрика и индивидуалиста. Если ребенок с самого раннего возраста оказывается свидетелем, а то и посильным соучастником семейных хлопот по поводу заболевшего родственника, проводов в армию сына соседей, повседневных волнений и забот, возникающих на работе у папы и мамы, он уже не замкнется в мирке только собственных потребностей, планов и интересов.
Спросите себя, чем живет ваша семья. О чем мечтает? К каким целям стремится? На что ради них готова? Как мыслит свое совместное будущее через год, пять, десять лет? Что в далеком и недавнем прошлом одобряет, а с чем не может смириться? Что хотелось бы вычеркнуть из семейной истории, забыть навсегда и почему? Только такой искренний и обстоятельный самоанализ семейного организма принесет плоды. Внимание к индивидуальным историям, из которых складывается история семейная, станет надежной гарантией от формирования зацикленной на себе подрастающей личности, убережет ее от неприятия окружающих, дефицита общения, отчуждения, одиночества.
Как уберечь индивидуальность своего ребенка
Что родители знают и чего не знают об индивидуальных возможностях своего ребенка? Обычно они безошибочно идентифицируют свойства характера и моральные качества сына или дочери, которые уже проявились, стали привычными. Но детство – такой особый период в развитии человека, когда на поверхности оказывается лишь незначительная часть того, что малыш усваивает, впитывает, постигает. Большинство впечатлений, открытий, представлений никак не проявляются в поведении, копятся как бы про запас, закладываются в хранилище на долгие годы. И чем младше ребенок, тем больше подводная часть айсберга, тем труднее по внешним проявлениям сделать далеко идущие выводы.
Значение детства для последующего развития трудно переоценить. Малыш усваивает такие потоки информации, и с такой скоростью, что ему могли бы позавидовать самые талантливые ученые, наиболее неординарные творцы. Формируясь открыто, вне контроля родителей, практически без их корректирующих влияний, гигантский запас индивидуальных возможностей ребенка в определенные возрастные периоды вдруг переходит из потенциального состояния в актуальное, возникает как из-под земли, иногда радуя, а иногда вызывая испуг и недоумение старших.
Вот почему так значимо все, что ребенка окружает, любая мелочь или случайность, оставляющая след в восприимчивой и недостаточно избирательной детской психике. Вот почему такими непредсказуемыми могут оказаться последствия родительских педагогических ошибок, напряженной атмосферы в семье, лишение ребенка материнского тепла, ласки даже на незначительное время или передозировка нетребовательного внимания со стороны домочадцев.
Каким наш малыш будет через месяц, год, пять лет? Обсудив прогнозы, хорошо их записать, чтобы иметь возможность позднее проверить, вернуться к собственным предсказаниям, выявить ошибки, проанализировать их причины. Такая работа не пройдет даром, на нее не стоит жалеть затраченного времени. Ведь речь идет о выборе пути дальнейшего развития вашего ребенка.
В ходе научных исследований выявлено, что особенно трудно родителям бывает определить сферу интересов своего ребенка, его намерений, замыслов. Вот сегодня учительница в первом классе говорит маме, что ее Алеша – ответственный, послушный мальчик, с ним никаких хлопот. И воспитательница в детском саду говорила то же. Как будто можно не беспокоиться, но чуткая мама видит, насколько ее сын тревожен, не уверен в себе, как нестойки его замыслы, переменчивы настроения, не сформированы интересы. И мать вновь и вновь задается вопросом о том, что стоит за внешней дисциплинированностью сына, к чему приведет его зависимость, несамостоятельность, если не найти их причины, не попытаться обнаружить корни его намерений и стремлений.
Что же, спросит читатель, если не развивать у себя способности к прогнозированию, мой ребенок не станет индивидуальностью? Разумеется, станет. И, возможно, индивидуальностью яркой и значительной. Только в этом становлении будет превалировать стихийность. Значимыми могут оказаться совсем не те примеры, не те влияния, которые желательны.
Индивидуальность не только сегодня, но и завтра, а точнее вчера, сегодня и завтра, в прошлом, настоящем и будущем – вот та система координат, в которой желательно, чтобы родители постоянно представляли своего ребенка.
На чем основывается индивидуальный подход к малышу? На знании задатков и возможностей ребенка? Или на умении предвидеть последствия воспитательных воздействий? Или, может быть, на определении влияния конкретной ситуации на малыша? И в том, и в другом, и в третьем. Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Правильно поступают те родители, которые совместно выбирают такую воспитательную стратегию, которая бы максимально отвечала индивидуальным особенностям их ребенка и способствовала его развитию. Каждая стратегия предполагает целую серию определенных тактических приемов, неодинаковых для разных детей.
Рассмотрим, например, какие тактические приемы могут применяться в стратегии преодоления излишнего упрямства у детей. Представим ситуацию, знакомую всем родителям, дети которых посещают детский сад. На родительском собрании молодая воспитательница жалуется на упрямство сразу нескольких детей.
Мама Оксаны удивлена, услышав в этом списке фамилию дочери. Откуда строптивость у сдержанной, послушной девочки? Оказывается, привыкшая к мягкому, спокойному общению в семье, к ласковому тону прежней воспитательницы, которой пришлось уехать и передать группу недостаточно опытной коллеге, Ксюша воспринимает раздраженный тон новой воспитательницы как личную обиду. И хотя Анна Семеновна так разговаривает не персонально с Оксаной, а со всей группой, девочке кажется несправедливым, что на нее кричат. И в ответ она отказывается одеваться на прогулку, идти на музыкальные занятия, стоять в паре со своей подругой Олей и вообще выполнять любое распоряжение старшего. Упрямство в данном случае – вовсе не черта характера, не вредная привычка, которую следует искоренять, а ситуационный протест против бестактного обращения воспитателя, причем протест вполне мотивированный.
У Евы, на которую тоже жалуется Анна Семеновна, другие причины для непослушания. До шести лет она не посещала дошкольное учреждение, воспитывалась у бабушки и дедушки, которые души в ней не чаяли, формируя у девочки чувство собственной исключительности, одаренности, вседозволенности. Девочка не слушает воспитательницу потому, что ее требования обращены ко всем, а не персонально к Еве. Она так не привыкла. Девочке хочется, чтобы внимание взрослого переключилось наконец на нее, чтобы именно с ней поговорили, а если этого не происходит, то и распоряжения воспитательницы можно и нужно игнорировать. Природа упрямства здесь иная. Это не ситуационный протест против грубости взрослого, а закрепленная реакция избалованного кумира семьи. С таким видом упрямства несколько труднее справиться, и тактика воспитательных воздействий будет совсем другая.
Тихого, болезненного Дениса воспитательница тоже называет упрямым, непослушным, неуправляемым. Слышать это странно не только его родителям, но и тем взрослым, которые знают ребенка не первый год. Денис ходит в дошкольное учреждение с полутора лет, и его никогда не ругали. Правда, в этом году он много болел, не посещал детский сад около двух месяцев, даже лежал в больнице. Может, отвык от требований? Скорее всего, дело не в этом. У ослабленного, болезненного ребенка упрямство становится проявлением сильного переутомления.
Спросите воспитательницу, замечала ли она, что после выходных или праздников с Денисом нет никаких хлопот, а к концу недели непослушание нарастает. Если да, значит, можно прогнозировать, что и утром нарушения поведения у ребенка будут реже, а вечером – чаще. От чего устает Денис? От общения со сверстниками, от большого количества людей вокруг, от шума, разговоров, суеты, впечатлений. Преодоление строптивости этого рода предполагает изменение режима ребенка, организацию дополнительных выходных, когда ему не надо идти в детский сад. Любой комплекс оздоровительных мероприятий в данном случае будет уместным и эффективным не только для укрепления здоровья ребенка, но и для преодоления непослушания, строптивости.
Упрямство может оказаться реакцией на тяжелые, неприятные переживания. У Славика в семье нелады, часто бывают скандалы, бурные выяснения отношений, которые ребенок переживает чрезвычайно болезненно. Ссоры мамы с папой невозможно забыть, от ожидания надвигающейся катастрофы никак не избавиться. И Славик отказывается выполнять распоряжения воспитательницы, спорит, возражает, замыкается в себе. Преодолимо ли такое упрямство, корни которого в семейном неблагополучии? Думается, вопрос этот скорее риторический.
Число примеров можно было бы множить и множить. Однако и теперь читателю ясно, что опыт сотрудницы, соседки, подруги в вашем конкретном случае может быть непригодным. Такой любимый многими родителями всемогущий Гугл, знающий ответы на все вопросы, в данном случае тоже не авторитет.
Торопиться с выводами, надеяться на универсальные, на все случаи жизни, рецепты – значит впадать в иллюзии, оказываться на ложном пути. В каждом конкретном случае следует самостоятельно анализировать специфические для вашего ребенка, непохожие, неповторимые условия его жизни, атмосферу в семье, свойства его индивидуальности, влияющие на формирование определенной черты характера, проявление отклонений в поведении.
Школа даже чаще, чем детский сад, ставит своими жалобами родителей в тупик. «Ваш сын дерется. Примите меры», – читает разгневанный отец запись в дневнике. Да, меры принять нужно, но не сгоряча, не сразу после прочтения неприятного сообщения. Сначала надо переключить себя на что-нибудь другое, отвлечься, «остыть». Затем желательно не торопясь разобраться, что же все-таки случилось. Почему сын дрался? Случайный это для него эпизод или он прибегает к подобным средствам выяснения отношений нередко? За что побил Гришу, с которым два года ходил вместе на плавание и никогда не ссорился?
Десятилетние мальчишки бросаются в драку по многим причинам: и в ответ на справедливое, но обидное замечание товарища, что, мол, подтягиваться на турнике не умеешь; и рассердившись на прозвища, которые сочиняет расшалившийся ровесник; и в ответ на оскорбление в адрес родителей; и в попытке защитить от старшеклассников друга. Только выяснив побудительные причины, мотивы проступка, взрослый сумеет найти правильное решение, привлечь сына на свою сторону, а не оттолкнуть его.
Как правильно сочетать поощрения и наказания? В первую очередь спросите себя, чем вы чаще пользуетесь. Каким из этих двух популярных и древних инструментов вы лучше владеете? Как поощряете и как наказываете? Умеете ли восхищаться, радоваться, хвалить или предпочитаете упрекать, ругать, обвинять?
Не торопитесь с ответом! Попробуйте лучше завтра с самого утра заняться самонаблюдением и зафиксировать все случаи, когда вы выразили в той или иной форме одобрение по отношению к окружающим: членам семьи, коллегам по работе, случайным попутчикам, покупателям в магазине, а когда, наоборот, сказали или подумали нечто отрицательное, далеко не поощрительное.
Предсказываю, что для многих такой эксперимент окажется малоприятным. Ведь придется убедиться в том, как непростительно редко мы находим теплые слова друг для друга, зато раздраженные реплики, резкие замечания, колкие шутки срываются с языка легко и привычно. Нам кажется, если находящийся рядом человек поступает правильно, это можно и не замечать. А вот когда он хотя бы частично неправ, следует тотчас указать на это. Получается, что мы часто живем в атмосфере скрытого и явного недовольства друг другом. В этой не вполне приятной среде растут и наши дети.
Между тем давно известно, что поощрения гораздо эффективнее наказаний. Когда нужно найти новый, оригинальный способ решения сложной проблемы, ученые организуют так называемый брейнсторминг, мозговой штурм. Все собравшиеся высказывают любые гипотезы, самые абсурдные и нелепые, однако высмеивать их, критиковать, поправлять строго воспрещается. И оказывается, что любой человек, не опасающийся негативных оценок в свой адрес, способен на подлинные творческие взлеты.
Другой пример – группы интенсивного обучения иностранному языку. Новые методы, приводящие к рекордно быстрому овладению речевыми навыками, также связаны с созданием максимально доброжелательного микроклимата. Ошибки никто не исправляет, замечаний не делает, за незнание не отчитывает. Наоборот, педагог постоянно выражает уверенность в исключительных дарованиях собравшихся, хвалит скорее за потенциальные, чем за реальные успехи. Атмосфера праздника, игры, творческой импровизации, господствующая в этих учебных группах, действительно пробуждает неизвестные самому человеку резервы памяти, вселяет веру в свои способности.
Оказывается, даже в отношении к самому себе, в самооценках удельный вес поощрений и порицаний определяет очень многое. Если вам приходилось обращаться к психотерапевту и обучаться некоторым приемам саморегуляции, вы, наверное, заметили, что формулы самовнушения, которые он предлагает, в большинстве своем не негативны, а позитивны. Они звучат как бы авансом, убеждая в возможности преодолеть заикание, вспыльчивость, страх перед аудиторией.
Как у вас с самоуважением? Умеете ли вы ежедневно уделять себе время и не чувствовать потом вину, что не потратили этот час на ребенка? Признаете ли, что имеете право на встречу с однокурсницей или старым товарищем, просто чтобы поболтать, выпить кофе, послушать музыку? Позволяете ли себе позаниматься английским, сходить в спортзал, в бассейн, в танцевальную группу? Проявляете ли терпение к собственным недостаткам, несовершенствам? Все это чрезвычайно важно для вашего ребенка. Только любя себя, вы способны по-настоящему любить своего малыша, дарить ему тепло, доверие, поддержку, принятие.
Поэтому не скупитесь на внимание и доброжелательность по отношению к себе. Почаще искренне и сердечно хвалите, подбадривайте себя. Верьте, что завтра у вас будут новые успехи в самом сложном искусстве – искусстве воспитания детей. Подмечайте даже самые маленькие ростки новых умений поддерживать контакт, поощрять сына или дочь, формировать у них уверенность в себе. Чем моложе ребенок, тем значимее для него положительные эмоции, одобрительные оценки, поощряющие ожидания взрослых, которые любят и уважают себя, развивают собственную индивидуальность.
О роли наказаний в воспитании говорить не хочется, потому что полностью исключить их из воспитательного арсенала не удается, а искать наименее вредные из них – неблагодарный труд. Не ругайте себя сильно, если сорвались и накричали на нашкодившего ребенка. Резкий окрик вспыльчивой матери точно приносит меньше вреда, чем многочасовая холодность более сдержанного отца. Наказания – это почти всегда проявление родительской слабости, растерянности, страха, неготовности к происходящему. Воспринимайте их как неизбежное зло и пытайтесь минимизировать.
Итак, формирование индивидуального, персонального подхода, которому посвящена эта книга, – не просто попытка найти его к тому или иному ребенку с учетом его специфических особенностей, психического состояния, мотивов поступков, отдаленных последствий сегодняшних воспитательных воздействий. Главное – доброжелательное, терпеливое, творческое отношение родителей к своим обязанностям, осознание ими своей гигантской ответственности за нового человека, его будущее, готовность постоянно учиться самому нелегкому из всех возможных родительскому труду.
Не останавливайтесь в поиске и развитии у своего ребенка скрытых, не до конца проявленных потенций, склонностей, стремлений, задатков. Важно родительское внимание не только к музыкальным или математическим способностям ребенка, его успехам в рисовании или футболе. Не менее важны для его будущего и способности к общению, пониманию состояния другого человека, саморегуляции, умение разрешать конфликты, преодолевать неприятности, переживать стрессы, которых немало на жизненном пути. Еще важнее – склонности ребенка к познанию чего-то нового, потребность учиться, развиваться, меняться, внутренне расти.
Правы ли родители, которые уверены, что при желании можно добиться от своего ребенка всего, сформировать любые навыки, развить какие угодно задатки? Им кажется, что они в силах вырастить именно ту индивидуальность, которую они себе вымечтали, которую воспринимают как наиболее привлекательную, успешную, эффективную. Возможно, правы другие, которые, наоборот, впадают в пессимизм и убеждают себя, что приходится принимать ребенка таким, какой он есть, что природу не перехитришь и весь путь психического развития малыша предопределен.
Кто ближе к истине? Те, кто засучив рукава формируют и переделывают своего ребенка, или те, кто, вздыхая и сокрушаясь, ничего не пытаются изменить? Мичуринцы-оптимисты слишком увлечены собственными радужными проектами и не готовы считаться со своеобразием рожденных ими детей. А пессимисты-фаталисты боятся вмешиваться в ход развития детской индивидуальности, не решаются на педагогические эксперименты, снимают с себя ответственность за происходящее в их семье.
Спор социологизаторов и биологизаторов продолжается не одно десятилетие. Социологизаторы отрицают всякое влияние природного, естественного начала на социализацию индивида и подчеркивают безраздельное господство внешней среды, воспитательных воздействий. Родители, которые исповедуют эту точку зрения, думают больше об организации условий развития малыша, чем о задатках и склонностях сына или дочери. Они не забывают о шведской стенке в детской, собирают книги и диски о развитии памяти, мыслительных способностей, музыкального слуха, однако ориентируются при этом преимущественно на свои собственные пристрастия, а не на интересы и возможности детей. Вспомним, к примеру, детство великого драматурга Мольера, отец которого, казалось бы, сделал все, чтобы его сын стал преуспевающим дельцом, а мальчик тем не менее пошел по другой дороге, которая привела его в театр.
Родители, бездумно перекраивающие своего ребенка на какой-то ими задуманный лад, нередко ограничивают, тормозят его развитие. Сказанное вовсе не означает, что не стоит специально развивать способности малыша. Важно только постоянно всматриваться в подрастающего человека, относиться с вниманием и уважением к его вкусам, увлечениям, успехам и неудачам, не навязывать чуждых ему направлений и темпов.
В противовес социологизаторам биологизаторы считают, что человек все равно беспомощен перед собственными слепыми и неотвратимыми инстинктами и влечениями, перед унаследованными пороками, а значит, педагогическая коррекция неправильного развития нецелесообразна. Что делать с внутренними, бессознательными, иррациональными силами, которые толкают малыша к совершению неправильных поступков? Эти силы следует вовремя подавить, заглушить, но говорить о возможности их видоизменения с точки зрения представителей этого направления нереально. Так находятся оправдания пассивности и безответственности взрослых: ведь с природными задатками все равно не совладать – зачем же тратить силы? Удивительно, что подобные взгляды распространены и по сей день, хотя наука еще в начале прошлого века доказала ошибочность подобных фаталистических концепций.
Внимательный читатель, сопоставив подходы биологизаторов и социологизаторов к развитию личности ребенка, отметит их похожесть при всей внешней полярности взглядов. В чем она состоит? В том, что и для одних, и для других ребенок оказывается игрушкой, пассивным объектом чьих-то воздействий. А ведь человек с самого рождения не марионетка, он активен в постижении мира, в определении своего жизненного пути.
Правы родители, верящие в силу тактичного, любящего, терпеливого и последовательного вмешательства в становление детской индивидуальности. Они одновременно не забывают и о том, что дано от природы, о потенциях, задатках, способностях, сегодняшних и завтрашних возможностях ребенка, его сильных и слабых сторонах. Ставить вопрос о том, ближе ли к истине биологизаторы или социологизаторы, по всей видимости, не стои́т. Продуктивнее определить те области, которые детерминируются преимущественно изнутри, и сферы, в большей степени подчиненные внешним влияниям.
Классический пример с детьми-маугли, как их обобщенно называют, выросшими среди животных, показывает, что никакой биологически заданной программы развития у человеческого детеныша нет. Нужны подлинно человеческие условия для вхождения ребенка в социальный мир, и здесь трудно переоценить роль окружающей среды. Человека из отсталого племени, находящегося на уровне чуть ли не первобытно-общинного строя, можно воспитать практически так же, как и любого ребенка из цивилизованных стран, если начать это делать достаточно рано, последовательно и определенно. В 1938 году французский этнограф Ж. Виллар во время научной экспедиции в Парагвае подобрал на брошенной стоянке двухлетнюю девочку, предположительно, из очень древнего племени гуанквилла и отвез на воспитание к своей матери. Через двадцать лет девочка стала ученым-этнографом, свободно владеющим тремя языками. О чем говорит эта история? О том, что природные качества дают очень широкие возможности для дальнейшего психического развития.
Биологические предпосылки становления индивидуальности не порождают никаких психических качеств, а только создают условия для их развития в нужном направлении. Природные особенности ребенка накладывают отпечаток на форму выражения свойств характера, скорость их формирования, то есть на динамику психической деятельности. А социальные предпосылки задают целевую программу, определяют содержание, качество происходящих с подрастающим человеком изменений.
Практикум для родителей
Задание 1
Проанализируйте, как вы относитесь к не похожим на ваши индивидуальным особенностям вашего супруга, родителей, друзей, сослуживцев. Попытайтесь ответить на следующие вопросы:
а) какие индивидуальные особенности моего мужа (жены, отца и др.) вызывают у меня удивление, недоумение, непонимание, недоверие?
б) какие индивидуальные особенности моих близких раздражают, затрудняют общение, приводят к конфликтам?
в) есть ли у моих близких такие черты, которые восхищают меня, вызывают желание подражать?
г) к каким чертам моих близких я абсолютно индифферентен, равнодушен?
Теперь попробуйте ответить на эти вопросы так, как, по вашему мнению, на них отвечал бы ваш супруг (супруга), затем ваши родители, знакомые, сослуживцы.
Сопоставьте полученные ответы с вашими. Обсудите результаты, сравните, насколько мы осознаем наши собственные индивидуальные особенности и их влияние на общение, совместную деятельность. До какой степени мы терпимы? С чем готовы примириться, а что вызывает протест, оказывается неприемлемым? Умеем ли мы, даже зная индивидуальные особенности друг друга, считаться с ними, дабы избегать недоразумений?
После такой разминки, повторять которую желательно раз в полгода-год, переходите к анализу индивидуальных особенностей своих детей. Не торопитесь посвящать их в ваши выводы и прогнозы, особенно если эти умозаключения не вполне оптимистичны. Главное – пытайтесь ответить на четыре предложенных выше вопроса с разных позиций: от своего имени, затем от имени второго родителя (матери, отца), позднее – бабушки, дедушки, воспитательницы в детском саду, тренера спортивной секции. Это поможет лучше понять вашего ребенка.
Итак, какие особенности вашей дочери (вашего сына) вас удивляют, вызывают недоумение, непонимание, недоверие?
Какие особенности вашего ребенка вас активно раздражают, затрудняют общение, приводят к конфликтам?
Чем вы восхищаетесь в своем ребенке? Чему в его поведении хотели бы научиться, подражать?
И наконец, есть ли в вашем ребенке такие черты, к которым вы совершенно равнодушны?
Лучше выполнять это задание письменно. Возьмите несколько листов бумаги и отвечайте от имени разных членов семьи и других взрослых, используя один лист для одной персоны. Потом у вас будет интересная возможность сравнить ваши ответы и ответы супруга, обсудить их, сопоставить.
Полезно вернуться к этому заданию через год. Не перечитывая давние ответы, попытайтесь снова пройти всю процедуру пошагово. Отвечайте на вопросы, касающиеся индивидуальных особенностей своего мужа (жены) и других близких. Только после такой разминки, имеющей самостоятельное значение для понимания социальной среды, окружающей вашего ребенка, следует переходить к ответам о сыне (дочери). Ну, а теперь следует достать прошлогодние ответы и сравнить со свежими. Что-то останется неизменным, но многое будет другим. Важно понять, о чем свидетельствует такая динамика, в каком направлении, по вашим прогнозам, возможны дальнейшие изменения.
Задание 2
Выделите из приведенных ниже качеств человека те, которые характеризуют его как личность, и те, которые, хотя и отражают индивидуальное своеобразие, к личностным особенностям не относятся. Обоснуйте свой выбор, обсудив его с супругом и другими взрослыми членами семьи.
Старательность, низкая адаптация к темноте, общительность, хорошая координация обеих рук, медленная скорость узнавания, большая эмоциональная возбудимость, трудолюбие, аккуратность, подвижность, быстрый темп деятельности.
Составьте самостоятельно несколько подобных перечней и предложите их бабушке и дедушке, друзьям семьи.
После описанной выше разминки переходите к анализу индивидуальности собственного ребенка, выделив в ее структуре наиболее значимые черты.
Это могут быть, например, жизнерадостность, конфликтность, нетерпеливость, щедрость, медлительность, небрежность, внимательность, отходчивость.
Попросите, чтобы участвующие в эксперименте взрослые предложили свои наборы характеристик, описывающих вашего ребенка. Вместе вам удастся ничего важного не упустить. В ходе обсуждения вы сумеете выделить ведущие, главные качества, понять, на что следует обратить внимание.
Ну, а теперь ответьте письменно на два вопроса:
1) Какие личностные особенности вашего ребенка следует развивать в первую очередь?
2) Какие свойства, качества вашего ребенка нуждаются в коррекции?
Данное задание тоже следует выполнять раз в год – например, в канун дня рождения ребенка. Таким образом вы сможете отслеживать все изменения, мониторить ситуацию и вовремя менять воспитательные стратегии.
Задание 3
Представьте свою жизнь как киноленту. Какие кадры из нее хотелось бы вырезать, а какие – сохранить, увеличить, сделать повтор, показать крупным планом? Попытайтесь дать себе отчет в том, как нежелательные воспоминания (кадры, которые хотелось бы удалить) в свое время сказывались на становлении вашей индивидуальности.
Затем проанализируйте события, которые вам и сейчас приятно вспомнить, о которых вы с удовольствием рассказываете своему супругу, товарищам. Какие из этих происшествий – позитивно окрашенные или негативные – в большей степени повлияли на вашу индивидуальность?
Знаете ли вы о столь же значимых событиях в жизни вашего сына, дочери? Попробуйте их расспросить. Иногда полезно взять игрушечных персонажей и задать ребенку вопросы об этих куклах, роботах, медведях. Что они хотели бы забыть? Чего стыдятся или боятся? Что им в своей жизни так нравится, что они любят об этом рассказывать?
Сопоставьте свои предполагаемые оценки значимых событий в жизни своего ребенка с оценками других членов семьи, а потом и с его собственными. Полученные результаты вас удивят и заставят задуматься.
Задание 4
Ответьте на вопрос: «Какой я?», используя 5–7 прилагательных. Располагайте подбираемые определения в столбик, ранжируя свои индивидуальные особенности, личностные качества. Начинайте с наиболее существенных, самых главных.
Затем составьте такой «портрет» своего супруга, других членов семьи.
Вернитесь к этому упражнению через месяц и, не заглядывая в ранее подобранные характеристики, ответьте на вопрос: «Какой я?» – заново. Сравните полученные результаты. Определите устойчивые и ситуативные качества. Это задание желательно выполнять систематически, поскольку оно не только способствует самопознанию и более правильному восприятию своих близких, но и помогает правильнее понимать своего ребенка.
Попытайтесь ответить на тот же вопрос относительно собственных качеств и свойств, только от имени вашего супруга, как если бы он заполнял анкету вместо вас. Попросите его действительно проделать эту операцию и сравните полученные данные. Отнеситесь с юмором к неожиданностям и недоразумениям, возникающим во время таких упражнений.
Только после всесторонней разминки переходите к составлению подобного списка качеств вашего ребенка. Сделайте три-четыре варианта этих списков с интервалом в одну-две недели, прежде чем переходить к обсуждению полученных результатов с другими членами семьи.
Детство физическое и социальное
В семье сосуществуют люди разного возраста, их воспоминания о детстве совсем не похожи, и от этих воспоминаний во многом зависит отношение к детям, оценки их поступков, ожидания успехов. Взрослые не всегда отдают себе отчет в том, насколько значимо все, что происходит с их ребенком в раннем возрасте, какой глубокий след первые годы жизни оставляют в памяти, как влияют на последующий жизненный путь. Помочь родителям оценить реальный психологический возраст их ребенка, определить причины ускоренного или запаздывающего развития, особенности перехода сына или дочери с одной возрастной ступеньки на другую – вот основная задача предлагаемого вниманию читателей раздела.
Психологический возраст ребенка
Что такое возраст? Влияют ли возрастные особенности на формирование индивидуальности?
Каждый взрослый ответит на эти вопросы по-своему. Один скажет, что возраст – просто стадия, ступенька развития, на которой по-новому проявляется детская индивидуальность, изначально программируемая наследственностью, семейной атмосферой, воспитательными усилиями. По мнению этого человека, ребенок автоматически продвигается по возрастной лестнице, реализуя с бо́льшим или меньшим успехом имеющиеся у него задатки. Как поезд, идущий по расписанию. Другой возразит: откуда же в таком случае неожиданные повороты, опоздания и ускорения в психическом развитии сына или дочери? Чем объяснить качественные скачки, которых никто заранее не мог предугадать? Этот взрослый будет доказывать, что каждый возраст не похож на предыдущий, что он таит в себе сюрпризы, не всегда радующие родителей.
Интересно проследить, как сразу же находят взаимопонимание только что разговорившиеся супружеские пары, когда выясняют, что и у тех, и у других дети – шестилетки, которым завтра в школу. Сколько общих проблем обнаруживают случайные попутчики в поезде или самолете, имеющие детей-подростков! Значит, при всех индивидуальных отличиях все-таки существуют особенности возраста как самостоятельной эпохи, внутри которой всегда проходит центральная линия развития, становления индивидуальности.
Приходя на консультацию к психологу, родители рассказывают, что у старшего сына дошкольное детство прошло относительно несложно, бесконфликтно, зато с первых школьных дней начались проблемы, а младший с ясельного возраста плохо адаптируется в детском коллективе, никак не может приспособиться к требованиям дошкольного учреждения и заставляет семью по-новому взглянуть на казавшийся им прежде безоблачным возрастной период.
Тот или иной возраст мы все переживаем по-разному. Для каждого ребенка и взрослых членов его семьи ступеньки возрастной лестницы как будто разной крутизны. На некоторых этапах ход психического развития замедляется, а другой период ребенок проскакивает стремительно, почти незаметно для окружающих. Своеобразие переходов от одного возраста к другому, разные значимость, интенсивность, наполненность для любого человека того или иного возрастного периода свидетельствует о том, что психическое развитие вряд ли стоит воспринимать как естественный биологический процесс, внутри которого существуют некие абсолютные, неизменные стадии.
Существует возраст, отмеряющий физическое время жизни индивида с момента его рождения. Его можно назвать, к примеру, метрическим, или паспортным, потому что именно эти документы фиксируют дату рождения человека. Есть у каждого из нас и другие, не зависящие от даты рождения характеристики, которые иногда называют психологическим, личностным, социальным возрастом.
Может, в паспорте молодой мамы значится 30 лет, а на самом деле она выглядит и чувствует себя максимум на 23, потому что до сих пор не понимает, чем будет заниматься в жизни, не чувствует финансовой независимости, личностной автономности, самостоятельности. А у ее мужа в паспорте записано 42 года, тогда как он, уставший, перегруженный на работе, разочарованный отношениями в семье, чувствует себя на все 55.
Психологический и биологический возраст – далеко не одно и то же. Если о биологическом можно судить по появлению и смене зубов – к примеру, выделяя беззубое, молочнозубое и, наконец, постояннозубое детство, – то возраст психологический подобными вехами обозначить не удается. Почему? Попробуем разобраться в этом с помощью простого приема.
Возьмите лист бумаги и укажите на нем схематически, в виде вертикальной прямой, весь свой жизненный путь от рождения до сегодняшнего дня, а затем и до неизбежной в отдаленном будущем смерти. Теперь разбейте этот путь на произвольное число отрезков так, чтобы они соответствовали основным, по вашему мнению, возрастным этапам. Напишите, как бы вам хотелось назвать каждый из периодов традиционно (детство, отрочество, юность, молодость, зрелость, старость) или, может быть, как-то иначе (родители, школа, товарищи, любовь, семья, дети, внуки). Посмотрите, в каком месте вертикальной прямой вам кажется правильным обозначить свой нынешний возраст, сколько ступеней уже позади, а сколько – в будущем.
Если бо́льшая часть графика относится к прошлому, а вы еще не достигли среднестатистической зрелости, значит, ваш психологический возраст по каким-то причинам опережает паспортный. Если многое еще впереди, в то время как по паспорту половина жизни в прошлом, – вы моложе своих реальных лет. Более точные расчеты можно произвести, обратившись к специальной литературе по этой проблеме.
Психологическое старение совсем не обязательно совпадает с появлением морщин и седин. Речь, скорее, идет о множестве привычек, стереотипов в мышлении и поведении, о гибкости или жесткости мировосприятия, готовности или неготовности осваивать что-то новое, меняться, об ощущении себя творцом собственной жизни, ее автором, архитектором.
Вернемся к нашему графику, обозначающему жизненный путь. Представим себе каждый из обозначенных нами возрастных периодов – и прожитый, и еще не наступивший – и попытаемся быстро, не задумываясь, написать три – пять приятных словосочетаний, которые у нас с этим этапом ассоциируются. Затем надо будет написать столько же негативных слов или выражений, которые могли бы ассоциироваться с этим возрастным периодом.
Например, дошкольное детство может ассоциироваться с дедушкиными песнями, бабушкиным тортом, отдыхом на море, клубникой и конфетами в позитивном ключе, а в негативном – со стоматологом, страшным индюком, пенкой на молоке, детским садом, трудностями, связанными с рождением брата. А начальная школа ассоциируется, например, с любимой учительницей, детскими праздниками, новогодним костюмом, новыми друзьями, театром на позитивном полюсе и с кучей уроков, плохим почерком, первой дракой, бабушкиной болезнью – на негативном.
Если так ассоциативно описать все возрастные этапы, то станет ясно, как они своеобразны для каждого из нас. Сравнив свои ассоциации с ассоциациями супруга (супруги), по-новому представляешь свою жизнь, понимаешь, почему ты именно такой сегодня, чувствуешь, чего недостает, с чем приходится в себе мириться, а что все-таки необходимо переделать, изменить. Постарайтесь уговорить всех взрослых членов семьи – папу и маму, бабушек и дедушек – сопоставить свои графики. Вы будете поражены пестроте картины. Окажется, что воспоминания о раннем, дошкольном и школьном детстве, юношестве у всех очень разные. Не менее разнообразной окажется и картина сегодняшнего жизненного периода, и ожидаемое будущее.
Угадать, когда наиболее ярко раскрывается индивидуальное своеобразие, трудно. Что запомнится ребенку на долгие годы, а что не окажет на него никакого влияния, покажет время. Нетрудно сделать вывод, что определить психологический возраст по какому-то универсальному, применимому для всех, одинаковому признаку нереально.
Психологический возраст – это наше отношение к своему паспортному, метрическому возрасту, это переживания и размышления по поводу собственного запаздывания или, наоборот, ускоренного движения по жизненному пути, это поиск смысла каждого возрастного этапа.
В переживания по поводу возраста включается многое: и отношение к тому, сколько нам лет на сегодня уже исполнилось, и оценка того, как мы прожили предыдущие этапы, и предвидения будущего, ожидания того, каким будет следующий жизненный этап, что мы успеем к этому возрасту. Психологический возраст – это ни в коем случае не возраст нашего организма. Он очень индивидуален и отражает отношение человека к себе, оценку своей реализованности, степень удовлетворенности собой на разных отрезках жизненного пути.
Может быть, кому-то из родителей покажется, что возраст – нечто условное, раз вехи жизненного пути мы только что расставляли произвольно, как кому вздумается. На самом деле, кроме произвольных, существуют и достаточно объективные, типичные для большинства вехи, разграничивающие разный возраст. Эти вехи могут быть расставлены не в любых точках жизненного пути ребенка, а исключительно и единственно в тех, в которых заканчивается один и берет начало другой возраст. Существуют определенные показатели смены возрастных этапов, на каждом из которых создаются благоприятные условия для вполне определенных проявлений индивидуальности.
Чем беспроблемнее происходит развитие ребенка, чем более комфортно он себя чувствует в семье, тем реже выказывает желание быть старше или моложе своих лет. Здоровому и счастливому ребенку хорошо в настоящем, сегодня – здесь и теперь. Правда, ему хочется взрослый велосипед, скейт, новый гаджет, который есть у старшеклассника. Его привлекает свобода, когда родители уже не провожают в школу и не встречают после нее. Когда можно в воскресенье поехать к другу в другой район, оправиться на концерт, который точно не понравится родителям. То есть будущее все же выглядит для большинства детей заманчиво и привлекательно.
Но некоторые совсем не жаждут поскорее вырасти, они боятся взрослеть. Примерно каждый третий ребенок, если верить специалистам-психоневрологам, желает оставаться таким, как есть. Или чуточку старше, но не взрослым. Переведенная на многие языки книга Джеймса Барри о Питере Пэне, художественный и мультипликационный фильмы, театральные спектакли о нем не случайно так популярны. Беззаботный ребенок, навсегда оставшийся в одном возрасте, вызывает симпатию у детей и, безусловно, настораживает их родителей.
Спросим себя, хочется ли нам вернуться в детство, помолодеть лет на двадцать. Если хочется, значит, не все благополучно в настоящем, значит, об удовлетворенности жизнью, о самопринятии говорить на данной возрастной ступеньке не приходится. Оказывается, чем более счастливым, реализованным человек себя чувствует, тем меньше у него желания возвратить прошлое, даже если он считает свое детство совершенно прекрасным и родителей оценивает сугубо положительно.
Физическое детство, то есть период созревания организма, тесно связано с детством социальным, с вхождением в человеческий мир. Традиционно физическое детство характеризуется зависимостью от взрослых и продолжается относительно недолго. Оно определяется развитием организма до того уровня, когда индивид оказывается способным к продолжению рода.
Несколько веков назад считалось, что если ребенок может обходиться без постоянной заботы матери, няньки, кормилицы, то он уже вырос. У низших животных вообще нет периода детства; рождаясь, они владеют практически всеми необходимыми для существования инстинктивными формами поведения. Чем сложнее по своей биологической организации вид, тем более длительный период его новорожденному представителю нужен для того, чтобы при помощи взрослых особей овладеть прижизненно формируемыми способами реагирования на окружающее, сформировать не передаваемые по наследству механизмы взаимодействия с миром.
Ребенок появляется на свет самым неприспособленным, самым уязвимым существом. Его не спасут инстинктивные программы, если рядом не окажется внимательный, чуткий взрослый. Почему природа распоряжается столь несправедливо? Почему Гадкий Утенок из знаменитой сказки Андерсена смог выжить в совершенно чужом и даже враждебном мире, а представитель высшего рода, человек разумный, весь во власти случайных обстоятельств? Такой первичной несвободой человеческий детеныш расплачивается за дальнейшую свободу, за неограниченность возможностей последующего развития. У животных жесткие наследственные предписания ограничивают дальнейший жизненный путь, а у человека таких непреодолимых рамок просто нет. Отсутствие предопределенности каждого шага оборачивается богатством выбора.
В далекие исторические эпохи, которые мы называем детством человечества, все взрослели стремительно, потому что для индивидуального детства времени почти не предусматривалось. Да и сейчас в обществах, стоящих на более ранних этапах развития, малыши очень быстро и органично включаются в трудовую деятельность взрослых, воспринимая себя полноправными участниками семьи, общины, племени. А вот в странах высокоразвитых несамостоятельное детство становится все более и более продолжительным. И это имеет как положительные, так и отрицательные последствия.
Инфантильность, несамостоятельность, безответственность, иждивенческие настроения молодежи, на которые жалуются взрослые, – это оборотная сторона преимуществ цивилизации. Современное общество может себе позволить роскошь детства, измеряемого двумя, тремя, а то и четырьмя десятилетиями. За это время человек успевает очень многое попробовать, многому научиться, но одновременно он непростительно долго остается не у дел. И тогда говорят о синдроме Питера Пэна, когда, например, тридцатипятилетний мужчина все еще не готов к созданию семьи, все еще не хочет брать на себя ответственность за отношения с любимой девушкой.
Психологический возраст наших сегодняшних соотечественников в большинстве своем ниже паспортного, причем у многих эта тенденция сохраняется на протяжении всей жизни. Никого не удивляют выступающие с экрана молодые ученые, политики, прозаики или художники, которым почти сорок. Все уже начали привыкать к активной творческой зрелости, длящейся до семидесяти и позже, тогда как в поколениях наших бабушек и дедушек детство, юность, молодость и зрелость заканчивались гораздо раньше.
Ведущая деятельность – вот что определяет ту или иную стадию возрастного развития. В детстве ведущей деятельностью является игра. И пока есть возможность жить играючи, перебирать разные роли, менять предпочтения, путешествовать, тусоваться, у молодого человека будет продолжаться психологическое детство, сколько бы ему ни было на самом деле лет. А когда появится потребность ни от кого не зависеть, самореализовываться, зарабатывать на жизнь самостоятельно, когда ответственность за происходящее, в том числе и финансовая, материальная, уже не будет лежать на чьих-то чужих плечах, можно говорить о зрелости.
Социальное детство зависит от общественно-исторических условий, в которых развивается ребенок. Прожив собственное детство, он должен стать не просто половозрелым индивидом, а полноправным членом общества, гражданином, личностью. Чтобы полноценно жить в обществе, человеку совершенно недостаточно того, что дается от рождения. Очень многое еще надо выучить, понять, развить и достроить.
В развитии каждого человека есть так называемые сензитивные периоды. Это этапы особой восприимчивости, чувствительности, отзывчивости на совершенно определенные внешние влияния. Если такой благоприятный период почему-либо упущен, наверстать, догнать сверстников на других возрастных этапах уже достаточно сложно. Например, есть этапы развития речи и формирования коммуникативных навыков. Пытаться развивать определенные умения раньше, чем наступит сензитивный период, нецелесообразно. Лучше дождаться, когда человек будет полностью готов и сможет легко и радостно чему-то научиться.
В детском возрасте, когда закладывается стиль жизни, устанавливаются основы для последующего развития, сензитивных периодов особенно много. На втором-третьем году малыш с фантастической скоростью овладевает одним или даже двумя-тремя языками, если растет в атмосфере многоязычия, когда члены семьи говорят с ним и по-украински, и по-русски, и, к примеру, по-английски. Те, кто начал изучать английский, уже будучи взрослым, хорошо знает, сколько времени и сил требуется для овладения им хотя бы частично, в то время как в детстве все происходит почти незаметно для малыша. То же самое и с обучением чтению в старшем дошкольном возрасте или фигурному катанию, езде на велосипеде.
Справедливости ради отметим, что при всей важности сензитивных периодов для психического развития ребенка и в них существуют значительные индивидуальные отличия. Мир знает и талантливых фигуристов, и виртуозных скрипачей, и невероятно одаренных танцоров, которые начали обучение гораздо позже общепринятых сроков. Есть и люди, знающие множество языков, которые в раннем детстве усваивали лишь один.
Вы можете сказать: «Так сообщите нам точно, когда и чему учить, какой возраст сензитивен для наших влияний, и тогда семья наконец сможет выполнять возложенную на нее функцию первого и важнейшего института социализации!» Переадресую любознательных родителей к системе Марии Монтессори, чтобы многое узнать о сензитивном периоде восприятия ребенком порядка, например, который длится от рождения до трех лет. Важно структурировать окружающую среду, чтобы ребенок привык, что посуда находится на кухне, одежда – в шкафчике, игрушки – в специальном контейнере на полке. Не менее важно усвоить порядок во времени, приспособиться к определенному ритму дня: знать, когда завтрак, когда прогулка, когда папа приходит с работы, когда дети ложатся спать.
Вы замечали, как негодует ваш малыш, когда кто-то из взрослых пытается по-своему пересказать известную сказку? Понятно, что вам надоедает много раз читать ребенку перед сном одно и то же, а он требует повторения знакомого сюжета – и вы пытаетесь что-то менять, импровизировать. Но с креативностью пока лучше подождать.
Если ребенку 2–3 года, он чаще всего хочет порядка, предсказуемости, привычности. Позже будут приветствоваться вариации на знакомые темы, будет развиваться воображение. А пока длится сензитивный период восприятия порядка, что предполагает ежедневное неукоснительное удовлетворение взрослыми детской потребности в стабильности, устойчивости, узнаваемости мира.
А как важно не упустить возможность в раннем детстве приучить малыша к порядку в предъявлении родительских требований! Ребенок должен привыкнуть, что одно и то же требование звучит всегда, независимо от маминого утреннего настроения или папиной вечерней усталости. Тогда он быстро и с удовольствием учится самостоятельно собирать игрушки и одеваться на прогулку или перед сном переодеваться в пижамку, чистить зубы, желать всем спокойной ночи, ложиться спать.
Намного легче подготовить к будущему посещению детского сада ребенка со сформированным чувством порядка, чем малыша, живущего в неорганизованной домашней среде. Без приносящего удовольствие чувства порядка период адаптации к дошкольному учреждению будет слишком затяжным и сложным, а желание любой ценой остаться дома в конце концов перевесит.
Не будем забывать, что возраст трех лет у одного ребенка может совершенно не соответствовать этому возрасту у другого. Поэтому, даже изучив систему Монтессори, составив себе таблицу сензитивных периодов, вы не сможете отказаться от углубленного изучения особенностей развития вашей маленькой девочки, вашего непоседливого сыночка. У каждого ребенка собственный психологический возраст, своя скорость перехода от одного этапа к другому, по-своему протекающая смена ведущих типов деятельности.
Тем не менее желательно знать, какие именно сензитивные периоды еще впереди. Тогда будет легче уловить момент готовности ребенка к усвоению новых знаний и умений, заметить его заинтересованность и помочь расширению словарного запаса или удовлетворению такой важной потребности в движении, ощущении возможностей своего тела.
Немалую роль в развитии индивидуального своеобразия ребенка играет понимание каждой конкретной семьей на том или ином этапе своей основной задачи. Иногда мы сами не замечаем, как начинаем уделять внимание формированию определенного навыка, и видим ощутимые успехи. Почему? Да потому, что у нас есть осознанные и неосознанные ожидания в отношении своих детей. Каждый родитель имеет определенные представления о том, каким должен быть его ребенок в том или ином возрасте, чего от него ждать и требовать, за что поощрять, чем восхищаться.
Малышка удивляет гостей своим умением безошибочно отличать манную крупу от пшеничной или овсяной, муку – от сахара или соли. Она может самостоятельно насыпать кофейные зерна в электрическую кофемолку и смолоть их, а затем пересыпает кофе в кофеварку. Что это – природные задатки будущей хозяйки? Или мамино горячее желание поддержать в своей маленькой помощнице интерес к кухне и совместной деятельности? Разумеется, второе.
Большинство детей примерно в одно и то же время начинают ходить или говорить, читать или влюбляться в сверстников не только потому, что созревают определенные внутренние предпосылки, но и потому, что взрослые решают про себя: «Пора». Когда семья единодушно ожидает очередных достижений и поступков от ребенка, когда все взрослые уверены, что вот-вот наступит счастливый миг, создается какая-то особо благоприятная атмосфера, провоцирующая качественный перелом, скачок в развитии малыша.
Выходит, главное – договориться между собой о том, чего желать от ребенка на каждом возрастном отрезке жизненного пути? Такой радужный идеализм вряд ли найдет много приверженцев. Трезвые читатели справедливо возразят, что родительские желания должны, как минимум, соответствовать возможностям ребенка, его готовности, направленности, интересам. Это действительно так. Чтобы ориентироваться в этих возможностях, мы и поговорим об индивидуальном темпе психического развития детей, о скорости прохождения ребенком конкретных возрастных стадий.
Что же касается влияния семьи на психическое развитие ребенка, то рискнем утверждать, что правильные представления взрослых об особенностях того или иного возраста, вера в своих детей, терпение, умение своевременно поддержать их, не дать оступиться – залог успеха.
Спринтеры и стайеры
Одни дети развиваются быстро, удивляя и радуя родителей, вселяя в них надежду на особую одаренность, необыкновенность сына или дочери. Они поразительно легко овладевают чтением, быстро считают в уме, обыгрывают в шахматы взрослых, рифмуют, музицируют. Другие на акселератов совсем не похожи, их развитие скорее запаздывает, общая активность по сравнению со сверстниками снижена, познавательные интересы не выражены, потребность в общении проявляется неярко. Значит ли это, что задержки психического развития необратимы? Что в дальнейшем ребенок, который с самого раннего возраста отставал от сверстников, обречен на неуспеваемость в школе, непризнание со стороны товарищей, прозябание во взрослой жизни? Отнюдь нет.
Темп психического развития – величина неоднозначная. Нередко оказывается, что человек, в детстве считавшийся вундеркиндом, позднее ничем не выделяется среди далеко не так бурно развивавшихся в раннем возрасте товарищей. А тот, кто позже других усвоил премудрости грамоты или счета, со временем вдруг превратился в Эйнштейна. Сказанное не означает, что родители могут не уделять внимания тому, как развивается их малыш. Ведь отношение к ребенку, формы сотрудничества, принятые в семье, во многом определяют, задают темп его развития.
В социальных сетях, на телевидении все больше внимания уделяется здоровой семье, объединяющей родителей-единомышленников. Публикуются материалы, выходят в прямой эфир передачи, ведутся онлайн-дискуссии о плюсах и минусах закаливания, целенаправленного и интенсивного физического развития ребят. Совместные туристические походы, занятия бегом, плаванием, другими видами спорта объединяют взрослых и маленьких членов семьи.
Влияет ли физическое развитие на темп развития психического? Без сомнения! Крепкий и выносливый ребенок, как правило, эмоционально уравновешеннее, подвижнее, любознательнее, чем истощенный, подверженный всевозможным заболеваниям. Физически развитый малыш легче адаптируется к новой няне, смене погоды, незнакомой еде, длительным авиаперелетам. У него больший энергетический ресурс, больше запас сил, чем у ребенка физически слабого и не вполне здорового.
Трудно сказать, что важнее в опыте здоровых семей: сам по себе здоровый образ жизни, интерес к спорту или дружная атмосфера, теплые взаимоотношения между участниками происходящего, микроклимат, в котором растет малыш. В зависимости от привычек и склонностей родителей, их вкусов и пристрастий ребенка либо окружают чуть ли не с младенчества буквами и цифрами, украшая стены детской азбукой, в том числе на иностранных языках, либо учат раньше плавать, чем ходить, либо берут с собой в байдарочный поход, когда сыну едва минуло полгода. Усилия взрослых обычно не безрезультатны: та сфера, которой уделялось больше внимания, развивается несколько быстрее.
Однако очень хочется напомнить: главное – индивидуальность вашей крохи, ее разноплановость, многосторонность. Искусственное форсирование темпа психического развития не беспредельно. Возможны искажения самой динамики развития, запаздывание отдельных структур и функций за счет чрезмерного увлечения тренировкой других. Кроме того, бросающаяся в глаза непохожесть ребенка на сверстников в раннем и особенно в дошкольном возрасте препятствует формированию у него навыков общения, взаимодействия, что не может не сказаться на дальнейшем личностном развитии.
Ученые установили, что общение с малышом, который еще находится в утробе матери, также заметно влияет на его дальнейшее развитие. В 1971 году швейцарский психолог Ханс Густав Грабер стал инициатором проведения первой международной конференции по пренатальной и перинатальной психологии в Вене. Предметом изучения этого научного направления является влияние воспринятых человеческим плодом во время беременности впечатлений на стиль поведения ребенка в дальнейшей жизни, влияния общения с матерью на его эмоции, восприятие, память. На сегодня известно, что еще не родившийся ребенок может получить принятие от беседующей с ним мамы, много позитивной информации о том, как его любят, какой он замечательный, и это будет способствовать более яркому проявлению его задатков и способностей. А вот нежеланный ребенок, «впитывающий» негативные высказывания взрослых, может настолько насытиться травматичными эмоциональными впечатлениями, что ход его дальнейшего развития будет существенно затруднен.
Детские неврологи в последнее время самой распространенной родительской жалобой считают гиперактивность детей, невозможность сосредоточиться, сконцентрироваться, что очень мешает обучению и общению. Как оказалось, причиной может быть тревожность матерей во время беременности, которая существенно повышает риск гиперактивности ребенка в 7–9-летнем возрасте. На возникновение аутизма, как выяснилось, тоже влияют сильные стрессы, пережитые матерью, вынашивающей ребенка, – например, смерть мужа или потеря работы. Навязчивые состояния, всевозможные страхи детей также могут быть следствием их неблагополучного внутриутробного развития.
Многие психосоматические расстройства, такие как энурез, астма, нейродермит, сложные сексуальные особенности и проблемы, которые проявятся в будущем (гомосексуальность, импотенция, фригидность), имеют пренатальные корни. Эти расстройства связывают с «напряженными отношениями» между плодом и его матерью. Особенно страдают дети, которые для родителей по разным причинам не были желанными. У таких детей в дальнейшем фиксируют трудности в общении, невысокую жизнерадостность, повышенную обидчивость, неуверенность в себе, несформированную отзывчивость, агрессивность, конфликтность, огромную потребность в признании, ради которого возможны даже криминальные действия.
У маленького ребенка время жизни чрезвычайно насыщено. Новорожденный, который еще совсем мало времени бодрствует, зависим практически от каждого такого часа своей жизни, когда он получает новые впечатления. Мы иногда не помним целые месяцы, а то и годы своего взрослого, зрелого существования. Нам кажется, что в структуре нашей индивидуальности подолгу ничто не меняется. Но чем моложе человек, тем стремительнее темп его развития. И для младенца каждый день на счету.
Научно установлено, что если малыша начали кормить через 20–30 минут после рождения, то условные пищевые рефлексы на прикосновение к коже, изменение положения головы, туловища, рук, ног при кормлении образовывались уже на второй день жизни. Если в первый раз ребенка покормили через 12 часов после рождения, некоторое первичное запаздывание развития составило уже почти неделю. Условные рефлексы регистрировались не на второй, а на 6–8-й день жизни. Если же новорожденного по каким-то причинам приносили матери для кормления через 16–20 часов после родов, условных рефлексов следовало ожидать только на 10–12-й день.
Раньше считалось, что новорожденный в основном питается и спит, погруженный в свой внутренний мир. Однако исследования последних десятилетий показали, что вскоре после рождения ребенок умеет воспринимать тембр, громкость и высоту звуков, отличает рожок от колокольчика или гудка. Уже в первый день жизни он, оказывается, может двигаться синхронно ритму речи взрослых, в то время как бессмысленный набор речевых звуков, чистый тон или музыкальная фраза не вызывают подобных движений. В области зрительных воздействий новорожденные предпочитают сложные и новые стимулы простым и известным; среди сложных конфигураций они явно выделяют изображение человеческого лица.
Как видим, с первых мгновений существования малыш направлен на сугубо человеческие раздражители. На первом году жизни дальнейший темп психического развития всецело определяется характером общения со взрослыми. Кстати, и формирование материнских чувств, особенно у первородящих матерей, также очень зависит от того, когда они увидели своего первенца, на какое время их разлучили сразу после родов. Первые двадцать четыре часа являются, по мнению специалистов, критическим периодом как для матери, так и для ее ребенка в плане успешности дальнейших контактов, эмоциональной насыщенности общения, устойчивости привязанности.
Интересное наблюдение, что матери обычно держат ребенка на левой руке, независимо от того, правши они или левши (так же изображены художниками и многочисленные мадонны), легло в основу создания английским ученым Д. Моррисом специального прибора, имитирующего биение сердца матери, который может успокаивать плачущего младенца.
По данным американских исследователей, отдельные дети могут достигать к двум-трем годам уровня психического развития шестилеток в зависимости от семейного воспитания. Что имеется в виду? Прежде всего интенсивность и эмоциональная окрашенность контактов ребенка с матерью. От того, как изначально складывается это общение, насколько оно положительно эмоционально окрашено, зависит темп становления индивидуальности. Значимо буквально все: берет ли мать ребенка на руки, как только он начинает плакать, улыбается ли ему, много ли с ним разговаривает.
Заметим, что малыши, которые не причиняли в самом раннем возрасте хлопот, к которым не надо было часто подходить, потому что они спокойно лежали в своих кроватках и не требовали особого внимания, нередко оказывались к концу дошкольного детства среди самых непослушных. Видимо, эмоциональный дефицит не проходит бесследно, накладывая отпечаток на последующие ступени взросления.
У доброжелательных, спокойных матерей растут более здоровые, самостоятельные, миролюбивые дети, а тревожные, постоянно дрожащие за здоровье ребенка мамы «расплачиваются» частыми болезнями детей, их плаксивостью, зависимостью, трудностями в общении со взрослыми, замедленной адаптацией в дошкольном учреждении.
Видимо, важны не просто тесные эмоциональные связи матери и ребенка. Необходимо преобладание положительных эмоций без лишних страхов и опасений. А вот чрезмерная пунктуальность в соблюдении режимных моментов, неоправданная концентрация жизни взрослых на самом юном члене семьи пользы не приносят. Положительными эмоциями тоже можно «перекормить», излишне тесная эмоциональная связь матери и ребенка невротизирует малыша, затрудняет формирование навыков делового, а не только интимно-личностного взаимодействия. Ровный, спокойный, мажорный фон взаимоотношений в семье наиболее благоприятен.
Общение малыша, растущего в детском учреждении вне семьи, складывается зачастую не очень удачно. Роль матери там приходится распределять между собой нескольким взрослым: и медсестре, и врачу, и няням, и воспитателям. Эти взрослые часто меняются, общаются со своими воспитанниками редко, к тому же довольно формально: сменили подгузник, покормили, вынесли на улицу, уложили спать – и все. Такое чисто функциональное, недостаточно эмоциональное взаимодействие затрудняет развитие и всегда снижает темп формирования индивидуальности.
Дефицит эмоционально положительных контактов со взрослым в раннем возрасте неизбежно приводит к замедлению развития, задержкам, которые могут оказаться необратимыми. Существуют наблюдения, что дети, имевшие только физический уход без эмоциональной поддержки, к четырем-пяти годам доходили до состояния, которое иногда кончалось даже смертью при отсутствии соматических заболеваний.
Отсутствие впечатлений, эмоционального контакта даже у здорового, ухоженного ребенка вызывает апатию, непрекращающийся крик, другие невротические формы поведения. Если в три месяца ребенка разлучают с матерью, у него поначалу возникает бурный протест с возбуждением, нарушением сна, плачем, которые позже сменяются вялостью, пассивностью, стремлением избегать людей. Так нарастает опасное явление, получившее название госпитализма.
Госпитализм характеризуют как глубокую психическую и физическую отсталость, возникающую в первые годы жизни ребенка вследствие дефицита воспитания. Некоторые проявления госпитализма могут наблюдаться и в условиях семьи, если взрослые слишком заняты собой и своей работой, если они в глубине души равнодушны к своим детям, малоэмоциональны, холодны с ними.
По данным ЮНИСЕФ в регионе Восточной Европы и Центральной Азии отмечается самый высокий в мире показатель числа детей, чье детство проходит в учреждениях альтернативного попечения. Это 1,2 миллиона малышей. Для сравнения – согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения в рамках Евросоюза в интернатах находятся всего 22 тысячи детей до трех лет, хотя и это много.
В настоящее время ширится движение против помещения детей раннего возраста в учреждения опеки, поскольку подобные действия, как правило, наносят необратимый психологический ущерб. Растущие в таких учреждениях дети пассивны, малоинициативны как в отношении предметного мира (отсюда сниженный уровень познавательной активности), так и мира людей (что влечет за собой отставание в развитии речи, коммуникативной и эмоциональной сферы). Вместо живости, заинтересованности в происходящем, целеустремленности, которые фиксируют у растущих в семьях детей, у них наблюдаются вялость, пассивность.
Совет Европы рекомендует правительствам государств Восточной Европы принять все законодательные, административные и другие меры для изменения этой ситуации. В экстренных случаях предлагается помещать детей в интернаты только на заранее установленный и очень ограниченный срок с тем, чтобы позднее обязательно найти возможность поместить их в семью.
Существуют очень убедительные примеры, показывающие, насколько ускоряется развитие маленького человека, если в него верят. В начале учебного года один из первых классов посетили психологи. Они привезли с собой различные методики выявления склонностей и способностей, уровня умственного развития, готовности к обучению. И учительница, и весь класс с интересом наблюдали, как на экране компьютера мигают лампочки, звучат сигналы, перемешиваются фрагменты разрезанных на несколько частей картинок, которые надо было как можно быстрее сложить. Дома дети рассказывали о вопросах, задаваемых специалистами.
Что выяснили ученые, в данном случае не важно. Дело в том, что они скрыли, утаили свои выводы. Вместо объективных данных учительнице совершенно произвольно назвали три фамилии из классного журнала и по секрету сообщили, что эти дети – самые способные. Вы уже догадались, как завершился первый год обучения малышей в школе? Да-да, именно те трое, которых случайно назвали психологи, оказались первыми учениками. Их успехи были подготовлены глубочайшей убежденностью учительницы в том, что ошибиться при экспериментальной диагностике нельзя (хотя, конечно, это далеко не так). Когда у кого-то из избранной заветной троицы возникали трудности, они не пугали и не разочаровывали молодого педагога. Учительница пробовала другие подходы, подбадривала, утешала, хвалила – и все трое оказались на высоте.
Итак, взрослый создает зону ближайшего развития для ребенка, способствует ускорению темпа социализации. Все верно, однако не следует забывать и о природных задатках, об индивидуальных особенностях малыша, которые коренным образом изменить невозможно, да и не следует.
Вас навестила сослуживица. Она улыбалась вашей двухлетней дочери, принесла ей игрушку, но малышка пряталась от веселой тети, капризничала, не хотела разговаривать. И коллега посочувствовала вам на прощание: «Знаешь, может, еще все наладится. Иногда речь развивается позже, и ничего. Жалко только, что она у тебя – девочка. Замкнутый, нелюдимый характер больше подходит мужчине». Подождите, не торопитесь расстраиваться. Ведь вы-то знаете, как хорошо говорит ваша Дашенька с вами, с папой, старшей сестренкой. И характер у нее вовсе не нелюдимый, просто девочка пока редко общалась с посторонними. Да и тетя для нее оказалась слишком энергичной, шумной, напористой. Так что срочно бить тревогу по поводу задержки развития дочурки не стоит. Лучше тщательнее разобраться в чертах характера вашего ребенка, которые влияют на внешнюю картину развития.
Невозможно представить себе специально организованные эксперименты с человеческими детьми, которых ради научных целей разлучали бы с матерями, дозировали бы общение. Такие изыскания оказались бы слишком антигуманными, чтобы рассчитывать на их запланированное проведение. Поэтому для доказательства того, какую роль играют близкие для нормального развития индивидуальности, обратимся к известным экспериментам на высших животных, хотя авторы их вполне отдают себе отчет в том, что полученные результаты далеко не полностью могут быть перенесены на людей.
Не только человеческий ребенок, но и детеныш макаки-резус не является асоциальным существом, которое живет в своем замкнутом мире, ограниченном врожденной способностью удовлетворять органические потребности. Этот вывод следует из широко известных экспериментов супругов Гарри и Маргарет Харлоу из лаборатории по изучению поведения приматов Висконсинского университета. Новорожденных обезьян выращивали с грудного возраста без матери и в изоляции от братьев и сестер. Через год полной изоляции наступал необратимый дефект в развитии: возвращенные в обезьянье стадо испытуемые не вступали в контакт с другими обезьянами, не могли бороться за пищу, и, если бы не забота людей, окажись они в естественной среде обитания, просто не выжили бы. Самцы, выращенные в одиночестве, оказались импотентными, а искусственно оплодотворенная самка была равнодушна к своему малышу.
Другая экспериментальная серия заключалась в том, что маленьких макак помещали в отдельные клетки, однако они имели возможность видеть друг друга, издавать и слушать звуки, гримасничать, то есть как-то общаться, не соприкасаясь. Такая частичная изоляция приводила к тому, что контакт со сверстниками в обезьяньем стаде устанавливался с трудом, отмечалось явное отставание в развитии, которое, впрочем, не было столь катастрофичным, как в случае полной изоляции друг от друга.
Стоило исследователям поместить в клетку так называемую суррогатную мать – специальный макет, приспособленный для кормления малышей, как задержки психического развития не наблюдались или оказывались незначительными. Особенно важным для маленьких обезьян был материал, из которого сделан макет. Если макет был жестким, проволочным, воздействие наблюдалось, но не очень выраженное. Если же его делали по типу мягкой игрушки, с шерстью, по которой можно было карабкаться, позитивное влияние такой куклы на детенышей оказывалось особенно сильным. Памятуя о недопустимости прямого переноса получаемых в зоопсихологии и этологии данных на человека, читатель тем не менее убеждается, что даже в животном мире роль социальных факторов развития трудно переоценить.
Позитивно эмоционально окрашенные контакты с матерью, другими близкими взрослыми в самом раннем детстве в значительной мере задают темп дальнейшего развития, определяют скорость и качество прохождения возрастных этапов. Хорошо, когда в семье есть любящие, понимающие, поддерживающие друг друга и своих детей папа и мама. Но и в неполной семье, состоящей только из матери и ребенка, бабушки и внука, тоже может быть создана психологическая атмосфера, помогающая ребенку своевременно развиваться и становиться полноценной личностью, яркой индивидуальностью.
И все же близкий взрослый, каким бы значимым он ни был, со временем уступает зону влияния сверстникам. Когда и как это происходит, какое влияние оказывает на развитие индивидуальности – вот вопросы, которым посвящен следующий раздел.
Ступени детства
В зависимости от темпа психического развития сроки перехода с одного возрастного этапа на другой очень индивидуальны.
У разных детей фиксируются большие отличия в темпах овладения отдельными видами деятельности, характерными для того или иного возрастного этапа, скорости развития психических процессов, формирования отдельных свойств и качеств будущей индивидуальности. Кто-то намного раньше других начинает ходить, а кто-то – петь. У некоторых детей быстрее развивается речь, тогда как другие, еще ничего не говоря, замечательно ныряют и плавают под водой.
Несмотря на своеобразие перехода каждого конкретного ребенка с одного возрастного этапа на другой, на невозможность построения жесткого графика движения от возраста к возрасту строго по расписанию, существуют все же на основе наблюдений установленные среднестатистические границы между возрастами.
Что известно родителям о качественно разных периодах развития их детей? О том, какая деятельность является ведущей для того или иного возраста? Какие новообразования возникают при переходе на новый этап? Чего ждать от ребенка в «трудные», «кризисные» периоды? Беседы психолога-консультанта с мамами и папами показывают, что знания эти нередко весьма приблизительны, неточны. Поэтому остановимся вкратце на возрастной периодизации психического развития детей.
Для любого опытного взрослого (например, для бабушки, у которой двое детей и четверо внуков) очевидно, что в развитии каждой неповторимой индивидуальности можно выделить совершенно непохожие друг на друга периоды. Иногда проходят месяцы и годы, и внешне почти ничего не меняется, кроме сугубо количественных накоплений. Продвижение вперед, к взрослости, идет плавно, спокойно, и тот, кто видит ребенка каждый день, не фиксирует заметных сдвигов.
Есть и другие этапы, переломные, когда в течение очень короткого времени ребенок становится неузнаваемым, кардинально меняется. Подготовка к каждому новому качественному скачку происходит в относительно стабильные периоды, «внутри них развитие идет как бы подземным путем», с тем чтобы затем резко и революционно перестроить всю личность. В критические периоды «развитие принимает бурный, стремительный, иногда катастрофический характер, оно напоминает революционное течение событий как по темпу происходящих изменений, так и по смыслу совершающихся перемен»[1].
О кризисах, в течение которых многие дети становятся непрогнозируемыми, временно трудновоспитуемыми, мы поговорим чуть позже. А сейчас наметим те возрастные ступеньки, которые каждый из нас обязательно проходил на своем жизненном пути и которые мы переживаем заново вместе с нашими детьми и внуками.
В каждом возрасте существенно меняется отношение ребенка к людям, с которыми он взаимодействует. Растет привязанность, повышается доверие к тем взрослым, которые ребенка окружают, возникает и видоизменяется отношение к самому себе. И хотя ребенок учится всему и сразу, все же на передний план обычно выступает какая-то одна деятельность, которую поэтому принято называть ведущей. В рамках этой главной, самой значимой деятельности легче происходит усвоение детьми правил поведения, быстрее формируются навыки и умения, обеспечивающие возникновение характерных для этой возрастной ступеньки новообразований и облегчающие переход к следующему периоду.
Начнем с младенческого возраста, который условно длится до года. С чего все начинается для новорожденного? С первой, самой важной эмоциональной связи между ним и человеком, который о нем заботится.
Ведущей деятельностью младенца является непосредственное эмоциональное общение с мамой, папой, другими близкими взрослыми. Своим постоянным взаимодействием с малышом мать как бы открывает для него внешний мир. А дети в зависимости от индивидуально-типологических особенностей совершенно по-разному реагируют и на колыбельную матери, и на ее строгий или ласковый голос, и на посещение поликлиники, и на новые игрушки.
Кто-то легче переносит дискомфорт, вызванный маминым недолгим отсутствием, а кто-то бурно протестует. Есть дети, у которых практически моментально возникает доверие к новой няне, проявляющееся в улыбках, гулении, радостном возбуждении, а есть и такие, которые и голосом, и движениями всего тела активно проявляют свои первые антипатии, свою неготовность к диалогу с незнакомым человеком.
Коммуникативные потребности по отношению к близким (маме, папе, брату, сестричке, бабушке, дедушке) возникают у малыша довольно рано. Кстати, если в доме живет собака или кошка, то и по отношению к ней прослеживается почти такой же эмоционально окрашенный интерес, формируется привязанность, растет желание контактировать. Главенствует, конечно, потребность в матери, общении с ней, ее внимании и поддержке.
Ребенку трудно выжить, если ограничено, затруднено его общение с близким взрослым, хотя это еще, конечно, не общение в настоящем смысле слова. Ведь речью младенец еще не владеет, да и другие средства коммуникации только начинает осваивать. И все же к 8–9 месяцам связывающие мать и ее малыша отношения становятся достаточно прочными и глубокими.
И от самого ребенка тут зависит очень многое. Более 30 лет назад психолог Мэри Эйнсворт с коллегами обнаружила, что взрослому трудно проникнуться чувством эмоциональной близости к младенцу, который постоянно противится, когда его берут на руки. Если ребенок рождается слепым или имеет какой-то другой физический недостаток, эмоциональная связь между ним и ухаживающим взрослым оказывается под угрозой. Это происходит потому, что такой ребенок недостаточно активен в установлении и поддержании контакта с тем, кто о нем заботится[2].
Раннее детство длится от года до трех лет и знаменуется не только возникновением ходьбы, развитием речи, появлением эмоционально окрашенных представлений, развитием воображения, но и появлением устойчивого Я.
Малыш как бы вырывается за рамки той сиюминутной ситуации, в которой он был до сих пор заключен вместе со взрослым. Он осваивает близлежащее пространство, расширяет актуальный внешний мир. После года ваш ребенок делает одно из основополагающих открытий: осознает, что любой предмет, живой или неживой, имеет имя, название, обозначение. Для всех окружающих людей и вещей в языке находятся слова, и если научиться каждый предмет называть, этим его можно как бы сохранить, стабилизировать его существование, запомнить, вызвать к жизни на следующий день. Развитие речи имеет решающее значение для пробуждения сознания и самосознания, формирования индивидуальности.
Два года идет медленное, но верное освобождение от столь необходимой прежде, а теперь уже несколько сковывающей зависимости от взрослого. Зато любопытство по отношению ко все более богатому и разнообразному миру нарастает.
Все вокруг привлекает и требует активности: лестница манит карабкаться по крутым ступенькам, дверь просит ее открывать и закрывать, несмотря на противный скрип, из-за которого негодует бабушка, игрушка очень хочет, чтобы ее уронили, а ложка – чтобы сбросили со стола. Каждый предмет эмоционально окрашен, небезразличен, притягателен. Эмоции, прежде сконцентрированные вокруг контактов с мамой, теперь высвечивают, озаряют все близлежащее пространство. В свете этого мощного познавательного прожектора протекает ведущая для раннего детства исследовательско-ориентировочная деятельность.
Если в младенчестве родители помогали своему ребенку понять, «что это такое», то теперь они отвечают на вопрос: «Что с этим можно делать?» Основные интересы маленького реалиста сосредоточены вокруг все новых и новых действий с предметами, открытия их назначения: зачем нужны книжка или карандаш, расческа или куртка. В это время трудно говорить о том, что не перед глазами. Если ребенок чего-то не видит в данный момент, значит, по его логике, этого и нет вообще.
Поэтому пока трудновато сочинять, лгать, выдумывать. Попробуйте предложить двухлетнему малышу повторить за вами: «Сейчас вечер», – если на самом деле утро, или сказать: «Андрюша спит», – когда младший сын видит, как Андрюша бегает по двору. Ребенок ни за что не захочет продолжать эту странную для него игру.
Дети после года уже могут более активно, чем раньше, оповещать родителей о своих потребностях. Они узнают себя в зеркале, на фотографиях и видео. Они умеют радоваться и злиться, сочувствовать и грустить, испытывать гордость или стыд. Им постепенно становится доступным понимание, чего ждет от них мама и как надо себя вести, чтобы мама была довольна. Они понимают, что, сдержав слезы, можно достичь желаемого – например, продлить прогулку.
Появляется эмпатия – эмоциональная отзывчивость, умение разделять чувства окружающих. Двухлетний малыш уже сопереживает упавшему на улице и горько плачущему ребенку, он даже стремится помочь ему встать. А ближе к трем годам он уже готов утешить свою расстроенную телефонным разговором маму. Ему даже почти удается сделать с повеселевшей мамой свое первое селфи.
С 3 до 6 лет длится дошкольное детство, этап господства игровой деятельности. Что значит игра для человека? Этот вопрос все чаще ставят перед собой ученые, решающие проблемы, далекие от возрастной психологии. Недаром из одного популярного издания в другое кочует высказывание, приписываемое А. Эйнштейну: «Понимание атома – детская игра по сравнению с пониманием детской игры».
Пока ребенок не играет, он в плену реальности, в которой находится. Все, что за кулисами, ему недоступно. Игра открывает перед дошкольником все расширяющийся внешний мир, делает его возможности практически безграничными. Если в раннем детстве малыш увидел, почувствовал этот мир, ощутил его притягательность, то в дошкольный период у него уже появились средства овладения окружающей действительностью.
Хочется быть как папа, ходить на работу, звонить по мобильному телефону бабушке, учить с братом английский, летать в командировку на самолете, читать по утрам газеты, ездить в субботу на рыбалку, покупать мороженое – все вполне достижимо в игровой деятельности. Мир прежний, игрушки те же, но малыш уже другой: он не манипулирует ими, не просто подражает действиям старших, а моделирует в игре человеческие отношения, превращается в того, кто ему сейчас интересен, начинает действовать как большой. Он уже не реалист, а фантазер, выдумщик, меняющий за день множество ролей.
Игру недаром называют девятым валом детского развития. То, на что ребенок способен сегодня в ходе игры, еще недоступно ему в любой другой деятельности. Играя, он скорее поделится со сверстником, уступит ему, проявит заботу, выдержку, терпение. В игровой форме легче запомнить, выучить, понять новый материал, поэтому и занятия для шестилеток стараются максимально приблизить к игре. Развитие самостоятельности, ответственности, умение сдерживать свои желания, считаться с другими – все это возникает прежде всего в игре как основной, ведущей для дошкольника деятельности.
В дошкольном детстве общение со сверстниками становится все более желанным. Когда у дошкольника возникает выбор между обществом взрослых и детей, он предпочтет ровесников, старших братьев, сестер и их друзей или даже младших детей, которых он будет чему-то учить, о которых попытается заботиться. Шестилетки зачастую не любят одиночество. Им важно подражать сверстникам, особенно популярным, вызывающим восхищение. Если они становятся свидетелями щедрого, великодушного поведения, то и сами начинают вести себя добрее. И наоборот. В совместных играх, которые могут длиться не только часами, но и в течение многих дней, дошкольники устанавливают собственные правила, разрешают возникающие недоразумения, достаточно легко обмениваются ролями.
Некоторые родители беспокоятся, что их дети придумывают себе несуществующих друзей. И зря. Оказывается, так поступает более половины дошкольников. Они выбирают особенно приятные для себя игрушки или воображают отношения с вымышленными, сказочными персонажами, дают им имена (например, всем известный Карлсон), делятся с ними своими секретами, подолгу играют. Так легче справиться со страхами, пережить обиду. Так приятнее и веселее. В дальнейшем такие дети проявляют себя как более общительные и творческие, чем те, у кого никогда не было воображаемых друзей.
Общение со сверстниками, сравнение себя с ними помогает дошкольникам осознавать собственные отличия, формировать самооценку. К концу дошкольного детства, характеризуя себя, дети все чаще говорят о своих занятиях: «Я хожу на карате», «Я в садике учу французский». Некоторые привыкают, что взрослые часто называют их хитрецами, лентяями или торопыгами, и теперь уже сами готовы так себя проявлять и характеризовать. Другие благодаря всеобщему восхищению и бесчисленным родительским фотографиям точно знают, что они очень привлекательны, и с удовольствием этим пользуются.
Очередной возрастной этап – младший школьный возраст. Новый образ жизни, связанный со школой, абсолютно иначе окрашивает для ребенка всю его привычную жизнь и семейный мир.
Теперь не игра с ее увлеченностью самим процессом представления, удовольствием от спонтанности происходящего оказывается ведущей деятельностью, а учение, усвоение полезных и бесполезных знаний, что предполагает преодоление собственной лени, скуки, усталости, временный отказ от удовольствий ради систематичного, нередко неинтересного и довольно напряженного труда.
Переключаться с веселой беззаботности дошкольного детства на регламентированную, полную ответственности жизнь младшего школьника довольно непросто. Для адаптации к новой жизни необходимо время. Ребенок в этот период очень нуждается в поддержке, терпении, понимании со стороны близких взрослых.
Все у вас с вашим первоклашкой получится. Верьте в это и не спешите упрекать дочку, что она забыла выполнить домашнее задание, не ругайте сына за неаккуратные тетради. Гораздо эффективнее хвалить и подбадривать, напоминать и помогать. И еще очень важно высвобождать время ребенка для таких любимых игр, прогулок, занятий спортом, мультиков, встреч со старыми друзьями. Пусть лучше не все уроки будут сделаны на отлично, но зато настроение шестилетнего труженика останется хорошим, его взаимоотношения с вами – теплыми, а самооценка – высокой.
Ребенок усваивает, то есть делает своим общечеловеческий опыт, познает не только непосредственно окружающую его действительность, но и большой и сложный мир, в котором живут взрослые. Он учится соотносить настоящее и давно прошедшее, переживаемое непосредственно и воображаемое, иллюзорное.
Расширяется круг значимых людей. Каждый из них несет в себе непохожие взгляды, оценки, ожидания, кто-то неожиданно для родителей становится образцом для подражания. Часто ли требования учительницы, которая на первых порах является непререкаемым авторитетом, совпадают с принятыми в семье? Конечно нет. Отношения в школе по сравнению с детским садом и тем более с семьей более деловые, функциональные. Чтобы заслужить похвалу, надо постараться, проявить способности, показать свое прилежание, ответственность, исполнительность, в то время как дома хвалят совсем за другое – кого за аппетит, кого за улыбку.
Открытия настигают 7–10-летнего учащегося не только в школе. Вот мальчишка Дуглас из автобиографической повести «Вино из одуванчиков» американского писателя Рэя Брэдбери в один прекрасный момент вдруг понял, что он – живой. «”Я и правда живой, – думал Дуглас. – Прежде я этого не знал, а может, и знал, да не помню”. Он выкрикнул это про себя раз, другой, десятый!» А потом захотел нести все ведра с диким виноградом, которые они с братом и отцом наполнили в лесу. Зачем? «Хочу почувствовать все, что только можно, – думал он. – Хочу устать, хочу очень устать. Нельзя забыть ни сегодня, ни завтра, ни после»[3].
Младший школьник меняет свои позиции в зависимости от сиюминутного окружения. С родителями он более ребячлив и наивен, чем с учителем; в дворовой компании смешливее, подвижнее, говорливее, чем в классе. Отношение к себе от первого класса к четвертому все более определяется взаимоотношениями в школе. Постепенно привычных для детского сада жалоб типа «он толкается» или «она не дает фломастеры» становится меньше, ведь групповые нормы для младших школьников важнее мнения старших.
Жизнь восьмилетней девочки или девятилетнего мальчика в значительной мере определяется внешними обстоятельствами, случайными событиями, сегодняшними впечатлениями, но этих обстоятельств, событий и впечатлений с каждым днем становится все больше. Родители чувствуют, что им уже не уследить за новыми влияниями, не докопаться до первоисточников перемен в своем ребенке. Личностную значимость приобретают, помимо семьи, улица, двор, соседи, город, страна, ее историческое прошлое, путешествия и приключения, изобретения и открытия.
Авторитет среди сверстников теперь имеют дети, которым легко даются школьные премудрости. А успехи в учебе во многом зависят от того, поддерживают ли детей их родители, насколько верят в них, как часто с ними разговаривают, обсуждают возникшие трудности. Поддерживающие родители помогают своему ребенку развивать уверенность в себе, стимулируют его самостоятельность, предлагая выполнять соответствующие возрасту задачи. Например, погулять с собакой, вымыть посуду, купить хлеб. Если ребенок растет в деревне, у него обычно гораздо больше обязанностей, чем у его городского сверстника: и полоть грядки, и кормить кур, и пасти корову, и помогать матери продавать на базаре овощи, творог и молоко.
Становясь старше, дети все активнее сравнивают себя с одноклассниками и делают выводы о собственных индивидуальных особенностях: «Клим быстрее меня бегает, зато я лучше читаю», «Юля красиво подстрижена и хорошо поет, но подружек у нее почти нет, а у меня и во дворе, и в классе есть настоящие друзья». Когда ребенок успешен, к нему тянутся другие дети, и его лидерские качества быстро развиваются. Если же ребенок непопулярен из-за драчливости, вспыльчивости, плохих оценок, он все больше чувствует себя в классе отверженным, и трудности в обучении, коммуникативные проблемы нарастают. Выбраться из замкнутого круга неудач возможно, если помочь ребенку найти себя в чем-то, что дается ему достаточно легко. Как только аутсайдеру удастся победить других в плавании, стать лучшим вратарем в футбольной команде, освоить раньше других компьютер, отношение сверстников к нему изменится, самоуважение повысится и проблемы начнут разрешаться.
В начальной школе важно, чтобы родители спрашивали мнение своих подрастающих детей по поводу семейных решений, советовались с ними, обсуждали совместные покупки, маршруты поездок, планы на отпуск. Именно такое сотрудничество поможет ребенку в недалеком будущем быть готовым к самостоятельным поступкам. Чутким родителям, хорошо знающим своего ребенка и внимательно наблюдающим за его возрастными изменениями, обычно удается не командовать, не подавлять их волю и не пускать все на самотек. Сотрудничающие со своим ребенком родители демонстрируют уважение к его мнению, даже если они с этим мнением не согласны. Они аргументируют все свои решения, способствуя развитию такой значимой черты личности ребенка, как автономность.
Следующий возраст – подростковый. В словаре В. Даля читаем: «Подросток – дитя на подросте». Этот растущий человек начинает активно искать свое предназначение в мире. Дошкольник во взрослого играл, младший школьник учился им быть, подросток хочет по-настоящему испытать, каково взрослому, как это чувствуется, ощущается. И он уже совсем не готов ждать, когда взрослость настанет. Ему нужно все сразу и прямо сейчас.
Путешествие из детства во взрослость, в которое бросается очертя голову двенадцатилетний школьник, захватывает его и пугает взрослых. Слишком много независимости требует еще вчера послушная дочь, слишком смело хочет одеваться, слишком часто не отвечает на телефонные звонки матери и приходит домой поздним вечером. Чересчур дерзко отвечает взрослым в прошлом корректный и воспитанный сын, чересчур мало внимания уделяет урокам, непомерно долго «висит» в социальных сетях и непонятно почему выбирает в друзья какого-то накачанного переростка.
И дело тут вовсе не в бушующих гормонах, на которые обычно хочется списать все проблемы. Гораздо большее влияние на подростка оказывают обстановка в семье, классе, ожидания и страхи взрослых. Если, например, еще в дошкольном и младшем школьном возрасте ребенок рос в неблагополучной, так называемой дисфункциональной семье, то по достижении подросткового возраста сложности в семье могут возрастать. Тогда следует ожидать побегов из дома, чрезмерной актуализации сексуальных интересов, первого употребления наркотиков. Если же отношения с родителями всегда были доверительными, то и пубертат пройдет мягче. Так, по данным психологов, сексуальные интересы девочек после 12 лет не перейдут опасную черту, если в семье есть любящий, внимательный и поддерживающий отец и если девушка занимается спортом[4].
Правы те взрослые, которые понимают, что время их монополии прошло. Взаимоотношения со сверстниками окончательно становятся приоритетными. Ведущей деятельностью становится интимно-личностное общение с ними, а учеба отступает на второй план.
Классик психологической науки Жан Пиаже сделал однажды такой вывод: когда ребенок кооперируется с себе подобными, он уже взрослый. У подростков, кроме старых товарищей, многочисленных приятелей, виртуальных знакомых появляются значимые сообщества, компании, группы, в которых действуют свои нормы. Надо определенным образом одеваться, любить конкретное направление в музыке или спорте, употреблять модные в своем кругу слова и выражения, чтобы тебя принимала и высоко ценила твоя группа.
Такие эксперименты с собственной идентичностью, начинающиеся с экспериментов со внешностью, если они не представляют опасности для здоровья подросшего чада, взрослым приходится принимать. Если не удается, то вспышки бунтарства обеспечены. Тинейджеры перестают доверять родителям, которые пытаются на них давить. И это иногда опаснее, чем выкрашенные в дикий цвет или выбритые волосы, чем публичное употребление нецензурной лексики или безумные татуировки.
Очередной парадокс на пути возрастного развития: для того чтобы стать взрослым, ребенок от взрослого отстраняется и целиком погружается в среду своих ровесников. Почему? Прежде всего потому, что образ себя, Я-концепция, формируется при сравнении с такими же, как ты сам, то есть со сверстниками, при попытках подражать кому-то из них или категорически отвергать поведение дворового кумира.
Правда, иногда значимой фигурой становится киногерой, спортивная звезда, музыкальный идол. В поисках моделей для подражания подросток проделывает сложнейшую внутреннюю работу. Важно, чтобы роли, навязываемые этими образцами, как-то постепенно осмысливались, просеивались сквозь собственный опыт и уже тогда интегрировались или не интегрировались. Но в любом случае подростковые идеалы влияют на отношение подростка к себе, на уровень самопринятия, который в этом возрасте обычно невысокий.
Научиться принимать самостоятельные решения без эмансипации от опекающих и предугадывающих желания взрослых практически невозможно. Подростку остается только бунтовать и отстаивать свои границы, а взрослому – всеми силами сохранять доверительный контакт без обид, давления и конфликтов.
Хотя усложняющийся внутренний мир подростка требует автономии от любых, иногда даже доброжелательных родительских влияний, нуждается в приватности, интимности, его нельзя оставлять без внимания. Просто это внимание должно обрести иные формы, перестать быть тревожно-оберегающим или агрессивно-требовательным. Чтобы быть услышанными, взрослым приходится учиться говорить с подростком на равных, проявлять уважение к его ценностям, терпеливость к его заблуждениям.
При переходе от отрочества к юности растет осознание своей непохожести на других, уникальности собственного мировосприятия, новизны возникающих ежедневно вопросов. Что же это за вопросы, над которыми бьется отдалившийся от родителей неожиданно повзрослевший сын? Он не расскажет вам о них, побоится насмешки, иронии, непонимания, даже если до сих пор отношения складывались доверительно. Почему? Может быть, акселерат чувствует, что усталый, задерганный житейскими мелочами взрослый не готов всерьез воспринять проблемы, которые звучат для него отвлеченно, абстрактно, несерьезно. В самом деле, разве поговоришь с родителями на тему «Кто я? Зачем живу? Смогу ли себя проявить? Можно ли мне доверять? Что делать, чтобы стать настоящим?».
Тот самый ребенок, который в 2 года был реалистом, а в 5 – фантазером, в 16 стал мыслителем, философом. Для него очень значимым становится будущее, в котором он сможет проявиться как музыкант, спортсмен, политик, финансист. А главное – он найдет для себя смысл, его жизнь будет интересной и важной, не похожей на обыденное существование родителей. Вот это смыслоискательство и становится в юношеском возрасте ведущей деятельностью, требующей правильного выбора будущей профессии, серьезной подготовки себя к ней.
Бывает, что столкновение умозрительных построений старшеклассника с реальностью оказываются столь неожиданными для него, даже жестокими, что молодой человек внутренне как бы отказывается вступать в разочаровавший его взрослый мир. Он отступает, остается в безответственном и беспечном детстве, становится великовозрастным инфантилом, за которого все решают родители и в двадцать, и в тридцать пять.
Тинейджеры устанавливают с некоторыми избранными сверстниками невероятно тесные и глубокие взаимоотношения. Родители удивляются, о чем можно говорить в сетях или по телефону часами, если дети и так провели в школе вместе весь день. А их дочерям и сыновьям очень важно, что есть кто-то, кто их полностью понимает, с кем можно обсудить все, что угодно, кто тебя никогда не предаст. С другом они обсуждают все нюансы симпатий и антипатий, музыкальные пристрастия, модные тенденции в одежде. Друг первым узнает о свиданиях, ссорах влюбленных, планах на будущее.
Интерес к противоположному полу возрастает, и появляются все более стойкие пары. Девушкам-старшеклассницам обычно хочется все более доверительных, теплых, верных взаимоотношений с парнем, тогда как юношам в большей степени хочется физической близости, а потом уже взаимопонимания и поддержки. Если подростки ожидают от свиданий больше фана и радуются, что наличие пары повышает их статус в классе, то старшеклассники относятся к своим партнерам более серьезно, нередко рассматривая их даже в качестве будущих мужей, жен.
Новым феноменом подростково-юношеского взросления становятся многочисленные онлайн-личности. В интернете легко можно стать кем угодно. В сети всегда полным-полно анонимных виртуальных юношей и девушек, по аккаунтам которых невозможно вычислить, кто за ними прячется, сколько им лет, чем занимаются и зачем придумали себе именно такой образ. Можно представиться в сетях, блогах, на сайтах так, как тебе заблагорассудится. Можно менять свой пол, не прибегая ни к каким операциям, а просто подбирая соответствующую фотографию и фантазируя по поводу собственных проблем. Можно сочинить себе несколько биографий, подкрепленных разными интересами, и таким путем создать вокруг себя совершенно разные сети так называемых друзей.
Зачем молодому человеку фейковые аккаунты? Хотя бы затем, что это простой и быстрый способ примерить на себя незнакомую роль, побыть кем-то другим, почувствовать, как ты в новом обличье можешь влиять на сверстников, влюблять в себя одноклассниц или людей значительно старше, устраивать далеко не всегда безобидные розыгрыши. Интернет-фантомы могут наслаждаться властью над умами своих френдов, распространяя продукты своего творчества (песни, стихи, музыку, фотографии). Они искренне радуются количеству одобрений (лайков и перепостов), тогда как в реальной жизни нередко испытывают трудности в общении, не решаются знакомиться, не являются популярными среди ровесников.
В 1996 году, еще до рождения сегодняшних старшеклассников, Дж. Перри Барлоу распространил Декларацию независимости киберпространства, провозгласив интернет новой цивилизацией, основанной на принципах независимости, непривязанности, неответственности и равных возможностей. И конечно, для 15–17-летних эта декларация продолжает звучать очень заманчиво. Выбираемые подростками и юношами экранные маски подчеркивают, демонстрируют всем определенные черты их индивидуальности и маскируют, прячут другие. Виртуальные персонажи репетируют роли, которые в реальной жизни их создатели никогда не играли, и сразу же получают обратную связь, ничем не рискуя, поскольку никто не знает об их реальных склонностях и проблемах.
Наша память так устроена, что сама по себе, без нашего участия, «исправляет», редактирует многие воспоминания, и поэтому взрослые не всегда помнят нюансы собственного взросления. Кроме того, времена меняются, и дети взрослеют в совершенно других внешних условиях, в гораздо более непредсказуемом, динамичном мире. Вот и получается, что ни семья, ни школа не могут учесть все неурядицы, сложности и препятствия, которые возникнут на пути подрастающих детей.
Недооценивают и роль кризисов в становлении человека, тех переломных моментов развития, которые определяют дальнейшую траекторию пути. Чтобы разобраться с ними, попробуем еще раз рассмотреть все возрастные периоды, которые проживали, когда взрослели, и которые еще и еще раз проходим вместе с нашими детьми, но теперь уже акцентируя внимание на кризисных этапах.
Кризис? Кризис!
Возможно ли беспроблемное развитие человеческой индивидуальности, когда ребенок спокойно переходит с одной возрастной ступеньки на другую и в памяти родителей его взросление запечатлевается в виде равномерного поступательного движения, не требующего ни от самого растущего человека, ни от его близких бессонных ночей, мучительных раздумий, мгновенных переходов от отчаяния к восторгу?
Воспоминания о бескризисном развитии, даже если они у кого-то есть, – не более чем иллюзия. Если кому-нибудь из читателей собственное далекое детство кажется некоей изначальной гармонией, исходным равновесием с миром, тем золотым веком, тоска по которому будет неизбежным лейтмотивом до самой смерти, он не кривит душой. Просто читатель принимает за реальность редакторскую работу собственной памяти.
Бесконфликтно не детство, а наши воспоминания о нем, в которых противоречивая информация вытесняется, углы сглаживаются, реальность идеализируется. Человек придирчив к своей автобиографии. Он творчески относится к собственному прошлому, почти неосознанно корректируя его в желаемом направлении, используя заимствования, упрощения, домыслы. Так возникают пасторальные картины гармонии с миром и самим собой, совпадения желаний и возможностей. А конфликты если и вспоминаются, то скорее в виде забавных курьезов, безобидных недоразумений.
Каково же ребенку в детстве на самом деле? Может ли происходить развитие человеческой индивидуальности без взаимного непонимания с родителями и сверстниками, без обид, ссор, ошибок и разочарований?
Проследим фрагментарно индивидуальную историю внутренних противоречий как активаторов, стимуляторов психического развития. Рассмотрим первые ступени конфликтности личности: Я и мир, Я и взрослые, Я и сверстники, Я и Я.
Едва появившись на свет, ребенок оказывается в далеко не однозначном мире. Нет пока мотивов, ценностей, интересов, зато есть ощущения, в которых нелегко разобраться. Одновременно хочется и есть, и спать, и достать привлекательную игрушку, и оказаться на руках у матери.
Кризис новорожденного в том, что отделившийся от матери физически ребенок одномоментно не отделяется от нее биологически, тем более психически. Центральное новообразование этого этапа состоит в формировании индивидуальной жизни, всей организацией которой ребенок принужден к тесному взаимодействию с близкими взрослыми. А как взаимодействовать, если средств для общения мало, разве что плач?
Переход от младенческого возраста к раннему знаменуется кризисом первого года жизни. Неожиданно появляется непослушание, капризы, иногда возвращение к более детским, примитивным реакциям. Почему? Малыш демонстрирует негативизм из-за действительного или мнимого взаимонепонимания с близким взрослым в той мере, в какой он это непонимание переживает.
Конечно, годовалый ребенок не осознает причин своего беспокойного поведения. Однако ему недостаточно эмоционально непосредственного общения с близким человеком. Теперь требуется, чтобы взрослый его понимал, но путей для достижения понимания мало. «А речь?» – скажет читатель. Да, это основное средство установления контактов, но вспомним, какова она, когда малышу только год. Одним и тем же односложным «прасловом» ребенок называет и лампу, когда она загорается, и солнечный луч на стене, и музыку, и многое другое. Поэтому, когда он требовательно и капризно повторяет свое эмоционально выразительное, но непонятное заклинание, а мать не может сразу угадать, чего же он хочет, негодование оказывается вполне уместной реакцией. Ребенок просит, повторяет, настаивает, обижается, злится, а взрослому остается лишь перебирать варианты и уповать на собственную интуицию.
Как малыш выходит из кризиса первого года, замедляется или ускоряется темп его развития, превалируют ли приобретения, новые навыки и умения или закрепляются негативные, нежелательные формы поведения, – все это зависит от родителей, определяется тем, насколько они сумеют понять причины первых реакций протеста, как перестроят свое отношение к ребенку. Еще недавно младенец нуждался лишь в улыбках, приветливых интонациях, ласковых прикосновениях, и вдруг – подумайте, какой скачок в развитии! – он уже жаждет быть понятым, ищет отклика, не хочет довольствоваться прежним уровнем общения.
Раннее детство завершается кризисом двух-трех лет. В чем он выражается? Прежде спокойный и послушный ребенок, который с удовольствием слушал сказки, пытался заслужить поощрение родителей, вдруг становится непонятным и упрямым. Он отказывается даже от того, что ему всегда нравилось. Похоже, что теперь главное – проявить непослушание, пусть даже в ущерб собственным интересам.
Например, Богдан всегда с удовольствием ходил в гости, а в воскресенье утром, услышав, что родители собираются проведать бабушку, забастовал. С ним решили не спорить, уступили, но малыш почему-то не успокоился, а расплакался. Ведь к бабушке-то на самом деле хотелось! В другой раз попробовали настоять на своем – тоже расплакался, повторяя: «Не хочу, не пойду, идите без меня!»
Негативизм трехлетки сложнее переживаний годовалого ребенка. Во время кризиса одного года взрослый просто не умел догадаться, понять, чего малыш хочет. Трехлетний уже ожидает от членов семьи не только понимания, но и признания независимости, самостоятельности, хочет, чтобы его мнения спросили, с ним посоветовались. Поведение определяется не только отношением к взрослому, но и к себе. Протест против попыток родителей навязывать свою волю проявляется в поведении вопреки маме, даже если одновременно приходится поступаться своими желаниями.
В семье, где взрослые сумеют изменить курс, примут требования детской самостоятельности, ребенок выйдет из кризиса обогащенным – он будет по-новому сравнивать себя с другими людьми, испытает удовлетворение от нового головокружительного чувства – «Я сам!». Если реакции взрослых сосредоточатся на том, чтобы «сломать» детское упрямство, силовыми приемами прекратить капризы раз и навсегда, у ребенка возникнут приемы психологической защиты. Малыш научится скрывать свои чувства, сумеет как бы притуплять переживания по поводу отрицательных оценок старших, перестанет «слышать» замечания и укоры. Вместо открытости миру, смелости в его освоении начнет нарастать панцирь, защитная оболочка, неизбежно проявляющаяся в невротических симптомах.
Школьное детство начинается с критического периода, который называют кризисом шести-семи лет. Родители обращают внимание на утрату привычной для дошкольника простоты и непосредственности. Пятилетняя дочь если радовалась, то забыв обо всем на свете, если обижалась, то тоже без оглядки. К семи годам она как будто открыла для себя собственные эмоции. Теперь, когда сердится, одновременно изучает себя, иногда даже в зеркало пытается в это время заглянуть, в голос вслушивается. Даже не верится, что она по-настоящему переживает, потому что в поведении появляется какая-то натянутость, фальшь. Не об этом ли пишет Марина Цветаева: «Так дети, вплакиваясь в плач, вшептываются в шепот»?
Педагогические ошибки родителей могут привести в этом возрасте к такой поглощенности своими эмоциями, от которой недалеко и до истероидности. Помните, у А. И. Куприна в «Белом пуделе»? «На террасу из внутренних комнат выскочил, как бомба, издавая пронзительные крики, мальчик лет восьми или десяти… <…> …виновник этой суматохи, ни на секунду не прекращая своего визга, с разбегу повалился животом на каменный пол, быстро перекатился на спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать руками и ногами во все стороны… <…> – Ай-яй-а-а! Дряни! Дураки!.. – надрывался все громче и громче мальчик».
В этот кризисный период впервые возникает внутренняя борьба переживаний, которую ребенок начинает осознавать как противоречивость между восприятием себя и оценками окружающих. Умышленно закатив истерику, мальчик Трилли из рассказа «Белый пудель» вначале еще помнит, что делает это, чтобы не пить противную микстуру. Затем поток эмоций захлестывает его, и требование купить собаку возникает лишь для того, чтобы продлить возникшую эмоциональную бурю. Допустим, собаку ему бы уступили. Немедленно возник бы новый повод для криков и слез. Нужна не собака, а победа над взрослыми, необходимо внимание окружающих, зарабатываемое такой нелегкой ценой.
Выходя из кризиса, во время которого ребенок страдал от невозможности сделать свой внутренний мир доступным и понятным для окружающих, повзрослевший человек уже не теряется в противоречивости собственных переживаний, привыкает к их амбивалентности (противоположной направленности, когда одновременно и жаждут, и отвергают, и любят, и ненавидят). Правильная позиция родителей помогает преодолеть несоответствие внешнего и внутреннего, несовпадение желаний и их внешнего выражения.
Кризис переходного возраста готовится исподволь, усыпляя родительскую бдительность школьными успехами, спортивными, техническими, музыкальными и иными увлечениями. Одиннадцать – тринадцать лет – это тот возраст, которого больше всего страшатся взрослые как этапа почти неизбежной трудновоспитуемости, когда ребенок может совершенно отдалиться от семьи, перестать доверять отцу и матери. Успеваемость падает, работоспособность снижается, прежние интересы угасают, авторитеты рушатся. Возникает негативизм по отношению к любым требованиям старших, попытки любой ценой проявить и утвердить в сознании родителей свою взрослость, продемонстрировать всем и каждому независимость и самостоятельность, вырваться из-под опеки.
Расхождение между тем, что внутри, и тем, что вовне, у подростка становится глобальным. Собственное Я, каким его воспринимает и осознает тринадцатилетний человек, и весь остальной мир, кажется, разделены пропастью. И преодолеть ее, похоже, никак не удастся. Внутренний мир, совершенно непонятный этим странным взрослым, становится настолько значимой реальностью, что настоящая жизнь на некоторое время меркнет, блекнет.
Может быть, конфликтов с родителями и не будет, если отношения в семье изначально формировались на здоровой основе, подразумевающей взаимное уважение, самостоятельность и ответственность, доверительность и ненавязчивость. Но внутренние драмы все равно практически неизбежны.
В «пустыне отрочества» проблемы возникают одна за другой, и все надо решать самому, как писал более ста лет назад классик психологической науки американский исследователь Стенли Холл. Ведь не скажешь даже горячо любимому отцу, как мучишься из-за собственной внешности: очень короткого или длинного носа, лишнего веса, худых ног. Не поделишься с мамой ежедневными страданиями из-за того, что мальчик, который нравится, провожает домой другую девочку. Не объяснишь никому, как трудно стало себя уважать, как накатывает неверие в собственные силы, кажутся несбыточными мечты и надежды.
Вдумаемся в исповедь мальчишки, который решил отказаться от пищи. «И я увидел: мое лицо меняется. Менялись кости. Глаза. Поры на коже носа. Уши. Лоб. Волосы. Все время они были мной, а теперь становились кем-то совсем другим. <…> Торопливо моясь, я увидел, как внизу, в воде, плавает мое тело. Я был заключен в него, как в тюрьму. Бежать было невозможно. И мои кости в нем двигались, перемещались, менялись местами![5]» Подросток решил, что родители вредят ему пищей, а учителя – знаниями, поэтому приказал себе не есть ничего дома и не слушать объяснений на уроках в школе. Тогда ему показалось, что наконец удалось «противостоять яду», «отбить нападение», то есть остаться неизменным, не расти.
Мы не помним обычно подобных историй из собственной жизни, стыдимся их, редактируем в собственной памяти или вообще пытаемся стереть, переписать заново. Но давайте все-таки вдумаемся, как непросто ощущать себя одновременно и вчерашним беззаботным четвероклассником, хохочущим над мультфильмом, и сегодняшним раздражительным скептичным семиклассником, и независимым, все знающим, сделавшим свой выбор выпускником. И все это – прошлое, настоящее и будущее – в одно и то же время, с удручающей интенсивностью и яркостью.
В критические периоды личность всегда дисгармонична, но впервые эта дисгармония отчетливо осознается, переживается человеком, когда он оказывается в эпицентре кризиса подросткового возраста. Внутренняя альтернативность и напряженность жизни подростка требует и от него, и от родителей мужества и терпения. Недаром этот период является не только самым ярким этапом самопостижения, но и началом самостоятельной работы по созданию собственной индивидуальности, конструированию, проектированию будущего жизненного пути.
Конфликты с учителями и родителями отвлекают от сложной и необходимой внутренней работы, замедляют, уводя в сторону процесс самопознания и самосовершенствования. Вместо недовольства собой и желания что-то в себе изменить возникает неприятие оценок старших, которые до сих пор относятся к нему «как к ребенку». Вспышки гнева возможны в ответ на самые безобидные, с точки зрения взрослых, замечания. Бабушка утром сказала: «Нельзя сегодня идти в школу без шарфа, ветер сильный», или классный руководитель пошутил по поводу модной стрижки, а в ответ – грубость, возмутительная несдержанность. В другом настроении нарекание учителя физкультуры относительно неумения подтянуться на турнике провоцирует такой поток скрываемых от посторонних самоуничижительных выводов, комплексов, самоиздевок, что взрослый очень удивился бы, узнав, причиной каких мучений стала его случайная фраза.
Как подросток выйдет из лабиринта ошеломивших его противоречий? Обретет ли уверенность в себе? Найдет ли близких по духу сверстников? Или надолго закрепится в нем ощущение собственной никчемности, неверие в себя? Не толкнет ли его желание самоутвердиться в асоциальную группу? Не приведет ли к поискам измененных состояний сознания, которые достигаются курением марихуаны или глотанием определенных таблеток?
Особенно трудно благополучно выйти из кризиса подросткам, которых искусственно освобождали от всех и всяческих сложностей и проблем, растили в «оранжерейной» обстановке, оберегали от необходимости решать нравственные коллизии, при которых человеку приходится подчас отказываться от чего-то очень для него дорогого ради более значимых целей. Формы выхода из кризиса зависят от семьи, в которой воспитывается подросток, индивидуальной истории его жизни, прошлого опыта решения конфликтных ситуаций.
По данным специальных исследований, причиной до 92 % попыток самоубийств среди подростков прямо или косвенно являются семейные взаимоотношения. Причем речь идет не только о явно «алкогольных» или «криминогенных» семьях, но и о таких, в которых практикуется жестокое обращение, с авторитарными приемами воспитания, унижающими достоинство подростка, попытками навязать ему свое мнение о товарищах, учителях, интересах, моде и т. п.
Кризис переходного возраста не только опасен, но и очень значим, поскольку способствует развитию интереса к себе как индивидуальности. Подросток привыкает конструктивно воспринимать внешние, а затем и внутренние преграды на пути к желаемой цели, обретает определенный арсенал операциональных умений, навыков, его характер закаляется в борьбе с трудностями, когда приходится и проигрывать, а не только побеждать. Его идеалы постепенно соотносятся с собственными задатками, реальными возможностями, индивидуальными особенностями.
Важно, чтобы родители вовремя поняли, что происходит с их повзрослевшим ребенком, сумели тактично, но вместе с тем достаточно твердо и последовательно реагировать на сложные, конфликтные переживания, помогая конструктивному решению проблем.
Практикум для родителей
Задание 1
Попытайтесь определить психологический возраст всех взрослых членов семьи, а также своих друзей и знакомых, исходя из знания их индивидуальных особенностей, отношения к собственной жизни, оценок прошлого и планов на будущее.
Для облегчения задачи можно произвести несложные подсчеты. Если принять все то, что хотелось бы совершить на протяжении жизни, за сто процентов, то сколько к настоящему времени реализовано? Допустим, тридцать процентов. Осталось спросить каждого, с кем вы проводите эксперимент, до какого возраста он думает дожить. Предположим, до восьмидесяти лет. Тогда получится, что за восемьдесят лет реализуется (в идеале) сто процентов замыслов, а к настоящему времени уже реализовано тридцать процентов. Выходит, психологический возраст вашего тестируемого – двадцать четыре года.
Сравните с тем возрастом, который вы первоначально сами определили для своего супруга (супруги), исходя из субъективных представлений. Напомним, что речь идет не о внешней моложавости, подтянутости, подвижности, а о том, насколько человек молод душой, как широки его интересы и жизненные перспективы, в достаточной ли мере гибки установки.
Попросите своих близких назвать «на глаз» ваш психологический возраст, затем подсчитайте его по предложенной выше схеме. Сопоставьте полученные результаты и обсудите их в кругу семьи. Кто из членов семьи видит вас моложе, чем на самом деле, а кто, наоборот, представляет значительно старше? Почему, как вы думаете?
Разминка закончена. Теперь можно подумать о соотношении реального и психологического возраста ваших детей. Сначала определите это соотношение независимо друг от друга и лишь затем сопоставьте полученные результаты.
Если вашему ребенку 13–15 лет, вы смело можете привлечь и его к данной работе. Пусть он сначала поучаствует в определении психологического возраста папы и мамы, дедушки и бабушки. Пусть сравнит свои результаты с вашими, посмеется вместе со взрослыми. А потом, когда вы перейдете к определению его собственного психологического возраста, пусть скажет, на какой возраст он себя чувствует, насколько уже успел самореализоваться, до какого возраста хотел бы прожить. Так вы сможете обсудить проблемы, обычно редко озвучиваемые во взаимоотношениях детей и их родителей. Так у вас возникнет новое понимание того, каким является сейчас внутренний мир вашего подросшего ребенка.
Подобные задания желательно повторять хотя бы раз в год. Их удобно приурочить к дням рождения членов семьи или, например, к Новому году.
Задание 2
Расспросите своих родителей, старших братьев и сестер, других родственников, что они помнят о темпах вашего развития в детстве. Опережали ли вы своих сверстников, отставали или шли с ними в ногу? Может, в чем-то наблюдалось запаздывание?
Начните с самого раннего возраста. Попытайтесь, насколько это возможно, восстановить картину вашего собственного психического развития. Разыщите старые фотографии, собственные детские рисунки, возможно, родительские записи. Начните с тех самых пор, когда мамы замечают, что их малыш начинает держать голову, ползать, сидеть, стоять, делает первые шаги, пытается говорить и т. п. Такие экскурсы в собственное прошлое, а затем и в прошлое вашего супруга помогут по-новому оценить индивидуальный темп психического развития вашего ребенка.
С того возраста, когда вы уже самостоятельно можете воссоздать отдельные страницы своей биографии, вспомните, не казалось ли вам, что другие дети что-то умеют лучше. Как вы это переживали? Что помогло «выравнять» положение? Знали ли об этих ваших проблемах родители? Если да, то как они реагировали? Как вы оцениваете родительскую воспитательную тактику с высоты теперешнего взрослого состояния? Одобряете или видите ошибки? Как бы вы поступили на их месте? Что ускорило или замедлило индивидуальный темп вашего развития в дошкольном, младшем школьном, подростковом, юношеском возрасте?
Особое внимание желательно уделить отклонениям в поведении, которые «прошли сами собой». Были ли такие отклонения, от которых вы избавились без всяких усилий, просто переросли? Когда они начались? Как исчезли? Что делали ваши родители: пережидали или боролись? Как лучше поступать с подобными сложностями у вашего ребенка?
Какие черты зафиксировались, закрепились в результате замедленного или ускоренного, плавного или скачкообразного развития вашей психики? Есть ли среди них такие особенности, от которых вам хотелось бы избавиться? В чем причины их устойчивости, как вы считаете?
Задание 3
Обозначьте основные ступени вашего детства, те возрастные этапы, которые вы помните, которые каким-то образом отделяете один от другого. Попросите вашего супруга вспомнить отдельные возрастные периоды. Сколько их насчитывается от рождения до 15–16 лет? Есть ли нечто общее в ваших с супругом детских воспоминаниях?
Обозначьте те возрастные этапы, когда вам хотелось стать старше. А теперь вспомните, когда вы впервые поняли, что торопиться взрослеть не стоит? Было ли такое? Каково на сегодняшний день ваше отношение к собственному возрасту? Как бы вы назвали тот возрастной этап, на котором находитесь? Какие еще периоды ожидают вас в будущем? На каких возрастных ступеньках находятся ваши родители? Есть ли у вас друзья, которые значительно моложе, старше вас? Если да, привлеките их к обсуждению вопроса о возрастных этапах становления индивидуальности.
С какого возраста вы стали таким, как сейчас? Какие периоды вы считаете наиболее значимыми для проявления, отстаивания собственной личности? В каком направлении сейчас видоизменяются индивидуально-психологические характеристики ваших пожилых родителей? Хотелось бы вам в будущем двигаться в ту же сторону? Если нет, то что необходимо менять в вашей жизни уже сегодня?
После привычной уже разминки переходите к анализу возрастной периодизации применительно к вашему ребенку. На какой возрастной ступеньке он сейчас находится? Как бы вы определили: ранний возраст это или уже дошкольный? Дошкольный или по уровню развития ближе к младшему школьному? Кстати, такие упражнения нередко помогают решить, отдавать ли малыша в школу с шести лет или подождать еще полгода-годик. Соответствует ли та или иная возрастная ступенька реальному возрасту сына или дочери? Какая деятельность является на данном этапе самой желанной для вашего ребенка? Что нового возникает на каждом этапе? Сопоставьте свои ответы с ответами других членов семьи.
Задание 4
Поговорите с вашими родителями о том, когда вы стали особенно непослушными, трудными, упрямыми, капризными. В каком возрасте? Соответствуют ли эти периоды кризисным, переломным этапам становления индивидуальности, о которых шла речь в предыдущей главе? Долго ли длились эти кризисы? Что вы сами помните о них? Как ваши родители реагировали на такое неожиданное своеволие? Правильно ли они вели себя с вами, как вам теперь кажется?
Были ли возрастные кризисы в вашей взрослой жизни? В жизни ваших родных и близких? Какие это кризисы? Как долго они длились? Каким образом вы и ваши знакомые из них выходили? Как вы считаете, есть ли возможность из любой кризисной ситуации выходить конструктивно, приобретая те или иные умения, опыт, знания, или существуют кризисы неблагоприятные, подрывающие работоспособность и психическое здоровье? Как относятся к вашим кризисным переживаниям близкие? Умеете ли вы проявить тактичность и участие по отношению к супругу, родителям?
Каждая такая разминка очень важна для понимания родителями самих себя, своих ожиданий относительно ребенка, собственных комплексов и проблем, влияющих на взаимоотношения в семье, поэтому пропускать первую часть каждого упражнения не стоит.
После разминки, как обычно, перейдем к анализу кризисных периодов развития вашего ребенка. Сколько их уже было? Больше или меньше, чем для этого возраста в среднем предполагается? Похожи ли эти кризисы на те среднестатистические, типичные, которые описаны выше? Если нет, то почему, как вы думаете? Обсудите ваше мнение о стабильных и бурных этапах развития вашего ребенка с другими членами семьи.
Есть ли согласованность в ваших установках относительно поведения взрослых в это время? Какие ваши реакции на те кризисы, которые уже в прошлом, сегодня кажутся вам правильными, а какие – нет?
Как вы думаете, существуют ли кризисные периоды в жизни семьи? Не накладывают ли они отпечаток на индивидуальные кризисы взрослых и детей? Пережила ли ваша семья такие кризисы? Как выходила из них? Какие были потери и приобретения?
Девчонки, мальчишки…
Родители растят не ребенка вообще, а мальчика или девочку с присущими им различиями в мировосприятии, отношении к окружающему, усвоении навыков и умений, развитии познавательной сферы, эмоциональности. Знание половых различий, проявляющихся с самого раннего возраста, осознание гендерных стереотипов, господствующих в обществе, поможет взрослым подобрать такие воспитательные воздействия, которые способствовали бы формированию психологического пола ребенка с присущими этому полу способами поведения. Как влияет желанность сына или дочери на их дальнейшую судьбу, насколько мужественность и женственность детей зависят от родительских примеров и видоизменяется ли она в неполной семье, каковы эталоны настоящих мужчины и женщины в детской среде – все эти проблемы являются предметом обсуждения в данной главе.
Разнополые индивидуальности
У вас – сын, у друзей – дочь того же возраста. Вы постоянно встречаетесь, дети растут на глазах. Сначала оба – младенцы, позднее – дошкольники, не успеешь оглянуться – уже идут в первый класс. Сколько бы вы их ни сравнивали, всегда окажется больше различий, чем сходства, хотя, как мы только что убедились, на каждой возрастной ступеньке все дети проходят приблизительно одни и те же этапы развития индивидуальности.
Может, дело в наследственности? Или непохожих условиях воспитания в разных семьях? И в том, и в другом. Но еще и в самом очевидном – мы сравниваем детей разного пола. Биологические различия несомненны, и именно на основании их еще во время первых ультразвуковых исследований во время беременности врач сообщает родителям пол будущего ребенка.
Насколько очевидна биологическая и социальная несхожесть мужчин и женщин, настолько же разными оказываются и пути становления разнополых индивидуальностей. В чем же эти психологические различия между мальчиками и девочками и когда родители начинают их замечать? Попробуем описать некоторые из них, наблюдаемые с первых дней жизни малыша, задолго до полового созревания.
По мнению мам, у которых есть уже и сын, и дочь, в грудном возрасте мальчики ведут себя более прямолинейно, определенно, их как будто легче понять. Когда все благополучно, то есть они сыты, лежат в сухих памперсах, не испытывают боли или каких-то незнакомых, неприятных ощущений, мальчики спокойнее девочек. Родители уверяют, что поводов для беспокойства у мальчиков обычно меньше и путем перебора нескольких устойчивых вариантов причины плача несложно обнаружить. Если вдруг что-то не так, мальчики поднимают требовательный крик. Причем не успокаиваются, пока не добьются своего.
Мальчики, как правило, требуют больше внимания в самом раннем возрасте, потому что более восприимчивы к болезнетворным микробам, более чувствительны к переохлаждению, летней жаре, чуть более длительным перерывам между кормлениями или введению в рацион новых продуктов. По данным японских ученых, изучавших последствия ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаки, у мальчиков вероятность задержки роста после определенной дозы облучения выше, чем у девочек.
Девочки на первом году жизни могут плакать не только от чувства голода или иного физического дискомфорта. Их реакции изначально разнообразнее. Им может не нравиться шум или запах, на которые мальчики пока никак не реагируют. Они раньше, чем мальчики, начинают возражать против удаления матери из поля их зрения. Желание общаться, то есть видеть близкого взрослого, следить за его передвижениями глазами, улыбаться ему, может оказаться более сильным, чем недоедание, к примеру.
Мое первое воспоминание относится к возрасту шести-семи месяцев, когда я уже уверенно сидела в коляске и рассматривала все вокруг: гуляющую по двору кошку, воробьев, дедушку с газетой в кресле. Если бабушка пыталась меня уложить, потому что пора было спать, я очень сопротивлялась, плакала и снова садилась. Помню, что мне не нравилось, когда исчезала эта интересная картинка и перед глазами оказывалось только небо. В два-три года я помню, как мама вечером приходила меня поцеловать перед сном, а мне не нравился запах ее пудры. Я не понимала, что именно не так, но мне не хотелось, чтобы она наклонялась надо мной, хотя я ее видела нечасто и скучала. Этот запах я узнала много позже, и он мне до сих пор очень не нравится.
Маленькому Мите семь месяцев. Он самостоятельно засыпает и столь же тихо просыпается у себя в кроватке. Может долго лежать, распевая на разные лады отдельные звуки и слоги. Зовет маму плачем только по делу: когда, например, уронит игрушку и не может ее достать или когда, простояв в манеже долгое время, не решается самостоятельно сесть.
Инночка, которой семь с половиной месяцев, зовет мать вовсе не по делу, она просто не желает бодрствовать в одиночестве. Мама вынуждена постоянно общаться с ребенком, переносить ее из комнаты в кухню и обратно, когда необходимо приготовить обед или сделать уборку. Инна ни за что не засыпает без укачивания под довольно бодрую современную музыку. Она даже явно отдает предпочтение женскому вокалу и не признает мужских голосов, доносящихся с проигрывателя.
Конечно, нельзя забывать о родительских позициях, непохожих формах взаимодействия с детьми, и мы поговорим об этом чуть позже. А пока – о половых различиях, игнорировать которые невозможно. Девочка, которая объективно старше мальчика всего на две недели, субъективно оказывается гораздо изобретательнее в контактах со взрослыми. Ее реакции, приносящие много хлопот взрослым, однозначно полезны для формирования будущей индивидуальности.
По-разному созревают у мальчиков и девочек отдельные психофизиологические функции. Известно, что девочки лучше видят, тоньше различают запахи, обладают более развитым слухом относительно звуков высокой частоты, более внимательны к вкусу пищи, чувствительны к прикосновениям. А мальчики быстрее ползают, ходят и бегают, отличаются большей моторной активностью. Эти и другие особенности с раннего возраста оказывают влияние на успешность освоения разных видов деятельности, сферу интересов.
К примеру, известно, что острота зрения у девочек к шести годам достигает нормы взрослого человека, в то время как у мальчиков эта норма еще не достигнута. Может, поэтому девочки с такой охотой и любовью занимаются в старшем дошкольном возрасте рисованием, а мальчикам ближе в это время конструкторские и дидактические игры? Добавим, что восприятие цвета и его оттенков у девочек тоже развивается раньше, чем у мальчиков, и это оказывает несомненное влияние на проявление склонности к рисованию. Сказанное справедливо и относительно моторных функций.
При сравнении рисунков девочек и мальчиков одной и той же группы детского сада бросается в глаза разное содержание этих работ. Девочки изображают домики, деревья, цветы, пейзажи, людей. У сказочных принцесс обращает на себя внимание декоративное разнообразие портретов: сложные костюмы с рюшами, лентами, бантиками, кружевами, замысловатые прически. Среди мальчишечьих рисунков ничего подобного не встретишь. Там превалируют индустриальные пейзажи, машины, космические ракеты, танки и бронетранспортеры, иногда сверстники своего пола. Техника исполнения также дает основания судить об авторстве. Если листочек аккуратный, тщательно раскрашенный, с продуманной композицией, большим количеством мелких деталей, изображение на нем статичное, иллюстративное – это работа девочки. Если размашистые штрихи, нередко рвущие бумагу, экспрессия, динамизм, масштабность, приблизительность – значит, работа принадлежит мальчику. Часто, но не обязательно. Все мы знаем спокойных, рассудительных мальчиков, рисунки которых отражают их характер, и озорных сорвиголов женского пола, в рисунках которых обязательно проступит нетерпеливость и стремительность.
Начиная приблизительно со второго года жизни и на протяжении всего раннего детства мальчики боязливее девочек в сфере контактов. Они замолкают, прячутся за спину мамы или папы, когда взрослые встречают во время прогулки своих знакомых. Им нужно больше времени, чтобы привыкнуть к пришедшему гостю, взять у него подарки, начать отвечать на вопросы. Зато мальчики более смело прыгают на батуте, катаются на карусели, садятся на свой первый велосипед, становятся на коньки или ролики.
В центре внимания девочек маленький и уютный мирок. Это члены семьи, домашние животные, одежда, утварь, предметы обихода. Представляющее интерес пространство невелико, зато изучается оно подробно, тщательно, до мелочей. Для мальчиков гораздо интереснее большой и непонятный внешний мир, освоить который совсем не так просто. Может, поэтому так велик их интерес к средствам передвижения: самолетам, поездам, теплоходам, а позднее и к всевозможным географическим картам, другим способам ориентирования на местности?
Кто из мужчин в детстве не знал наизусть марки автомобилей, не увлекался моделированием? Зато в быту многое ускользает от внимания рвущихся вдаль сыновей. Путешествия, приключения, фантастика оказываются актуальнее повседневного домашнего быта. Мальчиков трудно приучить складывать на место игрушки, вешать в шкаф одежду, чистить обувь, не забывать причесываться. Почему? Во многом потому, что окружающая их в семье бытовая среда не вызывает такого непосредственного исследовательского интереса, как у девочек. Получается, что родителям приходится пробуждать в каждом конкретном случае некий косвенный интерес к обязательным домашним хлопотам.
Девочке приятно, когда она видит порядок после уборки в детской, а для мальчика ее возраста этот мотив еще «не работает». Вот если непорядок может помешать совместной с папой игре, тогда необходимость поддержания чистоты становится оправданной. Папа занят, ему нелегко выкроить время для авторалли или строительства крепости из конструктора, он не может ждать, пока сын сложит собранную вчера железную дорогу. В каждой семье нетрудно найти аргументы, которые помогли бы девочке и мальчику, каждому по-разному, выработать повседневные навыки аккуратности, опрятности и т. п. Главное – не ожидать от сына и дочери одинаковых реакций, подобных форм поведения, не укорять одного, ставя в пример другого.
«Мальчики и девочки приходят в разные миры», – считает Елена Джанини Белотти, директор специального центра Марии Монтессори в Риме, ведущего работу по психологической подготовке и практическому обучению родителей. Девочек раньше начинают приучать к самостоятельности (играть без присмотра, собирать игрушки, есть без помощи матери), однако только в домашней обстановке. Любое проявление агрессивности, излишней смелости, активности не очень поощряется.
И действительно, девочки более практичны и реалистичны, ведь их с самого раннего возраста традиционно как бы опускают на землю, раньше, чем мальчиков, знакомят «с прозой жизни». Вспомним, что мы дарим дочерям, во что играем с ними. Покупаем игрушечную посуду и показываем, как ее мыть, приносим новую куклу и учим шить ей платье. Как показывают специальные исследования, на игрушки для мальчиков тратят обычно больше денег, им предоставляют гораздо больший выбор занятий. Мальчикам разрешают больше играть и бездельничать, их живость, любознательность, неуемная энергия и активность воспринимаются гораздо более позитивно, чем те же качества девочек.
Девочки обычно заботливее мальчиков, они стремятся ухаживать за животными, опекать малышей. Когда годовалый брат произносит первые слова, пятилетняя сестренка проявляет больше участия, чем ее брат-близнец. Она старается помочь, поправить, повторить, подсказать слово, терпеливо учит правильно произносить сложные звуки. На более поздних возрастных этапах девочки также склонны поучать, наставлять и младших, и сверстников, причем критикуют они больше, чем взрослые. Вспомним придирчивую Мальвину, отправившую расшалившегося Буратино в чулан.
Психология половых различий наших детей отчетливо проявляется в игре, учебе, труде. Дошкольники очень любят играть. Видный немецкий психолог начала века В. Штерн, наблюдая особенности игры мальчиков и девочек, писал: «Уже маленькие девочки трех или четырех лет обнаруживают в своем отношении к кукле часто такую искренность выражения и тона, такую преданность и заботливость, такое тонкое чутье к предметным деталям ухода, что их как будто окружает подлинный ореол материнства.
Часто говорят, что мальчики тоже играют в куклы и что характер их игр зависит от воспитания. Однако мальчик совсем иначе обращается с куклой, чем девочка, лишь в исключительных случаях наблюдается при этом трогательное заботливое ухаживание; мальчик заставляет свою куклу прыгать и маршировать, проделывать разные штуки, сажает ее в качестве седока в тележку, верхом на игрушечных животных, свидетельствует ее как доктор пациента – и вскоре бросает ее».
Мальчики больше любят конструировать, изобретать, поэтому неистощим их интерес к различным орудиям труда, инструментам и механизмам. Если девочка лучше чувствует назначение вещи, понимает, как ее применять, то мальчик стремится разобраться в ее устройстве, понять, из чего она состоит, как работает. Девочка бросает сломанную игрушку, которая вызывает неприятные эмоции, мальчик же эту игрушку подбирает. Для него отслужившая вещь – не воспоминание о подарке, а полный новых возможностей предмет, которому обязательно найдется применение. Отсюда и беспорядок в комнатах мальчиков, множество с виду никуда не годных деталей, колесиков, винтиков, коробок и гаек.
Различаются ли интеллектуальные способности сыновей и дочерей? Экспериментальные исследования показывают, что ни один пол не превосходит другой, хотя различия, безусловно, есть, и их немало.
Десятки лет пишут о том, что у мальчиков более развиты математические способности. На самом деле все не так однозначно. Реальные различия между полами фиксируются только в студенческом возрасте. А в школе девочек-отличниц больше, хотя на олимпиадах побеждают все же чаще мальчишки. Ученые считают, что девочкам просто не хватает уверенности в своих математических способностях. Почему? Да потому, что все вокруг считают, что математика – не женское дело. Учителя зачастую больше содействуют мальчикам в отношении усвоения математических знаний. Есть даже специальные исследования, в которых зафиксировано, что девочки несопоставимо чаще получают неодобрительные комментарии со стороны учителей, их реже вызывают к доске, меньше хвалят, что приводит к очевидной диспропорции между количеством юношей и девушек в технических вузах.
Когда ученые провели сравнительные исследования с представителями разных культур, оказалось, что в культурах, предоставляющих женщинам больше возможностей сделать успешную карьеру, предполагающую использование математических знаний, обнаруживается меньше различий между полами в решении математических задач. А вот в странах, где женщины традиционно не делают подобной карьеры, различия оказываются значительными.
Получается, что умственные способности не заданы в соответствии с половой принадлежностью и в среднем равны у мальчиков и девочек, хотя и проявляются по-разному вследствие непохожести потребностей и интересов, разного опыта познавательного развития, непохожих ожиданий родителей, различных культурных влияний.
Почему все-таки, спросит читатель, в младших классах так много девочек-отличниц? Причин несколько. Девочки более спокойны и послушны. Они легче взаимодействуют с незнакомым взрослым, признают авторитет учителя. Они быстрее адаптируются в незнакомой школьной обстановке, привыкают к новым правилам, подчиняются дисциплине. Они терпеливее, усидчивее, старательнее, что помогает высидеть все уроки и еще выполнить домашние задания. У девочек лучше развиты коммуникативные навыки, они быстрее вливаются в новый коллектив. Кроме того, девочки лучше владеют речью (они же несколько раньше мальчиков начали в свое время говорить), у них больше запас слов, они чаще пользуются сложными грамматическими конструкциями.
А почему тогда в старших классах ситуация с отличниками выравнивается? Почему мальчики догоняют или даже обгоняют девочек? Помогает прежде всего мальчишечья целеустремленность, конкурентность, дух соперничества. Для мальчиков очень важно побеждать, быть первыми, и они ради этого готовы на многое. Кроме того, предметы становятся интереснее, увлекают, и теперь уже оценки зависят не от старательности, а от развитой склонности к абстрактному мышлению, от умения обобщать, проявлять смелость и самостоятельность. Мальчики чаще пробуют новые способы решения задач, больше возражают учителям, смелее экспериментируют, в том числе и в сфере взаимоотношений с одноклассницами.
У девочек-старшеклассниц по сравнению с мальчиками-ровесниками раньше меняются приоритеты. Многие девочки активно переключаются с учебы на романтические отношения. Их занимают мечты о счастливом будущем, влюбленности, увлечения, страдания из-за одиночества, непонимания, муки ревности и т. п. В учебе же девочки остаются более аккуратными, чем мальчики, но им все эти школьные премудрости уже не кажутся важными. Если семья требует отличных оценок, если мама очень хочет видеть свою дочь среди отличниц, а папа обещает зарубежную поездку, она, возможно, будет по инерции хорошо учиться, хотя мотивация останется невысокой.
Успеваемость в школе (как и будущие профессиональные успехи) – вовсе не показатель уровня развития умственных способностей. Это скорее показатель наличия сильного характера, высоких притязаний, целеустремленности, умения преодолевать трудности, яркой мотивации как у ребенка, так и нередко у его родителей.
Что касается мужского и женского мышления, то, повторюсь еще раз, ни один пол не имеет преимуществ. Просто мальчики и девочки мыслят по-разному. Девочкам не всегда хватает общего взгляда на предмет, потому что их слишком увлекают детали. Мальчики легче отделяют существенное от второстепенного, смелее обобщают, предлагают более оригинальные решения задач. Это видно еще с дошкольного возраста, когда детям попадает в руки конструктор, например. Мальчики начинают строить город, окруженный крепостной стеной, на который нападают завоеватели. А девочки строят отдельный маленький домик для семьи, правда, с садиком, бассейном и даже теннисным кортом.
Прав был Редьярд Киплинг, когда говорил, что женская догадка иногда значит больше, чем мужская уверенность. Решая задачи, девочки чаще пользуются интуицией, а мальчики – логикой. У мальчиков несколько иной словарный запас за счет знания более общих понятий, чего-то особенного, специального, выходящего за рамки повседневного опыта. У них чаще встречаются глаголы и междометия, что косвенно свидетельствует о внутреннем динамизме психической жизни, стремлении не созерцать, а преображать, видоизменять. Речь девочек скорее предметно-оценочная, чаще встречаются существительные и прилагательные, которые украшают, расцвечивают фразы.
Когда сын и дочь одновременно пытаются рассказать родителям о том, что с ними случилось во время экскурсии, оказывается, что девочка основное внимание уделяет не описанию реального хода событий, а своим эмоциям, переживаниям по поводу происшедшего. Сын старается больше осветить фактическую сторону дела, описать новое содержание, дочь – личностную.
Интересно, что после просмотра остросюжетного фильма у юношей улучшается настроение и повышается самооценка. Они как бы подзаряжаются энергией, становятся активнее, подвижнее, чем перед началом фильма. А девушки после того же фильма чувствуют не прилив активности, а истощенность, усталость.
Возможно, причина в том, что юноши следят за динамичным сюжетом, идентифицируя себя со смелым, решительным, побеждающим всех врагов героем. Они восхищаются его ловкости, умению драться, предвидеть неприятности, обыгрывать врагов. Девушки же волнуются за многих героев и героинь одновременно, пугаются происходящего, страдают вместе с персонажами, сочувствуют побежденным и очень устают от всех этих разнообразных сопереживаний.
Итак, эмоциональный мир растущих в семье сыновей и дочерей не идентичен, как не идентичен он и у родителей. Девочки более чутки к похвалам и порицаниям старших, принимают оценки родителей ближе к сердцу. Их легче рассмешить, обрадовать, довести одним только хмурым выражением лица до слез. Они более обидчивы и ранимы. Если вы высказываете дочери свое порицание в иронической форме, она реагирует прежде всего на насмешливый тон, а уж потом на содержание. Вообще, девочки тяготеют к крайностям в своих эмоциональных реакциях. Вспомним Шекспира:
- Страшится или любит женский пол –
- В нем все без меры, всюду пересол[6].
Эмоциональные проявления мальчиков больше обусловлены содержанием происходящего, чем формальными признаками типа тона, интонации, мимики, подтекста. В ответ на появление чего-то нового у мальчиков возникает вопрос: «Что это?», «Для чего предназначено?», в то время как девочки начинают с оценок «нравится – не нравится», «красиво – некрасиво». И мальчики, и девочки хохочут или плачут над книгой или во время просмотра фильма, но не всегда в одно и то же время, по одному поводу. Девочки более внушаемы, зависимы от мнений окружающих, общепринятых эталонов и стандартов.
Среди мальчиков тоже встречаются чуткие, ранимые, тревожные, но они чаще это скрывают, стараются не обнаружить своих переживаний. Почему? Конечно, в связи с отношением окружающих, культурными традициями. Ведь женская эмоциональность трактуется обычно как естественность, непосредственность. Девочкам до определенной степени простительны и капризы, и несдержанность. Те же реакции мальчиков воспринимаются родителями как слабость, нервность, болезненность.
Что касается агрессии, то обычно считается, что она более характерна для мальчиков, юношей, мужчин. Правда ли это?
Известно, что от года до трех мальчики пытаются использовать агрессивные действия по отношению к родителям, бабушкам и дедушкам – например, толкают, бросают в них игрушки, когда хотят привлечь внимание взрослых. И позднее они чаще девочек проявляют импульсивность, несдержанность. В одном из психологических исследований мальчиков и девочек дошкольного возраста в одинаковой мере провоцировали к агрессии. Как оказалось, мальчики легче поддаются на такие провокации и отвечают «боевыми» действиями вдвое чаще девочек.
Однако девочки, особенно начиная с подросткового возраста, явно опережают мальчиков в так называемой непрямой агрессии. Если мальчики гоняются за обидчиком, используют драки, дразнилки, подножки, то девочки чаще объявляют объекту агрессии коллективный бойкот, интригуют, сплетничают за спиной, наговаривают одна на другую. В отдельных знакомых криминалистам случаях, которые встречаются реже, чем в ситуациях с мальчиками-подростками, жестокость девочек не уступает мальчиковой, в том числе и в физических расправах.
Представительницы женского пола чаще рассматривают агрессию, особенно такие ее косвенные формы, как демонстрация обиды или разрыв отношений, в виде эффективного средства выражения гнева, снятия напряжения, преодоления стресса. Противоположный пол, в целом чаще обращающийся к прямой агрессии, использует ее как инструмент, позволяющий быстро решать возникающие проблемы, добиваться преимущества в ситуации соперничества, побеждать врага и получать некое вознаграждение, например женское внимание.
Почему мальчики, юноши, мужчины агрессивнее девочек, девушек, женщин? Биологи считают, что в прошлом агрессивное поведение мужчин помогало им дольше жить, добиваться благосклонности женщин и передавать свои гены следующим поколениям. Те же, кому агрессивности не хватало, быстрее погибали, не успевая оставить потомство. Так что мужская агрессивность – один из результатов естественного отбора.
Отметим, что и сегодня многие представительницы прекрасного пола считают мужскую напористость и склонность к доминированию привлекательными чертами, то есть они выбирают в качестве партнеров более агрессивных мужчин, а потом страдают от грубости в супружеских отношениях.
Во многих культурах считается, что женщины, в отличие от мужчин, с самого детства формируются с выраженной направленностью на окружающих. Поэтому родители девочек стараются развивать в них дружелюбие, внимательность к интересам других людей, умение считаться с их потребностями, желание помогать, уступать, опекать. Относительно мальчиков у родителей обычно срабатывают другие установки. Мальчики должны расти сильными, независимыми, уверенными в себе, хозяйственными, умеющими за себя постоять. Так что получается, что различия в агрессии обусловлены существующими стереотипами в понимании гендерных ролей.
Какие еще различия между мальчиками и девочками беспокоят родителей? Например, формирование чувства ответственности. На первый взгляд, мальчики значительно уступают девочкам, чаще проявляя и дома, и в школе безответственность, необязательность, даже халатность. Почему? Разве мы не стараемся привить и дочерям, и сыновьям все эти необходимые свойства и качества? Стараемся, но по-разному.
Девочки в большинстве своем тише и прилежнее, лучше ориентируются в повседневных мелочах, им проще давать задания, поручать определенные дела. А мальчики вечно пытаются выйти за рамки очерченных обязанностей, привнести что-нибудь свое, привлечь других участников. С ними хлопотно, неспокойно. Поэтому и в семье, и особенно в школе от девочек больше требуют, но в то же время им больше доверяют. Чему же удивляться, если взрослые явно предпочитают исполнительность новаторству?
По признанию учителей, во внеклассных делах, например в туристических походах, безалаберные мальчишки оказываются и серьезными, и деловитыми, и активными. Сетуя на их повседневную безответственность, взрослые забывают, что интересы подростков-сыновей нередко шире, чем дочерей, психологическое пространство богаче, сложнее, поэтому они и отвлекаются на несущественные, как нам кажется, дела, забывая о скучных непосредственных обязанностях.
Чтобы говорить о развитии чувства ответственности у вашего тринадцатилетнего сына, подумайте, в чем оно должно проявляться. Не рассчитывайте, что сможете сделать правильные выводы, исходя из усердия в выполнении домашних заданий, которое так радует вас у его сестренки. Другое дело – такая сфера деятельности, в которой требуется быстрота реакции, риск, умение принимать серьезные решения. Нашим мальчишкам такой всамделишности, взрослости гораздо больше не хватает, чем мы можем себе представить. Может, в этом корень многих зол, особенно тех, что связаны с нарушениями поведения, противоправными действиями?
Отклонения в поведении мальчиков-подростков более заметны. Мальчики зачастую их не скрывают. Им нравится демонстрировать негативное отношение к правилам, потому что это выглядит для них как проявление взрослости. Девочки свое неприятие некоторых норм до поры до времени скрывают, маскируют. Они во многом осторожнее, гибче, а не законопослушнее.
Психологи, работающие с неблагополучными подростками, находящимися на учете в детских комнатах милиции, подтверждают, что если уж девочки трудные, то они труднее мальчиков. Их чрезмерная эмоциональность и импульсивность, скрытность и эгоцентризм, утонченная лживость, склонность к внешним эффектам, желание любой ценой произвести впечатление на окружающих затрудняют профилактику отклонений в поведении.
Приведем далекий от правонарушений безобидный пример детского нарушения определенных норм поведения. Для этого отправимся в любую школу и понаблюдаем за поведением девочек и мальчиков во время перемены. Почти наверняка увидим, как несущийся по коридору сломя голову третьеклассник налетает на учительницу. Его останавливают, стыдят, приводят в пример спокойно стоящих в сторонке девчушек. А девочки между тем тихонько злословят по поводу немодного учительского костюма, лишнего веса, смешно накрашенных губ. Кто же, спрашивается, ведет себя менее этично?
Среди ярких отличий между мальчиками и девочками обычно называют способность к эмпатии, чувствительности к переживаниям других людей. Склонность к сочувствию и сопереживанию наблюдается у представительниц женского пола чаще на всех ступеньках возрастного развития. Родители рассказывают, что у их дочерей чуть ли не с годовалого возраста можно наблюдать умение заражаться чужим весельем или страхом, а с мальчиками приходится специально заниматься, чтобы научить их различать эмоции окружающих. Даже если это преувеличение, оно является довольно распространенным.
В чем причина такой разной эмпатичности мальчиков и девочек? Многое определяется ожиданиями взрослых, их предубеждениями. Оказывается, если психологи предлагают тесты, измеряющие эмпатию, по содержанию которых это не очевидно, то и половые различия практически не фиксируются. Мальчики, юноши, мужчины далеко не всегда хотят, чтобы окружающие видели их эмпатичность. Ведь ее можно трактовать как слабость, несамостоятельность, немужественность. А вот девочки демонстрируют эмпатийную отзывчивость с удовольствием, поскольку их этому учат и за это всячески поощряют.
Быть понимающим, заботливым, ласковым и не скрывать это для представителей мужского пола довольно трудно. Поэтому вполне возможно, что еще в детстве мальчики учатся маскировать свою отзывчивость, чтобы над ними не смеялись сверстники, не обзывали их девчонками. А мы, взрослые, им в этом помогаем, подчеркивая, что мальчики должны контролировать свои эмоции.
У будущих мужчин всегда меньше опыт в сфере проявления чуткости, участливости, чем у будущих женщин. Однако если жизнь складывается так, что одиноким мужчинам приходится заботиться о своих детях, они проявляют заботу, внимание, сочувствие в не меньшей мере, чем женщины. Когда общество не осуждает, мальчики могут быть очень сочувствующими, ласковыми и заботливыми, как, например, с собственными домашними животными. Хотя и тут они предпочитают проявлять «телячьи нежности» наедине с любимой собакой, чтобы никто не видел и не слышал, как они общаются.
Зададимся вопросом: хотим ли мы воспитывать наших сыновей подчеркнуто мужественными, а дочерей – женственными? И знаем ли, к чему приводит такое максимальное соответствие общепринятым стереотипам?
Оказывается, если девочки растут очень женственными, предельно соответствуя в своих установках и реакциях полоролевому стереотипу, у них обычно отмечается повышенная тревожность и низкое самоуважение. Мальчики, формирующиеся по высокомаскулинному типу, в подростковом возрасте чувствуют большую уверенность в себе и удовлетворены своим статусом в группе сверстников. Однако, как показывают специальные исследования, после тридцати лет эти мужчины оказываются в числе более тревожных, менее уверенных в себе и не очень способных к лидерству.
Дети, поведение которых строже всего соответствует требованиям традиционной половой роли, могут отличаться более низким интеллектом и меньшими творческими способностями. Напротив, индивиды, относительно свободные от жесткой половой типизации, обладают более богатым поведенческим репертуаром и психологически более благополучны. Привожу эти данные главным образом для тех родителей, которые возводят половые различия в абсолют, всячески противопоставляют сыновей и дочерей, их интеллектуальные и эмоционально-волевые возможности, способности, интересы.
Плохо, когда мы воспитываем бесполого, усредненного ребенка. Но не лучше бросаться в другую крайность и развивать только традиционно женские у девочек и традиционно мужские у мальчиков качества. Воспитание должно быть ориентировано на индивидуальность каждого конкретного ребенка с учетом темпа его возрастного развития, типологических, характерологических, а не исключительно различий, связанных с полом, и принятых в обществе стереотипов.
Отметив специфику развития индивидуальности подрастающих мальчиков и девочек, все же уточним, что половым различиям в интернете, популярной прессе, книгах для родителей придают зачастую больше значения, чем они того стоят. Пишущие на эту тему журналисты норовят подчеркнуть полярность, полную противоположность женского и мужского, опираясь, например, на древнекитайские характеристики инь и ян. На самом деле в современном мире индивидуальное своеобразие всегда перевешивает различия, связанные с полом.
Некоторые мужчины очень любят давний миф о собственном превосходстве, прежде всего интеллектуальном. Так делаются выводы о женской неспособности учиться, осваивать творческие профессии. Отдельные далеко идущие авторы поднимают публикации столетней давности, в которых утверждается, что образование для женщин – вещь вредная, потому что вызывает множество стрессов, приводит к нарушениям менструального цикла и ослаблению материнских инстинктов. Эти «специалисты» недалеко ушли от некоего Н. Кларка, который примерно сто лет назад писал об ужасном мозге и слабом теле женщин, аномально высокой церебральной активности и плохом пищеварении, путанице в мыслях и запоре в кишках. Он предупреждал, что равное образование для мужчин и женщин – преступление перед Господом и человечеством. Кстати, книга Кларка была в свое время такой популярной, что на протяжении 13 лет выдержала 17 изданий[7].
И хотя сегодня подобные высказывания кажутся нам смешными, факты говорят о другом. Посмотрите, сколько женщин в нашей стране руководят бизнесом, являются ректорами вузов, становятся министрами или депутатами. И это беда вовсе не только государств, развивающихся на постсоветском пространстве. Так, в конце 1990 года среди глав наций мужчин было 96 %, среди министров – 97 %, а в конгрессе такой демократической страны, как США, – 98,6 %[8].
Так есть все-таки преимущественно мужские или женские черты характера, свойства личности? Американские исследователи из университета Рочестера среди мужских и женских характеристик отобрали откровенность, общительность (экстравертированность), эмоциональную устойчивость, мягкость и честность. Осуществив метаанализ данных, полученных многими исследователями, которые занимаются этой проблемой, они попытались понять, можно ли по определенному сочетанию этих характеристик понять, о ком речь. Вам кажется, что это элементарно? Ан нет! Оказалось, что по набору этих личностных (и любых других) черт никак не угадать, о ком, собственно, речь – о мужчине или о женщине.
И мужчины, и женщины могут быть общительными и откровенными, как и наоборот. И те и другие демонстрируют очень разную эмоциональную устойчивость, в разных жизненных ситуациях проявляют мягкость и жесткость, честность и лживость. Соотношение уверенных и неуверенных в себе мужчин приблизительно такое же, как и среди женщин.
Так что же – половых различий нет? Есть, конечно. Но их совершенно недостаточно, чтобы автоматически относить человека мягкого и общительного к женскому полу, а резкого и скрытного – к мужскому. Так что будем стараться осознавать гендерные стереотипы, в плену которых мы часто находимся. И будем помнить, что, по современным данным, доказанных психологических отличий между полами всего 5 %. Остальное – плоды воспитания, результат влияния окружающей среды, предубеждения, которых немало в массовом сознании, влияющем на каждого из нас.
Что такое гендер? Это набор принятых в данной социальной среде, закрепленных в культуре характеристик, определяющих поведение и взаимоотношения представителей мужского и женского пола. Пол – естественное физическое явление, а гендер – культурно обусловленный статус. Соответственно, гендерные стереотипы – существующие в массовом сознании не вполне осознаваемые установки в отношении отличительных черт мужчин и женщин, их основных функций и социальных задач.
Стереотипы помогают нам быстрее понимать друг друга, эффективнее участвовать в совместной деятельности, потому что благодаря им мы оперативно настраиваемся друг на друга, знаем, чего нам ожидать от общения. Однако нередко эта настройка оказывается неточной, искаженной, и тогда стереотипы начинают мешать.
Например, в обществе до сих пор бытует традиционный стереотип относительно роли женщины преимущественно как хранительницы домашнего очага. Особенно очевидными становятся гендерные стереотипы в рекламе, когда женщины сравнивают эффективность стиральных порошков, средств для мытья посуды, принимают соблазнительные позы, предполагающие мужское внимание. Девушкам предлагается уметь обольщать, доставлять удовольствие и быть хорошими хозяйками. Аналогично стереотипы, касающиеся мужчин, предполагают умение идти напролом ради успеха, выгоды, победы, ни перед чем не останавливаясь и ни о чем не жалея. Думается, далеко не все родители хотят для своих дочерей и сыновей именно такого будущего.
А чего же хотят от себя как представителей мужского или женского пола сами дети? Как они усваивают половые роли? Остановимся подробнее на проблеме формирования у ваших сыновей и дочерей отношения к себе как будущему мужчине или будущей женщине.
Психологический пол
Что такое психологический пол? В каком возрасте он начинает формироваться? Почему так важно родителям знать об особенностях его становления у собственных детей?
Мы привыкли автоматически указывать в анкетах свой пол, не задумываясь над тем, о чем именно нас спрашивают, какой пол имеется в виду: биологический с его генетическими, морфологическими, физиологическими особенностями или социальный, отражающий нормативы данного исторического периода, национальные, региональные, семейные традиции. А может, нас спрашивают о том, представителями какого пола мы себя чувствуем и осознаем, то есть речь идет о психологической половой принадлежности?
Пол – не изначальная данность, если говорить не о физиологии, а о психологии. Осознание ребенком, а затем и подростком, юношей, молодым человеком своей половой принадлежности, принятие ее происходит постепенно, иногда довольно драматично и длится долгие годы.
Трудно возразить известному исследователю этой проблемы Игорю Семеновичу Кону, который пишет: «…Люди не рождаются мужчинами или женщинами, а становятся ими, и в этом процессе важную роль играют социальные и культурные факторы»[9].
Понятие «пол» включает комплекс репродуктивных, общесоматических, психологических, поведенческих, социальных характеристик, определяющих развитие индивидуальности ребенка по мужскому или женскому типу. Оговоримся сразу, что как мужских, так и женских типов индивидуальности вовсе не две, а намного больше, как немало и переходных форм.
Идея противоположности мужского и женского начал – одна из базисных в истории культуры. В массовом сознании эта оппозиция звучит приблизительно так, как жизнь и смерть, день и ночь, добро и зло, свет и тьма. Античные мыслители противопоставляли мужское и женское как разум и чувственность, а в Средневековье популярной стала оппозиция «душа – тело». Надо ли уточнять, что мужчина ассоциировался с разумом и душой, а женщина – с чувственностью и телом? Платон вообще считал, что мужчина – это норма, а женщина – отклонение.
Средневековые исследователи подчеркивали, что внутренний мир – достояние только мужчины, и поэтому именно они могут быть моральными и духовными наставниками над таким беспомощным существом, как женщина. Позже Жан-Жак Руссо развивал идею о естественности, природности женщины и общественности мужчины. Невероятно популярный на рубеже ХХ в. юный исследователь Отто Вейнингер, написавший бестселлер «Пол и характер», категорично настаивал на космической противоположности полов, уверяя, что мужчина живет осознанно, а женщина – нет.
И хотя массовое сознание до сих пор пребывает под влиянием старых идей о субординации мужского и женского как интеллектуального и эмоционально-чувственного, первичного и вторичного, доминантного и подчиненного, мы будем помнить, что это не более чем предубеждения, и вариантов формирования психологического пола, включающего разнообразные мужские и женские характеристики, достаточно много.
Бывает, что биологический и психологический пол в результате некоторых эндокринных и других аномалий входят в противоречие друг с другом. Природные задатки сталкиваются с неблагоприятными условиями социализации или нарушается развитие в утробе матери во время дифференцирования плода по мужскому или женскому типу. В результате появляются транссексуалы, люди, не принимающие свой биологический пол, ощущающие себя в промежуточном состоянии между противоположными полами.
Транссексуальность считается расстройством половой идентификации, при котором гендерная идентичность человека не соответствует полу, указанному при рождении. Транссексуальные люди в процессе взросления испытывают тяжелые внутренние конфликты из-за того, что их самоощущения не соответствуют ожиданиям окружающих. В результате неприятия со стороны семьи, дискриминации со стороны сверстников многие пребывают в состоянии хронического стресса, депрессии, что толкает их на так называемый трансгендерный переход, то есть смену пола.
Разумеется, далеко не все транссексуалы категорически не принимают собственного биологического пола. Для многих из них достаточно время от времени переодеваться в одежду противоположного пола, проводить время среди людей, разделяющих их пристрастия. Иногда они даже остаются в семье и на работе в общепринятых рамках, играя привычные гендерные роли, только изредка позволяя себе подобные поведенческие вольности. Таких людей называют трансвеститами.
Среди трансвеститов-знаменитостей – бородатая певица из Австрии Кончита Вурст, являющаяся мужчиной в женском облике. Что касается популярного персонажа Верки Сердючки, в которую много лет успешно перевоплощается артист Андрей Данилко, то это скорее эксплуатация комического образа трансвестита.
Те, кто думает, что трансвеститы и транссексуалы появились недавно, глубоко ошибаются. Эти нарушения в формировании психологического пола были всегда. Вспомним в этой связи «Гусарскую балладу», фильм, созданный по мотивам реальной жизненной истории гусар-девицы, прославившейся во время Отечественной войны 1812 года. В фильме, правда, женственная Лариса Голубкина ничем не напоминает реальный прототип, который как раз и был трансвеститом.
Мать гусар-девицы Надежды Дуровой очень хотела родить сына, потому что надеялась, что именно сын поможет ей примириться с родителями, против воли которых она вышла замуж. Имя мальчику было придумано заранее, будущая мать постоянно общалась со своим долгожданным сыном, когда он еще находился в утробе. И когда на свет появилась дочка, причем очень крупного телосложения и покрытая густыми темными волосами, мать была в отчаянии и даже чуть было не задушила своего ребенка. Поскольку малышку в семье не принимали, отец отдал ее на воспитание гусарам. С самого раннего возраста девочка оседлала коня, играла пистолетом и саблей, не боясь пьяных мужиков, темноты или одиночества.
И хотя бабушка с дедушкой постарались выдать внучку замуж, что завершилось рождением мальчика, все же традиционные женские роли были Надежде совершенно чужды. Поэтому она сбежала от мужа и сына, когда малышу не было и года, и больше никогда с ними не виделась. По специальному разрешению императора ее зачислили в армию под именем корнета Александра Соколова. Надежда прослужила в армии десять лет, имела боевые награды, курила трубку, говорила о себе только в мужском роде, была ранена и даже некоторое время состояла при Кутузове адъютантом. Надежда прожила около 83 лет и была похоронена в Елабуге. Собственную жизнь она описала в книге «Кавалерист-девица. Происшествие в России», высоко оцененной А. С. Пушкиным и В. Г. Белинским.
Транссексуальные женщины выбирают для себя гипермаскулинные профессии: становятся спасателями, пожарниками, грузчиками, следователями. А мужчины-транссексуалы погружаются в мир моды, становятся стилистками, визажистками, певицами, светскими львицами. Неприятие себя в качестве мужчины или женщины бывает настолько сильным, что транссексуалы иногда готовы не просто надевать одежду противоположного пола (как трансвеститы), моделировать вторичные половые признаки, делать соответствующие прическу и макияж, но и принимать огромными дозами гормоны, делать разнообразные пластические операции по увеличению груди, губ, изменению носа или век.
Чтобы наглядно представить себе психологические проблемы, с которыми сталкиваются мужчины-транссексуалы, стоит посмотреть прекрасный фильм классика современного кинематографа Педро Альмодовара «Все о моей матери». Случается, что транссексуалы не выдерживают издевательств со стороны окружения и добровольно уходят из жизни.
На протяжении многих лет транссексуалы пытаются привести свое тело в соответствие с внутренним ощущением себя представителем другого пола. Некоторые добиваются разрешения медицинских комиссий и делают радикальные операции, после которых неизбежной становится пожизненная гормональная терапия. Но еще сложнее – формирование нового образа себя, перекодирование гендерной идентичности с мужской на женскую или наоборот.
Антропологи, социологи, медики, психологи используют сегодня термин «третий пол» для описания людей, которых трудно четко дифференцировать по половому признаку и которые сами не идентифицируются ни как мужчина, ни как женщина. Имеется в виду некое промежуточное состояние между мужчиной и женщиной, «женская душа в мужском теле», или наоборот.
Все больше стран юридически признают существование «третьего пола», то есть людей, рожденных с признаками обоих полов. Это Австралия, Бангладеш, Индия, Пакистан, Новая Зеландия, Германия, Бельгия, Бразилия, Косово, Непал. В Германии, например, проживает до 100 тысяч интерсексуалов. Они могут не указывать в графе «пол» ничего или писать вместо «мужской» или «женский» просто «иное». В таком случае родителям не приходится делать крайне сложный выбора и их дети, став взрослыми, самостоятельно решают, какой пол будет для них предпочтительным. В странах, официально не признавших третий пол как данность, при рождении ребенка с такой патологией право выбирать пол предоставляется родителям, и сделать такой выбор им чрезвычайно трудно. Нередко оказывается, что на основе скоропалительного родительского решения хирурги сначала устраняют признаки одного пола, а через несколько лет вынуждены снова готовиться к смене пола уже по требованию подросшего человека.
Самой природой поставленные эксперименты с половой принадлежностью показывают, насколько непростая задача – формирование психологического пола, осознание родителями себя полноценными представителями своего пола, от чего в значительной мере зависит и принятие ребенком своей мужской или женской природы, переживание себя будущим мужчиной или женщиной.
Осознание себя мальчиком или девочкой, как знают опытные мамы, вырастившие и сыновей, и дочерей, происходит постепенно, шаг за шагом. В 6–8 месяцев малыши уже явно различают мужчин и женщин из близкого окружения, которые о них заботятся, по-разному взаимодействуют с ними. В полтора года у большинства детей отмечается первичная идентификация себя с определенным полом, самое раннее представление о своей половой принадлежности. В это время, по данным специалистов, в 90 % случаев дети правильно различают, не путают представителей мужского и женского пола. «Ева – девочка!» – эту фразу ребенок произносит раньше, чем заменяет собственное имя местоимением «я».
До двух лет дети усваивают первые игровые роли, отвечающие их половой принадлежности. В магазине игрушек девочки уверенно направляются к куклам и мягким игрушкам, а мальчики – к кубикам, пирамидкам, мячикам и другим предметам, которыми можно манипулировать. Двухлетки предпочитают рассматривать картинки с изображением детей своего пола: мальчики – мальчиков, девочки – девочек. В два с половиной года 75 % детей уже не просто знают свой пол, но и доказывают, что они мальчики или девочки, обижаются, когда взрослые шутя «путают» их половую принадлежность. До трех лет дети не только правильно определяют пол окружающих, но и знают, что в зависимости от него у человека могут быть разные занятия. «Дяди не пекут пироги, а тети не ремонтируют мотоцикл!» – трехлетние малыши в этом убеждены. Однако они же иногда заявляют, что мальчик, когда вырастет, сможет стать мамой.
К трем годам пол еще не становится для ребенка чем-то окончательным, данным человеку на всю жизнь. И в то же время на этом возрастном этапе заостряется поляризация типичных для определенного пола характеристик. В четыре года даже нетипичная одежда или прическа взрослого не сбивает ребенка с толку, не мешает узнаванию дяди или тети. Малыш ориентируется теперь не на одно какое-то качество, например голос, платье или усы. Он уже способен обобщать, синтезировать увиденное, соотносить определенные показатели между собой. Начинают осознаваться типичные занятия разнополых взрослых. Пятилетки с удовольствием расскажут вам, какие профессии соответствуют тому или иному полу. «Тети бывают мамами, воспитательницами, врачами, продавщицами, а дяди – папами, водителями, регулировщиками, начальниками».
В это же время у дошкольников формируются и более абстрактные составляющие полоролевых стереотипов. Они считают, что мальчики зачастую умнее девочек, но ведут себя более шумно и не слушаются. А девочки обычно более маленького роста и ведут себя тише, послушнее. Отметим, что так думают не мальчики, а представители обоих полов.
В раннем детстве постоянство половой принадлежности не осознается. Даже в 4–5 лет ребенку может казаться, что в будущем он легко превратится в представителя другого пола, если захочет. По воспоминаниям моей коллеги, она окончательно смирилась с необходимостью считать себя девочкой, когда осознала, что не сможет быть солдатом, служить в армии, и это открытие переживалось очень болезненно. Некоторое время еще казалось, что можно все изменить, если очень постараться, научиться скрывать свою половую принадлежность – например, научиться мочиться стоя, как мальчики. И некоторое время девочка старательно и безуспешно училась. Позднее «обреченность» оставаться девочкой оформилась окончательно, появилась потребность в обществе себе подобных, а с ней и сугубо девичьи интересы, игры, стиль поведения.
Необратимость половой принадлежности становится в сознании ребенка окончательной к 6–7 годам. Он понимает и принимает, что будет расти мальчиком или девочкой и останется представителем соответствующего пола навсегда.
У мальчиков, растущих в нашей все еще патриархальной культуре, ощущение преимуществ собственного пола формируется раньше, чем у девочек, и без особого влияния старших. Дети обоих полов уверены, что быть мальчиком приятнее, важнее, лучше. Родители могут и не подозревать, что такие мысли нередко посещают их сыновей и дочерей. Девочки, а позднее и девушки, молодые женщины неоднократно возвращаются к вопросу желанного и реального пола, например, когда в семье явно чувствуются родительские сожаления по поводу отсутствия сыновей или когда на более поздних возрастных этапах они сталкиваются с непрестижностью «женской доли».
Половые различия, проявляющиеся в характере взаимоотношений с ровесниками, формах активности и заметные еще в 3–5 лет, усиливаются к концу младшего школьного возраста. В то же время десятилетние дети уже не стремятся противопоставлять игры и занятия мальчиков и девочек. Они ищут общие интересы, обсуждают фильмы и музыку, вместе осваивают паркур или дзюдо, говорят о возможности получить в будущем одну и ту же профессию.
Недостаточно мужественные, мягкие и застенчивые мальчики, которые не очень-то принимаются ровесниками своего пола, с девочками общаются достаточно охотно. Как и наоборот, независимые, задиристые девочки легче приживаются в мальчишечьей среде. Но есть и существенное отличие: хотя девочки явно отдают предпочтение дружеским контактам с женственными ровесницами, их отношение к не очень женственным подругам тоже вполне терпимо. А вот мальчикам такой толерантности явно не хватает и они категорически отвергают «маменькиных сынков».
Один из важнейших периодов формирования психологического пола – подростковый возраст. Образ самого себя полностью переосмысливается, начиная с внешнего вида, что непосредственно сказывается на самооценке. Девочек, имеющих претензии к внешности, не устраивает чаще всего вес, особенности фигуры, форма губ, волосы. У мальчиков тоже много нареканий к собственному облику. Многих очень волнует рост, который запаздывает по сравнению с ростом ровесниц. Большинство мальчиков в 13 лет переживают из-за отсутствия красивых мышц, не той массы тела, не таких черт лица.
Не все родители знают, насколько их скрытные подростки недовольны собой, насколько их внешность не выдерживает, как им кажется, сравнения с внешностью более удачливых ровесников. Особенно болезненно это переживают девочки, которые делятся своими страданиями с подругами по несчастью в социальных сетях. Мамам и папам важно не отмахиваться от проблем своих детей и не высмеивать заявления сыновей и дочерей по поводу их явных и мнимых несовершенств. Очень желательно знакомиться с подростковыми форумами, которые нравятся вашим детям, чтобы иметь возможность косвенно обсуждать с ними их проблемы, говоря о текстах неких популярных блогеров. Так легче быть в курсе происходящего, не теряя доверия и влияния.
Разумеется, формирование психологического пола у мальчиков и девочек в подростковом возрасте имеет свою специфику. Для девочек ключевым моментом половой социализации становятся менструации. В доменструальный период девочка либо переживала неуверенность в себе как будущей привлекательной женщине, либо старалась и внешним видом, и манерами показывать, что ей безразлично, к какому полу она относится. Теперь у нее начинает формироваться новое отношение к собственной женственности, по-новому осознается собственная гендерная принадлежность со всеми ее преимуществами и ограничениями. Девочки примеряют на себя роли верной подруги, кокетки-соблазнительницы, разлучницы, невесты, будущей жены, матери. В то же время они осознают, каким привилегированным полом являются их ровесники-мальчики, которым не надо, например, бояться забеременеть или ежедневно выслушивать страшилки взрослых по поводу опасности вечерних прогулок в уединенных местах.
Не менее значимые преобразования происходят и в формировании психологического пола мальчиков-подростков. Приходится по-новому принимать свой внешний вид, который некоторых радует благодаря бурному скачкообразному росту и появлению вторичных половых признаков, а некоторых очень угнетает, если по сравнению с резко возмужавшими ровесниками они пока выглядят детьми. Явное учащение непроизвольных эрекций, ночные поллюции, эротические сновидения и фантазии, безусловно, влияют на принятие подростком собственной гендерной роли. Появляется потребность доказывать окружающим свою половую состоятельность и взрослость. Отметим, что юноши с ранним физиологическим созреванием чувствуют себя среди ровесников более уверенно и спокойно. Те же, кто созревает позднее, часто ведут себя более импульсивно, задиристо, демонстративно. Потребность мальчиков-подростков в поддержке и понимании родителей сочетается с неукротимым бунтарством, стремлением освободиться от любых запретов и ограничений.
Осознание собственного психологического пола продолжается долгие годы. Существуют различные этапы осознания себя мужчиной или женщиной, связанные с половым созреванием, вступлением в брак, рождением детей и другими не менее важными ступенями оформления индивидуальности. На каждом из этих этапов по-новому переосмысливается своя половая роль, появляются все новые нефизиологические признаки пола, обусловленного не хромосомами и гормонами, а социальными ожиданиями, культурными стереотипами, собственными индивидуальными особенностями.
Усвоение типичного для пола поведения является следствием целого комплекса причин, среди которых и такие «несерьезные», как выбор одежды, игрушек, имени для новорожденного, и гораздо более весомые – разные ожидания родителей, непохожие формы общения с детьми разного пола, неодинаковость требований.
Интересно, что если показать посторонним взрослым одного и того же ребенка примерно 9 месяцев от роду и объявить, что это мальчик, то его назовут более жизнерадостным, активным, бесстрашным, чем если бы они считали, что перед ними девочка. Когда взрослые увидят у ребенка слезы, то те из них, кто думает, что наблюдает девочку, объяснят их пугливостью, а те, кто уверен, что перед ними мальчик, свяжут плач скорее с гневом, чем со страхом. Причем мужчины, вообще более склонные к стереотипным высказываниям относительно пола ребенка, чаще станут утверждать, что если мальчик – значит, боец, а если девочка – трусиха.
Предрассудки относительно присущих мальчикам и девочкам черт бытуют не только среди взрослых, но и среди детей. По данным одного эксперимента, дети 5 лет описывали малыша, представленного им как мальчика, большим, некрасивым, шумным и сильным. Если этого же ребенка они описывали как девочку, то говорили о красоте, спокойствии, слабости.
Уже в младшей группе детского сада ребенок по-разному относится к детям своего и противоположного пола. Надо полагать, что он реагирует на какие-то специфические половые особенности, доступные его восприятию. Как указывают авторы многих работ по проблемам полового воспитания, ребенок обычно четко улавливает нормальный или ненормальный характер половых особенностей сверстников, воспринимая их комплексно. Не случайно дети с чертами половой неопределенности вызывают насмешки, неприязнь, отрицательные оценки. Может быть, невозможность ответить себе однозначно на вопрос о том, мальчик или девочка перед тобой, а если мальчик, то почему ведет себя как девчонка, вызывает состояние психического напряжения, которое и порождает неприязнь.
«Не надену эту футболку, она девчачья!» – решительно протестует пятилетний малыш, восьмилетний школьник, пятнадцатилетний подросток. Мама напрасно убеждает, что футболка куплена в отделе для мальчиков и на этикетке это написано, что одинаковые футболки вообще-то могут носить и мальчики, и девочки. Если ребенку показалось, что цвет ткани или рисунок свидетельствует о противоположной половой принадлежности новой вещи, он будет непреклонен. Оказывается, это не пустяковое упрямство, не каприз. Таким образом ребенок борется за признание в группе сверстников, не хочет быть отвергнутым. С подобными мотивами взрослым лучше считаться, ведь от оценок окружающих зависит и самооценка, отношение ребенка к себе.
У девочек самосознание зарождается и формируется несколько быстрее, чем у мальчиков. Они тоньше и глубже представляют собственное Я. С чего это начинается? Возможно, с более выраженного внимания к своей внешности, симпатиям окружающих. Девочки более заинтересованы складывающимися межличностными отношениями в группе, они вносят поправки в собственную деятельность, учитывая микроклимат, одобрения или осуждения любого из соучастников. Эти особенности женского мировосприятия со всей его пристрастностью хотя и влекут за собой множество искажений, субъективизма, однако в то же время способствуют созданию достаточно сложного Я – образа, в котором немалое место занимает устойчивое отношение к собственной половой принадлежности.
Образ Я мальчиков по процентному содержанию включенных в него характеристик сопоставим скорее с образом Я девочек двумя годами младше, чем с образом сверстниц. Девочки зачастую кажутся более зрелыми, чем мальчики, как со стороны физического развития и социальной ориентации, так и формирования познавательных интересов, эмоциональной устойчивости, произвольной регуляции поведения.
Говоря о себе, девочки нечасто обращают внимание на то, кто ходит в музыкальную школу, а кто – в бассейн. Они скорее анализируют взаимоотношения, говорят о симпатиях и антипатиях, о том, у кого есть братья и сестры, бабушки и дедушки, сообщают подружкам о том, кого из детей больше любят взрослые члены семьи, спорят ли между собой родители, если один из них наказал дочку.
Раннее развитие мальчика способствует повышению его престижа, уровня притязаний. Позднее развитие нередко сопровождается трудностями в общении, эмоциональной неуверенностью. Почему? Потому что образец, половой стереотип, на который мальчики обычно ориентируются, включает в себя такие качества, как высокий рост и физическая сила, и до юношеского возраста они воспринимаются как основные признаки мужского пола. Недостаточный рост, невыраженная мускулатура, по мнению подростка, – большой недостаток. Чтобы его скрыть, такой подросток подчеркивает свою якобы неотразимость в глазах сверстниц, фантазируя по поводу немалого сексуального опыта уже в 13–14 лет, предпринимая множество попыток получить разнообразные сведения в этой сфере.
Девочки до недавнего времени в меньшей степени, чем мальчики, стремились подчеркнуть свою половую принадлежность. Ускоренное созревание в подростковом возрасте многих из них не радовало, так как влекло за собой невольное отделение от сверстниц, повышенную стеснительность, неуверенность в себе. Психологические трудности были связаны с желанием замаскировать слишком явные вторичные половые признаки, сохранить детскую простоту товарищеских отношений с мальчиками.
Однако времена меняются, и сегодня большинство девочек с радостью замечают у себя формирующуюся грудь, а многие даже просят купить им лифчик задолго до того, как это действительно становится актуальным. Девочки активно используют декоративную косметику, красят волосы, выбирают откровенные наряды, при возможности делают себе татуировки, привлекая внимание противоположного пола. Так же, как и мальчики, они торопятся побольше узнать о сексе, будучи уверенными в том, что только так будут интересны сверстникам. Правда, мальчики прежде всего хотят пережить новые сильные эмоции, связанные с обладанием партнершей, с властью, которую дают такие контакты. А девочки мечтают о стойкой привязанности и уверены, что их покладистость гарантирует желанный статус любимой и единственной.
Что определяет пол в характеристике индивидуальности? Все или почти все возрастные особенности, о которых мы говорили в предыдущей главе, являются не просто возрастными, а обязательно половозрастными и по-разному проявляются у мальчиков и девочек.
Половые различия, независимо от того, реальны они или существуют в сознании как стереотипные ожидания, оценки, предубеждения, активно влияют на формирование индивидуальности вашего ребенка. Пол – это самая первая категория, в которой ребенок осмысливает собственное Я. Можно без преувеличения сказать, что личность подрастающего человека во многом создается его гендером.
Рассмотрим, как влияет на усвоение атрибутов своего пола отношение к ребенку со стороны его родителей, от чего зависит формирование полноценных не только физиологически, но и психологически будущих мужчин и женщин.
Родительские позиции и мужественность/женственность детей
Насколько мужественность или женственность детей зависит от их родителей? Как сказывается эмоциональная близость, привязанность ребенка к отцу и матери на формировании его личности? Каковы особенности половой социализации в неполной семье?
Семья – носитель культурных традиций, в том числе и гендерных. Ее роль в передаче тех или иных ценностных ориентаций, предпочтений, ожиданий от одного поколения к другому трудно переоценить. Самые первые, а значит, еще не осознанные представления детей о мужских и женских ролях возникают во время общения с мамой и папой, бабушками и дедушками. От того, насколько взрослые принимают свою индивидуальность, удовлетворены гендерными ролями, самореализуются в них, в значительной мере зависит и успешность принятия ребенком собственной половой принадлежности.
Родительские чувства не передаются по наследству и не возникают автоматически, как только в семье появляется новорожденный. Профессиональные таланты отца и матери могут никак не коррелировать с талантами воспитательными. Формирование заботливого и терпеливого, поощряющего и ограничивающего, оберегающего и поддерживающего отношения к сыну и дочке – длительный и сложный процесс. Превращение молодого человека и его спутницы в папу и маму во многом зависит от индивидуальной истории супругов, от того, в каких семьях они выросли, как к ним относились в детстве, насколько они сейчас хотят появления детей, готовы ли к радикальной перемене стиля жизни семьи, неизбежной при появлении малыша.
Влияет ли желанность рождения ребенка именно этого пола на его психическое развитие? Приводимые исследователями данные говорят о том, что влияние это достаточно сильное. Даже отношение будущей матери к своему еще не родившемуся малышу, радостное или тревожное, сказывается на его дальнейшем жизненном пути. А нескрываемое огорчение по поводу появления девочки вместо мальчика (или наоборот) оказывается травмой, последствия которой для всестороннего развития будущей индивидуальности трудно предугадать.
Башкирский писатель Мустай Карим в своей автобиографической повести «Долгое-долгое детство» вспоминает свои ранние впечатления, связанные с осмыслением того факта, что все вокруг ожидают рождения сыновей. Его Старшая Мать (у отца, по местным обычаям, было две жены, поэтому у мальчика две матери – названная и настоящая), повивальная бабка, брала ребенка с собой, когда отправлялась принимать роды. И мальчик слушал такие диалоги. Коренастый, ладно сбитый Черный Юмагул, помаргивая узкими глазами в припухших веках, умоляет Старшую Мать: «Пусть уж мальчик будет, уж пожалуйста, Мать, первенец ведь, вовек не забуду. Старшая Мать легонько коснулась его плеча. – Ладно, коль выбирать придется, выберу мальчика. Ступай, займись делом, – сказала и исчезла в дверях. – Уж пожалуйста, Мать, – у Черного Юмагула отчего-то дрожали губы».
Почему большинство отцов, да и не только отцов, так ждут сына? Предрассудки сильны. Еще Аристотель и Гиппократ писали о том, что женский плод обзаводится душой позже, чем мужской. А средневековый мыслитель Фома Аквинский считал, что женщина – это просто мужчина, не развившийся до предназначенного ему состояния. Характерно, что в «Пословицах русского народа», собранных Далем, из всех пословиц, посвященных женщинам, нет ни одной, в которой бы встречалось хоть одно доброе слово. Если говорить о пословицах и поговорках украинского народа, то тут ситуация другая. Например: «Жінка чоловікові подруга, а не прислуга», «Що мати навчить, то й батько не перевчить», «Дім держиться не на землі, а на жінці».
И все же влияние патриархальной культуры, господствовавшей на протяжении веков, трудно отрицать. Поэтому рождению мальчика в семье и сегодня многие отдают явное предпочтение. Проведите маленький опрос среди своих знакомых, сослуживцев, соседей. Спросите их, какой должна быть идеальная семья по составу. Вы увидите, что большинство опрошенных скажут: «В семье должно быть двое детей, мальчик и девочка, причем мальчик – старший, а девочка – младшая». Это характерно и для большинства детских книг.
Давайте сравним предпочтения родителей в отношении пола ребенка и связанные с ними ожидания. Чаще всего мальчика хотят иметь, надеясь, что он преуспеет в жизни, выдвинется профессионально, добьется уважения, «прославит» свой род. Что касается девочки, от нее ждут благодарности, возможности общения, помощи по дому, привязанности, поддержки, хороших манер, приятной внешности. Таким образом, желание иметь сына сопряжено с тем, кем он станет, а желание иметь дочь – с тем, что она может дать семье.
Кто из читателей не встречал отцов, с нетерпением ждущих появления сына? Бывает, что рождается ребенок «не того пола» и родители как будто смиряются, успокаиваются, однако подсознательно все же остаются настроенными на того малыша, о котором мечтали. В таких случаях воспитание невольно складывается так, что девочка растет больше похожей характером на мальчишку, любит бегать, прыгать, драться, рисковать, предпочитает брюки платьям, оказывается значительно независимее и самоувереннее своих сверстниц, товарищами называет прежде всего мальчиков, утверждая, что с глупыми девчонками, которые только и делают, что сплетничают, ей неинтересно.
В семьях, в которых долго ожидали появления дочери, а вместо нее получили второго сына, малыша больше нежат, ласкают, чем его старшего брата. Умиленно подчеркивают, что он якобы похож на девочку, потому что у него такие длинные ресницы, большие глаза, вьющиеся волосы. Радостно сообщают знакомым, как старушка в сквере, заглянув в коляску, воскликнула: «Какая славная у вас девочка!» Растущий в подобных условиях мальчик физически слабее своих сверстников, более пуглив, тревожен, зависим от взрослых. Он не стремится к подвижным играм, мальчишечьим шалостям. В детском обществе этот ребенок испытывает затруднения в контактах со сверстниками, не пользуется авторитетом, получает обидные клички.
Если в семье есть и мальчик, и девочка, но старшая – дочь, отношение к ней более требовательное, чем обычно бывает к девочкам. В ней, старшей, родители стремятся увидеть раннее профессиональное самоопределение, продолжение их занятий, повышенную ответственность и самостоятельность, не поощряя сугубо женских увлечений. Получается, что родители невольно воспитывают первого ребенка, кем бы он ни родился, «по мужскому типу». Конечно, так бывает не всегда, не во всех семьях, но, поскольку это явление не редкость, желательно, чтобы родители задумались о своем отношении к сыновьям и дочерям, учитывая принятые в обществе стереотипы.
На самом деле стереотипы имеют над всеми нами большую власть. Мы их зачастую не осознаем, но в то же время постоянно стремимся не нарушать общепринятых норм. Нам комфортнее, когда наши ожидания, оценки, поступки схожи с ожиданиями, оценками и поступками большинства. Так удобнее, понятнее и безопаснее.
Если поступаешь стереотипно, это не привлекает излишнего внимания. Поэтому вырваться из власти вездесущих и почти не осознаваемых стереотипов не так-то просто. Чтобы это получилось, попробуем честно признаться себе, какими хотим видеть своих детей и как это связано с их полом, с порядком рождения, нашим собственным детским опытом, который мог быть травматичным. Если удастся открыто побеседовать об этом с супругом, вероятность обнаружения стереотипов повысится. В дальнейшем придется включить режим самоосознавания в своих повседневных реакциях на поведение ребенка, «поймать» собственные стереотипы, заставляющие вас предъявлять необоснованные требования к разнополым детям.
Каждый ребенок уникален как девочка или мальчик, и его право быть ни на кого не похожим можете гарантировать ему только вы – чуткие и внимательные, максимально освободившиеся от предрассудков и стереотипов взрослые. Ради того, чтобы ваш ребенок беспрепятственно развивался, стоит побороться со своими тараканами. Стоит разобраться с тем, как вы в собственном детском прошлом чувствовали себя в роли желанного или нежеланного сына, женственной или неженственной дочери, каким образом это повлияло на вас теперешнего, как это сказывается на ваших детях.
Присущие мужскому или женскому полу особенности, преобладание предметного, инструментального или эмоционально-экспрессивного стиля жизни определяется не только и не столько акушерским или паспортным полом новорожденного, сколько отношением к нему членов семьи, установками, ожиданиями родителей. Может быть, поэтому столь популярны всевозможные житейские околонаучные прогнозы, приемы угадывания, предсказания, «заказывания» пола будущего, даже еще не зачатого ребенка? Молодые пары стараются предугадать, как питаться, в какой лунный день и как именно заниматься любовью, чтобы у них родился именно тот ребенок, которого им больше всего хочется, на которого им легче будет настроиться.
Существуют и сугубо научные, вполне достоверные методы планирования рождения ребенка определенного пола, а затем и ранней диагностики того, кто родится – мальчик или девочка. Зная медицинский прогноз, родители привыкают, заранее настраиваются на ребенка того пола, который развивается, и, соответственно, еще во время беременности общаются с ним как с мальчиком или девочкой. К моменту рождения вся семья радуется появлению долгожданной дочери или сына. И мама, и папа уже что-то знают об особенностях развития ребенка этого конкретного пола, что помогает более правильно влиять на раскрытие его индивидуальности.
Каждому взрослому в отдельности и всей семье в целом важно принять появление нового человека как самоценность и с самого начала относиться к девочке как к будущей женщине, а к мальчику – как к подрастающему мужчине. Попытки воплотить в дочери все надежды, связанные с неродившимся сыном (или наоборот), повлекут за собой большие сложности в дальнейшей социализации, могут оказать негативное влияние на формирование взаимоотношений ребенка со сверстниками, помешают развитию его личности.
«У меня двое детей, девочка и мальчик, – рассказывает мне пришедший на консультацию папа. – Дочка, старшенькая, наверное, должна была родиться мальчиком. Она и увереннее в себе, и намного активнее, смелее сына. А мальчик растет слишком впечатлительным, обидчивым, плаксивым. Он и ласковее дочки, и охотнее помогает маме на кухне. В общем, природа что-то напутала».
А дело-то не в природе, а в семейной атмосфере, очень изменившейся со времени появления первого ребенка. Когда родилась дочка, родители еще не были внутренне готовы отказаться от огромной загруженности на работе, от привычных командировок и развлечений. Поэтому девочку часто оставляли на разных нянь, рано требовали от нее самостоятельности, ответственности, приказывали не мешать взрослым. То, что кумир их дочки – одинокая девочка Пеппи Длинныйчулок, живущая одна на вилле «Курица», выглядело даже забавно и оригинально. Когда через восемь лет в семье появился долгожданный сын, папа и мама уже успели многого достичь в карьере и наконец захотели почувствовать себя полноценными родителями. Теперь им важно было побольше быть с малышом, не пропустить, как он пойдет, какое слово скажет первым, кому и как улыбнется. У взрослых появилось время, чтобы общаться, играть, развлекать своего малыша, выполнять любые капризы.
В одной и той же семье разные дети совершенно по-разному ощущают отношение родителей. И взрослые воспоминания у братьев и сестер могут быть такими непохожими, как будто они говорят не об одних и тех же папе и маме. Родительские мечты и мотивы, установки и убеждения, редко осознаваемые настолько, чтобы о них говорить вслух, закладывают способы восприятия реальности, неповторимые траектории жизненного пути их подрастающих детей.
Зависимость мужественности и женственности детей от родительских образцов проявляется также в характере исполнения отцом и матерью половых ролей. Вспоминается, как моя клиентка, ожидавшая первенца, совершенно искренне и озабоченно говорила: «Хочу только сына. Дочку я просто не смогу правильно вырастить, я ведь до сих пор не знаю, какой должна быть женщина. Только чувствую, что сама я – не такая, меня родители как-то по-мужски воспитали. И шить, и вязать, и готовить не умею, не люблю. Кокетство, женскую логику, непоследовательность и все прочие штучки вообще не понимаю, хотя вижу, что это плохо». У нее родился сын, с которым молодая мама вместе бегала, играла в футбол, плавала, рисовала. И это было совсем неплохо. Ведь нет и не может быть единого стандарта мужественности или женственности, стандарта правильного материнского или отцовского поведения. Вариантов множество. И вовсе не факт, что в современном мире истинная женщина должна обязательно уметь вязать и кокетничать. То, как моя клиентка радостно и легко общалась со своим сыном, как увлеченно осваивала вместе с ним велосипед, ролики, а потом и горные лыжи, безусловно, давало ребенку бесценный опыт взаимодействия с принимающей, любящей матерью, и это позитивно влияло на формирование его психологического пола.
Многое определяется полностью осознанными и согласованными целями, которые ставят перед собой родители, воспитывая мальчика или девочку. Если мальчика ориентируют на активное освоение окружающего мира, на автономию, напористость и достижения, то цель воспитания девочек гораздо консервативнее. В девочках многие родители культивируют чувства уязвимости, зависимости, привязанности. Их стараются воспитывать добрыми и отзывчивыми, а мальчиков высмеивают, когда они ведут себя как неженки. Кому родители чаще помогают: сыновьям или дочерям? И папы, и мамы в случае возникновения затруднений гораздо чаще и охотнее помогают дочерям, тогда как от сыновей ожидают большей самостоятельности, предлагают им мобилизовать собственные силы.
Родительские цели, связанные с воспитанием мужского и женского характеров у своих детей обычно разделяют и поддерживают родственники, друзья, знакомые. По телевизору транслируют то же самое: дети видят, что главные действующие лица, от которых все зависит, – это, конечно же, смелые, решительные, активные мужчины. А роль женщины, мягкой, любящей, понимающей, сугубо вторична, вспомогательна.
Взаимоотношения взрослых и детей определяют психологическую дистанцию, характерную для каждой семьи. Бывают семьи «холодные», в которых с первой минуты новый человек ощущает какую-то эмоциональную отчужденность, что совсем не обязательно связано с неблагополучными отношениями. Каждый в такой семье как будто на своей волне, занят собственным делом. Есть и семьи, где незнакомому человеку сразу становится не по себе из-за чрезмерной близости, открытости ее членов. Взрослые и дети не стесняются ни обниматься, ни ругаться, ни жаловаться друг на друга на глазах у посторонних.
Психологическая дистанция между членами семьи, безусловно, влияет на становление растущих в ней детей, обусловливая развитие потребности в интимности, душевной близости, определяя меру притяжения и отталкивания, степень зависимости и самостоятельности мальчиков и девочек.
Не будем забывать, что привязанность родителей к детям даже в стабильной семье (без появления новых детей, разводов, объединения с бабушками и дедушками) непостоянна. И от нее во многом зависит успешность формирования мужественности мальчиков и женственности девочек. В те периоды жизни семьи, когда и папа, и мама достаточно сильно любят друг друга и своих детей, умеют это проявлять в отношениях с ними, детям легче понимать свои индивидуальные особенности, принимать какие-то «странности», гордиться непохожестью на сверстников.
В те периоды, когда семья переживает не лучшие времена, когда взрослые перестают понимать друг друга, страдают от неверности партнера, беспомощности престарелых родителей или потери работы, их привязанность к детям видоизменяется. Измученным взрослым на полноценное общение с детьми просто не хватает внутреннего ресурса, времени и сил. Если такой неблагоприятный период затягивается, дети перестают чувствовать поддержку и уже не могут верить, как раньше, в свои способности, в успешность начинаний. Им рано приходится брать на себя роль взрослых и заботиться о страдающих папе или маме. А иногда дети внутренне уходят из семьи, отдаляются от родителей и ищут для себя поддерживающую среду на стороне.
Почему одни девочки растут женственными, а другие – нет? Как это связано с их родителями? Оказывается, девочки, которые обладают выраженными чертами женственности, не имеют высокоженственных матерей. Зато у их отцов ярко выражены мужские качества, маскулинные черты характера. Видимо, типичное для пола поведение усваивается не столько через копирование аналогичной роли взрослого, сколько путем противопоставления, через противоположную роль родителя другого пола.
И тут возникает закономерный вопрос: как сказывается на полоролевом развитии детей отсутствие одного из родителей? В связи с неуклонным ростом разводов все больше вокруг нас семей, в которых нет или почти нет отца («воскресный папа»). В повседневной жизни дети видят перед собой преимущественно один образец – материнский. Приходящий папа ничего не требует, никак не выражает свое недовольство, избегает всех и всяческих проблем, возникающих в воспитании. Он чувствует себя виноватым, скучает, у него так мало времени на общение со своим малышом. Поэтому папа только радует сына или дочку, только поощряет, развлекает, покупает подарки. А мама хочет, чтобы ее ребенок помогал, учился застилать постель, вешать на место одежду, мыть свою чашку, не забывал чистить зубы.
Психологи считают, что в неполных семьях сыновья страдают особенно сильно, если отец ушел рано, когда малышам не было и четырех лет. Тогда мальчики усваивают либо женский тип поведения, либо создают себе достаточно далекое от действительности представление о сугубо мужских формах взаимодействия, конструируя их как зеркальную противоположность наблюдаемым женским. Но, во-первых, мать в семье без мужа не так проявляет свои женские качества, как если бы рядом был мужчина, и ребенок усваивает не всегда естественные, а скорее замещающие, компенсаторные формы общения, способы деятельности. Во-вторых, мужская и женская роли далеко не во всем полярны, зеркальны, это не набор противоположных качеств и свойств. Взаимосвязь мужественности и женственности значительно сложнее, и в неполной семье трудно создать условия для своевременного восприятия и понимания ребенком специфики обеих родительских ролей.
Мальчики, растущие без отца, вульгаризируют мужественность, трактуя ее как агрессивность, грубость, резкость, вспыльчивость. Если такая мужская роль не вызывает у них симпатии, отвергается, то в процессе взросления эти мальчики оказываются менее социально зрелыми, чем их сверстники из полных, благополучных семей, не отличаются целеустремленностью, инициативой, уравновешенностью. Они как бы не чувствуют достаточной безопасности, проявляют пассивность, робость, нерешительность.
Те ребята, которые, наоборот, одобряют вульгаризированную мужественность, пытаются культивировать в себе только мужские черты, считая жалость, например, позорной для настоящего мужчины. Нередко они вырастают излишне самоуверенными, не хотят признавать авторитеты, испытывают трудности при установлении дистанции с людьми, особенно со старшими по возрасту и положению. Всем и каждому такие выросшие в женском обществе мальчики демонстрируют свою искаженно понятую мужественность, проявляя несдержанность, нечуткость к окружающим, постоянно испытывая сложности с саморегуляцией поведения.
Отметим, что если отец у мальчишки есть, но мать относится к нему отрицательно, это тоже негативно влияет на полоролевое развитие сына. А сколько нам известно случаев, когда фактически полная семья является психологически совсем не полной! Мама иронизирует по поводу папиных друзей, бесконечно делает ему замечания, пишет списки необходимых продуктов, «потому что он сам ничего никогда не сообразит», постоянно упрекает, что недостаточно зарабатывает. Допустим, папа не хочет конфликтов, особенно на глазах у ребенка. Он молчит или отшучивается. И маленькому сыну, безусловно, кажется, что материнская фигура в семье ключевая. Мама у него – самая умная, красивая и сильная, а папа – просто ее невзрачная тень. Подражать такому отцу совершенно не хочется. Ну, а если папа не молчит, а возражает, спорит, хлопает дверью? Вся его энергия уходит на отстаивание собственных границ, и отцовство остается за кадром. Такой папа тоже вряд ли вызывает у сына восхищение.
Сказывается ли отсутствие в семье отца на формировании индивидуальности дочерей? Несомненно. У девочек из неполных семей в будущем меньше шансов правильно понимать своих мужей и сыновей, прогнозировать их желания и поступки, чем у девочек из семей и фактически, и психологически полных, благополучных.
Интересно, спасает ли ситуацию повторный брак? В народных сказках, как мы помним, роли мачехи и отчима обычно отрицательные. А в жизни? По мнению специалистов, отчим при условии его доброжелательного отношения к детям позитивно влияет на их развитие. У мальчиков снижается тревожность, усиливается ориентация на социально одобряемое поведение, даже познавательная активность становится выраженнее. Появление отчима прежде всего изменяет состояние матери, что сразу же сказывается на ее взаимоотношениях с детьми. Мать становится внимательнее, нежнее и одновременно требовательнее, ощущая поддержку мужа. Хотя детям 9–13 лет очень трудно принять в семью чужого человека и период взаимной адаптации будет достаточно длительным.
Гармоничное полоролевое развитие и девочек, и мальчиков предполагает наличие как женского, так и мужского образца. Одновременное восприятие обеих родительских ролей обеспечивает их сравнение, осознание различий, переживание единства, существования одной роли ради другой и благодаря другой.
Обратимся к содержанию контактов ребенка с отцом и матерью. Попробуем разобраться, как влияет на мужественность мальчиков и женственность девочек их отношение к каждому из родителей, с одной стороны, и отношение родителей к ним – с другой.
Хорошо или плохо, когда ребенок привязан к матери, когда у них есть взаимопонимание? Странный вопрос, скажет читатель. Однако степень привязанности может быть разной. Когда любовь к ребенку, тревога за него «зашкаливает», психологическая дистанция между ним и взрослым мизерная и простора для развития самостоятельности недостаточно. Особенно страдают в такой ситуации сыновья, послушное, предсказуемое поведение которых мешает усвоению мужской гендерной роли. Слишком большая зависимость сыновей от матери приводит к эмоциональной нестойкости будущих мужчин, нерешительности, склонности к чрезмерной рефлексии, когда затягивающийся самоанализ мешает началу решительных действий. Сыновья напряженных, заботливых, тревожных матерей с посторонними ведут себя отчужденно и недоверчиво. Им трудно в непредсказуемом и равнодушном мире, где никто и никогда не будет о них заботиться так, как все понимающая мама.
Если привязанность чрезмерна, ребенку будет трудно оторваться от понимающей, принимающей, защищающей мамы и самостоятельно двинуться навстречу полной неожиданностей среде сверстников. Тут никто не гарантирует полной поддержки, а тем более всепрощающей любви. Тут надо проявлять гибкость, самостоятельность, смелость, инициативу. Тут надо быть интересным, уметь выходить из конфликтов, защищать себя и поддерживать тех, кто тебе более симпатичен. Никакая мама не способна заменить собой дворовых приятелей или друзей-одноклассников. Ее задача – научиться отпускать своего сына, давать ему свободу. Даже если это кажется ей рискованным или бессмысленным. Даже если все окружающие замечательного сына дети, с ее точки зрения, его не достойны.
А вот небольшая дистанция между сыном и отцом, наоборот, полезна. Доверительные отношения старшего и младшего мужчин способствуют выработке самоконтроля, важного для соответствия гендерному эталону. Сын, ощущающий стойкую привязанность к отцу и чувствующий его любовь, в процессе взросления легче воспринимает и усваивает существующие нормативы мужественности. Обделенные отцовским вниманием мальчики растут менее уверенными в себе, незащищенными, хуже адаптируются в социуме.
Отношения отца с дочерью обычно непосредственнее и проще, чем у отца с сыновьями. Причина проста: у отца нет потребности конкурировать, доказывать, кто тут альфа-самец и кого мама больше любит. И дочь, которой так хотелось быть похожей на отца, не переживает недосягаемость его образа, что обычно происходит с сыновьями.
В гендерном воспитании и девочки, и мальчика роль отца, как думают некоторые психологи, даже больше, чем роль матери. Трудно сказать, так ли это. Важно все-таки, чтобы оба родителя принимали участие в развитии индивидуальности своего ребенка. Отмечено, что отцы девочек чаще играют с ними в игры, предполагающие проявление социально значимых, нравственно ценных качеств, ждут от дочек умения пожалеть, поделиться, оказать помощь. Отцы мальчиков предпочитают играть со своими сыновьями в шумные, подвижные игры. Они поддерживают, поощряют активность мальчиков и не одобряют излишнюю подвижность девочек. Живость, любознательность, предприимчивость воспринимаются отцами как качества, которые должны быть развиты скорее у сыновей, чем у дочерей.
Одинаковые воздействия родителей могут оказывать на детей противоположное влияние в зависимости от того, кто воспитывает в данный момент – мама или папа. Предположим, мать проявляет по отношению к дочери понимание, предпочитает ее поощрять, поддерживать, избегать требовательности, любых негативных санкций. Ее девочка будет расти достаточно уверенной в себе, самостоятельной, активной. Если такую же роль по отношению к дочке играет не мать, а отец, девочка вырастет далеко не столь активной, недостаточно решительной, зависимой. Она как бы привыкнет быть «за широкой спиной» и будет искать себе подобную опору в будущем.
Каждый родитель склонен больше считаться с индивидуальными особенностями ребенка своего пола. Может, потому, что понятнее? Все же уже наработан собственный индивидуальный опыт, пройдены подобные этапы взросления, есть схожесть полоролевого развития. Что касается ребенка противоположного пола, то по отношению к нему взрослый поступает более формально, традиционно. Мать лучше понимает дочку, свойства ее личности, черты характера. Зато отец старается оказывать влияние на поведение дочери, исходя из принятых в данной среде правил и норм. И наоборот, отец видит, чувствует присущие сыну специфические особенности развития, а мать руководствуется культурными образцами в оценке индивидуального развития своего мальчика.
Развитие ребенка любого пола предполагает социализирующее влияние обоих родителей, из которых один максимально учитывает неповторимость, своеобразие сына или дочери, а второй помогает принятию необходимых стандартов, стереотипов поведения, усвоению правил и норм.
Когда дошкольников спрашивают, на кого они хотели бы быть похожими, дети чаще всего называют своих родителей, причем мальчики – отцов, а девочки – матерей. Бывает, что дети называют представителей противоположного пола, особенно мальчики. Не потому ли, что миссия отцовства в современной семье далеко не всегда определена? Сын мало общается с очень занятым на работе папой, редко его видит и, соответственно, плохо знает. А мама и книжку читает, и от кашля лечит, и на велосипеде учит кататься. Может, поэтому среди пятилеток каждый пятый мальчик выбирает мать в качестве образца для подражания. Среди девочек подавляющее большинство считает идеальным образцом свою мать и за редким исключением – отца.
Кому же все-таки подражают дети в семье, с кого берут пример, на кого ориентируются? На того, кто поощряет, вознаграждает? Или того, кто чаще наказывает, может, рассердившись, лишить на время контактов, общения? Фактического главу семьи или того, с кем проводят больше времени? Попытайтесь решить эту задачу применительно к собственному ребенку, обсудите роль образца со всеми взрослыми членами семьи, сопоставьте их мнения со своим. Такой метод независимых характеристик поможет более объективно и глубоко разобраться в вашем влиянии на развитие сына или дочери, станет зеркалом, отражающим ошибки и удачи.
С возрастом все реже отмечаются факты выбора представителя противоположного пола в качестве образца. Школьники ориентируются не только на родителей и близких родственников, но и на гораздо более широкий круг людей, прежде всего на сверстников. Осознание собственной половой принадлежности в расширяющемся жизненном пространстве становится все четче, поэтому если у подростков и остается как исключение ориентация на лиц противоположного пола, то ее стараются скрыть, утаить от окружающих.
Желание походить на мужчин скорее встречается у девочек-подростков, которые считают, что их половая принадлежность якобы мешает выбору интересной профессии, по-настоящему сложных и полных риска увлечений, воспитанию мужества, стойкости. Девочка восхищается автогонщиками, мечтает стать инструктором по альпинизму, ее тянет исследовать пещеры или служить на военном корабле. Ей трудно смириться с тем, что ее женская природа может в чем-то ограничивать ее желания, заманчивые способы самореализации, проверки характера. А родители обычно и не подозревают, насколько их дочь страдает из-за того, что она не мальчик. Девочка оставляет свои проблемы для многочасовых бесед с подружкой или тщательно замаскированных дневников. Кстати, неприятие мальчиком своей мужской природы, зависть по отношению к девочкам, желание носить яркие девичьи наряды, пользоваться косметикой встречается значительно реже. Позднее, через много-много лет, эта проблема вдруг актуализируется во время сеансов психотерапии, и тогда оказывается, что детское неприятие собственного пола обернулось многочисленными трудностями в семейной жизни или даже невозможностью создать семью.
Может, традиционное принятие мужских черт характера и образцов поведения за универсальные является одной из причин происходящей на наших глазах унификации мужских и женских ролей? Обратимся к молодежной моде, которая уже много лет предлагает вполне «бесполые» шапочки, брюки, куртки, кроссовки в стиле «унисекс». Посмотрим на современную семью, в которой равноправное партнерство обоих супругов выдается за идеал, а специфика половых ролей при этом практически утрачивается. Недаром и в специальной литературе появился так называемый «синдром хамелеона», описывающий стирание ролевых особенностей поведения представителей обоих полов. С каждым годом все больше футбольных болельщиц 11–16 лет мы видим на трибунах стадионов, девушки агитируют нас с телеэкранов заняться дзюдо и взять в руки клюшку. А мальчики тем временем учатся шить себе модную одежду, обмениваться кулинарными рецептами, подолгу лакируют у зеркала свои замысловатые прически.
Эта тенденция стирания границ между типично мужскими и женскими образцами поведения проявляется в ответ на многовековую патриархальность нашей культуры. Мир, в котором мы живем, до сих пор скорее мужской, чем и мужской, и женский. Подтверждение этому – наша речь. Хочешь похвалить женщину – скажи о ней: «хороший работник», «настоящий человек», «мастер своего дела» – в мужском, а не в женском роде. Попробуйте представить подобное по отношению к представителям сильного пола.
Не будем забывать, что дошкольные учреждения и школа в большинстве состоят из женщин-воспитателей и женщин-учителей. Значит, девочки и мальчики заведомо оказываются не в равном положении. Женщины-педагоги не учитывают в должной степени своеобразие, индивидуальную неповторимость учеников-мальчиков. Ведь, как мы уже говорили, женщина глубже понимает индивидуальные особенности девочек. А по отношению к мальчикам поощряется скорее стереотипное поведение, всякие вариации и отклонения от привычных норм не признаются. В то же время девочкам явно недостает социализирующего влияния взрослых противоположного пола. Этот парадокс между традиционно мужской культурой общества и преобладающим женским влиянием в процессе освоения полоролевых стереотипов требует от родителей особого внимания к специфическим потребностям своих разнополых детей.
Очевидно, что будущие женственность и мужественность в значительной степени определяются родительскими образцами, установками, ожиданиями родителей, теми ролями, которые отец и мать играют в семье. Остановимся детальнее на роли сверстников в развитии типично мальчишеских и девичьих форм поведения.
Сверстники и гендерное развитие индивидуальности
Как на детские идеалы мужественности/женственности влияют другие дети? Ровесники, знакомые, друзья по играм, одноклассники – какие гендерные стереотипы транслируют они друг другу? Обсудите эти вопросы с вашими знакомыми, имеющими детей. Хорошо это или плохо? Надо ли бороться с влиянием улицы? Критиковать подруг вашей дочери или друзей вашего сына? Видите ли вы позитивное влияние сверстников на формирование индивидуальности вашего ребенка? Или вам кажется, что это влияние однозначно нужно уменьшать, ограничивать?
Потребность детей в других детях естественна и объяснима. Никакие взрослые не заменят вашим подрастающим мальчикам и девочкам других детей. Вспомните, как это было в вашем детстве, насколько вы нуждались в друзьях, скучали по ним, если вас увозили в отпуск, отправляли к бабушке в деревню; как быстро вы старались найти новых друзей; как подражали их манерам, повторяли высказывания.
Обратите внимание на своих малышей, которые уже в полгода каким-то образом различают взрослых и невзрослых, хотя подростки могут быть такого же роста, как мама. Двенадцатилетняя девочка, приехавшая в гости к маленькому племяннику вместе с родителями, вызывает у малыша больше интереса, доверия и тепла, чем взрослая тетя, хотя обеих он видит впервые. Дети очень рано угадывают, кого можно зачислить в близкий им мир детства, а кого – нет. Те, кто принят, сразу же становятся объектами для подражания.
Влияние детской среды с ее особыми правилами и законами, оценками и стандартами, вкусами и интересами на гендерное развитие трудно переоценить. На ранних этапах формирования психологического пола, когда практически все зависит от семьи, детскую среду составляют прежде всего разновозрастные братья и сестры.
По некоторым данным, пример старших братьев и сестер оказывается даже более значимым, чем пример отца и матери. Замечено, что старшая сестра больше влияет на девочку, а брат – на мальчика, так как малыши предпочитают общение с представителями своего пола и легче усваивают роли однополых родственников. Пример брата помогает мальчику идентифицировать себя с ролью отца, облегчает усвоение типично мужских форм поведения.
Искусством семейного общения наиболее легко овладевают люди, которые воспитывались в детстве с братьями и сестрами. А те, кто рос в одиночестве, испытывают сложности из-за неумения увидеть происходящее глазами своего супруга, поставить себя на его место и таким образом суметь избежать многих конфликтов и недоразумений.
Братско-сестринская дружба и вражда в детстве – хорошая коммуникативная тренировка. Благодаря взаимодействию с братьями и сестрами подрастающий человек вырабатывает в себе такие важные для будущего супружества качества, как эмпатия, способность к самоограничению, умение считаться с интересами другого.
Однако демографическая структура современной семьи, в которой все больше детей являются единственными, не способствует формированию навыков общения, важных для будущего выполнения ролей отца и матери, мужа и жены. А что – единственным быть плохо? Нет, конечно. У единственных детей свои преимущества. Они обычно более развиты интеллектуально, имеют более высокую самооценку, чем сверстники, растущие с братьями и сестрами. И это понятно, ведь взрослые уделяют им больше времени, чаще хвалят, подбадривают, внушают веру в собственную исключительность.
Наличие братьев и сестер особенно сказывается на развитии будущего мужчины. Самооценка мальчика, растущего среди сестер, несколько выше, чем самооценка мальчика, имеющего только братьев. Видимо, дух соперничества у мужской половины человечества проявляется довольно рано, как и потребность в ощущении собственной значимости, уникальности. А сестры в чем-то дублируют роль заботливой, нежной матери, опекают своего братика, подкрепляют его позитивное отношение к самому себе.
Старшая сестра результативнее влияет на девочку, а брат – на мальчика, поскольку дети отдают предпочтение общению с представителями своего пола и легче усваивают их роли. Мальчикам, у которых есть старшие братья, более присущи мужские интересы, чем девочкам, имеющим старших сестер, интересы и увлечения которых они не спешат разделять. Старший брат может даже в определенной мере заменить для младшего отсутствующего отца и помочь ему стать более мужественным, самостоятельным, лучше учиться. Девочки, имеющие старшего брата, растут более честолюбивыми, чем их ровесницы, имеют больше мужских черт характера и более развитые интеллектуальные способности.
Не секрет, что взаимоотношения между детьми в семье не всегда миролюбивые. Нередко родители жалуются психологу на двойственность чувств их детей друг к другу. Дети демонстрируют и большую привязанность, и соперничество, иногда даже враждебность, непримиримость.
Когда в семье появляется второй ребенок, у первого нередко возникает сложный комплекс переживаний, получивший название «комплекс опального принца». Бывшему единственному сложно отказаться от своей уникальности. Ему очень не хочется делить внимание и любовь родителей с кем-то еще. Чтобы не обострять ситуацию, важно, чтобы родители своевременно подготовили своего первенца к новой роли, помогли увидеть преимущества своего старшинства.
Разумеется, общение детей друг с другом не ограничивается рамками семьи. Общество сверстников чрезвычайно значимо для формирования психологического пола ребенка. Уже с третьего года жизни дети явно проявляют одобрение, наблюдая типичное для определенного пола поведение у товарищей. Они безусловно осуждают девочек, ведущих себя как мальчики, или мальчиков, выбирающих девичьи игрушки. И мальчики, и девочки хвалят сверстников за правильное, с их точки зрения, поведение, причем мальчики в этом гораздо активнее девочек.
У детей критерии мужественности-женственности жестче, чем у взрослых, особенно у мальчиков. Они ревностно оценивают телосложение друг друга, сравнивают рост, физическую силу, выносливость и другие параметры. В центре внимания подростковой группы оказываются способность настоять на своем, вытерпеть боль, не передать чужому конфиденциальную информацию, умение понравиться собеседнику, перехитрить его, если это нужно для достижения успеха. Мальчики всячески подчеркивают свои отличия от девочек, стараясь преодолеть в себе все, что может быть воспринято как слабость, пассивность, мягкость. Им кажется, что настоящий мужчина обязательно грубоват, сдержан, резок, холоден. Он не станет улыбаться всем и каждому, просить о чем-то, лишний раз благодарить, чем-нибудь восхищаться.
Возможно, именно желание до конца осознать свою причастность к миру взрослых, смелых и сильных мужчин толкает мальчишек к испытанию себя. Помните, Том Сойер и Гекльберри Финн ночью отправляются на кладбище? «Как ты думаешь, Гек, мертвецы не обидятся, что мы сюда пришли?» – «Я почем знаю! А страшно как, правда?» – «Еще бы не страшно»[10]. Отступиться, не пойти, нежиться в теплой постели невозможно. Почему? Да потому что они не девчонки, а мужчины должны быть бесстрашными, владеть собой.
Современным девчонкам кажется, что милая, покладистая, покорная женщина – вовсе не идеал. Преодолевая застенчивость и несмелость, наши дочери иной раз бросаются в другую крайность и пугают взрослых грубоватым жаргоном, резкостью суждений, демонстративной независимостью. Если мальчики пытаются всячески доказать себе и другим, что они «не девчонки», то у девочек желание продемонстрировать принадлежность к женской половине человечества далеко не столь часто встречается. Может, потому, что определенные преимущества женского мировосприятия станут понятными в более зрелые годы?
У неформальных групп есть свои критерии мужественности и женственности. В одних и девушки, и парни целыми днями качают мышцы в спортзале или занимаются на турнике. В других почти одинаково одетые и подстриженные девушки и парни целиком погружаются в танцевальные экзерсисы и перестают замечать все, что не касается их соревнований. В третьих, которые беспокоят граждан мощным ревом мотоциклетных моторов, когда устаивают гонки по ночному городу, особым шиком считается и мужская, и женская подчеркнутая мужественность, бесстрашность, рисковость. В четвертых, которые посвящают все свое время «служению» любимой футбольной команде или поклонению рок-идолам, и от мальчиков, и от девочек требуется самоотверженность, напористость, демонстрация обожания. И в каждой такой группе совершенно по-разному проявляют себя те подростки, которых называют «классный пацан» или «крутая девка».
В целом же эталоны «настоящего мужчины» у мальчиков и «настоящей женщины» у девочек очень отличаются от родительских. Если ты тринадцатилетний парень и за словом в карман не лезешь, умеешь нецензурно формулировать свои мысли, драться, курить прямо возле школы, пить пиво в скверике и играть на гитаре, то, скорее всего, дворовая команда тебя будет ценить. Ну, а если ты – девушка, тебе надо уметь привлекать сразу многих парней, самостоятельно покупать сигареты, классно краситься и выглядеть старше своих лет. Тогда твое поведение становится эталоном и другие девочки будут всячески стараться тебе подражать.
Папы и мамы, вам это не нравится? Что поделаешь! Такова реальность. Утешает только, что подобные эксперименты с мужественностью и женственностью недолговечны. Кроме того, значительная часть подрастающих детей имеют иммунитет против подобных рискованных способов взросления. Выросшие в семье, где взрослые и дети доверяют друг другу, где сохраняются теплые, искренние взаимоотношения, подростки не спешат следовать уличным кумирам.
Общение со сверстниками своего пола позитивно влияет на усвоение специфики собственной половой роли, выработку идеального представления о ее содержании. Поведение детей в кругу однополых сверстников зачастую более соответствует одобряемому, нормативному. Мальчики с мальчиками и девочки с девочками меньше нарушают общепринятые правила поведения, чем в разнополой компании, которая собирается, например, на чей-то день рождения. Уже с трех лет девочки и с пяти – мальчики в совместных играх проявляют зависимость друг от друга, как бы помогая себе и товарищам соответствовать социальным ожиданиям. В разнополых группах чаще можно наблюдать нарушения поведения, ссоры, конфликты, которые нередко связаны с желанием детей одного пола обратить на себя внимание представителей пола противоположного.
Особенно разнообразно в подобных ситуациях поведение девочек-подростков. Уже после 10–11 лет родители замечают, как они в присутствии мальчишек начинают разговаривать преувеличенно громко, с особыми интонациями, обнимаются с подружкой, чмокают друг друга в щечку. Такие поведенческие реакции, в которых угадывается женское кокетство, зарождаются достаточно рано. Женственность подрастающей дочери – это не только и не столько особая пластичность движений или легкость походки. Это, конечно же, чуткость и мягкость, доверчивость и открытость.
Чтобы иметь возможность корректировать взаимоотношения между разнополыми подростками, родители должны для начала ясно представлять себе групповые нормы, исповедуемые их детьми. Ориентироваться по собственному опыту нереально, так как в сфере межполовых контактов поколения очень далеки друг от друга. Гораздо правильнее читать современные подростковые книжки, смотреть телефильмы, которые любят ваши дети, наблюдать, как современные тинейджеры общаются между собой.
Если девочки видят во взаимоотношениях со сверстниками затруднения, они чаще, чем мальчики, обращаются к старшим и в дошкольном, и в подростковом возрасте. Доверяя авторитету, они автоматически оказываются в роли ябед и страдают от неразрешимого конфликта между нормами, требующими не выдавать взрослым их внутренние проблемы, и доверием к родителю или воспитателю, который разберется, будет справедлив, поможет выбраться из кризисной ситуации. Всегда ли мы, взрослые, понимаем, насколько бережно следует относиться к этой девичьей доверчивости?
Общаясь, мальчики предпочитают директивные формы воздействия, а девочки применяют косвенные, словесные методы установления контактов, преодоления конфликтных ситуаций. Если родителей беспокоит, что их девочка предпочитает с самого раннего детства общество мальчишек, не расстается с пистолетом, называет себя мужским именем, желательно поощрять эмоционально-экспрессивное поведение дочери, не замечая «мальчишечьих повадок», как бы не обращая на них внимания.
Некоторые дети, особенно мальчики, тревожат родителей тем, что дольше ровесников остаются в компании однополых товарищей. Другие мальчишки-семиклассники часто звонят по телефону девочкам, фотографируют их, обсуждают между собой, стремятся общаться в социальных сетях, а некоторые вообще не замечают, видят вокруг одних мальчишек. Подобные жалобы со стороны взрослых нередки, хотя, казалось бы, так спокойнее. Однако родители правы, что считают отсутствие интереса к представителям противоположного пола тревожным симптомом. Замечено, что дети, которые слишком долго предпочитают общество однополых сверстников, дольше остаются инфантильными, несамостоятельными. Им требуется больше времени для усвоения типично мальчишеских или девичьих поведенческих реакций. Они чаще оказываются в плену бытующей в неформальной группе своеобразной морали, обычно совершенно неизвестной их родителям.
Особенно настораживает необщительность ребенка по отношению к сверстникам и своего, и противоположного пола. Такая замкнутость, сохраняющаяся вплоть до подросткового возраста, сказывается на психосексуальном развитии сына или дочери. Ищущий одиночества, избегающий всяких контактов ребенок остается практически неподготовленным к тем не знакомым ему, сложным и достаточно интенсивным переживаниям, которые настигнут его в переходном возрасте. Не зная «правил игры», не подозревая, что его страхи, влечения, страдания не уникальны, замкнутый подросток может оказаться в состоянии тяжелой депрессии, отказаться от пищи, убежать из дому, даже совершить попытку самоубийства.
Возможность обсудить с товарищем свои проблемы, открыться ему, поделиться самым сокровенным – важнейшее условие осмысления своей половой роли, соответствия ей во всех проявлениях, как внешних, так и внутренних. В общении с одноклассниками, соседскими ребятами, товарищами по спортивной секции ребенок активно собирает информацию о половых различиях, сексуальных ролях, характерных поведенческих проявлениях.
Родителям стоит знакомиться с литературой по физиологии и психологии пола, учитывая, что источниками первых сведений по этим животрепещущим вопросам они являются в каждом десятом случае. А остальные 90 % сведений дети получают от товарищей и из интернета. В половом воспитании важен эффект «первого впечатления». Когда взрослые, не ожидая вопросов, находят нужный для каждого возраста объем информации и, главное, приемлемую форму ее подачи, они не теряют доверия своих подрастающих детей, формируют у них правильные установки относительно полоролевых особенностей, подлинной мужественности и женственности, иммунизируют от отрицательных влияний.
Становление психологического пола ребенка требует от всех членов семьи неусыпного внимания, тактичности и гибкости. Когда и в связи с чем малыш начал осознавать, что существует два пола, каким образом отнес себя к мальчикам или девочкам: без колебаний, с удовольствием, сожалением, обидой, надеждой на возможные перемены; как воспринимает общество однополых и разнополых сверстников, что меняется на каждом возрастном этапе – в этой сфере второстепенных вопросов нет. Анализируя психосексуальное поведение сына или дочери, важно в то же время соотносить его с отношениями отца и матери с ребенком и друг другом, не упуская влияния бабушек и дедушек, братьев и сестер.
Почему примером мужественности или женственности оказывается тот или иной взрослый или сверстник? Кто из близких наиболее авторитетен для подростка в этой области? Чем больше вопросов на эту тему становится предметом внутрисемейных дискуссий, тем вероятнее, что родители сумеют создать благоприятные условия для нормального половозрастного развития своих детей.
Практикум для родителей
Задание 1
Представьте тест, в котором вам предлагают психологические портреты двух людей и просят определить их пол. О первом вам известно, что он предпочитает рисковать, часто ведет себя с окружающими деспотично, грубо, любит командовать, подчеркивает, что его мнение главное, что ему принадлежит право принимать решения. Он властный, независимый и сильный. Второй – нежный, зависимый от значимых отношений, эмоциональный, мечтательный. Ему не нравится быть лидером и брать на себя ответственность за важные решения, потому что он чувствует себя достаточно слабым.
Вы определили первого как мужчину, а второго – как женщину? Знайте, что вы не одиноки. Исследования показывают, что так считают люди во всем мире, от Азии до Африки, от Европы до Австралии.
Попробуйте теперь найти среди ваших родственников, друзей, приятелей, соседей, знакомых не мужчин, а женщин, которым почти полностью подходит набор характеристик из первого портрета. А теперь вспомните, кого вы знаете из мужчин, похожих на второй портрет?
Чем же объясняется такое распространенное мнение о взаимосвязи определенных личностных черт и половой принадлежности? Влияние каких еще гендерных стереотипов вы заметили на собственном опыте?
Задание 2
Назовите пять качеств, которыми можно было бы, по вашему мнению, наиболее точно описать мужественного мужчину. Запишите их в столбик, одновременно ранжировав, то есть поставив на первое место то качество, которое кажется вам самым главным, затем по убывающей все остальные.
На другом листочке также перечислите в столбик пять самых характерных качеств наиболее женственной женщины.
Теперь ранжируйте эти качества применительно к себе и своему супругу. Попросите его проделать самостоятельно ту же процедуру. Сравните и обсудите результаты.
Попытайтесь совместно определить, какие свойства и качества вам хотелось бы сформировать у сына, дочери. Что получается в этом направлении, а что не выходит и почему? Обратитесь к истории собственного становления. Проконсультируйтесь с вашими родителями, другими родственниками. Были ли вы в детстве типичным мальчишкой (девчонкой) с традиционными интересами, занятиями, проблемами? Или ваше индивидуальное развитие отличалось от большинства сверстников вашего пола? Что вы сами помните об этом? С кем предпочитали в детстве общаться: с представителями своего или противоположного пола? Как это повлияло на ваше сегодняшнее соответствие идеалу мужественности/женственности?
Как вы оцениваете родительский пример в формировании вашего психологического пола? В че
