Читать онлайн На Москву! бесплатно
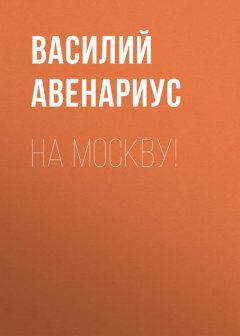
Глава первая
Московские переметчики
Шестую неделю уж названный сын московского царя Ивана Васильевича Грозного, царевич Димитрий, с пятнадцатитысячной ратью будущего тестя своего, сендомирского воеводы Юрия Мнишека, осаждал древнерусский Новгород-Северск, – и все безуспешно. От самого города, правда, осталось одно только пепелище. Теперь оно было занесено снегом; там и сям лишь уныло чернели остовы дымовых труб, точно взывая к небу о возмездии. Сожгли город, однако, не осаждающие, а защитники его, по приказу своего начальника, царского окольничего Басманова, который со своей малочисленной дружиной, все равно, не мог бы отстоять городские дома от разграбления врагами. Жителей со всем их скарбом он приютил у себя за высокой бревенчатой стеной старой крепости-замка, где со своими шестьюстами стрельцов держался крепко, отражая всякий приступ. А сколько было этих приступов и днем и ночью! Сколько штурмующих полегло уже под меткими пулями и стрелами царских стрельцов, под валившимися с вышины бревнами и камнями! Мало пользы приносили полякам и привезенные ими с собой петарды (пушки для разбития стен): всякую брешь осажденные заваливали тотчас кирпичами и землей.
Наступал ранний декабрьский вечер 1604 года. Бесполезная перестрелка стала утихать, пока совсем не смолкла Вот, из глубокой траншеи, обхватывающей замок широким полукругом, грянул еще как бы прощальный салют; но сумерки настолько уже сгустились, что нельзя было даже судить, долетело ли пушечное ядро по назначению.
Тут из траншеи показались два молодых рыцаря и повернули к польскому лагерю. Несмотря на их польский наряд, они говорили меж собой по-русски, да и действительно были русскими: один был сам царевич Димитрий, а другой – ближайший его друг и советник, князь Михайло Андреевич Курбский.
– Потерпи, государь, потерпи еще малость, – говорил Курбский, – были тебе ведь и раньше сего помехи: в каком великом деле их не бывает? А теперь тебе сдалось уже сколько русских городов: Муромск, Чернигов, Путивль, Рыльск, Курск; жители везде выходят к тебе навстречу с хлебом-солью, со слезами радости: «Солнышко наше всходит!»
– Все это так, – согласился Димитрий, – но вот Басманова с его горстью стрельцов нам и огненным боем не одолеть которую уже неделю! Не нынче – завтра, того и жди, нагрянет все Борисово войско; как-то мы еще устоим? Хоть бы подоспели наконец твои запорожцы! А то ни слуху от них, ни духу…
– Оплошал я, государь, прости, что не остался тогда при них. Но, как было мне не поспешить сюда по твоему зову…
– Коли чья в том вина, Михайло Андреич, так не твоя, а моя: по другу крепко стосковался. Однако, гляди-ка, к нам идет пан Бучинский. Верно, неспроста.
Не будь у пана Бучинского усиков, этого стройного маленького человечка можно было бы принять за подростка. Но царевич, очевидно, дорожил своим молодым секретарем, потому что спросил его самым дружеским тоном:
– Что нового, милый пане?
– Вести из Москвы, государь, – отвечал пан Бучинский. – Наш сторожевой пост в восьми верстах отсюда, на реке Узруе, имел стычку с передовым разъездом москвитян…
– Ну, вот, что я сейчас говорил! И чем же кончилось дело?
– Пока только перестрелкой у переправы. Но за передовым разъездом идет все их войско. Два московитянина добровольно передались нам и доставлены только что в лагерь. Пан гетман хотел бы сейчас их допросить и ждет только ваше величество.
– Идем же, идем. Так пану гетману, значит, полегчало?
– Да, с вечера еще он жаловался на подагру; а ночью был у него опять жестокий припадок. Но, теперь он все же вышел в кабинет.
Так, разговаривая, они дошли до лагеря, освещенного целым рядом костров, и между воинских палаток, землянок и бараков, сколоченных из обгорелых досок и бревен, направились к главной квартире. То был загородный хутор, который один лишь во всей окружности уцелел каким-то чудом среди общего разрушения. Чудо совершил все тот же маленький царский секретарь: благодаря его предусмотрительности, хутор с первого же дня осады Новгород-Северска был окружен охранной стражей, а теперь в нем помещались не только царевич и гетман (каждый на своей половине), но и войсковая канцелярия, а также все региментари (полковые командиры); эти, впрочем, – в надворных постройках.
Старика Мнишека, должно быть, не на шутку донимала его давнишняя приятельница, подагра: перед топящейся печкой, полулежа в глубоком кресле, он протянул на другое кресло больную ногу, запеленутую, как младенец, в пуховое одеяло, и поминутно кряхтел от боли. Тем не менее, он был в форменном кунтуше, щеки его были тщательно выбриты, длинные усы зачернены, седой оселедец искусно зачесан с затылка на голое, лоснящееся темя, а около кресла, сейчас под рукой, был гетманский жезл: и старческие недуги не мешали ему оставаться всегда бравым рыцарем и гетманом.
Кроме самого Мнишека, в кабинете были еще двое приближенных к нему лиц: старший адъютант его, пан Тарло, и домашний шут, Балцер Зидек. Этот прикорнул на скамеечке у ног своего господина и размешивал железным острием своего дурацкого жезла пылающие уголья в печке. При входе царевича, он с комической важностью приподнялся со скамеечки, снял с бритой макушки ушатый колпак, звеня нашитыми на нем медными погремушками, и с торжественной почтительностью прикоснулся жезлом к полу.
– Падам до ног великому государю! Димитрий чуть-чуть кивнул ему головой и поздоровался с Мнишеком.
– Пожалуйста, не беспокойтесь, пане гетман! – предупредил он старика, который показал вид, будто хочет также встать с кресла ему навстречу. – Ваше здоровье?
– Лучше и не спрашивайте, государь! – отвечал Мнишек, болезненно морщась. – Вы слышали ведь о двух московских переметчиках?
– Слышал, пане. Кто они такие?
– Называют они себя сыновьями боярскими. Так ли это или нет, мы скоро узнаем. Но они – будущие подданные вашего царского величества, а потому не благоугодно ли будет вам самим допросить их? Пан Тарло! введите-ка их сюда.
Введенные вслед за тем паном Тарло два перебежчика были люди еще довольно молодые, а их благообразные лица великорусского оклада и надетые на них сверх кафтанов шелковые ферязи (длинные кафтаны без перехвата, застегивавшиеся петлицами и пуговицами) показывали, что оба, действительно, не простого звания. Стоявший около кресла царевича Курбский своим богатырским телосложением и мужественной красотой первый привлек на себя их внимание; но когда тут Димитрий предложил им подойти ближе, они поняли, что он, этот на вид довольно неприглядный молодой человек, но с быстрыми, проницательными глазами и гордой осанкой, и есть именно царевич.
На вопрос Димитрия, точно ли они боярского рода, старший из двух почтительно, но безбоязненно отвечал, что сам он – из рода Болтиных, а товарищ его – из рода Чоглоковых.
– Наслышан я уже и о Болтиных, и о Чоглоковых, – сказал царевич, – и приходом вашим очень доволен.
– А уж мы-то как удоволены, что допущены пред твои пресветлые очи, надежа-государь!
– И давно вы из Белокаменной?
– Да погостили мы там с товарищем месяца три назад.
– Так вы оба не тамошние?
– Никак нет: мы калужские; под Калугой же и забрал нас в свое ополчение воевода царский, князь Мстиславский; под Брянском соединился он с князем Димитрием Шуйским, откуда уже всею ратью двинулись сюда на выручку Басманову.
– Так, так. И велика ныне вся их воинская сила?
– Да тысяч, почитай, до пятидесяти станет. Димитрий озадаченно переглянулся с Мнишеком.
Тот в ответ только многозначительно повел своими пушистыми бровями и крякнул. Болтин заметил удручающее впечатление, произведенное его сообщением на царевича, и поспешил его успокоить.
– Да ты больно-то, государь, не полошайся. Войско войску рознь: наше набрано с бору да с сосенки, мало еще приобучено к ратному делу; да и кому охота воевать против своего природного государя.
Слова эти, видимо, ободрили опять Димитрия.
– Вы оба недавно ведь из Москвы, – сказал он. – Так расскажите же по всей правде, что толкуют там в народе?
– По всей правде сказать, – начал Болтин, – народ наш как в дурмане ходит и сам хорошенько не ведает, чему верить, чему нет. В церквах Божьих ведь с амвона, по царскому велению, анафему возглашают некому беглому монаху Григорию Отрепьеву, что на Литве появился и самозванно принял будто бы имя убиенного в Угличе царевича Димитрия. Но правда, как искра под валежником, тлится, пока пламенем не вспыхнет; молва все растет да растет, что царевич точно спасся от Борисовых убийц. А тут пошли еще разные знамения: на небе два месяца, три солнца; в облаках бьются словно огненные рати; бурей сносит вышки с теремов боярских, кресты со святых храмов; среди бела дня волки стаями бегают по улицам, кидаются на людей, пожирают друг друга.
– А сам Борис ничему этому веры не дает?
– То-то, государь, что и на него словно страх напал. Когда летось над Москвой поднялась эта большая звезда хвостатая, он нарочито вызвал из Инфляндии ученого звездочета.
– Вот как! И что же тот предрек ему?
– Доподлинно-то никто о том не знает. Но ходит слух, будто звездочет объяснил, что хвостатые звезды посылаются Господом Богом всякий раз перед великими бедствиями народными, дабы государи берегли и себя и народ, особливо перед чужеземцами. Тут Годунов еще пуще всполошился, велел, слышно, в ночную пору привезти к себе во дворец на допрос из Новодевичьего монастыря твою, государь, благоверную матушку-царицу, инокиню Марфу.
– И ее то, схимницу, не мог оставить в покое! – воскликнул Димитрий, гневно сверкая глазами. – Что же она на допросе показала?
– Прямо показать, что сын ее жив, у нее, знать, духу не достало. Однако ж она все-таки не утаила, что слышала от людей, коим должна верить, будто сын ее спасся и проживает теперь где-то за рубежом. Когда же Годунов стал требовать, чтобы она назвала ему этих верных людей, она отвечала, что тех людей уже нет на свете. Но при допросе была и жена Борисова, царица Марья. Нравом она крута, разгорчива, – и, Боже мой! Как схватит со стола горящую свечу, да с угрозой на твою царицу-матушку: «Сейчас говори, кто они, изменники! Не скажешь, – выжгу тебе очи…»
Царевич, слушавший до сих пор с затаенным дыханьем, привскочил даже в кресле.
– Этого я им, клянусь Богом, во век не прощу!
– Не клянись, государь, – сказал Болтин. – Борис Федорович не дал твоей государыни-матушки в обиду, просил ее не поставить в вину царице Марье ее горячность…
– И отослал матушку обратно в монастырь?
– Отослал со всем почетом. Сам-то он не так уж лют…
– А в прежние годы был и светлодушен и многомилостив, – подхватил товарищ Болтина, Чоглоков, которому, видно, также не терпелось вставить свое слово.
– Это что он во время мора голодающим свои житницы раскрыл? – заметил Димитрий.
– Да, и нищую братию из своей казны щедро оделял; а разбойников, что развелись от голодухи по большим дорогам, целыми шайками извел. Да, признаться, не житье от него и грабителям якобы законным – приказным: дьякам и судьям.
Тут Болтин толкнул говорящего в бок.
– С ума ты спятил, – хвалишь Годунова!
Хотя это было сказано вполголоса, однако Димитрий расслышал.
– О врагах своих нужно знать не одно дурное, но и доброе, – сказал он. – А то как же правильно судить о них? Так приказным Годунов также не дает спуску?
– Не дает, государь, – отвечал Чоглоков, ободренный такой поддержкой со стороны царевича. – Не токмо велит мздоприимцам возвращать посулы (взятки), собранные с просителей, но с кого, по вине и чину глядя, взимает и штраф изрядный, – в 500, в 1000, в 2000 рублей, а у кого отбирает и все имущество движимое и недвижимое, неправедно добытое.
– Бьет, значит, рублем.
– И рублем и дубьем. Перехожу я раз Красную площадь, глядь: народ навстречу валом валит, шумит, хохочет. Что такое? А везут, вишь, по улицам на позорище всенародное дьяка мздоимца. Сидит он, раб Божий, на тележке, обнаженный до пояса, со скрученными локтями; висит у него на шее мешок с поличным, – кто говорит: с дичиной, кто – с рыбой соленой, – а на спине дощечка с надписью: «Мздоимец». По бокам же идут два стражника с большущими прутьями и хлещут его по оголенной спине, хлесть да хлесть. Он то охнет, то заорет благим матом; а народ бежит вслед, всячески над ним издевается, радуется его мукам…
– Коли радуется, то, стало быть, Борис сумел в этом угодить москвичам! – с горечью проговорил Димитрий, на которого описанная грубая сцена произвела, видимо, тяжелое впечатление. – Ну, а что же недруги Борисовы в укор ему ставят?
– Что мнителен он уже не в меру, – отвечал Болтин, – всюду видит измену; а дабы никакие злоумышления от него не скрылись, поощряет всякие поклепы и доносы, жалуя за них и деньгами и поместьями. Низкой корысти ради, холопы, знай, доносят на своих господ, братья на братьев, жены на мужей, дети на родителей… Чуть же тебя опорочили, так жди тюрьмы, пытки, смерти; с имением же своим навек распростись.
– Но как же без улик?..
– Улики всегда найдутся – не подлинные, так подметные; а попадется раз безвинный, так что за беда? Напредки-де поопасится, не будет повадно. Ох, тяжелые времена, не дай Бог! Чай, знаешь ты, государь, про Романовых?
– Знаю, что они тоже в опале.
– А за что, про что? – спроси-ка. За то, что по всей Руси нет боярского рода именитее, почетнее. Чем кто выше да лучше, тем больше ведь у него и завистников. Ну, и подкинули одному из Романовых, Александру Никитичу, в кладовую мешки с какими то кореньями, а потом нагрянули с повальным обыском, нашли те самые мешки, притащили на патриарший двор, высыпали коренья перед народом: «Смотрите, мол, православные, – отравное зелье!» А народ-то, что зверь дикий, расшумелся, освирепел. Схватили тут всех братьев Романовых, всю родню их и приятелей: Репниных, Черкасских, Сицких, мужчин и женщин. Кого в сыскном приказе безвинно запытали, кого в железах сгноили, кого в такие места сослали, куда и ворон костей не заносил…
– А кого насильно и в монахи постригли! – подхватил снова Чоглоков. – Ведь вот хоть бы Федор Никитич, а в монашестве Филарет. Я сам был у него на поклоне в Антониевом Сийском монастыре. То-то праведный, святой старец! Живет в келье своей в вечном посте и молитве. Его, опального, другие иноки тоже сторонятся; но он о Борисе, о всех врагах своих отзывается с ангельской кротостью и незлобием. Только как заговорит, случится, о своей семейке, так всякий раз прослезится. «Бедные детки! – говорит. – Кому их теперь кормить и поить? А женушка моя горемычная! Жива ль еще? Мне-то, старику, что уж надобно? Беда моя – жена и дети: как про них вспомнишь, так точно рогатиной в сердце толкается. Братья-то все, дал Бог, на ногах…» Одна радость за все время у старца, что пришло ему наконец дозволение из Москвы – стоять в церкви на клиросе.
– А о мирской жизни своей он вовсе не жалеет? – спросил царевич.
– Не то, что жалеет, а как завел я как-то разговор о ловчих, о птицах, о собаках, старец весь ожил, встрепенулся: в былое время, слышь, большой тоже любитель был до соколиной и иной охоты.
Сделав Чоглокову еще несколько вопросов о старце Филарете, Димитрий обратился опять к Болтину:
– А кто же теперь, скажи, из бояр московских наиболее в силе у Годунова? Не князь ли Шуйский?
– Василий Иваныч? Пожалуй, что и так. Шуйские при царе Федоре были в загоне, иные живота своего лишились; но князь Василий – травленная лиса, и коли Годунов кого трепещет, так его.
– Почему же он не вышлет его так же из Москвы, как Романовых?
– Высылал было, да потом сам же возвращал: у себя на глазах такой мышлец и хитроумец все же как будто не так опасен. Любезнее же всех Годунову нынешний воевода, князь Федор Иваныч Мстиславский: в зятья себе его прочит, пообещал ему, слышь, в приданое за дочерью Казань да Северскую землю; как вернется-де победителем с похода, так сейчас с княжной Ксенией и под венец.
– Ну, так ему никогда не быть с нею под венцом! – воскликнул Димитрий.
– Дай Бог, дай-то Бог… – пробормотал старик Мнишек, нервно ворочаясь в кресле от нового приступа подагрических болей. – Их ведь, легко сказать, пятьдесят тысяч, нас же втрое меньше…
Стоявший за креслом гетмана адъютант, пан Тарло, не подавал до сих пор голоса. Это был статный, с надменно выпяченной грудью брюнет, который мог бы почитаться красавцем, если бы его правильные, несколько обрюзгшие черты не были обезображены глубоким шрамом через всю левую щеку. Теперь он счел своевременным вступиться за воинскую доблесть поляков.
– Один поляк, пане гетман, десяти москалей стоит! – сказал он. – Лишь бы пану гетману совсем оправиться к бою.
– Не пан гетман, так я поведу вас в бой, – отозвался царевич, задетый, казалось, за живое таким пренебрежительным отзывом о русских. – Моя русская хоругвь покажет господам полякам, что и «москали» умеют быть храбрыми.
Пан Тарло вспыхнул, но с притворной покорностью преклонил голову.
– Беззаветная храбрость вашего величества выше всяких сомнений, – сказал он. – Каждый из нас, поляков, почитал бы себя счастливым служить в вашей царской хоругви. Но, если все пятьдесят тысяч москвитян князя Мстиславского столь же храбры, – прибавил он не без скрытой иронии, – то не вернее ли нам без боя сложить перед ними оружие?
– Для победы, пане Тарло, кроме храбрости, требуется еще и вера в правое дело! – не утерпел тут возразить Курбский.
– А у рати Мстиславского веры этой нет, – досказал царевич, одобрительно кивая своему другу. – Вот вам сейчас двое, которые добровольно передались мне, – указал он на двух переметчиков. – И оба с радостью, я уверен, станут в ряды моей царской хоругви. Не так ли, други мои?
– С великой радостью, государь! – откликнулись те в один голос. Ни головы, ни живота для тебя не пожалеем!
– Экий грех, а я-то сейчас вот только хотел завербовать их в мою хоругвь! – неожиданно ввязался тут в разговор Балцер Зидек, принимая совершенно такую же позу, как Курбский, но опираясь, вместо сабли, на свой шутовской жезл.
Мнишек со снисходительной улыбкой оглядел его потешную фигуру.
– А у тебя, Балцер, набрана уже своя хоругвь?
– Да вот, все набираю…
– И много набрал?
– Пока то я сам в одной персоне и региментарь и ратник. Все жду, что пан гетман велит объявить по лагерю…
– Ну, что ж, пане Тарло, так и быть, объявите: нет ли охотников идти в дурацкую хоругвь, – усмехнулся Мнишек. – А, кстати созовите и военный совет.
Полчаса спустя состоялся военный совет, на котором было решено дать на другой же день «москалям» генеральное сражение. Большинство голосов склонялось к тому, чтобы, ради более выгодной позиции, занять вершины окружающих лагерь холмов; но царевич настоял на том, чтобы сразиться с врагом в открытом поле.
– Пусть видит Мстиславский, – говорил он, – что я его не страшусь и не ищу перед ним никаких выгод. С нами Бог!
Для ободрения воинов, по распоряжению гетмана, походное духовенство процессией обошло весь лагерь. В середине процессии, фантастически освещенной лагерными кострами, выступал под балдахином посланец римского папы, бернардинец и тайный иезуит, Николай Сераковский, со святыми дарами, распевая торжественный гимн. Сопровождавшие его другие патеры ему вторили и кадили курильницами, оставляя за собой облака благовонного ладана. Высыпавшие из своих бараков, палаток и землянок воины вполголоса так же подпевали, бряцая оружием и набожно крестясь… Кому-то из них суждено было пережить завтрашний день?
Глава вторая
Дорогая победа
С первым рассветом пасмурного декабрьского утра весь лагерь пришел в необычное движенье: и пехота, и конница готовились к неизбежной битве с «москалями». Все мало-мальски состоятельные шляхтичи выставили для настоящего похода некоторое число ратников, а потому каждый из них считал себя вправе обмундировать свой отряд, свою хоругвь (конную роту) в излюбленные свои цвета. Таким образом, все кругом пестрело, подобно весеннему полю, яркими цветами: красным, желтым, синим и зеленым во всевозможных оттенках. Кавалерия, у которой лошади не были подобраны под масть, представляла еще большую пестроту. Но, если общий вид лагеря и не имел той внушительной стройности, которая составляет отличительную черту европейских войск нашего времени, зато он тешил взор своею картинностью и оживлением.
Наибольшая толкотня замечалась у торговых шалашей: кто запасался новым оружием или боевыми припасами; кто заменял обносившуюся часть своего платья новой, чтобы не ударить в грязь лицом перед боевыми товарищами; кто, наконец, набирался мужества в добром глотке «старой водки».
Гетман не настолько еще поправился от своей подагры, чтобы провести несколько часов в седле, и потому главное начальство над войском принял сам царевич. На своем караковом аргамаке он появлялся то там, то здесь, чтобы проверить, исполняются ли в точности постановления военного совета, и дополнял их, где оказывалось нужным, новыми указаниями.
Когда, затем, к полудню декабрьское солнце, целые недели скрывавшееся за густым серым пологом, неожиданно выглянуло вдруг из-за туч, точно любопытствуя, до чего может дойти безумие и зверство людское, лучи его озарили две враждебные рати: Димитриеву и Борисову, стоявшие на открытой равнине в строгом боевом порядке друг против друга. Разделяло их пространство немногим далее ружейного выстрела.
Состоя постоянно при особе царевича, Курбский до этого дня ни разу еще не имел случая лично участвовать в рукопашной схватке. Сегодня царевич сам вел в огонь свою царскую хоругвь; а так как он еще вчера выразил желание доказать полякам, что его «москали» не менее их храбры, то при своей отчаянной удали он, наверное, должен был не раз подвергнуться смертельной опасности. Поэтому Курбский не мог побороть в себе какого-то тяжелого предчувствия и дал себе слово ни на миг не упускать его из виду.
Сам Димитрий был, казалось, исполнен твердой уверенности в победе. Выехав со свитой перед фронтом своего войска, он оглядел его сияющими глазами.
– Посмотрите-ка, что за краса! Ужели мы не победим с этими хватами? – заметил он свите.
В самом деле, отдельные отряды и хоругви польской шляхты, подобравшись к предстоящему кровавому пиру во всем своем воинском блеске человек к человеку, щеголяли друг перед другом своим разнообразным вооружением, своими яркими цветными одеждами и распущенными знаменами, среди которых выше всех развевалось огромное красное знамя царевича с черным византийским орлом на золотом поле. Между «рейтарами» первенство принадлежало, бесспорно, стоявшим на левом фланге гусарам, которых панцири поверх кольчуги и кованые шлемы с орлиными крыльями так и сверкали на солнце.
– А наши-то в красе им, пожалуй, ведь не уступят? – отнесся Димитрий к Курбскому вполголоса, чтобы не задеть гонора свитских из поляков, указывая глазами на донских казаков и царскую хоругвь.
Донцы, в числе двух тысяч человек, несмотря на свою однообразную, темно-синюю одежду, молодецкой посадкой на своих поджарых, но крепких конях и целым лесом дротиков над собой, производили очень внушительное впечатление. Белоснежная же царская хоругвь, состоявшая исключительно из русских людей, выделялась среди окружающей пестроты: в отличие от своих земляков, а теперь врагов в Борисовом войске, они поверх стальных лат надели белые рубахи. Чувствуя себя, наравне с каждым польским ратником, с каждым донцом, нераздельной частью этого огромного боевого целого, они, точно так же, как и те, все до единого глядели, не отрываясь, на своего молодого царственного вождя, глядели бодро и смело, не смея моргнуть глазом, чтобы царевич, Боже упаси, не заподозрил их в трусости. Но сквозь эту общую бодрость и смелость на лице у каждого из собранных здесь пятнадцати тысяч людей, от региментаря до последнего ратника, непроизвольно и совершенно одинаково проступала какая-то натянутая, торжественная строгость: всеми, очевидно, овладела уже крайняя напряженность нервов в ожидании неминуемого боя на жизнь и смерть. Не один из этих бравых шляхтичей молился, конечно, теперь про себя Пречистой Деве, давая обет, в случае, если Божественная защитит его в битве, пройтись босиком в Ченстохов на поклонение Ее святому образу; а из русской хоругви не один прощался мысленно с матерью, с женой и детьми.
Но вдруг все разом невольно шелохнулись, потому что царевич заговорил громким, отчетливым голосом, достигавшем до последних рядов.
– Мои добрые, верные сподвижники! наконец настало время, когда всемогущий, милосердный Бог рассудит меня с Годуновым и решит мое дело. Божий Промысл выдает, каким вероломством он присвоил себе мое наследственное право на русский престол, какой смертоносной изменой овладел моею прародительской державой. Судьбы Всевышнего отвели от меня страшный убийственный удар, о чем свидетельствуют стены Углича, обрызганные кровью невинных людей, погибших от руки наемных убийц, на мою грудь устремленной; но всеблагой Господь разрушил их кровожадный замысел. Я жив для казни преступников! Итак, мои верные товарищи, возьмем оружие и, уповая на помощь и благодать Божию, ударим смело и радостно на вероломных изменников, презирающих и человеческое и божественное право! Не страшитесь множества врагов: поле битвы остается не за тем, кто сильнее, а за тем, кто добродетельнее и отважнее. Меня не обманет надежда возвратить наследие отцов моих, а вас ждет бессмертная слава, – самая сладостная из всех наград! Слава ведет смертного прямо в небеса…
И, воздев тут руки к небу, Димитрий закончил свою речь молитвой:
«Всевышний! Ты зришь глубину моего сердца. Если я обнажаю меч неправедно и незаконно, то сокруши меня Твоим Небесным громом. Если же я прав и чист душой, то дай силу неодолимую руке моей в битве. А Ты, Пресвятая Матерь Божия, буди покровом нашего воинства!..»
Вполне искреннее воодушевление, которым звучала речь, а затем и молитва московского царевича, нашли живой отголосок в сердцах как русской хоругви и донцов, так и всего польского воинства. Достаточно было одному подать голос, чтобы вызвать и всех других к громогласному отклику.
– Vivat rex Demetrius Ioannis! – первым крикнул пан Тарло, находившийся также в свите царевича.
– Vivat! Vivat! Vivat! – прокатилось восторженными раскатами от передних рядов ратников до самых задних.
Как бы в ответ на этот взрыв энтузиазма, издали донеслись трубные и барабанные звуки. Тысячи людей, как по команде, устремили взоры в сторону Борисова войска, где все разом пришло в движение. В каждом «стрелецком приказе», состоявшем из тысячи человек и отличавшемся от других своим собственным знаменем с изображением своего покровителя – св. Угодника, стрельцы-самопальщики были выдвинуты вперед. За ними теснились обыкновенные стрельцы с луками, копьями и бердышами (широкими топорами на длинных батовищах). Там и сям сверкали шлемы и брони военачальников и богатых боярских детей.
Да, то были такие же точно живые люди, такие же бравые ратники, готовые сложить голову за «свое правое дело». И все кругом сознавали теперь это, потому что на всех лицах выражение радостного волнения сменилось разом одним и тем же выражением враждебной раздраженности; глаза у всех разгорелись одной и той же угрожающей решимостью: «Сейчас начнется. Но жизнь мою я дешево не продам!»
– Барабанщики и горнисты вперед! – скомандовал царевич и махнул платком полковнику Жулицкому, который должен был завязать дело.
Во главе своей части польской пехоты, под вызывающий треск барабанов и рев труб, Жулицкий двинулся на центр московского войска. Едва лишь, однако, переступил он роковую черту, до которой могли долетать вражеские снаряды, как его осыпал град пуль и стрел, пущенных по всей центральной линии «москалей». Несколько польских ратников пало; остальные тотчас сомкнулись и дали ответный залп. В рядах неприятеля, насколько можно было судить сквозь пороховой дым, произошло некоторое смятение… Человеческая бойня началась.
Общий подъем духа окружающих охватил, как волной, и Курбского. Первые мгновенья ожидания были для него также томительны и страшны. Теперь же он ободрился, повеселел как от хмельного зелья, и его безотчетно подмывало броситься, очертя голову, в самый пыл битвы. Но, дав себе слово до конца оберегать жизнь царевича, он не удалялся от него ни на шаг, когда Димитрий объезжал отряд за отрядом, ободряя каждого отдельно добрым словом, и затем уже посылал в огонь.
Вот и последний отряд пехоты скрылся в густом пороховом дыму, который, как непроглядным туманом, застлал все поле сражения. Что именно происходило там, не было видно, но, по доносившемуся оттуда хаосу несмолкаемых выстрелов, барабанного боя, трубных завываний, человеческих криков, воплей и стонов, можно было догадываться, что там ужас и смерть.
Тут внезапно налетевшим ветром, как рукой, сдернуло с одного края дымную завесу и открыло все правое крыло московского войска. Начальствовали им, как потом оказалось князья Димитрий Шуйский и Михайло Кашин. Те, со своей стороны, также не могли не завидеть окружавшей царевича нарядной группы всадников и за ними всей конницы, до времени не участвовавшей еще в деле, а потому не решились, казалось, первыми начать атаку.
– Они ждут нас. Так с Богом же! – заметил Димитрий, повертывая коня, чтобы стать во главе своей собственной хоругви.
Но атаман донцов Корела, неотступно следивший за каждым распоряжением царевича, предугадал его намерение. Не желая, видно, отдать первенство другим, он не выждал условного знака, зычно гикнул, хлестнул своего ретивого коня и, как из лука стрела, полетел вперед. Гик его был подхвачен двумя тысячами донцов, которые с дротиками наперевес помчались вслед за атаманом.
– За мной, товарищи! – крикнул теперь и Димитрий.
Пример донцов подействовал заразительно. С таким же гиком, постепенно возраставшим до дикого рева, вслед за царевичем понеслась вперед его царская хоругвь, а за нею и вся польская кавалерия. Всякий старался изо всех сил перегнать, перекричать своих товарищей. Это была не парадная кавалерийская скачка: это был бешеный ураган, который должен был на своем пути повалить и смять все и вся.
Но донцы уже врезались в правое крыло Борисова войска.
«Пускай же и сами расправляются!» – решил Димитрий и фланговым движением круто своротил со своими на центр московитян, над которым высоко развевался большой стяг самого воеводы князя Мстиславского.
Движение это было так неожиданно для русских, сплошная масса вражеской конницы налетела на них сквозь пороховой дым так стремительно и с таким победоносным, нечеловеческим ревом, что на воинов Мстиславского напал панический страх.
– А ведет-то их сам царевич! – крикнул кто-то; и возгласа этого было достаточно, чтобы передние попятились на задних и привели их также в замешательство. Еще миг – и завязался рукопашный бой, или, вернее сказать, одностороннее избиение, потому что стрельцы только отбивались, а враги их со слепой яростью рубили сплеча направо и налево, а копытами коней топтали сраженных. Мстиславский, истекая кровью сам от нескольких ран, тщетно воодушевлял своих собственным примером, бросаясь в самую жаркую сечу: охватившее стрельцов смятение обращалось уже в постыдное бегство.
– Сдавайся, князь! – раздался тут около него повелительный голос.
Мстиславский повернул коня и очутился лицом к лицу с молодым всадником. По богатому наряду и дарственной осанке он тотчас угадал в нем названного сына Грозного царя.
– А, проклятый самозванец!
И он с ожесточением занес на него свой тяжелый меч. Но Димитрий своей турецкой шашкой искусно отвел удар и крикнул в ответ:
– Наши силы неравны, князь, ты ранен. Мне хотелось бы сохранить жизнь такого славного воина.
Мстиславский не думал, однако, еще сдаваться.
– Защищайся! – завопил он и вторично набросился на противника.
Тот вовремя увернулся и, в свою очередь, рубанул его по стальному шлему с такой силой, что шлем раскололся надвое и кровь брызнула по лицу Мстиславского.
– Ребятушки, выручайте!.. – успел он только воззвать к своей стрелецкой дружине и замертво упал с коня.
Падение любимого вождя так озлобило стрельцов, что они толпой накинулись на Димитрия. В один миг он был окружен и едва ли бы уцелел или избег плена, если б не Курбский. Отбивая царевича, тот так мало заботился о себе самом, что был ранен сзади чьей-то секирой пониже левого плеча. Но в пылу боя он не ощутил даже боли. А тут подоспела царская хоругвь и оттеснила остервеневших стрельцов, едва успевших подобрать с земли и унести с собой своего павшего вождя.
Из всего московского войска одно только левое крыло, предводительствуемое Василием Морозовым и Лукой Щербатым, стояло еще до сих пор на своей позиции твердо и непоколебимо. Но вот и оттуда донеслись крики ужаса, и вся масса левого крыла побежала вспять без оглядки, сбивая с ног друг друга и бросая по пути оружие. Рассыпавшаяся на поле битвы польская рать воспользовалась этим и дружно кинулась вслед за бегущими.
Что же такое случилось? А то, что на левое крыло «москалей», откуда ни возьмись, нагрянул свежий конный отряд, да не в воинских доспехах, а в небывалом зверином образе. То был не кто иной, как Балцер Зидек, с навербованной им, с разрешения гетмана, вольной дружиной. Но этот, почти невероятный эпизод всего лучше передать словами современного хронографа:
«Он же, Гришка, с хитростью на бой нарядился: воинские люди и кони их в медвежьих кожах и овечьих навыворот… Кони же Борисовой рати зело мятущеся; они же в смятении том всадников побиваху… и много бесчисленно людей падоша… и воины Борисовы побегоша; они же их девять верст и больше гнаша секуще: трупу ж человека яко лесу порониша, и яко мост на девять верст помостища; а ще не бы нощь постигла, мало бы спаслося».
Царевич, к которому, кроме Курбского, примкнули между тем и другие свитские, не хотел, да едва ли бы и мог, задержать этот бурный поток погони. Но лично он уже не принял участия в избиении бегущих, предоставив эту «черную работу» своим ратникам.
– А где же пан Тарло? – спросил он, озираясь на окружающих. – Неужели убит?
– Да вон же он, живехонек! – отозвался один из свиты.
– И с пленником! – подхватил другой.
В самом деле, к ним несся вскачь парадным аллюром старший адъютант гетмана, а за ним бежал со всех ног, чтобы не отстать, привязанный к седлу человек.
– Поздравьте с трофеем, государь! – издали еще весело кричал пан Тарло, – собственный стяг московского воеводы!
Оказалось, что пленник его был знаменщиком самого Мстиславского, несшим над воеводой в бою огромное, разноцветное знамя с образом Воскресения Христова и с евангельскими словами на позолоченном древке. И теперь еще древко было в руках знаменщика; но, не имея сил на бегу нести тяжелое знамя, он волочил его по снегу за собой.
Когда тут пан Тарло внезапно задержал коня, бедный пленник с разбегу рухнул ничком наземь.
– Поклон отдает своему государю! – усмехнулся пан Тарло, причем, вследствие сокращения краев глубокого шрама на его левой щеке, рот его скосился к левому уху, и правильные, сами по себе, черты лица его приняли выражение осклабляющегося сатира. – Вставай, быдло, отдавай честь знаменем!
И, наклонясь с седла к упавшему, он со всего маху огрел его по спине нагайкой. Курбский был возмущен до глубины души и взглянул на царевича. Тот весь также вспыхнул и проговорил дрожащим от гнева голосом:
– Сейчас отвяжите его, пане! Он и так не убежит.
– Прошу прощенья, государь, – возразил пан Тарло с утонченной польской вежливостью и, в то же время, с развязностью, граничившей с дерзостью, – но человек этот – мой, и я везу его в презент моему гетману.
– Извольте отвязать его! слышите?
Сказано это было таким повелительным тоном, что ослушаться было немыслимо. Побагровев от досады и кусая губы, пан Тарло отстегнул от седла ремень, привязанный под мышками пленника. Этот с трудом поднялся на ноги и одной рукой взял свое знамя на плечо, а другой схватился за задыхающуюся грудь. Тут из-под пальцев его проступила алая струя крови.
– И такого-то человека, пане Тарло, вы протащили за собой, может быть, несколько верст! – с негодованием заметил Димитрий. – Дойдешь ли ты, братец, до нашего лагеря? – отнесся он участливо к раненому. – Отселе еще версты три.
– Авось доползу, – невнятно прохрипел страдалец, а сам при этих словах пошатнулся и едва опять не уронил знамени.
Невдалеке в это время показались два польских пехотинца, отставших от своих. Царевич подозвал их и отдал им приказ отвести пленника в лазарет.
– Да чтобы с ним по пути туда ничего не случилось! Понимаете? – добавил он властно. – Вот князь Курбский ужо наведается в лазарет. А вам, пане Тарло, всего лучше самим свезти ваш трофей пану гетману.
Ратники с видимой неохотой, но поневоле подчинились приказанию своего временного вождя и взяли под руки врага, ослабевшего от бега и потери крови: пан Тарло же в сердцах выхватил из рук знаменщика знамя и с надменно закинутой головой уже без оглядки поскакал далее.
(Кстати, здесь упомянем, что Мнишек, по возвращении в Самбор, подарил это самое знамя, как бы собственный свой трофей, бернардинским монахам, как видно из актов этих монахов в самборском архиве).
На смену адъютанту гетмана подъехал шут последнего, Балцер Зидек, издали еще потрясавший своим дурацким колпаком.
– Новый Марафон! Не будь я Диогеном, я желал бы быть Александром! – с пафосом пародировал он слова Македонского героя.
Ему было, конечно, не безызвестно, что настольной книгой царевича было Плутархово жизнеописание Александра Великого, и что высшим его желанием было сравняться с ним в воинских подвигах.
От нахальной фамильярности балясника, однако, Димитрия как будто покоробило, и он довольно сухо поблагодарил его за счастливую выдумку – напугать врагов.
– Какие же это враги, государь? Это – стадо баранов! – был самодовольный ответ. – Но и бараны бодаются; а потому смею надеяться, что храбрость моя не останется без вознаграждения?
– Я вас вознагражу, Балцер, будьте покойны, – едва скрывая уже свое презрение, сказал Димитрий. – А теперь – до свидания!
– До приятного, государь!
И, вместо поклона, шут перекатился; колесом через голову своей лошади, а в следующий миг сидел опять в седле и с гиком помчался к лагерю.
– Вот каким двум героям мы обязаны победой: пану Тарло и Балцеру Зидеку! – с горечью промолвил царевич.
– И кого мы победили? – своих же братьев русских: – с глубоким вздохом добавил Курбский. – Ведь это все наши же русские.
Он указал на расстилавшуюся перед ними снежную равнину, усеянную трупами. Димитрий огляделся кругом, и глаза его наполнились слезами.
– Прости меня, Боже! – прошептал он, осеняясь крестом. – Не дай мне в другой раз такой дорогой победы!
– Так не прикажешь ли, государь, ударить отбой? – спросил Курбский.
– Да, да, отбой!
Глава третья
Два сообщника
Давно уже повечерело, а польский лагерь представлял более оживленную картину, чем когда-либо днем. Тароватый гетман велел выкатить победоносному воинству несколько бочек «старой водки» и браги, и теперь, вдоль всего лагеря, около пылающих костров шел пир горой, раздавались разгульные песни, хмельной говор и хохот.
Понятно, что и ясновельможное панство не было забыто: оно «бенкетовало» (пировало) в собственных покоях Мнишека; а затем, прямо из столовой, с разгоряченными от вина лицами и увлажненными взорами, перешло в кабинет хозяина, чтобы позабавиться игрой в «фараон» (банк). Сам Мнишек вел игру с обычным своим счастьем: не прошло и часа времени, как перед ним лежала груда золотых. Больная нога его была еще забинтована, но вид у него был совершенно свежий и бодрый, точно игра служила ему лучшим лекарством от подагры.
Не то было с остальными игроками: в их чертах лица, движениях и восклицаниях игорная страсть выражалась отталкивающим образом. На одного же из них – пана Тарло – глядеть было просто страшно: глаза его готовы были, кажется, выкатиться из орбит, а залитое огнем лицо его или, вернее сказать, левая сторона лица с пересекавшим его шрамом искажалась по временам сардонической улыбкой. Он знал ведь, что жадный шут ростовщик хищным зверем поджидает в соседней комнате проигравших игроков, но что ему, самому неисправному должнику, он ни одного карбованца уже не поверит.
И вдруг, о диво! За спиной его раздается вкрадчивый голос Балцера Зидека:
– Пане Тарло! На пару слов.
Он обернулся. Шут молчаливым жестом манит его за собой в другую комнату. Неужели этот скряга все-таки одумался и ему поверит?
– Ну, что, Балцер, – начал пан Тарло, покровительственно хлопая его по плечу. – Видно, царевич отвалил вам за ваше «геройство» столько дукатов, что вам и девать их некуда. Но вперед говорю вам, что более ста на сто от меня и не ждите.
– И тысячи на сто не возьму от ясновельможного пана: давно проучен.
– Так для чего же вы меня звали? Шутить над собой, вы знаете, я никому не позволю!
– Помилуйте! Кто же дерзнет шутить над благородным рыцарем? Но у меня есть одно средство раздобыть вам полный кошель дукатов и без всяких процентов. Отойдемте-ка в сторону, неравно кто услышит и воспользуется моей блестящей мыслью.
Они отошли в крайний угол комнаты, и шут, приподнявшись на цыпочки, приставил рот свой к самому уху пана Тарло.
– Гм… – промычал тот, выслушав таинственное предложение. – Мысль, достойная черта!
– Слишком много чести, пане, слишком много чести! – отозвался Балцер Зидек, осклабляясь до ушей. – Нашему брату, хоть чертенком быть – и то спасибо. Ну, а вздернут на одну перекладину с самим чертом, так по крайней мере честь и почет.
– Типун вам на язык! – буркнул пан Тарло, гадливо морщась. – Меня никто и пальцем не тронет!
– Вот потому я и обратился к самому черту… то бишь, к ясновельможному пану. Угодно пану идти со мной?
– Сейчас?
– А то когда же? Надо ловить фортуну за чуб. Самое подходящее время. Теперь в целом лагере никому нет до нас дела.
– А фонарь у вас припасен?
– Еще бы! Только выбраться нам из дома надо врозь: вашей ясновельможности, по чину, – с парадного крыльца, а вашему покорному рабу – с черного.
С этими словами шут юркнул в заднюю дверь, ясновельможный же сообщник его направился к главному выходу. В передней пан Тарло не нашел даже нужным растолкать заснувшего на скамье слугу, сам снял с гвоздя свой меховой кунтуш и вышел в обширные сени или, точнее сказать, крытый переход, соединявший обе половины дома – гетмана и царевича.
В это самое время стукнула противоположная дверь половины царевича. Не желая быть замеченным выходящим оттуда, пан Тарло отступил в темый угол под деревянной лестницей, которая вела наверх в светелку. Притаился он там очень кстати, потому что, при тусклом свете повешенного над лестницей ночника, разглядел теперь князя Курбского и пана Бучинского.
– Вы к себе, пане? – спросил Курбский, протягивая руку маленькому секретарю царевича.
– Да, хочу окончить мой письменный доклад пану гетману о сегодняшнем деле, – отвечал тот с подавленным вздохом. – Какое зло ведь, как подумаешь этакая война! Я нарочно распорядился сосчитать число павших, чтобы знать пропорцию убыли у московитян и у нас. Наших пало всего на всего сто двадцать человек, а их – четыре тысячи.
– Но это ужасно! А раненых всех подобрали: и наших и их?
– Всех едва ли. Поле битвы, как вы сами знаете, растянулось на много верст, а в три часа дня уже смерклось. Несколько раненых московитян сами приплелись в наш лазарет, и лекаря с фельдшерами до сей минуты, я полагаю, перевязывают раны. Я строго настрого приказал им не делать различия между нашими и московитянами: все мы ведь перед Богом те же люди!
– Позвольте от души поблагодарить вас за это, пане! – с теплотой проговорил Курбский. – Вы назвали сейчас войну злом; да, она – страшное зло, разжигает самые зверские страсти; но, вместе с тем, война учит нас оказывать другим братскую помощь, делить с другими опасность; на войне скрепляются узы дружбы и вообще исполняется учение Христово: «Люби ближнего как самого себя». Я сейчас загляну в лазарет…
– Загляните, князь; сердечное участие ободряет больных. Я, к сожалению, не имею пока времени идти с вами. Желаю вам доброй ночи.
– Доброй ночи, милый пане.
Деревянная лестница над головой пана Тарло заскрипела под ногами пана Бучинского, занимавшего наверху светелку.
– Тоже поляк! – злобно пробормотал про себя пан Тарло, выжидая, пока и шаги Курбского замолкнут на крыльце.
Тогда он осторожно выбрался из своей засады и спустился с крыльца на двор.
Хутор, в котором, как уже сказано, помещалась «гетманская квартира», был окружен большим фруктовым садом. Сквозь безлиственные, но опушенные инеем деревья этого сада отдаленный отсвет войсковых костров едва ли достигал до хутора там и сям слабыми бликами. Но очищенная от снега площадка перед крыльцом лежала так открыто под лучами освещенных гетманских окон, что пан Тарло предпочел свернуть в противоположную сторону. Пробираясь тут вдоль затемненной половины царевича, где за спущенными занавесями светились только два окна, он на минуту остановился. Между занавесями оставалась свободная полоска, в которую можно было разглядеть сидящего за письменным столом царевича. Перед ним были разложены бумаги; но он. облокотись на стол, закрыл глаза ладонью, точно в тяжелом раздумье.
– Да, ваше царское величество, призадумаешься тут! – усмехнулся про себя пан Тарло. – Своих же москалей уложить четыре тысячи, – покорно благодарю! Думайте, думайте; может, что-нибудь и придумаете, а мы тем временем будем вашими руками жар загребать.
И, иронически кивнув, как бы на прощанье, головой, он продолжал свой путь за угол сада, где его поджидал его достойный сообщник.
Глава четвертая
В царстве смерти
Между тем Курбский входил уже в большой деревянный балаган полевого лазарета. Перевязка раненых была только что окончена. Старший лекарь в белом фартуке, забрызганном кровью, с засученными до локтей рукавами стоял перед лоханью и мыл свои окровавленные руки. Когда Курбский подошел к лекарю и поздоровался, тот обернулся к нему измученным и красным, как из бани лицом, на котором блестели крупные капли пота.
– А, ясновельможный князь! Из всего офицерства вы здесь первый. Никто до сих пор ведь и не полюбопытствовал. Задали же вы нам работу!
Курбский огляделся в просторном бараке, слабо освещенном одной лишь стенной масляной лампой над операционным столом. Больные лежали на соломе вповалку, почти вплотную один около другого; счетом их было, однако, едва ли более пятидесяти.
– А я думал, что их куда больше, – заметил Курбский.
– И то чуть ли не половина москалей, – проворчал лекарь. – Уж этот мне пан Бучинский! Принимай и чужих, когда своих не оберешься. Спасибо еще донским казакам, да и нашим бравым ратникам, что добавили павших.
– И вы, пане лекарь, одобряете эту жестокость, вы, который должны служить для других примером милосердия! – возмутился Курбский.
– Тише, тише, князь; вы забываете, что больным это слышать не годится. Но сами согласитесь: коли кто ранен насмерть, не лучше ли сразу прекратить его мученья?
– На все воля Божья, пан лекарь, – отозвался кто-то строгим голосом по-русски из глубины барака.
Курбскому голос показался как будто знакомым, и он, пройдя несколько шагов, отыскал говорившего: глаза его встретились с устремленными на него печальными глазами раненого, который оказался из числа ратников собственной хоругви царевича.
– Это ты, Веревкин? – сказал Курбский. – Тебя куда ранило?
– Да в голень, ваша честь, шальной пулей. И то ведь, признаться: стоишь этак в дыму, ничегошенько-таки перед собой не видишь; слышишь только, как жужжат они, проклятые, вкруг тебя, словно пчелы на пасеке весной; ну, и сам палишь тоже зря, не целясь; забиваешь, знай, шомполом заряд, подсыпаешь пороху на полку, да пли. Виноватого пуля все равно отыщет.
– А кости у тебя не тронуло?
– Как лучину расщепило. Ну, а дровосек этот вон всю ногу пониже колена пилой своей отпилил… Ой, батюшки, как ноет-то! хуже зуба…
– Не любишь? – с горькой шутливостью заметил лежавший рядом молодчик. – Ведь вон и его милость, видишь, тоже попортило, а ничего, не жалобится по-бабьи.
Он указал глазами на левую руку Курбского, которая была в повязке.
– Это – пустяк, – сказал Курбский, пристально вглядываясь в страдальческое, земляного цвета, лицо молодчика. – Я словно тебя уже видел…
– Да как не видать, коли при тебе же царевич вызволил меня нынче из рук этого…
Не договорив, он закашлялся, а в горле у него хрипло заклокотало. Курбский узнал в нем русского стрельца-знаменщика – жертву пана Тарло.
– Не могу ли я чего для тебя сделать? – спросил он участливо.
– Для меня-то все кончено, – прошептал тот с усилием. – А коли Господь даст твоей милости побывать раз в Москве…
Он опять перевел дух, чтобы обтереть с губ выступившую на них кровяную мокроту.
– Вот видишь? из самого нутра! – продолжал он, и бледные губы его искривились опять жалкой усмешкой, точно и жалел-то он себя, и издевался над собственной своею немощью. – Лекарь прямо так и объявил, что легкое-де прострелено; стало, ставь на мне крест…
– Ну, и такие выживают, – сказал Курбский, с трудом сохраняя наружное спокойствие. – А что это ты начал говорить мне о Москве? Я хоть и не бывал еще там, но рассчитываю скоро быть.
– Спаси тебя Господи, кормилец… Есть у меня, вишь, под Москвой в селе Вяземах мать-старуха… Мною только живет и дышит… Отвези же ей поклон от меня: не поминала бы лихом, коли иной раз огорчал ее, был непокорным сыном… Да еще скажи… скажи, чтобы много не крушила себя, что я ни чуточки не мучился перед кончиной. Ой, Бог ты мой!..
Все лицо его вдруг судорожно перекосило, глаза закатились, и он глухо застонал. Только грудь его высоко вздымалась, да из глубины ее вырывались хриплые стоны. Курбский постоял над ним, постоял; потом тихонько спросил Веревкина, не сказывал ли ему стрелец своего имени.
– Сказывал, – отвечал Веревкин, – зовут его Прокопом Седельниковым.
Курбский молча кивнул головой и стал обходить других раненых. Поляки с холодной гордостью отклоняли предлагаемую князем-москалем помощь; русские же, как из царской хоругви, так и пленные, отвечали ему охотно и заявляли ему разные желания. Подойдя опять к старшему лекарю, Курбский, от имени царевича, попросил его удовлетворить по возможности эти скромные желания. Когда он затем, направляясь к выходу, проходил мимо Прокопа Седельникова, последний его снова окликнул:
– Князь Михайло Андреич!
Курбский остановился и спросил, чем может ему еще услужить.
– Будь радетель… изволишь видеть… Коли твоей милости доведется найти мою матушку, так не поминай ей только, Бога ради, про того польского пана, который, знаешь…
У умирающего язык не повернулся договорить: слишком уж стыдно и горько было ему, видно, чтобы даже умирающие здесь вместе с ним слышали о той позорной пытке, которой подвергнул его пан Тарло.
– Знаю, знаю, – успокоил его Курбский. – Я скажу ей, что ты пал в честном бою на поле брани…
– И что меня там же схоронили…
– Хорошо, хорошо.
Глубоко потрясенный, Курбский вышел из лазарета, который представлялся ему как бы кладбищем с живыми покойниками. Триста лет назад хирургия была ведь еще в первобытном состоянии, о противогнилостных средствах не имели понятия, и большинство тяжело раненых обречено было на смерть.
«А там, в поле, лежит их еще четыре тысячи – уже бездыханных, – вспомнилось ему. – И, как знать, иной из них пал хоть замертво, да теперь, пожалуй, очнулся, напрасно взывает о помощи, лежит на снегу и коченеет на морозе…»
Курбский ускорил шаг и, войдя к себе, кликнул своего хлопца слугу Петруся Коваля, сопровождавшего его еще с лета из Запорожской Сечи.
– Тебе, Петрусь, сколько лет-то будет?
– Да пятнадцать еще в Варварин день стукнуло, – не без важности пробасил своим петушиным басом юный запорожец, выпрямляясь во весь рост.
– Как есть казак! – улыбнулся Курбский, а затем прибавил опять серьезно. – А покойников не боишься?
– Покойников?.. – переспросил Петрусь, которому все-таки стало как будто бы не по себе.
– Да, мертвецов. Нынче в бою пало тысячи четыре одних русских. За темнотой они еще в поле не убраны, не похоронены. А меж них, может, найдутся и такие, что не совсем убиты, а лежат только замертво. Не погибать же им! Так достанет ли у тебя духу идти туда ночью?
– Одному?..
– Нет, вместе со мной.
– О! С тобой, княже, я полезу сейчас хоть к черту на рога.
– Так идем же.
И вот они миновали лагерь, вот они уже и на поле битвы. Небо было обложено мглистой дымкой, и сквозь нее еле-еле пробивался сумеречный свет от взошедшей уже над горизонтом, но невидимой луны. Тем не менее, благодаря снегу, на белеющей равнине, довольно ясно различались, рассеянные кругом темными пятнами, неподвижные тела. Молча шагая между ними, Курбский по временам останавливался, наклонялся и прислушивался, не подаст ли кто голоса, не донесется ли откуда-нибудь хоть слабого стона. Но все кругом было до жуткости тихо, – настоящее царство смерти! Петрусь Коваль, который давеча так храбрился, ни на шаг не отставал от Курбского и пугливо озирался. Вдруг он схватился за рукав своего господина.
– Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя!
– Что с тобой? – спросил Курбский.
– А вот этот… Точно глядит на нас и смеется.
Действительно, лежавший навзничь с полуоткрытым ртом мертвец оскалил зубы, а белки его глазных яблок, широко выкатившихся из запрокинутой головы, тускло блестели.
– Нет, совсем окоченел, – сказал Курбский, ощупав рукой лицо покойника, и сделал над ним крестное знамение. – Упокой Господь его душу! Но как он, бедный, должно быть, мучился!..
Раскинутые врозь руки мертвеца скрюченными пальцами и то впились в снег, как в предсмертной агонии.
– Идем дальше, милый княже… – заторопил Петрусь, и они двинулись далее.
Так прошли они версту, другую. Тут впереди них показались две человеческие тени, и блеснул огонек.
– Смотри-ка, княже, – заметил Петрусь, – вон двое с фонарем. Зачем они здесь?
– За тем же, конечно, за чем и мы с тобой, – отвечал Курбский. – Послал их сюда, верно, пан Бучинский.
– А может, они просто обирают мертвецов?
– Не дай Бог!
– Но бывают же ведь и такие?
– Бывают, слышно; но это такое же злодейство!.. Нет, нет, зачем думать сейчас дурное?
– Вот они остановились, обшаривают одного…
– Не обшаривают, а смотрят, жив ли. Идем-ка поскорее, пособим им.
Есть люди, которые, благодаря своей светлой душе, ходят среди темной толпы как бы с зажженным светочем в темном бору, и видят одну лишь освещенную их светочем сторону дерев. Таков был и Курбский. Судя по себе, он и другим людям приписывал, прежде всего, добрые человеческие побуждения, какие были у него самого. На этот раз он жестоко ошибся.
Наклонившись над распростертым на снегу телом, те двое не расслышали приближения Курбского и Петруся, пока эти совсем не подошли к ним. Тут оба разом подняли головы. Фонарем, который один из них держал в руке, осветило лица обоих, и Курбский, к крайнему своему изумлению, в одном из них узнал старшего адъютанта, а в другом – шута гетмана.
– Пане Тарло! – вскричал он. – И вы, Балцер Зидек! Те, в свою очередь, были не столько удивлены, сколько смущены. Пан Тарло посулил кому-то «сто дьяблов»; Балцер Зидек же, мигом оправясь, отозвался с задорной фамильярностью:
– Как видите, собираем жатву, как и ваша княжеская милость! Но мы вас не выдадим, будьте покойны: ворон ворону глаз не выклюет.
Теперь для Курбского не могло быть уже никакого сомнения относительно цели, с какой те прибыли на поле смерти.
– С воронами у меня нет дела! – сказал он с нескрываемым уже презрением. – Мне нужны здесь не мертвые, а живые. А этот, слава Богу, кажется, еще жив.
– Жив, княже, но выживет ли? – отвечал Петрусь, опустившийся на колени перед лежавшим навзничь русским ратником, из груди которого вырывались слабые стоны.
– Выживет или нет, а мы сделаем для него все, что можем.
– Желаю вам успеха… – сердито буркнул пан Тарло и повернулся, чтобы уйти.
Но Курбский решительно заступил ему дорогу.
– Вы так не уйдете, пане! Сам я теперь моей левой рукой не владею. Поэтому вы не откажетесь, конечно, вместе с Балцером и моим слугой, отнести этого несчастного до лазарета.
– Чтобы я, рыцарь, нес простого ратника, москаля, да еще вместе с кем? С вашим слугой-быдлом! Вы, князь, простите, хороший человек, но в доброте своей доходите до Геркулесовых столбов. Извинить вас можно разве тем, что вы не поляк, и не знаете, что такое польский гонор!
И, отстранив рукой озадаченного Курбского, благородный пан не спеша удалился. Балцер Зидек, покинутый своим сообщником, хотел было также улизнуть. Но Курбский поймал его за ворот.
– Куда! Вы поможете нам снести беднягу в лагерь. Но прежде осмотрите-ка его рану: вы ведь кое-что смыслите в лечении.
Шут, уже не прекословя, стал ощупывать последовательно все тело умирающего. Добравшись так сперва до одной ноги, потом до другой, он промычал:
– Гм…
– Что такое? – спросил Курбский.
– Да кость под самым коленом раздроблена; а крови-то, смотрите, крови сколько!
– Надо, значит, сейчас же перевязать. Вы, Балцер, ведь и в перевязках мастер.
– Да ведь ему, ваша милость, все равно один конец: совсем истек кровью.
– Это решать не нам с вами. Доставить бы лишь живым в лазарет.
– Эх-эх! – вздохнул шут. – Человек только что ведь сбирался вкусить блаженство, а его силой назад тянут! Ну, что ж, хлопче, помоги-ка мне снять с него сапог.
Сапог был снят и рана перевязана; причем хирург поневоле прилагал все свои старания, чтобы угодить наблюдавшему за каждым его движением молодому князю. В заключение, когда все трое с возможной осторожностью приподняли все еще не пришедшего в память раненого с земли (Курбский одной правой рукой), заботливый Балцер Зидек не забыл захватить с собой и сапог ратника. Тут сапог выскользнул у него из-под мышки. Нагнувшись за ним, Балцер Зидек сначала, однако, схватил что-то другое с земли и сунул себе за пазуху.
– Ты что это, братику, поднял? – спросил его Петрусь.
– Видишь, сапог.
– Не о сапоге я тебя спрашиваю, а о том, что ты за пазуху спрятал.
– Ну, это у меня из кармана выпало.
– Так ли? Не из чужого ли сапога?
– Ну, полно, Петрусь, – вступился Курбский. – Место ли тут…
– Да ведь у нас, милый княже, на Запорожье многие казаки кошель свой, вместе с люлькой, за голенищем носят. Может, и этот тоже…
– Перестань, будет! – перебил Курбский. Однако, подозрение его было уже возбуждено, и он не мог уже отделаться от мысли, что Балцер Зидек присвоил себе деньги ратника. Сам шут удивительно присмирел, и только когда они подходили к лазарету, он заискивающе-униженно стал умолять Курбского никому не говорить об этой ночной их «прогулке».
– Вы сами, Балцер, расскажете обо всем военному суду, – холодно ответил Курбский.
Тот совсем опешил.
– Военному суду! Ваша княжеская милость шутить изволите. Клянусь горбом моей двоюродной тетки…
– Мне не до шуток, Балцер, – прервал Курбский. – А вот и лазарет.
Сдав умирающего лекарю, а шута под надзор двух ратников из царской хоругви, Курбский отправился к царевичу доложить обо всем, чему он только что был свидетелем на поле смерти.
Глава пятая
Воронье черное и белое
Димитрий, после некоторого колебания, склонился на убеждения своего советчика и друга передать действия пана Тарло и Балцера Зидека на усмотрение военного суда. За поздним часом дело было, однако, отложено до утра, а поутру оно отодвинулось на второй план новым, более важным обстоятельством. От запорожцев, которых столько времени не могли доискаться, прибыл гонец с вестью, что четыре тысячи их, с кошевым атаманом Семеном Ревой, подошли, наконец, и расположились в трех верстах от лагеря. Надо было принять их с подобающею торжественностью, и вот навстречу дорогим гостям выехали рядом на своих кровных аргамаках обряженные по-праздничному царевич и старик гетман (совсем, казалось, оправившийся от своего недуга); впереди них выступали трубачи, литаврщики и барабанщики, исполнявшие воинственный марш; позади следовала, разумеется, вся блестящая свита обоих, а за свитой – взвод донских казаков с дротиками и развевающимися значками.
Прибывшие запорожцы, как оказалось, были все пешие, за исключением начальствующих лиц: самого кошевого атамана, войскового есаула, двух походных полковников и наказных куренных атаманов[1].
Присутствуя полгода назад в Сече на выборах Семена Ревы в кошевые атаманы, Курбский хорошо еще его помнил. Да и как было забыть эту изрубленную до безобразия рожу, на которой не было вершка без рубца и шрама, не говоря уже об особой примете – отсеченном левом ухе. Сам Рева, понятно, гордился этими боевыми знаками, придававшими ему зверски-молодецкий вид. Спустив с одного плеча свою дорогую кунью шубу, чтобы не лишить других удовольствия полюбоваться его роскошной узорчатой черкеской и блестящим вооружением, он снял с головы свою пышную шапку из черных лисиц, а другой рукой опустил свою атаманскую булаву в виде приветствия перед царевичем и гаркнул зычно:
– Твоей ясновельможной царской милости доброжелательные приятели: атаман кошевой Семен Рева со всем войска низового запорожского товариством челом бьем!
Димитрий с достоинством приподнял тоже на голове свою бархатную, четырехугольную шапку с алмазным пером и отвечал не менее радушно:
– Великое спасибо твоей ясновельможности, пане батьку, и всем вам, панове, за добрую помощь старому товарищу и брату! Братски всех вас обнимаю и целую в вашем славном батьке-атамане.
Подъехав за этим вплотную к Реве, он обнялся с ним и троекратно облобызался. Братание двух начальников было встречено треском запорожских литавр и барабанов. В то же время все запорожцы разом сбросили с плеч свои косматые зимние бурки и предстали во всей красе своих цветных кунтушей, шелковых поясов с золотыми кистями, цветных шаровар с золотыми галунами и самой разнообразной воинской «сброи»: рушниц (ружей), саблей, палашей, ятаганов, копий, обухов (боевых молотков), кинжалов, пистолей, лядунок, (пороховниц); а затем, развернувшись фронтом, прошли курень за куренем мимо царевича, задорно бряцая оружием.
Выразив свое восхищение их молодцеватым видом и поблагодарив их вторично, Димитрий обратился с вопросом к атаману, почему они, запорожцы, так запоздали.
– Позамешкались, точно, – отозвался Рева, – а все из-за этой татарвы поганой. Грому на них нет! Пронюхали, черти, что мы на походе, и тем же часом налетели, что саранча, на наше Запорожье. Но мы, благодарение Богу, отошли еще не так далеко. Догнал нас нарочный, вернул с похода.
– И вы не дали уже им спуску?
– Овва! Рассеяли, как прах по степи, гнались за ними до самых их улусов, а уж тут пошла такая потеха!..
– Не мало, я чай, табунов отгромили?
– И табунов и стад. Ну, знамо, не обошлось и без красного петуха. Огонь с крыши на крышу так и полыхает, кругом татарки с татарчатами середь полымя мечутся, что угорелые: «Алла! Иль Алла!» Кобылы ржут, коровы ревут, овцы блеют… Потеха да и только!
– Пожалуй, и иной живой души не пожалели?
– Души? – удивился запорожец. – Ну, вже так! Нешто у татарвы тоже души христианские?
– Не христианские, а все же…
– Один пар. Чего жалеть-то? Руби, знай, носы да уши, а то и голову с плеч, а либо за ноги да в полымя, – туда и дорога!
– И вот это то воронье, государь, мы призвали с собой на родную нашу Русь! – вполголоса заметил царевичу возмущенный Курбский.
Димитрий куда лучше своего друга сдерживал волновавшие его чувства. Что думал он про лютость диких сынов Запорожья, он счел совершенно неуместным выдать атаману и с прежнею приветливостью осведомился о том, где же конные запорожцы, которых ожидалось тоже, кажется, до восьми тысяч.
– Да кони у них уж больно притомились, – отвечал Рева, – ведь гнались за этой поганью, поди, до самого Черного моря; надо дать им еще лишнюю недельку передохнуть, покормиться.
– Как бы лишь не запоздали до новой схватки с Борисовым войском, – сказал царевич и в коротких словах рассказал о жаркой битве накануне, в которой легло столько русских, что даже схоронить их еще не успели.
– Вы, пане Тарло, позаботьтесь об этом, – отнесся Мнишек к своему старшему адъютанту.
– Смею доложить пану гетману, – отвечал с почтительной фамильярностью пан Тарло, – что пан Бучинский хотел было уже послать туда наших польских ратников с лопатами; но те до одного наотрез отказались хоронить москалей. Да и то сказать: их все равно ведь снегом занесет.
– Но они такие же христиане, как и мы с вами, и пали в честном бою! – воскликнул Курбский.
– Не кипятись, Михайло Андреич – остановил его Димитрий. – Есть у нас на то моя царская хоругвь.
– Не дозволишь ли, государь, немешкотно сделать это моим запорожцам? – предложил тут Рева и передал соответственное приказание своему ближайшему помощнику – есаулу.
По возвращении в главную квартиру, Курбский напомнил снова царевичу о созыве военного суда над паном Тарло и Балцером Зидеком. Но Димитрий признал более осторожным обсудить вопрос сперва келейно с гетманом и двумя духовными советниками: патерами Сераковским и Ловичем. На этом частном совещании Курбскому было предложено рассказать, как было дело, и рассказ его дышал таким благородным негодованием, что в справедливости его едва ли кто-либо из слушателей мог усомниться. Тем не менее оба патера не выказывали никаких признаков неудовольствия поведением двух обвиняемых. По временам лишь патер Лович украдкой вопросительно переглядывался со своим старшим собратом; но тот в ответ пожимал только плечами. Старику гетману же, видимо, было крайне неприятно обвинение двух близких ему людей, и он с хмурым видом нетерпеливо ворочался в своем кресле.
– И на основании таких-то улик вы позволили себе взять под стражу моего верного шута? – формальным тоном спросил он, когда докладчик умолк.
– Но он мог скрыть следы преступленья! – отвечал Курбский. – И улики, я полагаю, настолько ясны…
– Не касаясь пока вопроса о степени преступности обвиняемых, – прервал его Мнишек, – не могу не указать вам, любезный князь, что всякое преступное деяние, прежде всего, должно быть засвидетельствовано по меньшей мере двумя достоверными очевидцами.
– Но они есть: я и мой слуга, Петро Коваль.
– Против вашей княжеской милости, как свидетеля, ничего, конечно, возразить нельзя. Относительно же вашего хлопца дело совсем иное. Ведь он несовершеннолетний?
– Да; ему шестнадцатый год.
– Ну, вот, изволите видеть. Показания его могли бы служить только подтверждением показаний двух полноправных свидетелей, сами же по себе не имеют законной силы.
– А затем он, как раб, вообще не имеет голоса, – вставил от себя патер Сераковский.
– Простите, clarissime, – возразил Курбский, – но он из вольных запорожских казаков…
– Однако, состоит у вас в услужении, стало быть, еще сомнительно, может ли он считаться теперь наравне с другими вольными людьми.
– А военный суд наш может руководствоваться только точным смыслом законов, – подхватил Мнишек. – Если сам инкульпат (подсудимый) добровольно не сознается во взводимом на него преступлении, то показание одного свидетеля, даже самого достоверного, не считается полным доказательством вины инкульпата, ибо все мы – люди.
– А еггаге humanum est (человеку свойственно ошибаться), – добавил патер Сераковский.
– Так сделайте нам очную ставку! – загорячился опять Курбский. – Отрицать то, что было, я думаю, ни пан Тарло, ни Балцер Зидек не станет.
Но он чересчур доверял прямодушию двух обвиняемых. Когда младший патер вызвал их на «конфронтование» (очную ставку) с Курбским, и старик-гетман спросил пана Тарло, с какой целью тот ходил прошлой ночью на поле битвы, на лице благородного пана выразилось полное недоумение.
– Ночью на поле битвы? – переспросил он. – Да я и шагу не сделал из лагеря!
– Вы отрекаетесь от того, что я застал вас на поле битвы вместе с Балцером Зидеком? – вскричал Курбский. – Стало быть, по-вашему, я солгал?
– Гм… Говорить неправду, любезнейший князь, не значит еще лгать: иному просто что-нибудь причудится, приснится.
– Но мне не причудилось и не приснилось: я говорил там с вами.
Пан Тарло с той же хладнокровной наглостью пожал как бы с сожалением плечами.
– Что мне ответить вам на это? Что польские рыцари, по крайней мере, никогда не лгут.
– Так, по-вашему, солгал я? – досказал Курбский, хватаясь за саблю. – Вы мне за это ответите, пане!
Пан Тарло щелкнул шпорами и отвесил преувеличенно вежливый поклон.
– Всегда, князь, к вашим услугам.
– Полно, полно, панове! – вступился Мнишек. – После похода вы можете, сколько угодно, сводить свои личные счеты, на походе же военным статутом поединки у нас строго воспрещены. Мало ли, любезный князь, есть примеров, что во сне мы видим точно наяву? Чего мудреного, что после вчерашнего жаркого дела вам ночью причудилось поле битвы…
– Но клянусь вам, пане гетман…
– Не клянитесь понапрасну; я и так верю, что вы говорите совсем чистосердечно, что вы глубоко убеждены в том, что утверждаете. Но польский рыцарь не может быть гверрой (мародером, грабителем)! А потому вы не убедите меня, пока не дадите мне еще второго свидетеля; ваш хлопец для меня, понятно, не может быть таковым.
Пан Тарло глядел на своего обвинителя с вызывающей улыбкой: гетман, очевидно, его уже не выдаст. А Курбский, чувствуя, как почва уходит у него из-под ног, с трудом сдерживал поднимавшуюся в нем бурю.
– Так Балцер Зидек подтвердит мои слова, – сказал он. – Вы, Балцер, вместе с Ковалем, донесли оттуда до лазарета умирающего… Ведь так? Что же вы не отвечаете?
Шут с глубокомысленным видом прикоснулся до своего лба, откашлянулся и, наконец, отозвался:
– Ум наш – чернильница, а речь – перо, изрек некий древний мудрец; прежде, чем доверить свои словеса пергаменту, перо надо обмакнуть в чернильницу. Да, я был с вашею княжеской милостью прошлой ночью на поле битвы, но вы сами же предложили мне сопровождать вас туда.
– Я предложил вам? – пробормотал Курбский, совершенно ошеломленный развязной выдумкой шута. – Когда? Где?
– Прошу вас, князь, не прерывать свидетеля, – заметил внушительно старик-гетман. – Ну, что же, Балцер, расскажи все по порядку.
– Пан гетман припомнит, – начал тот, – что с вечера у вас был маленький фараончик. Как человек мягкосердый, я всеми мерами облегчаю ясновельможному панству участвовать в этой благородной забаве. Одному из панов рыцарей (имени не называю) не достало уже денег, чтобы отыграться. Он ко мне: «Балцер Зидек! Отец родной!» А уж как не помочь родному сыну? «Сейчас, говорю, сыночек». Выхожу за дверь, а там, в сенях, глядь – навстречу мне его княжеская милость…
Курбский, негодуя, хотел было прервать рассказчика, но Мнишек остановил его опять повелительным жестом.
– А Балцер! Вас-то мне и нужно. – Говорит мне ясновельможный князь, – продолжал фантазировать балясник. – Нет ли у вас фонаря?
– Фонарика? – говорю я. – Как не быть. А на что вашей милости?
– Да вот иду сейчас, – говорит, – с моим щуром на поле брани: нет ли там раненых, которых можно бы еще спасти…
Ну, скажите, ваша ясновельможность, мог ли человек с моим сердцем отказать в таком христианском деле?
– А пана Тарло ведь не было с вами? – спросил Мнишек, но спросил таким тоном, как будто ожидал отрицательного ответа.
– Само собой разумеется, нет, – отвечал Балцер Зидек. – Вельможный пан был так занят за игорным столом, что отвлечь его было бы грех.
– Смертный грех! – усмехнулся с горечью Курбский. – Чем-то вы кончите вашу сказку!
– До конца недолго, ваша милость. Человеколюбие наше было вознаграждено: мы нашли одного умирающего, потерявшего даже сознание; я сам перевязал ему рану… или это тоже сказка?
– Нет, это правда.
– Ну, вот, видите ли. Потом я и щурь ваш подняли несчастного и доставили в лазарет. Верно-с?
– Верно; но что же вы ничего не сказали о его кошельке?
– О каком кошельке?
– Да о том, что выпал у него из сапога, а вы спрятали себе за пазуху?
Недаром Балцер Зидек столько лет занимал должность придворного шута сендомирского воеводы. Притворство стало для него второй натурой. Видя, что отпираться уже бесцельно, он без малейшего замешательства достал из внутреннего кармана поношенный кожаный кошелек и с обиженной миной протянул его Курбскому.
– Сами подарили мне за оказанную помощь, а теперь, видно, жаль стало! Ну, что ж, нате ваш подарок! Балцеру Зидеку ничего от вас не нужно.
– Деньги эти не мои, а ограбленного вами, – с холодным презрением отвечал Курбский, кладя кошелек на стол перед гетманом. – Бедняга, сказали мне, скончался, не придя в себя; но деньги могут пригодиться другим раненым.
– И ваша милость можете взводить на невинного человека такую напраслину? Ай-ай! (Шут замотал головой, отчего погремушки на дурацком колпаке его зазвенели). Да Балцер Зидек скорее откусит себе голову, чем присвоит себе чужое. Но он вам великодушно прощает!
– Я не нуждаюсь в вашем великодушии…
– А Балцер Зидек все-таки вам прощает! Забыть зло, которое мне причинили, – только в моей власти, а не в вашей.
Между тем Димитрий высыпал из мешка все содержимое на стол.
– Одни русские монеты, ни единой польской, – сказал он. – Чего яснее, что кошелек взят у русского.
– Да кем взят-то? – нашелся снова изворотливый шут. – Я, признаться, не хотел выдавать князя; но коли на то уж пошло.
Неизвестно, до чего бы он еще договорился, не ворвись в это самое время в комнату один из младших адъютантов гетмана.
– Разве вам не сказано, что совещание совершенно секретное? – вскинулся на него Мнишек.
– И не дерзнул бы войти, ваша ясновельможность, но такой экстренный казус…
– Что же именно?
– Его царскому величеству угодно было дозволить запорожцам похоронить убитых москалей…
– А те первым делом стали обирать мертвых и подняли из-за дележа такую драку…
– А кто призвал к нам этих грабителей? – не без злорадства заметил пан Тарло. – Не князь ли Курбский, обвиняющий теперь в грабеже других?
– Князь сам еще сегодня называл запорожцев вороньем, – вступился за своего друга царевич.
– Да, они – черное воронье, – сказал Курбский, – но что хуже – воронье черное или белое – уж право не знаю.
– Из-за чего же мы наконец спорим? – заговорил тут патер Сераковский. – Как сама война, так и грабеж на войне, – malum necessarium, полезное зло, – полезное, ибо временно утоляет зверские инстинкты грубых воинов. Кто, скажите, не нуждается в бренном металле? Еще Демосфен назвал деньги – nervus rerum, нервом вещей. А засим, мне кажется, вопрос исчерпан.
– Да, военный суд созывать теперь как будто и не для чего, – отнесся Мнишек к Димитрию, и когда тот в ответ только вздохнул и повел плечом, старик-гетман объявил совещание закрытым и пожал на прощанье руку как Курбскому, так и пану Тарло. – Очень рад, панове, что все уладилось ко всеобщему удовольствию; очень, очень рад!
– У ясновельможного пана, кажется, на душе еще кошки скребут? – тихонько спросил Балцер Зидек пана Тарло, заметив, каким свирепым взглядом тот проводил Курбского, удалившегося из комнаты первым.
– Какие кошки? – сердито спросил в ответ пан Тарло.
– А те, которых мы с вами вчера проглотили и которых сейчас вот из горла у нас за хвост тащили. Препротивное чувство, совершенно согласен с вами.
– А все вы, Балцер. Ваша же выдумка. Еще умная голова!
– Да глупцы, милый пане, разве когда глупят? Для них глупости – хлеб насущный. Глупят одни, умные люди.
– Однако ж на нас с вами все-таки легло скверное пятно.
– Всякое пятно, дорогой пане, коли не смоется дождем, то от времени и солнца полиняет. Но нашему общему врагу это так не сойдет!
– Так вы что-нибудь против него уже замыслили?
– Покуда-то нет. Но ищите – и обрящете. Случай, верно, найдется.
Случай, действительно, нашелся, – и даже очень скоро.
Глава шестая
Сердце сердцу весть подает
Обедал Курбский вместе с царевичем за гетманским столом. Домашний повар Мнишка, сопровождавший его и на походе, был великий мастер по своей части. В описываемый день, когда к гетманскому столу было приглашено все запорожское начальство, искусник-повар приложил особенные старания, и обед, точно, вышел на славу. Но душевное настроение Курбского было такое угнетенное, что он не сумел оценить чудеса кулинарного искусства, к концу же обеда, когда началась общая попойка, встал из-за стола и, под предлогом головной боли, ушел к себе. Здесь он с недоумением увидел на подоконнике целую груду медовых пряженцов. Он ударил в ладоши. Верный казачок его Петрусь Коваль не замедлил предстать перед ним; на открытом лице его играла лукавая улыбка.
– Что это такое? – спросил Курбский, указывая на пряженцы.
– Сластены, гостинцы.
– Вижу, что не ржаной хлеб. Но для кого это?
– Для тебя, милый княже, все для тебя. Отведай-ка: во рту тают.
Чтобы не обидеть мальчика, Курбский отломил кусок печенья и сунул в рот.
– Ну, что, невкусно разве? – спросил Петрусь с той же усмешечкой.
– Очень даже вкусно. Спасибо, братику. Но с чего тебе вдруг вздумалось?
– Не мне вздумалось.
– А кому же?
– Сам не догадаешься?
– Как же мне догадаться? Никому здесь, кроме тебя, на ум не придет угощать меня сластями.
– Здесь, в лагере, пожалуй, что и нет. Ну, а по соседству, примерно в Новеграде-Северском…
Курбский так и обомлел.
– В Новеграде?.. – пробормотал он.
– Ну, да, в замке: от города-то камня на камне не осталось.
– Но и там я ни души не знаю…
– Ой ли? Не знаешь даже Марьи Гордеевны Биркиной? А она-то, голубушка, нарочно еще сама для тебя потрудилась, пекла своими белыми ручками…
Курбскому стоило не мало усилия над собой, чтобы не выдать своего душевного волненья.
– Теперь припоминаю, – сказал он с притворным равнодушием, но глубоко переводя дух. – Одно время она состояла при панне Марине Мнишек и видела меня с царевичем у старшей сестры ее, княгини Вишневецкой; а потом уехала со своим дядей, купцом Биркиным, сюда, в Северскую землю…
– Ну, вот, а прознавши, что и ты тоже здесь, – подхватил Петрусь, – прислала тебе сладкую весточку: сердце сердцу весть подает.
– Полно вздор городить! Прислала просто по доброй памяти. Но с кем! Ведь ни в замок, ни из замка никого не пускают.
– Доброй волей не пускают, а коли у кого есть своя лазейка, так кто тому запретит?
– А! Вот что! Ну, ну, говори дальше.
– Заметил ты, княже, может, молодчика, одних, почитай, лет со мной, что толкается тут меж палаток с коробом всяких сластей: пряников, рожков, орехов, винных ягод? Трошкой звать.
– Нет, не приметил.
– Где ж тебе, вельможе, замечать всякого смерда! А я-то с этим Трошкой давно уж дружбу свел.
– Потому что сам куда лаком до сластей?
– Оба мы с ним лакомы: я – до его сластей, а он – до моих рассказов об удальцах-запорожцах.
– Так этот-то Трошка и пробирается сюда из замка.
– Он самый. До вчерашнего дня он сказывался крестьянским сыном из ближней деревушки Дубовки: живет-де там у торговки-тетки и приходит-де оттоле каждый день со своим товаром. Ноне же отвел меня к сторонке, чтобы никто, значит, не подслушал.
– Ты, Петрусь, говорит, меня, ведь, не выдашь?
– Зачем мне, говорю, тебя выдавать? Мы же с тобой друзья-приятели.
– Дружба дружбой, говорит, а служба службой. Поклянись мне Христом Богом, окроме одного человека, никому не сказывать о том, что услышишь от меня.
– Окроме какого, говорю, человека?
– Окроме князя твоего, Михайлы Андреича Курбского. Дело-то до него касающееся.
– Коли так, говорю, – так изволь. И поклялся ему Христом Богом…
– А дальше я и сам знаю, – прервал Курбский с блещущими глазами. – Трошка твой родом, может, и из Дубовки, да служит у Биркина. Так ведь?
– Так.
– Биркин же – купец оборотливый: не залеживаться же его товару, коли тут, во вражьем стане, верный сбыт? И подсылает он к нам своего Трошку с товаром будто бы из Дубовки, подсылает еще в потемках ранним утром, а убирается Трошка восвояси поздним вечером тоже в потемках, чтобы не подглядели.
– Так, так! – подтвердил снова Петрусь. – А знаешь ли, княже, что мне на ум сейчас вспало.
– Что?
– Да ведь коли у Трошки есть этакий потайной лаз из замка, так почему бы и тебе не пробраться туда тем же лазом в гости к Биркиным?
Курбский точно даже испугался такой возможности.
– Что ты, что ты! Господь с тобой!
– Да почему же нет? А уж Марья-то Гордеевна как была бы рада свидеться с тобой…
– Говорю тебе, что дело нестаточное, – резко прервал Курбский. – Я-то, может быть, с нею и видеться не желаю.
– Твоя воля, милый княже. А лазейку-то Трошкину, не погневись на меня, я все же выслежу.
– Это для чего?
– Не для тебя, так для себя.
– Но тебе-то на что?
– Мне-то?.. Ведь я, княже, как ни как казак, запорожец…
– Ну?
– И запорожцы мне братья старшие. Вот я и проведу их темной ночью той лазейкой в замок, как волков в овчарню; захватим стрельцов спящими врасплох: «Здорови булы, панове москали, як се маете?» Вот так штука! Знай наших!
Юный запорожец от удовольствия защелкал пальцами и залился звонким смехом. Но господин его, к его удивлению, ни мало не разделял его восторга.
– Ты этого не сделаешь, – решительно объявил он. – Ты поклялся Трошке не выдавать его…
– Да он и знать не будет, что я его выследил.
– А все-таки ты чрез него погубишь других русских, стало быть будешь перед ним Иудой-предателем, да и меня сделаешь таким же предателем перед Биркиными: кабы Маруся… то бишь Марья Гордеевна не доверяла мне, то ни за что бы не дала мне весточки.
– Экое горе! – вздохнул Петрусь и всею пятерней почесал у себя в загривке. – А у меня было так знатно надумано! Ведь одолеть-то русских нам когда-нибудь да надо?
– Надо, но в открытом, честном бою, а не предательством.
– У нас, на Запорожье, признаться, на это не так строго смотрят…
– То на Запорожье, а моя совесть иная. Разве сам ты, Петрусь, не понимаешь, что предательство подло?
– Понимаю, милый княже, как не понять?.. Ох, ох! Ну, что ж, нечего, значит, об этом и толковать. А как же нам быть с Трошкой? Ведь он ждет от тебя ответа Марье Гордеевне.
– Да какой же ей ответ?
– Ну, хоть спасибо, что ли, сказать ей за добрую память.
– Пускай, конечно, скажет… Дай Бог ей всякого благополучия…
– И только?
– А то еще что же?
– Она тебя не забыла присылкой, так и ты бы в отплату чем-нибудь ее уважил. Зачем обижать?
В Курбском происходила видимая борьба.
– Есть у меня, пожалуй, образок Андрея Первозванного… – начал он с запинкой.
– Из Святой Земли?
– Из самого Иерусалима. Привезли его оттуда еще моему покойному родителю (царствие ему небесное!), и он до кончины своей с ним не расставался. С тех пор я ношу его и никогда еще не снимал с себя.
– Знамо, снимать его уже не приходится.
– И не снял бы до своей смерти. Но перед вчерашним боем нашла на меня вдруг такая смертная тоска, что на поди. Либо царевичу, либо мне самому, думал, несдобровать.
– Тебя ведь и ранили…
– Какая ж это рана? Так, царапина. А на душе у меня и доселе не полегчало. Чую я беду неизбывную.
Одному Богу ведомо, что меня еще ждет. Всякий день ведь может быть опять смертный бой, и в жизни своей никто из нас не волен. Так вот, на случай, что мне не суждено вернуться с поля битвы, возьми-ка ты, Петрусь, на хранение мой образок…
При этих словах Курбский снял с себя маленький старинный образок и, набожно поцеловав, вручил его своему казачку.
– У тебя он сохраннее, – продолжал он. – Умру, так перешлешь его через своего Трошку Марье Гордеевне: может, он принесет ей счастья…
– Нет, княже, – объявил Петрусь, – никому в руки, окромя самой Марьи Гордеевны, я его не отдам. Не нонче – завтра Басманов, хошь не хошь, отворит царевичу ворота замка…
– Ну, и ладно. Тогда сам ты разыщешь там Биркиных. А до времени, смотри, береги мой образок…
– Как зеницу ока. Будь покоен, милый княже. Точно теперь все счеты его с этим миром были сведены, прежнее состояние глухого раздраженья сменилось у Курбского почти полной апатией. Свои служебные обязанности он, правда, исполнял до вечера с обычной аккуратностью; а когда царевич, заметив его усталый, убитый вид, уволил его до утра, он заглянул на всякий случай еще в лазарет, после чего уже возвратился к себе. Здесь, к некоторому его удивлению, было совсем темно, тогда как расторопный Петрусь встречал его обыкновенно еще на пороге с зажженной свечой.
«Верно, ушел проведать своих братьев-запорожцев, да там и застрял», – сообразил Курбский и сам высек огня. В подсвечнике оказался только маленький огарок.
«Да он, может, со скуки просто заснул?»
Курбский захлопал в ладоши; потом окликнул Петруся; но и оклик остался без ответа.
«Сердце сердцу весть подает», – вспомнились ему тут слова хлопца, и кровь хлынула ему в голову. – «Чего доброго, ведь, не спросясь, все-таки, собрался с этим Трошкой в замок к Биркиным? Его, головореза, на это станет…»
Схватив опять шапку и накинув на плечи кунтуш, он отправился на розыски головореза.
Благодаря зажженным там и сям кострам, он выбрался без затруднений из польского стана к становищу запорожцев, откуда еще издали доносились нескладные песни, грубый хохот и дикие визги. Чем ближе, тем явственнее становился этот нестройный гомон. Можно было уже расслышать бренчание бандуры, слова песен и забористую казацкую брань.
Закопавшись в снегу, запорожцы укрепили свой стан кругом повозками в форме огромного четырехугольника. Внутри стана дымились костры, двигались человеческие тени. Но попасть туда можно было только сквозь небольшие проходы, оставленные нарочно между повозками, – по одному с каждой стороны четырехугольника. Подойдя к такому проходу, Курбский вынужден был остановиться, потому что перед самым проходом столпилась целая кучка так называемых «сиромашни», забубенной казацкой голытьбы. Занята она была своеобразным торгом – продажей друг другу и обменом оружия и платья, снятого с мертвецов на поле битвы.
– Эх, ты, вавилонский свинопас! – орал один. – Свиньи от гуся отличить не умеешь, немецкой аркебузы от простой пищали!
– Сам ты иерусалимский браварник (пивовар)! – огрызался «свинопас». – Не видал я, что ль, аркебузы?
– Некрещеный ты лоб, чертов сват и брат! – бранился третий. – Экий кафтан отдать на онучи!
– Оце добре! Да ведь что за онучи – цареградский шелк. Гляди, что ли, татарский ты сагайдак (козел)!
И для вящего убеждения покупателя продавец совал ему под нос действительно шелковую, но уже куда не новую онучу.
– На-ка, ощупай. Татарка так, поди, в меня и вцепилась, ни за что бы не отдала, кабы я ее не пристукнул.
Омерзение, чуть не ненависть внушали Курбскому эти одичавшие, озверевшие люди. Стоявший у прохода караульный казак, узнав молодого князя, без всякого опроса, с поклоном пропустил его внутрь стана. Бражничавшие же здесь около ближайшего костра запорожцы даже не оглянулись на подошедшего: все внимание их было поглощено рассказом одного из бражников, видимо крепко захмелевшего, старого казака. Чтобы не прерывать их удовольствия, Курбский выждал конца рассказа.
– Ну, вот и привели меня эти ляхи к своему королю, – продолжал рассказчик. – «Ты, говорит, что ль, тот самый казак, что хвалился привести ко мне в полов всю татарву?» – «Тот самый, ваше королевское величество». – «Так поди-ка, приведи их ко мне, а уж я тебя награжу». Что тут поделаешь? Не давши слова – крепись, а давши – держись. Пошел я к татарве; как гаркну: «Эй вы, поганое отродье! Ступай-ка все за мной». Хвать хана их за шиворот халата, очами этак сверкнул, ногой притопнул, поволок раба Божия, а другие, как овцы за бараном, все за ханом потекли. «Пожалуйте, ваше королевское величество: вся татарва аккурат».
– Ай да дид! Ха-ха-ха! – загрохотали кругом слушатели. – Ну, и чем же он тебя наградил?
– Чем наградил! Чверткой горилки.
Тут и Курбский не мог уже удержаться от смеха.
– Гай, гай, и ты здесь, любый княже! – обратился к нему рассказчик-дед. – Послушать старика тоже захотелось, аль на фортецию запорожскую взглянуть? Милости прошу к нашему шалашу, – гость будешь.
Поблагодарив, Курбский справился, не видал ли кто из пановей его щура, Петруся Коваля. Оказалось, что видели его давеча у торговых шалашей с каким-то парубком-торговцем; в «фортецию» же к ним он глаз не казал. Для Курбского не было уже сомнений, и, понурив голову, он поплелся обратно в польский лагерь с одной мыслью: от судьбы своей не уйдешь.
Глава седьмая
Похождения Петруся Коваля
Трошка со своим коробом с самого утра слонялся по лагерю от палатки к палатке, от землянки к землянке, заглядывал и в траншеи. Под конец же короткого зимнего дня, когда ему можно было скрыться незамеченным, он с пустым уже коробом собрался восвояси. Шел он этак уже с версту по изъезженной санями дороге, в сторону деревни Дубовки, когда, случайно оглянувшись, увидел догоняющего его человека.
«А ну, как ограбить хочет?! Ведь выручка-то у меня изрядная», – мелькнуло у него в голове, и он пустился бежать со всех ног.
– Куда тебя леший гонит! Постой же, погоди! – раздался тут за ним задыхающийся голос.
Трошка умерил опять шаг.
– Это ты, Петрусь? – удивился он, узнав своего приятеля-казачка. – А я-то уж думал… За медовой коврижкой, что ли? Да опоздал, брат: ничего-таки не осталось.
– Коврижка коврижкой, – отвечал Петрусь, с трудом переводя дух, – и до завтраго погожу.
– Так чего же тебе?
– А проводить тебя.
– Ври больше.
– Зачем врать? Нам по одной дороге.
– Да ты куда, Петрусь?
– Туда же, куда и ты.
– В замок?
– В замок. Вдвоем идти все-таки веселее. Трошка опешил, но, сейчас же оправясь, запетушился:
– Ты что ж это, Петрусь, – предать нас полякам хочешь? Креста на тебе нет!
– Крест на мне, слава Богу, есть, и предателем я николи не буду.
Говорил он это так искренно, с оттенком даже негодования, точно за несколько часов назад сам не высказывал такого намерения своему господину. Но слова Курбского были для него законом, и теперь он действительно возмущался предположением Трошки.
– Так, может, ты сам нам передаться хочешь? – продолжал допытываться Трошка.
– Чтоб казак передался врагу? Да за эти слова побить тебя мало! – вскричал Петрусь и наделил приятеля таким тумаком, что тот со своим коробом повалился в снег.
– Ну, ну, ну, не буду, не тронь! – взмолился Трошка. – Сдуру сболтнулось.
– То-то сдуру. Ну, вставай же, не бойся, не трону больше.
– Да на что тебе, Петрусь, в замок? Верно, к Марье Гордеевне с ответом от твоего князя?
– Наконец-то додумался, умная голова!
– Зачем же тебе самому к ней, коли я могу все за тебя справить.
– Стало, не можешь.
– А с собой тебя, прости, мне взять никак невозможно!
– И не нужно; я сам собой пойду: куда ты, туда и я.
– Но я не хочу, Петрусь, слышишь: не хочу!
– Мало ли что. И нитка тоже не хотела, да игла потянула. Добром ты от меня не отделаешься.
– Ах ты, Господи, Боже ты мой! – чуть не захныкал Трошка. – Хозяин мой, Степан Маркыч, меня со света сживет: в гневе своем он никаких границ себе не знает.
– Хозяин твой и не увидит меня: ты проведешь меня прямо к племяннице.
– Да в горницу-то к ней ход через горницу дяди.
– А уж это, братику, твое дело, как отвести ему глаза. Можешь вызвать ее ко мне на лестницу, что ли. А наскочишь все-таки на хозяина под сердитую руку, так сам же и казнись. Ну, да Бог не выдаст, – свинья не съест. Что вперед загадывать? Гайда!
Бедному Трошке волей-неволей пришлось покориться. Прошли они этак еще версты полторы, а дорога все далее уклонялась в сторону от замка. Петруся взяло опять сомнение.
– Куда ты меня ведешь, бисов сын? – спросил он.
– Как куда? В замок.
– Да замок вон где, совсем, видишь, назади остался.
– А по-твоему лучше идти так, чтобы поляки нас из траншеи углядели и перехватили? Сейчас, погоди, свернем куда нужно.
И точно, немного погодя, дорога сделала крутой поворот.
– Ну, теперь, брат, за мной в кусты, – сказал Трошка, – да, смотри, не увязни.
Предостережение было не излишне: когда Петрусь, вслед за своим товарищем, прыгнул с дороги через занесенную снегом канавку в кустарник, то увяз в рыхлом снегу выше колен.
– Зачем не слушаешься! – укорил его Трошка. – Не видел разве, куда я прыгнул: тут кочка. А ты прямо в яму!
– Много увидишь в экую темень… Бодай тебя бык!.. – ворчал Петрусь, не без труда выкарабкиваясь из своей снежной ямы.
Не будь с ним Трошки, он не раз еще, конечно, застревал бы в мелкорослом, но густом кустарнике. Трошка же, видимо, прекрасно знал окружающую местность и шел себе вперед да вперед без оглядки, описывая широкую дугу к городскому пепелищу. Вот они шагают по каким-то грядам меж раскидистых деревьев и должны поминутно наклоняться, чтобы отягченные снегом ветви не задевали их по голове.
– А уж какие тут у нас водились яблоки, какие груши, сливы, – эх-ма! – с сокрушением сердца вздохнул Трошка и щелкнул языком.
– У вас? – с недоумением переспросил Петрусь.
– Ну, да, ведь это же огород Степана Маркыча; а вон и дом наш.
Трошка указал на черневшие за огородом развалины.
– Да ведь от него ничего не осталось.
– Еще бы остаться. Горело так, что страсть! Главное-то жилье было каменное, с давних еще времен, слышь; да и то не выдержало, развалилось.
– Так для чего ж ты завел меня сюда?
– А вот иди-ка за мной, – узнаешь.
Среди четырехугольника разрушенных каменных стен перед ними разверзлась глубокая яма.
– Ага! – догадался Петрусь. – Подземный ход в замок?
– Да, в тамошний запасный амбар наш; в стародавние еще времена невесть кем прорыт. Тут вот, на этом самом месте, была спальня хозяйская. Знали мы все, что под кроватью Степана Маркыча есть подъемная дверь в подполье; но чтобы из подполья был еще потайной ход, – никому и невдомек. А как все тут выгорело, да перебрались мы на жительство в замок, Степан Маркыч и покажи мне этот самый ход, чтобы товар носить на продажу к вам в лагерь. Ну, что ж, иди за мной, да не поскользнись.
Поскользнуться было, действительно, немудрено: ступеньки крутой лестницы в глубину шевелились под ногой, да вдобавок еще обледенели. Спускаясь ощупью за своим спутником, Петрусь благополучно, однако, сполз вниз. Здесь Трошка засветил карманный фонарик. Низкий каменный свод подземного хода на вид был хоть и прочен, но там и сям меж камнями висели все-таки ледяные сосульки от просачивавшейся сверху влаги, а окружающий воздух был пропитан промозглой сыростью.
– Словно в могиле… – пробормотал Петрусь, которому, при всей его шустрости, стало как будто жутко. – Ну, ступай же вперед, а я уж не отстану.
Подземная прогулка их при слабом свете сального огарка в фонарике продолжалась добрых четверть часа.
– Ну, вот, мы и в замке, под самым амбаром, – объявил наконец Трошка и загасил фонарик. – Сейчас опять лестница. Смотри, не сорвись в темноте, держись за стену.
Приподняв головой подъемную дверь в амбар, Трошка обождал своего товарища, а потом за руку вывел его из амбара на улицу.
Впрочем, и тут было немногим светлее. С облачного ночного неба сыпался густой снег; но в сторону польского лагеря эти летящие снежные хлопья настолько все-таки освещались огнем горевших там костров, что можно было различить за амбаром общие очертания городской стены и расхаживавшего на ней часового.
– Хочешь, я его окликну? – предложил Петрусь, в котором на вольном воздухе снова взыграла его казацкая удаль.
– Экий ведь сумасшедший! – испугался Трошка и потащил его в ближайший переулок.
Все уличное освещение новгород-северского замка, как и на всей вообще Руси, ограничивалось в те времена скудным светом из обывательских домов. Хотя было еще не поздно, но в редких окнах, сквозь полупрозрачную слюду или бычий пузырь, заменявшие тогда стекло, брезжил еще свет, а движение на улицах совсем почти прекратилось. Так, нашим двум мальчикам вначале не встретилось ни одной души. Но когда они только что заворачивали на главную улицу, из-за угла налетел на них какой-то гуляка и столкнулся с Трошкой. Столкновение было так неожиданно и так сильно, что Трошка едва устоял на ногах, гуляка же покатился кубарем через сугроб снега. Прежде чем он успел сообразить, в чем дело, мальчики уже были далеко.
– Оттак-бак! – хохотал Петрусь. – Словно ядром на месте положил!
– Тише ты, тише, побойся Бога! – унимал его Трошка. – Еще кто нас заметит…
Из людей их никто не заметил; но звонкий хохот неугомонного казачка оскорбил дух дворняжки из ближайшего двора. Выскочив из подворотни, она с лаем понеслась вслед за бегущими. У следующего двора к ней пристала еще одна шавка, а далее еще две или три. По счастью, мальчики добрались теперь до временного жилья Биркиных. Трошка юркнул в калитку, Петрусь за ним, и калитка захлопнулась. Но здесь навстречу им кинулся с лаем же крупный дворовый пес. Трошке стоило не малого красноречия его урезонить; за калиткой же чужие дворняги продолжали заливаться полным хором. Тут где-то в вышине стукнула дверь, и грянул мужской бас:
– Что за содом такой! Ты это, Трошка, что ли?
– Я, я, Степан Маркыч, – виновато откликнулся Трошка.
– Опять, поди, раздразнил этих чертей!
– Ей же ей, и не думал дразнить, Степан Маркыч.
– Божись больше! Полкан на дворе?
– На дворе тут, при мне, Степан Маркыч; я за ошейник его держу.
– И дурак! Всю ночь, что ль, держать этак будешь? Калитку-то затворил?
– Затворил, Степан Маркыч, как быть следует.
– Ну, так куда ж ему убежать? Дурак и есть. Долго ль мне тебя ждать-то? Иди домой, ну!
Дверь наверху снова стукнула.
– Погоди-ка тут маленько, – шепнул Трошка товарищу и сам нырнул в темный вход дома.
Петрусь остался на дворе один с Полканом. Тот недоверчиво его обнюхивал; мальчик же гладил его по мохнатой шее, а сам оглядывался по сторонам.
Дом был деревянный, в два жилья. В нижнем, служившем, должно быть, для склада товаров, не было огня. Во втором светились два окошка, и мелькали тени. Там, стало быть, жили Биркины. В глубине двора можно было различить какие-то сараи, у забора – собачью конуру, жилище Полкана. И только; не на что больше и глядеть-то было.
А Трошка как в воду канул. Собачий хор за калиткой давно умолк. Полкан тоже, видно, убедился в безобидности нашего казачка и удалился в свою конуру. Снежная погодка, между тем, разыгралась в настоящую метель. Потоптавшись на одном месте, Петрусь вошел, наконец, в темные сени дома, дававшие защиту хоть и не от мороза, то от снега и ветра. Тут наверху тихонько скрипнула дверь, и по лестнице кто-то стал осторожно спускаться легкой поступью.
«Это не Трошка, – понял тотчас Петрусь, – да и не Степан Маркыч; это, верно, сама Марья Гордеевна».
Он кашлянул. Шаги остановились.
– Это ты ведь, Марья Гордеевна? – шепотом спросил Петрусь.
– Я, – отозвался шепотом же тонкий женский голос.
– Первым долгом нижайший поклон тебе от господина моего, князя Михайлы Андреича Курбского…
– Чш-ш-ш! Дядя услышит. Сейчас сойду к тебе. И она сошла к нему на нижнюю площадку.
– Так ты, значит, от князя Михайлы Андреича? – заговорила она снова. – И только для того, чтобы принести мне поклон?
За непроглядною темнотой видеть говорящую он не мог, но уже по ее звучному, свежему голосу, по ее прерывистому дыханью слышно было, что она совсем молода, что сердце в груди у нее-таки екает. Такая досада, право, что даже кончика носа ее не разглядеть! А верно, краля писаная… Морочить такую уже не приходится.
– Сказать по чистой правде, – отвечал Петрусь, – князь мой и не ведает, что я тут.
– Так как же ты посмел?
– А так, вишь, из жалости к нему.
– Да что с ним такое?
– Больно тоскует он по тебе денно и нощно…
– Ну да!
– Верно тебе говорю. Чует, что убьют его скоро в бою смертном…
– Боже оборони!
– Ну, и отдал мне на хранение свой наперсный образок; доселе николи не снимал: «как помру, говорит, так передай Марье Гордеевне: принесет, может, хошь ей-то, голубушке, счастья».
– Нет, нет, он не умрет! И какое же тогда еще счастье?! А образок тот у тебя теперь с собой?
– Со мной. Вот возьми. Нарочно взял с собой: неравно самого меня потом пристрелят, так в твоих руках все же надежней. А как пришлешь ты ему нонче со мной еще добрую весточку, так, даст Бог, он духом опять ободрится. Что же сказать ему от тебя?
– Скажи ему… Да ты не так, пожалуй, перескажешь… Вот что: я лучше напишу ему письмецо…
«Овва! даже писать обучена!» – изумился про себя казачок: на родине у него не только ведь меж казачек не было ни одной грамотной, но и на Сече меж сивоусых запорожцев на редкость кто умел нацарапать пером свое имя да прозвище. Не мог он знать, конечно, что Маруся Биркина, состоя еще недавно фрейлиной при панне Марине Мнишек, обучилась у нее грамоте и письму польским и русским, так что теперь она могла у своего дяди Степана Марковича вести все счеты и торговую переписку.
– А мне, что же, покамест тут под лестницей стоять? – спросил Петрусь.
– Да… Или вот что: здесь тебя, чего доброго, еще кто застанет. Ступай-ка лучше за мной на чердак; туда в эту пору никто уже не заглянет. Только чур, не стучи сапогами.
И вот они оба тихонько поднимаются в темноте вверх по скрипучим ступенькам; вот они уже прошмыгнули мимо дверей Степана Марковича и лезут выше к чердаку; а вот и чердак. Пропустив туда Петруся, молодая девушка плотно притворила за ним дверь и сама ушла писать свое письмецо.
«Как есть мышонок в ловушке», – рассуждал сам с собой Петрусь, ощупью знакомясь с расположением довольно тесного чердака: ноги его запинались о бревенчатые перекладины земляного пола, а руками он захватывал перетянутые поперек веревки. «Коли есть куда лаз, так на крышу. Поищем».
Пробираясь этак по чердаку вдоль покатого потолка от стропила к стропилу, Петрусь, действительно, добрался вскоре до слухового окошка. Только снегом его занесло, примерзло. Мальчик рванул за колечко, и оконце растворилось.
«Эге! да тут доска куда-то переложена. Знать, к соседнему дому, точно по заказу: коли нужно, есть куда дать еще тягу».
В это время метель со двора ворвалась к нему на чердак с такой силой, что залепила ему снегом лицо. Он поспешил захлопнуть оконце.
«Скоро ли она наконец! Уж не задержал ли дядя? А ты сиди тут в мышеловке… Да нет, вот она».
С лестницы блеснул свет, и в дверях показалась стройная молодая девушка с фонарем в руке. Петрусь пошел к ней навстречу.
– Подними-ка-сь повыше фонарь, – попросил он.
– Это для чего? – удивилась Маруся.
– Ну, подними, сделай такую милость.
Она исполнила его странную просьбу. Он с разинутым ртом вытаращил на нее глаза.
– Чего ты уставился на меня так, словно проглотить хочешь? – спросила она с улыбкой, и от этой милой улыбки красивые и приветливые черты ее стали еще солнечнее, привлекательнее.
– Так вот ты, стало, какая! – проговорил мальчик, продолжая любоваться молодой красавицей.
– Какая?
– Да такая, знаешь… ненаглядная. Не диво, что князю моему ты все еще мерещишься!
Несколько бледное лицо девушки покрылось густым румянцем, и она поскорее опустила опять фонарь.
– Вот тебе письмо к нему, – проговорила она скороговоркой, подавая Петрусю сложенную треугольником записку. – Запечатать я не успела, потом сургуч у дяди… Ай, Мати Пресвятая Богородица! – прошептала она вдруг, вся вздрогнув, и оглянулась на лестницу, с которой послышался стук двери.
Вслед затем снизу донесся и окрик Степана Марковича:
– Ты опять на чердаке, Машенька?
– Да, я здесь, дяденька… – подала голос племянница. – Кошурку мою ищу… Она давеча убежала и, пожалуй, смерзнет.
– Сколько раз повторять тебе, чтобы с огнем на чердак не ходить!
– Да я не со свечой, а с фонарем… Я, дяденька, сейчас… Кис, кис, кис!
Но дядя лично, должно быть, хотел помочь ей отыскать беглянку, а, может быть, и убедиться, точно ли дело в «кошурке». Петрусь едва успел лишь отступить немножко назад за Марусю, как на пороге появился сам Степан Маркович. Тяжело пыхтя после восхождения по крутой лесенке, он окинул чердак одним взглядом и тотчас, конечно, усмотрел, кроме племянницы, стоявшего в ее тени юного ее собеседника.
– Так вот она, твоя кошурка! Кто ты есть такой и как сюда попал? – строго обратился он прямо к Петрусю.
– А я так… сам по себе… – бормотал в ответ мальчик, которого теперь, при всей его прыткости, оторопь взяла.
– Сам по себе! Нечего, брат, отлынивать. Так я тебя все равно не выпущу. Ну, выкладывай все на чистоту.
«Что ему сказать? – пролетело молнией в голове Петруся. – Соврешь – не поверит; а выложишь все на чистоту, так велит, ведь, связать и сдаст Басманову. А там аминь! Надо, значит, улепетывать».
Единственный выход в одностворчатую дверь чердака на лестницу был заслонен грузной фигурой Биркина. Сбить с ног этого увальня и думать было нечего. Оставалось спасаться на крышу.
Наклонившись к фонарю в руке Маруси. Петрусь мигом раскрыл и задул его, а затем, пользуясь наступившим полным мраком, юркнул к слуховому окошку.
– Эй, молодцы! – гаркнул во все горло Степан Маркович.
Но пока он дождался своих молодцов, Петрусь вылез уже в оконце и на четвереньках, – чтобы в темноте не сорваться вниз, – перебрался по доске к такому же слуховому окошку соседнего дома. Хотя оно также примерзло, но не устояло под давлением его плеча. И вот он уже на другом чердаке. Но воздушный мост мог сослужить такую же службу Биркинским молодцам; надо было его уничтожить. И он потянул к себе доску, а когда она отстала от Биркинского чердака, он выпустил ее из рук, и она с глухим стуком грохнулась вниз на двор.
– Теперь милости просим! – усмехнулся казачок про себя.
«Но как выбраться отсюда? Ишь, темень проклятая! Хошь глаз выколи… Ага! Вот и дверь».
Но дверь, как ни напирал он на нее, не поддавалась: знать, была на замке.
«Не прыгнуть ли вниз за доской? А вдруг угодишь прямо на доску, да ногу себе свихнешь, а то и совсем сломишь».
Он высунулся из оконца и заглянул в глубину. Ночной мрак, да крутившийся в воздухе снег мешали что-либо видеть; но до слуха его донесся снизу чей-то голос:
