Читать онлайн 100 сказок народов мира бесплатно
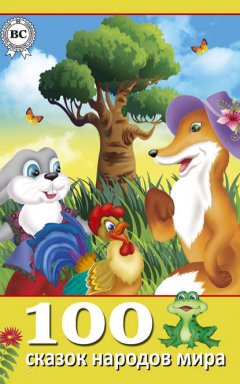
ЖЕНЩИНА
Индийская легенда
Когда всесильный Магадэва[1] создал прекрасную Индию, он слетел на землю ею полюбоваться. От его полета пронесся теплый, благоухающий ветер. Гордые пальмы преклонили пред Магадэвой свои вершины, и расцвели под его взглядом чистые, белые, нежные, ароматные лилии. Магадана сорвал одну из лилий и кинул ее в лазурное море. Ветер заколебал кристальную воду и закутал прекрасную лилию белою пеной. Минута, – и из этого букета пены расцвела женщина – нежная, благоухающая, как лилия, легкая, как ветер, изменчивая, как море, с красотой, блистающей, как пена морская, и скоро преходящей, как эта пена.
Женщина прежде всего взглянула в кристальные воды и воскликнула: – Как я прекрасна!
Затем она посмотрела кругом и сказала:
– Как мир хорош!
Женщина вышла на берег сухой из воды (с тех пор женщины всегда выходят сухими из воды).
При виде женщины расцвели цветы на земле, а с неба на нее устремились миллиарды любопытных глаз. Эти глаза загорелись восторгом. С тех пор и светят звезды. Звезда Венера загорелась завистью, – оттого она и светит сильнее других.
Женщина гуляла по прекрасным лесам и лугам, и все безмолвно восторгалось ею. Это наскучило женщине. Женщина заскучала и воскликнула:
– О, всесильный Магадэва! Ты создал меня такой прекрасной! Все восторгается мною, но я не слышу, не знаю об этих восторгах, все восторгается молча!
Услыхавши эту жалобу, Магадэва создал бесчисленных птиц. Бесчисленные птицы пели восторженные песни красоте прекрасной женщины. Женщина слушала и улыбалась. Но через день это ей надоело. Женщина заскучала.
– О, всесильный Магадэва! – воскликнула она. – Мне поют восторженные песни, в них говорят, что я прекрасна. Но что же это за красота, если никто не хочет меня обнять и ласково прижаться ко мне!
Тогда всесильный Магадэва создал красивую, гибкую змею. Она обнимала прекрасную женщину и ползала у ее ног. Полдня женщина была довольна, потом заскучала и воскликнула:
– Ах, если б я точно была красива, другие б старались мне подражать! Соловей поет прекрасно, и щегленок ему подражает. Должно быть, я не так уж хороша!
Всесильный Магадэва в угоду женщине создал обезьяну. Обезьяна подражала каждому движению женщины, и женщина шесть часов была довольна, но потом со слезами воскликнула:
– Я так хороша, так прекрасна! Обо мне поют, меня обнимают, ползают у моих ног и мне подражают. Мною любуются и мне завидуют так, что я даже начинаю бояться. Кто же меня защитит, если мне захотят сделать от зависти зло?
Магадэва создал сильного, могучего льва. Лев охранял женщину. Женщина три часа была довольна, но через три часа воскликнула:
– Я прекрасна! Меня ласкают, я – никого! Меня любят, я – никого! Ведь не могу же я любить этого громадного, страшного льва, к которому чувствую почтение и страх!
И в эту же минуту перед женщиной, по воле Магадэвы, появилась маленькая, хорошенькая собачка.
– Что за милое животное! – воскликнула женщина и начала ласкать собачку. – Как я ее люблю!
Теперь у женщины было все, ей нечего было просить. Это ее рассердило. Чтоб сорвать злобу, она ударила собачку, – собачка залаяла и убежала, ударила льва, – лев зарычал и ушел, наступила ногой на змею, – змея зашипела и уползла. Обезьяна убежала и птицы улетели, когда женщина на них закричала…
– О, я несчастная! – воскликнула женщина, ломая руки. – Меня ласкают, хвалят, когда я бываю в хорошем настроении духа, и все бегут, когда я делаюсь зла. Я одинока! О, всесильный Магадэва! В последний раз тебя прошу: создай мне такое существо, на котором я могла бы срывать злобу, которое не смело бы бегать от меня, когда я зла, которое обязано было бы терпеливо сносить все побои… Магадэва задумался и создал ей… мужа.
О ПРОИСХОЖДЕНИИ КЛЕВЕТНИКОВ
I
Когда всесильный Магадэва из ничего создал прекрасный мир, он спустился на землю, чтобы полюбоваться делом рук своих.
В тени густых лиан, на ложе из цветов, он увидел человека, который ласкал свою прекрасную подругу, – спросил его:
– Доволен ты тем, что я создал для твоего счастья? Лазурью неба и блеском моря, бледными лилиями и яркими розами, и тихим благоуханным ветерком, который веет ароматом цветов и, как опахало, тихо колышет над тобою стройные пальмы в то время, как ты отдаешься восторгам любви с прекрасной подругой твоей?
Но человек с удивлением посмотрел на него, уже не узнавая Магадэву, и дерзко ответил:
– Кто ты? И почему ты спрашиваешь меня? Какое дало тебе до того, доволен или недоволен я тем, что существует? И почему я должен отвечать тебе? Сказал Магадэва:
– Я тот, которому ты обязан всем, что существует, и даже тем, что существуешь ты сам. Я тот, кто создал лазурное небо, блеск моря, кто щедрой рукой рассыпал цветы по полям и лугам, кто зажег звезды в небесах, кто создал прекрасные пальмы и обвил их лианами. Я тот, кто повелел быть солнцу, создал день и ночь, страстный зной и прохладу, твою прекрасную подругу и тебя. Мне ты обязан благодарностью за все. С изумлением сказал человек:
– Благодарностью? За то, что ты создал все? Какое же мне дело до этого? И за что я должен благодарить тебя? Я вижу, что все существующее прекрасно. С меня довольно. И какое мне дело еще думать о том, кто, для чего и почему создал все это! Отойди с твоими праздными разговорами и не мешай мне наслаждаться тем, что существует. И изумление отразилось на лице Магадэвы. – Как? В глубине твоего сердца не шевелится желанья пасть ниц передо мной, твоим творцом, молиться мне и благодарить меня за все, что я дал тебе?
– Молиться? – воскликнул человек. – Тратить время на какие-то молитвы, когда жизнь так прекрасна? Когда так лазурно небо, блещет море и прекрасна подруга? И ты хочешь, чтобы я, видя все это, думал о тебе? Ты хочешь, чтоб я отнимал у нее часы восторгов и любви и отдавал их каким-то молитвам? Нет. Жизнь прекрасна, и некогда молиться. Надо пользоваться тем, что есть, и не тратить время на благодарность. Так родился на свет страшнейший из грехов. Поблекли цветы, пальмы с укором качали своими красивыми вершинами, и ветерок шептал среди лиан имя рожденного греха.
И прозвучало над миром новое слово: – Неблагодарность.
II
Тогда великий Магадэва, в порыве праведного гнева, подъял руку, чтоб предать проклятию презренный род людской, забывший его. И от движения руки его ураган пронесся над землею, поднял и закрутил в воздухе знойные пески пустыни.
Тучами полетели мириады раскаленных песчинок, сжигая, погребая все на пути своем.
Блекли цветы, гибли пальмы, пересыхали прозрачные, кристальные реки, и раскаленные песчинки с жгучею болью вонзались в тело людей.
Нахмурил чело Магадэва, – и тучи поползли по лазурному небу, заслоняя свет солнца.
Слезы ярости сверкнули на очах Магадэвы, – и из туч полилась холодная вода.
Под струями ее дрожали своими окоченевшими членами люди, и тщетно старались они укрыться от ледяных потоков под сенью пальм.
Стройные пальмы не хотели давать приюта неблагодарным.
От прикосновения людей они с отвращением вздрагивали и обдавали прикасавшихся к их стволам потоками холодной накопившейся влаги.
Слово сказал Магадэва, – и громы загремели в небесах, и молнии посыпались, прорезывая тьму, от разъяренных взоров его.
В смертельном ужасе дрожали окоченевшие люди, и им не было куда укрыться от ледяных потоков, страшных громов, которые трепетом наполняли все их существо, и блещущих зигзагов молнии.
– Вспомнят теперь они обо мне! – сказал Магадэва. Но люди не вспомнили о Магадзве.
В девственных лесах застучал топор, со стоном падали стройные пальмы, пораженные насмерть, – и люди строили себе жилища.
Все, что существует, своим существованием обязано греху. Чтоб спастись от казни за неблагодарность, люди построили себе жилища. И с тех пор им было все равно.
Неслись ли в воздухе раскаленные пески, или лились потоки холодной, ледяной влаги, – они ото всего укрывались в своих жилищах, отдавая часы непогоды восторгам любви.
И страшный раскат грома заставлял лишь крепче прижиматься в испуге прекрасную подругу.
А молнии освещали горевшие восторгом и любовью смеющиеся взоры.
III
Тогда великий Магадэва всю свою ярость и злобу обрушил на мир.
И среди травы и цветов поползли огромные, шипящие змеи. Из лесов вышли страшные полосатые тигры, с горящими злобой глазами.
Они подкарауливали людей в засаде, одним прыжком кидались на них и острыми, огромными когтями без жалости разрывали на части самые прекрасные тела.
А змеи бесшумно подкрадывались к людям, обвивали их своими холодными кольцами и душили их, не внимая ни стонам, ни воплям.
Или жалили их, одной каплей яда отравляя весь организм и превращая прекрасное, белое, трепещущее, теплое тело в холодную, распухшую, почерневшую мертвую массу. И уползали, торжествуя, что причинили гибель и смерть. – Теперь они вспомнят обо мне! – сказал Магадэва. Но человек тяжелым камнем убил ядовитую змею, вырвал ее ядовитые зубы, наделал из них отравленных стрел и, меткой рукою пуская их, убивал полосатых тигров, притаившихся в чаще лиан.
Ему не были страшны ни змеи, ни тигры. Из наказания, посланного Магадэвой, он сделал забаву для себя.
Он не только не бежал от тигров, – он сам, нарочно, ходил в леса, отыскивал их, убивал и из их полосатых шкур делал ложе для своей прекрасной подруги, убирая стены ее жилища разноцветною кожею змей. И жарче был поцелуй в награду храбрецу.
IV
– Вас не страшат ни сила, ни ярость! – воскликнул Магадэва. – Так я же мерзостью наполню этот прекрасный мир и отравлю ваше существование. И, отвернувшись, он создал мерзких насекомых. Москита, который питался человеческой кровью и своими укусами красными пятнами и отвратительными буграми обезображивал лица, руки и плечи прекрасных женщин.
Осу, мерзкое и отвратительное насекомое, которое жалит только из удовольствия причинять неприятность и боль.
Муравьев, которые заползали даже в ложе и не давали покоя ни днем, ни ночью.
Но люди прозрачными сетками заставили окна от москитов, нашли самое простое средство от укуса осы – слюну, поехали в Персию, поторговались с персиянами, купили персидской ромашки – и спокойно спали, а днем, намазанные благовонными мастями, ходили безопасные от укушений москитов. И только больше благоухали прекрасные женщины.
V
Тогда из глубины океана, в мглистом, черном тумане, смерчем, как змея, извиваясь спиралью по небесным кругам, поднялся на девятое небо к престолу Магадэвы отец зла – Сатана. И сказал:
– Всесильный! Я враг твой. Но я помню, что создан тобой же. Лишь люди могут забывать все. Но Сатана помнит, кому он обязан своим существованием. Неблагодарности нет в числе тех пороков, которыми с ног до головы покрыт Сатана. Этот порок принадлежит только людям. Он создан ими. Позволь же мне отблагодарить тебя за то, что ты меня создал. Позволь мне прийти на помощь к тебе в твоей непосильной борьбе.
И Магадэва, с отвращением отвернувшись, сказал:
– Говори.
– Ты хочешь наказать людей, но слишком благ и праведен, чтобы выдумать такую мерзость, какая может прийти в голову только мне, отцу лжи и порока. Только я могу выдумать нечто достойное этой породы. Позволь же мне наказать людей моим наказанием, какое мне придет в голову.
И Магадэва, с отвращением отвернувшись, дал рукой знак согласия.
VI
Сатана спустился на землю среди болота и грязи. Случилось так, что в эту минуту прибежал туда спрятаться, укрыться в камышах изменник. Низкий трус, бежавший с поля сражения в самую решительную минуту, предавший отечество опасности.
Он был мерзок самому себе. Но когда Сатана предстал пред ним в настоящем виде, даже он плюнул в грязь и с отвращением бежал прочь от мерзкого зрелища, презирая опасность попасться в руки врагов.
После изменника туда же пришел парий, чтобы умыться в болотной воде.
Презренный, прокаженный, от которого сторонились люди, он не пугался своего отражения, когда нагибался пить из болота грязную воду.
Но, увидав Сатану, и он плюнул в грязь и бежал прочь. Затем сюда же пришел раб.
Презренный, наказанный за свои пороки раб, – он пришел сюда, чтоб бросить в болото драгоценный убор, украденный у господина.
Эта вещь была дорога его господину, как память. В бессильной злобе он украл ее, пришел сюда, чтоб в виде мести сделать своему господину хоть какую-нибудь гадость. Он был мерзок.
Но и он, увидав Сатану, от омерзения плюнул в ту же грязь, в которую плюнули изменник и парий.
Тогда из грязи, смешанной с тремя плевками изменника, пария и раба, – вырос Клеветник.
Трусливый и низкий, как изменник, презренный и прокаженный, как парий, подлый, как раб, обокравший своего господина.
Грязный – как сама грязь.
Случилось так, что в то время, когда он рождался, мимо пробежала собака.
С тех пор Клеветник не может спокойно видеть ничего высокого без того, чтоб сейчас же не сделать какую-нибудь мерзость.
Из болотных камышей на его рождение глядел бегемот.
И оттого кожа Клеветника так толста, что ее ничем не прошибешь.
Увидев его, говорят, сам Сатана, с любовью глядевший на свой мерзкий облик в волнах океана, – и тот не выдержал и плюнул на него.
После плевка Сатаны Клеветнику не страшны уже стали плевки людские.
VII
Самый воздух священной Калькутты был отравлен клеветой. Как тысячи гадин, она расползалась от Клеветника по всему городу, заползала во все дома, всюду сеяла злобу, ненависть, вражду, подозрения.
Священные брамины[2], почтенные старцы подозревались в кражах; невинных девушек, чистых, как лилия, подозревали в гнусных грехах; мужья без отвращения не могли смотреть на своих жен, женам мерзко было смотреть на мужей; отцы враждовали с детьми.
Ничего не щадил Клеветник, и всюду заползала его клевета, отравляя жизнь людям.
Его били, но, благодаря коже бегемота, он не чувствовал ничего.
Ему плевали в лицо, но он только говорил: – Вот и отлично. По крайней мере умываться не надо. Что значили людские плевки ему, на которого плюнул сам Сатана?! Его презирали, а он смеялся:
– Неужели вы думаете, что я так глуп, чтоб ждать за свои клеветы от вас уважения!!! Его не брало ничего.
Тогда жители Калькутты выдумали для него самое позорное наказание.
Он был вымазан в смоле, его обваляли в пуху и в таком виде, раздетого, заставили ходить по улицам. Но он сказал:
– Вот и отлично: после такого срама мне не страшен уж больше никакой позор.
Так всеобщим презрением в нем убили окончательно человека.
И он клеветал уж тогда, не боясь ничего. Но это было только началом наказания Калькутты. Самое бедствие пришло только тогда, когда в Калькутте было изобретено книгопечатание.
VIII
Этим прекрасным даром неба мы обязаны любви. Все, что существует, своим происхождением обязано любви. И если бы на свете не было любви, не было б и нас самих. Она была Жемчужиной Индии, и он любил ее, как небо, как воздух, как солнце, как жизнь.
При тихом мерцании звезд, в благовонную, теплую ночь, он говорил ей под легкий плеск священных волн Ганга[3]:
– Пусть звезды, что с завистью смотрят на твою красоту с далекого, темного неба; пусть ночь, что ревниво покрыла тебя темным пологом от взоров людей; пусть вечер, что лобзает тебя; пусть волны священной реки, что с тихим, восторженным шепотом несут морю рассказ о твоей красоте, о богиня, царица моя! пусть все, пусть весь мир свидетелем будет моей любви, моих клятв, дорогая! Дай мне обнять твой стан, гибкий, как сталь, и стройный, как пальма. Отдай мне твою красоту неземную! Сделай меня и счастливым, и гордым. Пусть зависть засветится в глазах всего мира, и лишь в твоих глазах, дорогая, пусть тихо мне светит любовь. Весь мир пусть будет знать, что моя прекрасная Жемчужина Индии. Слава твоей красоты переживет века, и деды внукам будут, как волшебную сказку, рассказывать о красоте Жемчужины Индия. И сердце каждого юноши сожмется завистью ко мне, к твоему владыке, к твоему рабу…
Тихо плескалась река, – и бледная, при бледном свете луны, словно ужаленная, быстро поднялась с места Жемчужина Индии, уже замиравшая в объятьях прекрасного юноши.
– Не знаю кто, – сказала она, – но нам запретил лгать. Ты сказал неправду. Как все, кто даже меня не видел, будут знать о моей красоте? Как все, когда меня уже не будет на свете, будут завидовать тебе? Ты солгал, – и я никогда не буду принадлежать человеку, который лжет в минуты восторгов любви.
И ее белое покрывало исчезло среди сумрака ночи, еле освещенного трепетным светом луны.
В отчаянии бросился к волнам священного Ганга прекрасный юноша.
Но гений слетел и осенил его мыслью о тиснении книг. В чудных строках он воспел красоту Жемчужины Индии. И в тысячах оттисков эта песнь красоте разнеслась, как ветер, по свету.
И все, кто никогда не видал ее, знали о красоте Жемчужины Индии. От дедов к внукам, как волшебная сказка, передавалась эта книга, и, читая ее, у людей сжималось сердце завистью к тому, кого любила, чьей была Жемчужина Индии.
А за свое чудное открытие прекрасный юноша был награжден высшим счастьем на свете – объятиями любимой женщины. Так было в Индии в давно минувшие времена изобретено книгопечатание.
IX
Но и на это орудие, созданное для того, чтобы воспевать всему миру красоту и любовь, устремил свое нечистое внимание Клеветник.
Орудие любви он сделал своим орудием клеветы. И с этих пор стал силен, как никогда.
Ему не нужно было уж бегать по дворам, чтобы разносить клевету.
В тысячах оттисков она сама разносилась кругом, как дыхание чумы.
Это не были слова, которые прозвучат и замолкнут, это было нечто, что оставалось, чего нельзя было уничтожить. Он не рисковал собою, потому что мог клеветать издалека. Как змеи ползли его клеветы.
Он не щадил ничего, не останавливался ни перед чем! Скромных и честных тружеников он называл ворами, грязью забрасывал лавры, которыми венчали гениев, рассказывал небылицы про людей, которых он никогда не видал, клеветал на женщин, на сыновей, говоря, что они обкрадывают своих родителей. И когда ему доказывали, что он лжет, он нагло смеялся и говорил:
– Так что же? Лгу – так лгу. Доказано – так доказано. А клевета все-таки пущена. Я свое дело сделал, я – сила.
И только тогда, когда Клеветник начал плодиться и множиться, люди вспомнили о Магадэве. Они пали ниц и воскликнули: – Великий Магадэва! Зачем ты создал такую мерзость?!
СОН ИНДУСА
Инду, тому самому, на котором английские леди катаются в дженериках,[4] как на вьючном животном, – бедному Инду, дровосеку, прачке, проводнику слонов или каменотесу, – глядя по обстоятельствам, – снился волшебный сон.
Ему снился огромный луг, поросший никогда не виданными им цветами, издававшими необыкновенное благоухание.
И по этому ковру из цветов, навстречу Инду, шла легкой походкой, еле касаясь ногой цветочных венчиков, чудная женщина, глаза которой сияли, как два солнца.
От взгляда ее расцветали все новые и новые, дивные, невиданные цветы необыкновенной красоты.
Дыхание ее превращалось в жасмин, и дождь лепестков сыпался на землю.
По цветам лотоса, что цвели у нее в волосах, – бедный Инду сразу узнал добрую богиню Сриаканте[5], супругу божественного Сиве, и пал ниц перед нею, пораженный нестерпимым блеском ее глаз!
– Встань, Инду! – сказала богиня, и при звуках ее голоса еще больше запахло в воздухе цветами, а во рту Инду стало так сладко, как будто он только что наелся варенья из имбиря.
– Встань, Инду! – повторила богиня. – Разве ты не с чистым сердцем возлагал цветы на алтари богов? Разве не жертвовал тяжелым трудом заработанной рупии на бедных, живущих при храме? Разве не любил в час досуга посидеть под священным деревом Ботри, деревом, под которым снизошло вдохновение на Будду,[6] и разве ты не отдавался под этим деревом мыслям о божестве? Разве ты убил в своей жизни хоть муху, хоть москита, хоть комара? Разве ты бил тех слонов, при которых служил проводником? Разве ты сопротивлялся, когда тебя били? Разве ты, когда умирал с голода, убил хоть одно из творений божиих, чтоб напитаться его мясом? Разве ты сказал хоть слово тому сэру, который избил тебя до крови палкой только за то, что ты нечаянно толкнул его, неся тюк, своей тяжестью превозмогавший твою силу? Отчего же ты не дерзаешь взглянуть прямо в очи твоей богине?
– Нет! – отвечал Инду. – Я ничего не делал, что запрещено. Но меня слепит, богиня, солнечный свет от глаз твоих.
– Встань, Инду! – сказала богиня. – Мой взгляд огнем слепит только злых, и тихим светом сияет для добрых.
Поднялся Инду, – и был взгляд богини, как тихое мерцание звезд.
– Ты ничего не делал, что запрещено! – сказала богиня с кроткой улыбкой, и от улыбки ее расцвели розовые лотосы. – И Тримурти[7] хочет, чтоб ты предстал пред лицом его и видел вечную жизнь пред тем, как увидеть вечный покой. И предстал бедный Инду пред престолами Тримурти. Пред тремя престолами, на которых, окруженные волнами благоуханного дыма, сидели Брахма[8], Вишну, Сиве.
– Я дал ему жизнь, – сказал Брахма, – и он не употребил ее, чтобы отнять жизнь у другого!
– Я дал ему разум, – сказал Сиве, повелитель огня, – я вложил огненный уголь в его голову, – уголь, который огнем воспламенял его, я дал ему мысль. И он не воспользовался ею, чтоб измыслить зло своим врагам.
– Он мой! – сказал черный Вишну, увидав полосы белой золы на лбу бедного Инду. – Он поклонялся мне.
И погладил бедного Инду по голове, так ласково, – ну, право, словно любимого сына.
И позвал Вишну громким голосом Серасвоти[9], всеведующую богиню, свою божественную супругу, и сказал ей:
– Возьми Инду, поведи его и покажи ему вечную жизнь, как наши жрецы показывают храмы чужеземцам.
И богиня Серасвоти, прекрасная богиня, со строгим, суровым лицом, слегка коснулась своим острым, как осколок стекла, мечом чела Инду, и увидел он себя летящим в бесконечном пространстве. И услышал он божественную музыку, как бы тихое пение и нежный звон и мелодию бесчисленных скрипок. Мелодию, которую можно слушать весь век. Гармонию вселенной.
Это пели, звеня в эфиры, прекрасные миры. И четыре звезды неподвижно сияли с четырех сторон света. Яркая, белым светом озаренная, как алмаз горевшая звезда, – Дретореастре, – звезда лучезарного юга.
Черным блеском горевшая, как черный жемчуг, – жемчужина короны Тримурти, – Вируба, звезда запада.
Розовая, как самый светлый рубин, звезда Пакши – звезда востока.
И желтая, как редкий золотистый бриллиант, – Уайсревона, звезда севера.
И на каждой из звезд словно дети резвились, в детские игры играли, взрослые люди, с глазами, сиявшими чистотой и радостью, как глаза ребенка.
– Это праведники севера, востока, юга и запада! – сказала суровая, вещая богиня Серасвоти. – Все те, кто соблюдал заповеди Тримурти и не делал никому зла. – А где же те… другие? – осмелился спросить Инду. Богиня рассекла своим мечом пространство. И бедный Инду вскрикнул и отшатнулся. – Не бойся, ты со мной! – сказала ему Серасвоти. Из огненной бездны, наполненной гадами, к ним, шипя и облизываясь жалом, с глазами, горевшими жадностью, поднималась, вставши на хвост, огромная очковая змея. Поднималась, словно готовясь сделать скачок. Ее горло раздувалось как кузнечные мехи и сверкало всеми переливами радуги.
Изо рта ее вылетало дыхание, знойное, как полудневные лучи солнца, – и бедному Инду казалось, что ее вьющееся и сверкающее как молния жало вот-вот лизнет его по ногам.
По глазам, вселяющим ужас, по взгляду, от которого костенеют и лишаются движения руки и ноги человека, – Инду узнал в очковой змее Ирайдети, страшную супругу повелителя ада.
А ее муж, грозный Пурнак, сидел на костре и в три глаза смотрел, как сын его Африт, отвратительное чудовище с козлиной бородкой, превращал грешников в скорпионов, жаб, змей, прочих нечистых животных.
Каких, каких гадов не выходило из рук Африта, и при каждом новом превращении Пурнак с удовольствием восклицал: – Yes![10]
– И долго будут мучиться так эти несчастные? – спросил Инду, указывая на гадов.
– До тех пор, пока страданиями не искупят своих преступлений и смертью не купят покоя небытия! – ответила вещая Серасвоти и снова взмахнула мечом.
Инду лежал в густом лесу, у самого края маленького болотца, с водой чистой и прозрачной, как кристалл, под тенью огромного узорного папоротника, а над его головой склонялся росший в болоте лотос, лил ему в лицо благоухание из своей чаши и шептал:
– Я была верной и любящей женой своего мужа. Я заботливо нянчила только его детей. Мои глаза смущали многих, – это правда;– но никогда ни золотые монеты, ни самоцветные камни, которые мне предлагали иностранцы, ни цветы, которые мне, как богине, приносили индусы, ничто не заставило меня ласкать другого. Мне тоже хотелось сверкающими кольцами украсить пальцы своих ног и продеть блестящие серьги в ноздри и уши, и шелковой тканью крепко обвить стан, – но я довольствовалась куском белой грубой ткани, чтобы прикрыть себя от жадных, грешных взглядов. Никогда муж мой не слышал от меня грубого слова, и всегда ласка ждала его на пороге его дома. Я была женой бедного дровосека и превращена в лучший из цветов. Сорви меня и возложи на алтарь Будды. Мой аромат, как благоуханная молитва, понесется к нему, а моя душа улетит в нирвану[11] насладиться покоем.
– Мы были молодыми девушками, скромными и по знавшими грешных ласк! – говорили жасмины на кустах. – Сорви нас, чтобы мы тоже могли унестись в нирвану, где в божественном покое дремлет Будда. Ничего не видит и не слышит Будда, только молитвенное благоухание цветов, возложенных на алтарь, доносится до него. И вскочил от изумления Инду.
В чистом, прозрачном, как кристалл, болотце расцветал огромный, невиданной красоты цветок. «Victoria Regia»,[12] – как зовут его чужеземцы. – Я душа могущественной повелительницы, чьи подданные всегда вкушали мир и покой. Слово «война» никогда не произносилось в пределах владений моих, и слово «смерть» никогда не слетало с моих уст. Весь лес был полон шепота.
Среди высоких, стройных кокосовых пальм и могучих хлебных деревьев пышно разрослись банановые деревья. Молодые побеги бамбука шелестели и рассказывали волшебные сказки. Огромный бамбук посылал с узловатых ветвей побеги, которые касались земли и жадно пили ее влагу.
Веерные пальмы, словно распущенные хвосты гигантских павлинов, тихо качались как опахала.
А в чаще резвились, бегали насекомые, горя, словно самоцветные камни. Огромные бабочки порхали с ветки на ветку и, когда раскрывали свои крылья, сверкали всеми цветами радуги.
Обезьяны с криками цеплялись за лианы, которые, словно толстые канаты, перекидывались с пальмы на пальму. Бегали проворные ящерицы, мелькнул, меняясь из синего в ярко-красный цвет, хамелеон. Огромный, мохнатый, – словно поросший черными волосами, паук раскинул между деревьями свои сети, крепкие как проволоки, и, притаившись, поджидал крошечных птичек, с золотистыми хохолками и хвостиками, – птичек, которые беззаботно чирикали, перескакивая с одного куста на другой. Скорпион, извиваясь, промелькнул около ног Инду и не сделал ему никакого вреда. И все это шептало, все говорило на человеческом языке.
– Будь проклята, моя прошлая жизнь! – ворчал мохнатый паук. Много мне принесли мои сокровища, я был владельцем большой фабрики и приехал сюда из далекой стороны, с острова, где вечный холод и туман! Сколько индусов начало кашлять кровью от моих побоев, сколько их жен, дочерей и сестер я купил! И вот теперь принужден сосать кровь из маленьких птичек, как пил ее когда-то из индусов! Лучше бы меня убил кто!
– А мы были бедными индусами! – говорили пальмы и бананы. – Но у нас не осталось детей, – и вот почему мы выросли в дремучем лесу. А если бы у нас были потомки, мы выросли бы у их хижин, заботились бы о них, давали бы им плоды, лакомства и пищу.
– Я всегда стремился к небу! – говорил индус, превращенный в кокосовую пальму.
– А я хоть и думал больше о земном, но никому не сделал зла! весело говорил обремененный плодами банан.
А веерная пальма покачивалась, как огромное опахало, – и шелестела своими листами:
– Взгляни на меня, путник, как я красива. Всю жизнь я помогала нуждающимся. И меня недаром зовут индусы «пальмой путешественников». Ты умираешь от жажды и зноя, сломай один из моих листьев, – внутри таится чистая, прозрачная, как кристалл, как лед, холодная вода.
– Взгляни в мои глаза! – шептала очковая змея, выползая из-под папоротников. – Взгляни! Тебе я не сделаю зла. Взгляни в мои глаза: сколько чар в них, – от них нельзя оторваться. Таковы же они были и тогда, когда я была женщиной. Женой такого же индуса, как и ты. Я любила песни и пляски, наряды, золото и самоцветные камни. И я имела их. И вот теперь меня все бегут, я страшнейшая из гадин, и должна искать человеческой крови для Айхивори, моей страшной повелительницы. Нет крови в сердце Айхивори: бледная, как покойница, посиневшая лежит она. И я отыщу спящего и ужалю его, и подползу к Айхивори и жалом лизну ее по губам. Тогда подымется Айхивори, страшный, бледный, синий вампир, – и на крыльях летучей мыши полетит к трупу, – и вопьется в те ранки, что я сделаю зубами, и капля по капле станет пить кровь. И нальется кровью сердце Айхивори, и грешный румянец, как зарево пожара, который загорится в крови, вспыхнет на бледных щеках. И страсть омрачит ей рассудок и помчится она к своему повелителю, Пурнаку, и осыплет его отвратительнейшими из ласк. Ласки, от которых родятся скорпионы и женщины-вампиры.
Словно два желтых огня сверкнули в темноте чащи, черная пантера щелкнула зубами, завыла и кинулась искать человеческого мяса. В ней жила душа убийцы.
– О, боги! К чему я питался мясом животных и убивал, чтобы жить! – вздыхал кабан, с треском раздвигая кусты. – Вот за что я превращен в гнуснейшее из четвероногих.
– А я была невестой, но умерла до брака! – прошептала мимоза и стыдливо закрыла свои листики.
Иланг-иланг[13] душистым венком обвил голову Инду… И бедный Инду вскочил, получив здоровенный удар сапогом в бок.
– Дрыхнешь, ленивая каналья? Тебе даром платят десять центов в день? – кричал мистер Джон, повторяя удары.
Инду вскочил, провел рукой по глазам, чтобы прояснить мысли и улыбнулся, несмотря на здоровую боль в боку.
Улыбнулся предкам, которые стройно тянулись к небу, улыбнулся душам молодых девушек, душам, которые цвели и благоухали на кустах жасмина. – Еще смеяться, черномазая каналья?
А он улыбался, принимаясь за работу, улыбался, как человек, который знает кое-что, о чем и не подозревают другие. Он знал кое-что, о чем и не догадывался мистер Джон.
БИЧЕР-СТОУ
Негритянские легенды
У «Хижины дяди Тома»[14] нет памятника.
Но у мистрисс Бичер-Стоу есть такой памятник, какого нет ни у одного писателя мира.
Этот памятник – миллионы полных благодарности человеческих сердец.
Согласитесь, что это стоит той «пирамиды из черепов»[15], которую воздвиг себе один из великих завоевателей и с которой нас познакомила картина В. В. Верещагина.
От Сан-Франциско до Нью-Йорка и от Нью-Орлеана[16] до Албэни, – вы не встретите ни одного негра, как бы он ни был беден, забит, невежествен, – который не знал бы имени Бичер-Стоу, «заступившейся за бедных негров». Вот бедняга негр. Едва грамотный.
На вопрос: «Каких вы знаете ветхозаветных святых?» – он ответит: – Давида и Голиафа[17]. Но спросите у него: – Знаете ли вы имя Бичер-Стоу?
Его черное лицо расплывется в улыбку, полную умиления:
– Мистрисс Бичер-Стоу, которая заставила весь мир заступиться за бедных черных? Какой же негр не знает этого имени?!
– Кто была мистрисс Бичер-Стоу?
На этот счет среди негров ходит масса легенд. Негр, рабочий в таможне, носильщик тяжестей в Сан-Франциско, объяснил мне:
– Мистрисс Бичер-Стоу была не кто иная, как английская королева! Это была самая славная, самая богатая, самая могущественная королева в целом свете. Когда она слышала, что где-нибудь кого-нибудь притесняют или обижают, она посылала туда свои корабли и войска и спасала страдающих. Во всем мире не было, казалось, такого уголка, где бы не знали имени доброй и великодушной королевы Бичер-Стоу и не произносили с благоговением этого имени. Вот однажды королева Бичер-Стоу справляла день своего рождения. Ее военачальники привезли ей всевозможные подарки. Тут было все, что только есть самого диковинного в мире. Один привез такой ананас, который с трудом могли нести двое, другой ручного льва, который лежал у ног великой королевы, послушный как собака, третий – слона величиною с маленького пони. Словом, всякий привез что-нибудь удивительное. Только один генерал явился с пустыми руками.
– Я привез вам, могущественная королева, – сказал генерал, когда очередь дошла до него, – самый изумительный подарок в мире. Человека, который никогда не слыхал об имени королевы Бичер-Стоу!
Те были поражены.
– Этого не может быть! Королеву Бичер-Стоу знает весь мир!
– А когда родился этот изумительный человек, который никогда не слыхал имени королевы Бичер-Стоу? Быть может, только сегодня? – с лукавой улыбкой спросил один из придворных.
– Ведь ему около тридцати лет? – отвечал генерал и приказал ввести Тома.
Это был бедняга негр, бежавший от своего хозяина. После того, как его исколотили плетьми и бросили в поле, думая, что он уже умер. Том пришел в себя, отдышался, сначала пополз, потом пошел, потом побежал в Филадельфию. Там он потихоньку забрался в трюм первого попавшегося корабля и пролежал среди кип хлопка вплоть до тех пор, пока Америка не скрылась из глаз. Тогда он вышел из трюма и его заставили топить машину. Около берегов Англии пароход, на котором плыл Том, разбился, и Том один только спасся на обломке мачты. Вот кто такой был Том.
Войдя в королевскую залу и увидев много народу при оружии, Том, конечно, испугался, упал на колени и завопил:
– Не убивайте меня! Дайте жить бедному Тому! Я готов вернуться к своему хозяину, и буду работать вдвое больше. Вот вы увидите. Только не убивайте меня!
Но королева Бичер-Стоу с доброй улыбкой сказала ему:
– Встань, бедный черный, и не бойся, – никто здесь не сделает тебе вреда. Прежде всего, скажи, как тебя зовут?
Этот вопрос поставил беднягу Тома в недоумение:
– Это глядя по обстоятельствам! – отвечал он. – Когда я падаю обессиленный от работы, – меня зовут лентяем. Когда я прошу есть, меня зовут обжорой. Когда я кричу от боли в то время, как меня бьют, меня зовут негодяем. Но чаще всего меня зовут скотом.
Королева Бичер-Стоу была удивлена и спросила:
– Но в какой же стране ты живешь?
– Говорят, что страна, где я живу, называется Америкой, – отвечал Том, – но я этому не верю!
– Почему же? – спросила королева.
– А потому, что страну, где я живу, называют также страной свободы. Разве это не ложь? Страна, где людей бьют плетьми и продают как собак, – называется страною свободы!
Королева задумалась и спросила:
– А слыхал ли ты когда-нибудь имя королевы Бичер-Стоу, которая заступается за всех несчастных?
– У моего хозяина триста таких же негров, как я, – с удивлением сказал Том, – и я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь произносил это имя!
– И много вас, в этой стране, таких, как ты? – спросила королева.
– Вокруг нас тридцать хозяев, и у каждого по триста негров. Но я с уверенностью могу сказать, что никогда и никто из них не слыхал имени, о котором вы изволите говорить! Дальше, я слышал, что есть несметное число таких же жестоких хозяев, как мой, и таких же несчастных негров, как я, – но имени королевы Бичер-Стоу, которая вступалась бы за несчастных, – нет! Этого имени не слыхивал никто!
Тогда королева поднялась с глазами полными слез и воскликнула, дрожа от гнева:
– Знайте, что всякий, кто осмелится мне говорить, будто имя Бичер-Стоу знает и благословляет весь мир, – будет сочтен мной за лжеца! Есть тысячи тысяч страдающих людей, которые не знают имени королевы Бичер-Стоу. Тот, кто работает лишь день, не смеет сказать, что он работал целые сутки. И я не смею сказать, что меня знает весь мир, когда меня знают только белые, и не знают черные. Но я хочу, чтоб и черные узнали мое имя!
И она приказала посадить войска на корабли и отправила их освобождать бедных негров. После страшной войны негры были освобождены войсками великой, доброй и могущественной королевы. И с тех пор матери учат своих маленьких черных детей этому святому имени – королевы Бичер-Стоу, освободившей бедных негров. И мы знаем это имя, которое знает весь мир!
– Какой вздор! – воскликнул со смехом негр-кочегар в Огдене[18]. А когда я рассказал ему историю, слышанную в Сан-Франциско, – кто же не знает, что мистрисс Бичер-Стоу была женой президента Соединенных Штатов!
– Не можете ли вы сказать мне имени этого президента?
– Его имя было Вашингтон, и дело происходило следующим образом. У президента, как и у всех, была масса негров, – быть может, даже больше, чем у других. Мистрисс Бичер-Стоу обращалась с неграми точно так же, как обращались с ними и другие хозяйки. Когда она бывала за что-нибудь недовольна негром, она приказывала его продать и купить другого. Иногда она брала несколько негритянских детей и выменивала их на одного взрослого. Иногда ей приходила в голову другая мысль: взять большого негра и разменять его на несколько маленьких. Тогда это было делом обыкновенным. Так делали все, и мкстрисс Бичер-Стоу не казалось, что это может быть кому-нибудь неприятно. У мистрисс был сын, беленький, как снег, малютка, которого звали Франклином, и мистрисс Бичер-Стоу любила его больше жизни. И вот, однажды мистрисс Бичер-Стоу увидела страшный сон. Ей снилось, что, придя ночью посмотреть, как спит малютка, – она не нашла маленького Франклина в колыбельке. Вне себя от ужаса, она кинулась к няньке негритянке Китти: «Где Франклин?» Черная Китти ответила кратко: «Его продали!» Мистрисс Бичер-Стоу показалось, что она сходит с ума, так невероятно было то, что ей сказали: «Да разве можно взять у матери ребенка и продать?» Она кинулась к мужу, – ко тот только пожал плечами: «А почему нет? Сделка совершена правильно». Вне себя от отчаяния мистрисс Бичер-Стоу подняла на ноги весь город, она с воплями бежала по улицам и останавливала встречных: «Разве можно отнять у матери ребенка и продать?» Но прохожие только с улыбкой пожимали плечами: «А почему же и нет?» Наконец, она добежала до судей и бросилась к их ногам: «Моего сына, моего маленького Франклина, продали чужим! Его отняли у меня!» Но судьи только расхохотались ей в лицо: «Что ж тут такого?» – «Но ведь это мой ребенок, мой!» – «А ты посмотрись в зеркало и узнаешь, почему это могли сделать!» Мистрисс Бичер-Стоу взглянула в зеркало и увидела, что она черная. Из ее груди вырвался нечеловеческий вопль… и она проснулась. В ужасе от виденного сна, с сильно бьющимся сердцем, кинулась мистрисс Бичер-Стоу в комнату своего сына и увидела, что маленький Франклин спокойно спит. Около его колыбельки сидела черная Китти, его нянька, и горько плакала. Мистрисс Бичер-Стоу в первый раз увидела негритянку, которая плачет, хотя ее никто не бьет. «Что с тобой, Китти?» – спросила она с удивлением. – «Простите мои слезы, масса, – с испугом отвечала черная Китти, – не беспокойтесь, я не разбужу ими маленького хозяина. Я плачу потому, что сегодня продали моего сына. Это приказал сделать большой хозяин; он сказал: «Продайте маленького Тома, Китти тогда будет свободнее и лучше будет ухаживать за моим сыном». И вот… моего ребенка… отняли у меня и продали»… Слезы не дали черной Китти говорить далее, – но у г-жи Бичер-Стоу сердце сжалось от ужаса. Она понимала, что чувствует черная Китти. Она кинулась в спальню своего мужа:
– Ты приказал продать маленького Тома?! Ты?! Пусть сейчас же вернут матери ее дитя!
– Но сделка совершена по всей форме! – отвечал ей муж, совсем как во сне.
Тогда мистрисс Бичер-Стоу воскликнула с негодованием: – Но ты президент! Ты должен уничтожить эти варварские законы, по которым можно отнимать детей у матерей и продавать их!
И кинувшись к ногам своего мужа, рыдая, она рассказала ему свой сон.
– Сделай это! Уничтожь эти ужасные законы! Сделай это ради нашего маленького Франклина! Пусть за него будут молиться тысячи тысяч детей!
Мистер президент не был злым человеком, но просто ему никогда в голову не приходило подумать, что должен чувствовать негр, когда его продают.
Рассказ жены перевернул его сердце. А что, если негры чувствуют то же, что и белые? Ведь вот и они плачут не только тогда, когда их бьют… То, что он думал вслед за этим, не дало ему заснуть во весь остаток ночи, и утром, придя в парламент, он сказал:
– Баста! Негры такие же люди, и никто больше не смеет ни продавать, ни покупать черных, как не смеет продавать и покупать белых! Негры свободны.
Конечно, хозяева не так-то скоро отказались от «черного скота». Но президент двинул на них войска. Это была страшная война! Много крови пролилось, но больше за то не льется ни крови, ни слез бедных негров. Они были освобождены. Так вот кто была мистрисс Бичер-Стоу. Жена президента, джентльмен. И это так же верно, как и то, что я негр, и что я свободен!
– Ха, ха, ха! – расхохотался негр, чистильщик сапог в Чикаго, когда я рассказал ему все это. – Негритянка Бичер-Стоу – жена президента Соединенных Штатов! Ха, ха, ха! Славно же подшутили над вами, джентльмен. – Как, разве мистрисс Бичер-Стоу?.. – Была ли она негритянкой? Как я – негр. Если вам угодно, я готов даже рассказать всю историю с начала до конца. Она была негритянкой и притом была такой красавицей, какие попадаются только между негритянками, да и то не часто. Ее хозяин, мистер Том, был одним из тех, которые не любят шутить. Однажды, обходя свою плантацию, он кивнул пальцем красавице Бичер-Стоу и сказал: «Сегодня вечером ты придешь ко мне!» Но маленькая Бичер-Стоу твердо ответила: «Нет!» Это случилось в первый раз. Мистер Том даже расхохотался. «А если я прикажу пригнать тебя ко мне плетьми?» – «Так что же! Ты можешь меня убить, но все-таки твоей я не буду!» Мистер Том сломал палку о спину первого попавшегося негра и ушел. Один черт знает этих господ! – как говаривали у нас в старину. Но только куда бы с тех пор ни пошел мистер Том, что бы он ни делал, везде у него перед глазами была только одна Бичер-Стоу. Он ругался, богохульствовал, колотил попавшихся под руку негров, – но думал только о ней. В конце концов, он не выдержал, подошел однажды к Бичер-Стоу и, не глядя на нее, сказал: «Вот что! С завтрашнего дня ты совсем не будешь ходить на плантацию. Баста! Ты будешь жить у меня в доме. Поняла? Я надарю тебе хороших подарков. Кстати, если хочешь, можешь захватить с собой твоих родных. Им найдется место на скотном дворе». После этого он мог бы ожидать, что всякая негритянка кинется к его ногам и начнет целовать его сапоги. А Бичер-Стоу решительно ответила: «Нет!» Дьявольщина! Мистер Том во всю свою жизнь не натворил столько жестокостей, сколько он натворил в этот день. Думали, что он разнесет по бревнышку весь свой дом. Он орал о неблагодарности негров, о том, что это скоты, которые не способны ничего чувствовать, а думал: «Честность, – хоть бы всякой белой!» И ругался при этом прямо адски. Он потерял сон, он бродил как помешанный, все время думая о честности негритянки, какой не встретишь и у белых девушек. Через две недели он снова подошел к Бичер-Стоу и сказал ей нечто такое, чему не поверила бы ни одна негритянка в мире: «Слушай – ты! Завтра я на тебе женюсь!» У Бичер-Стоу помутилось в глазах от этих слов, но она снова ответила: «Нет!» Тут уж мистер Том чуть не лишился чувств от изумления: «Что?! Да ты с ума сошла?! Ты отказываешься стать моей женой? Моей законной женой? Хозяйкой всех вот этих негров, которые работают вот здесь?» «Я не хочу быть ничьей хозяйкой! – отвечала Бичер-Стоу. – Я хочу быть такой же черной, как все черные. Они и так мучатся довольно, я не хочу, чтоб к их мучениям присоединялась еще и зависть. Освободи своих черных, и я буду твоей женой, верной, преданной, любящей, – потому что я люблю тебя». Мистер Том захохотал как сумасшедший и убежал домой. «Освободить негров». Было время, когда это казалось таким же смешным, как «прыгнуть на луну». Освободить негров, чтоб хохотали все соседи. Если б все освободили своих негров, – и мистер Том ничего бы не имел против. Тогда бы он не был смешон. Эта мысль крепко залегла в душу мистеру Тому. Через несколько дней он приказал оседлать лошадь и поехал по соседям. То, что он говорил им, было так совестно говорить, что мистер Том не решался взглянуть в глаза собеседнику. «Знаете что! На кой дьявол мы держим этих черномазых скотов? Пренеблагодарные твари! Давайте прогоним их, скажем: «Вы свободны» и баста! Пусть гибнут от пьянства, от невежества, от лени!» И мистер Том хорошо делал, что не смотрел собеседникам в лицо. Иначе, при его характере, ему пришлось бы раскроить не одну голову. Он увидел бы, как улыбались соседи, слушая его сумасшедшие речи. Одни, в ответ на предложение, вдруг начинали похваливать ему какого-нибудь доктора, другие предлагали лечь у них в доме и поспать до утра, а третьи просто осведомлялись о цене джина и виски. Мистер Том понял, что с соседями не сговоришь. Но, как вы поняли из моего рассказа, мистер Том был не из тех людей, которые легко отступают. Вернувшись домой, он с такой силой отворил дверь, что дверь слетела с петель, и приказал созвать всех его негров. «Слушайте, черномазые скоты! – сказал он им. – Вы мне надоели. Я отпускаю вас на все четыре стороны. Вы свободны, понимаете? Свободны! И если хоть одно животное посмеет ослушаться этого моего распоряжения, я раздроблю ему голову! Убирайтесь от меня к черту, погибайте от лени, спивайтесь с круга, пропадайте во грехах, мне нет никакого дела! Я не дам себе труда поднять плетку, чтобы отхлестать хоть одного лентяя среди вас! Мне все равно! Но перед своей окончательной гибелью вы должны сослужить мне еще одну службу. Я должен показать соседям, что значит смеяться, когда Том дает дельные советы. Идите к вашим черномазым собратьям и подговорите их, чтоб все брали в руки что попадется и требовали освобождения. Всякая восставшая черномазая бестия найдет во мне своего союзника, – а из вас я делаю передовой отряд этой армии дьяволов! Посмотрим, что-то теперь запоют почтенные соседи!» Через два дня настоящий пожар охватил весь округ. Негры отказывались работать. Они хватали оружие, которое было под руками, и бежали к мистеру Тому. И мистер Том, являясь к соседям во главе своих шаек, говорил одним: «Я пришел еще раз узнать хорошенько адрес доктора, о котором вы мне говорили!» – другим: «Я пришел выспаться в вашем доме после пьянства!» – третьим: «Я пришел сказать вам цены на джин и виски!» Весть о том, что настал час освобождения негров, облетела все штаты. Всюду происходило одно и то же: негры бросали работать и примыкали к черному войску мистера Тома. Это длилось шесть месяцев. Много было пролито негритянской крови, но это была последняя негритянская кровь, которая лилась в Америке. Через шесть месяцев во всей нашей великой стране не было ни одного белого, который мог бы посмеяться над мистером Томом: негры повсюду были свободны. И он, призвав к себе Бичер-Стоу, сказал: «Черт возьми, какого шума я наделал из-за такой черномазой девчонки! Делать нечего, – собирайся, завтра наша свадьба!» На этот раз Бичер-Стоу, действительно, упала к ногам мистера Тома. Вот кто такая была Бичер-Стоу, и вот почему, джентльмен, когда говорят об истинной добродетели, – негры вспоминают черную мистрисс Бичер-Стоу.
Так рассказывал мне негр-чистильщик сапог в Чикаго, а негр, истопник в отеле в Нью-Йорке, только посмеялся над этим рассказом и заметил:
– Хе-хе! Чтоб превратить мистрисс Бичер-Стоу в негритянку, чистильщик сапог должен был вычистить ее своей ваксой! Мистрисс Бичер-Стоу – негритянская девушка! Когда она писала в газетах! Вам, вероятно, джентльмен, приходилось встречать этих людей, мужчин и дам, – если приходилось видеть какое-нибудь несчастие. Их никогда не увидишь там, где делается что-нибудь хорошее, где люди живут тихо да мирно. Они являются только туда, где происходит несчастие, где кто-нибудь страдает. Мистрисс Бичер-Стоу была одной из женщин, пишущих в газетах. Когда ей захотелось описать побольше несчастий, она поехала на одну из плантаций и поселилась среди негров. Тут не было недостатка ни в страданиях, ни в горе, ни в несчастиях. Оставалось только записывать, что видишь перед глазами. Не хватило даже чернил! Тогда негры приходили на помощь к Бичер-Стоу и, за неимением чернил, наполняли ее чернильницу теплой, красной кровью, которая текла из их ран. Это были слишком густые чернила, джентльмен, и мистрисс Бичер-Стоу разбавляла их своими слезами, чтобы можно было писать. Так кровью и слезами написала она все, что видела, сидя в хижине несчастного негра, которого звали, – это правда, – Томом. Книги, написанные кровью и слезами, не пропадают, джентльмен. Эту книгу прочел весь мир. И у всего мира она вызвала слезы, и у всего мира кровь бросилась в голову при мысли: «Как страдают черные!» Тогда и вспыхнула эта великая война, – после которой черный человек стал человеком! Вот кто была мистрисс Бичер-Стоу, и вот как была написана ее книга.
Они не знают в большинстве случаев, эти бедные люди, кто она была, – но они знают ее имя, и нет ни одного негра от Сан-Франциско до Нью-Йорка, от Албэни до Ныо-Орлеана, для которого не было бы священно это имя:
– Бичер-Стоу.
Какой памятник для писательницы!..
ЦЫПЛЕНОК
Восточная сказка
Это было в Индии.
В Индии, где боги ближе к земле, и от их благодатного дыхания на земле случаются чудеса.
Такое чудо случилось в Пенджабе[19]. Жил-был в Пенджабе великий раджа. Премудрый и славный.
От Ганга до Инда гремела слава его. Даже далекие страны наполнялись благоуханием его ума.
Из далеких стран сходились люди послушать его мудрости. Божество сходило к нему и беседовало с ним, и говорило его устами народу. И он всех принимал под тенью развесистого баобаба.
Он был богат и могуч, но оставил все и удалился в лес, и поселился там, далеко от людей и близко к божеству.
Целыми днями он стоял на коленях, устремив к небу восторженный взор.
И видел он в голубой эмали божество, доброе и грустное, с печалью и любовью смотревшее на землю. Когда же приходил кто, старый раджа прерывал для него свое созерцание божества и беседовал с пришедшим, пока тот хотел. И обращались к нему с вопросами, сомнениями все, кто хотел.
Кругом кипели войны, совершались насилия, носилось горе, – и на все, как эхо, откликался из глубины леса страдавший и молившийся старый раджа.
Его голос то гремел, как раскаты небесного грома, то проносился, как проносится по цветам легкое дыханье весеннего ветерка.
Грозный к сильным, полный любви к слабым. И звали мудреца индусы: – Великая Совесть.
Так жил в глубине леса старый, ушедший от всех благ мира раджа. У него были враги. Они кричали:
– Зачем он ушел от мира и не живет, как прилично радже?!
– Он делает это ради славы!
– Из лицемерья!
– Он пресытился!
И были около него хуже, чем враги, – его ученики. Они тоже бросили все. Хотя им нечего было бросать. Они тоже отказались от всего. Хотя им не от чего было отказываться. Они жили также под сенью окрестных деревьев, выбирая для этого баобабы, – потому что великий учитель жил под баобабом.
Они носили лохмотья, которые тлели у них на теле. Они ползали на брюхе, боясь раздавить ногой насекомое в траве.
Встречаясь с муравьем, они останавливались, чтобы дать ему время уползти с их пути и не задавить его. И считали себя святыми, потому что, дыша, закрывали рот рукою, чтобы нечаянно не проглотить и не лишить жизни маленькой мошки.
Подражая великому учителю, они также целыми днями стояли на коленях и смотрели, не отрываясь, вверх, хотя он видел в небе божество, а они видели только кончик своего носа.
И вот однажды ученый раджа заболел. Смутились все кругом, что уйдет из мира Великая Совесть, и бросились к инглезским врачам с мольбою: – Спасите нам его.
Инглезские врачи, посоветовавшись с их мудростью, сказали: Старый раджа истощен. Возьмите цыпленка, сварите его и дайте пить больному. Это подкрепит его силы. Сейчас же принесли цыпленка.
Но факиры закричали голосами, дикими, как вой шакалов: – Что? Не он ли, когда голод изнурял нас, отдавал свой рис муравьям, потому что и муравьи в голодный год голодны также. Не он ли говорил: «Не убивайте». И вы хотите напоить кровью его сердце. Убить живое существо, чтобы спасти его.
– Но он умрет.
– Но мы не допустим убийства!
И старый раджа умер.
А цыпленок остался жив.
Боги близко живут к земле в великой таинственной Индии. Увидав то, что происходило, Магадэва улыбнулся печальной-печальной улыбкой и вычеркнул завет, что начертал на золотой доске:
– Не поклоняйся идолу…
И написал с грустной улыбкой:
– Не поклоняйся цыпленку.
ЧЕГО НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ БОГДЫХАН
Эти сказки принадлежат к числу тех «ста» избранных «золотых сказок», которые рассказываются в детстве будущему богдыхану
Всесильный богдыхан много видел при своем дворе людей ловких, людей хитрых, и ему захотелось увидеть счастливых людей.
– Я – солнце, которое золотит только вершины гор и лучи которого никогда не падают в долины! – сказал он себе и приказал своему главному обер-церемониймейстеру принести список низших чиновников.
Церемониймейстеры принесли 666 свитков, каждый в 66 локтей длины, на которых еле-еле уместились все имена.
– Сколько их, однако! – сказал богдыхан и, указав на имя мандарина 48 класса Тун-Ли, приказал главному обер-церемониймейстеру: – Узнай, что это за человек!
Приказания богдыхана исполняются немедленно, и не успел бы богдыхан сосчитать до 10000, – как главный обер-церемониймейстер вернулся и с глубоким поклоном сказал:
– Это твой старый служака, всесильный сын неба. Честный, скромный чиновник и примерный семьянин. Он отлично живет со своей женой, и они воспитывают дочь в благочестии и труде.
– Да будет ему радость! – сказал богдыхан. – Я хочу осчастливить его взглядом моих очей. Пойди и объяви ему, что в первый день новой луны он может представиться мне со своим семейством.
– Он умрет от счастья! – воскликнул главный обер-церемониймейстер.
– Будем надеяться, что этого не случиться! – улыбнулся добрый богдыхан. – Иди и исполни мою волю.
– Ну, что? – спросил он, когда обер-церемониймейстер возвратился во дворец.
– Твоя воля исполнена, как святая, всесильный сын неба! простираясь ниц пред богдыханом, отвечал главный церемониймейстер. Твое милостивое повеление было объявлено Тун-Ли при громе барабанов, звуках труб и ликующих возгласах народа, славившего твою мудрость!
– И что же Тун-Ли?
– Он казался помешанным от радости. Никогда еще мир не видел такого радостного безумия!
День представленья Тун-Ли ко двору приближался, казалось, медленно, – как все, чего мы ждем. Богдыхану хотелось поскорее взглянуть на счастливого человека, – и однажды вечером он, переодевшись простым кули, с проводником отправился в тот далекий квартал Пекина, где жил Тун-Ли. Еще издали слышны были крики в доме Тун-Ли.
– Неужели они так громко ликуют? – удивился богдыхан, и радость расцвела в его душе.
– Несчастнейшая из женщин! Презреннейшее из существ, на которое когда-либо светило солнце! – кричал Тун-Ли. – Да будет проклят тот день и час, в который мне пришло в голову на тебе жениться! Поистине, злые драконы нашептали мне эту мысль!
– Мы живем триста лун мужем и женой! – со слезами отвечала жена Тун-Ли. – И я никогда еще не слыхала от тебя таких проклятий. Ты всегда находил меня милой, доброй и верной женой. Хвалил меня.
– Да, но мы не должны были представляться богдыхану! – с бешенством отвечал Тун-ли. – Ты покроешь меня позором! Ты сделаешь меня посмешищем всех! Разве ты сумеешь отдать тридцать три грациозных поклона, как требуется по этикету?.. Мне придется сквозь землю провалиться со стыда за тебя и за дочь. Вот еще отвратительнейшее существо в целом мире! Урод, какого не видывало солнце!
– Отец! – рыдая, отвечала дочь Тун-Ли. – Отец, разве не ты называл меня красавицей? Своей милой Му-Сян? Своей кроткой Му-Сян? Разве ты не говорил, что милее, лучше, послушнее меня нет никого в целом мире?
– Да! Но нога в два пальца длиною! – с отчаянием восклицал Тун-Ли. – Я уверен, что богдыхан умрет от ужаса, увидев такую ногу-чудовище.
– Меня растили не для того, чтобы носить в паланкине! – плакала бедняжка Му-Сян. – Мои ноги для ходьбы. Я должна ведь выйти замуж за такого же скромного и бедного чиновника, как ты, отец. Меня воспитывали для труда.
– Будь проклято твое уродство, когда надо представляться богдыхану! – закричал вне себя Тун-Ли.
В эту минуту у дверей раздался удар гонга, и в горницу вошел ростовщик.
– Ну, что же, Тун-Ли? – спросил он. – Обдумал ты мои условия?
– Но мы умрем с голода, если примем твои условия! – прошептал Тун-Ли, от ужаса закрывая ладонями лицо.
– Как хочешь! – пожал плечами ростовщик. – Но помни, что время идет. Если ты будешь медлить, – мы не успеем сделать ни синего шелкового платья с золотистыми рукавами для тебя, ни зашитого шелками платья для твоей жены, ни расшитого цветами платья для твоей дочери. Ни всего того, что необходимо, чтобы представиться ко двору. Что ты будешь тогда делать?
– Хорошо, я согласен… согласен… – пробормотал Тун-Ли.
– Так помни же, чтобы не было потом споров. Я делаю тебе все ото, а ты в каждую новую луну отдаешь мне три четверти своего жалованья.
– Но мы умрем с голоду! – воскликнул Тун-Ли, всплескивая руками. – Возьми половину. Не убивай нас!
Тун-Ли, его жена и бедная маленькая Му-Сян ползали перед ростовщиком на коленях, умоляя его брать половину жалованья Тун-Ли.
– Ведь мы должны будем голодать всю остальную жизнь.
– Нет, три четверти жалованья каждую новую луну, – стоял на своем ростовщик, – последнее слово: согласен ты или нет?
И Тун-Ли, рыдая, отвечал:
– Хорошо, делай!
– О, небо! – прошептал богдыхан, и слезы полились из его глаз.
– Не смей мне говорить этого! – закричал он в величайшем гневе, когда вернулся во дворец и главный церемониймейстер, по обычаю, распростерся пред ним ниц и назвал его «всесильным».
– Не смей мне лгать! – со слезами закричал богдыхан. – Какой я всесильный! Я не могу сделать человека счастливым!
И грустный, бродя по своим великолепным, благоухающим садам, он думал:
«Я – солнце, которое светит и греет только издали, и сжигает, когда приближается к бедной земле!»
ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО
– Так смотри же, принеси мне хороший подарок! – кричала О-Мати-Сан своему мужу Ки-Ку, который в первый раз отправлялся в город.
– Принес мне подарок? – встретила она его вопросом, когда Ки-Ку вернулся.
В городе удалось отлично заработать, и Ки-Ку принес с собою много хороших вещей для хозяйства.
– А это тебе! – сказал он, передавая Мати сверкавший металлический кружок. – Посмотри-ка сюда.
О-Мати-Сан даже вскрикнула от испуга, когда из хорошенькой рамочки, в которую был отделан металлический кружок, на нее взглянуло смеющееся женское лицо.
– Кто это? – с испугом спросила она.
– Ха, ха, ха! – залился хохотом Ки-Ку. – Кто это? Да это ты сама!
Вслед за ним залилась, словно маленький серебряный колокольчик, звонким смехом О-Мати-Сан.
– Как велика премудрость человеческая! – восклицала она, глядя в зеркало. – Они умеют там, в городе, рисовать портреты людей, которых никогда не видали!
И находя женщину, которая глядела из рамки, очень хорошенькой, говорила, что портрет чрезвычайно похож.
С этих пор дом Ки-Ку стал похож на клетку, в которой живет очень веселая птичка.
Целые дни О-Мати-Сан прыгала, пела, глядя на этот чудесный портрет, который улыбался и радовался, как она.
Но всему свое время. Среди забав и утех О-Мати-Сан родила дочку О-И-Сан. В семье стало трое – настало время труда и забот. Великолепная игрушка, как драгоценное сокровище, была спрятана в самый низ сундука, и О-Мати-Сан отдалась труду и заботам. Дочка росла.
Казалось, жизнь О-Мати-Сан переливалась в 0-И. Чем больше вваливались и бледнели щеки Мати, тем больше румянец разливался по щекам О-И-Сан.
И когда ей минуло 14 лет, Ки-Ку смело мог сказать, обнимая обеих:
– Теперь у меня две маленьких Мати – старая и молодая. О-И-Сан была вылитая Мати.
Теперь она щебетала в маленьком бумажном домике, делая его похожим на клетку с веселой птичкой.
Но очередь приходит всему. Приходили и уходили радости, приходил труд, пришла и смерть, как она приходит ко всем. О-Мати-Сан умирала.
– Неужели я тебя никогда не увижу? – рыдала у ее изголовья бедная О-И.
– Дитя мое! – отвечала ей О-Мати-Сан. – Ты будешь меня видеть всегда, когда захочешь. Я всегда буду с тобой. И ты меня будешь видеть не такой, как я теперь, старой, больной, а такою, какою ты, помнишь, видала меня, когда была маленькой: веселой, смеющейся, молодой, красивой, как ты теперь. Когда я умру, открой сундук, и на дне ты найдешь мой чудесный портрет. Он был сделан, когда я была молода…
Сказала и умерла.
Поплакав по матери, О-И-Сан вспомнила о портрете, открыла сундук, достала со дна хранившийся там, как драгоценность, блестящий кружок, оправленный в красивую рамку, – взглянула и вскрикнула от радости, счастья, восторга.
На нее, улыбаясь счастливыми глазами, смотрела ее мать, не старая, не больная, а молодая, веселая, какою О-И видала ее только давно-давно, в детстве. О-И запрыгала от радости.
Теперь она целые дни проводила с волшебной игрушкой, любуясь на дорогое лицо матери. Она разговаривала с нею, и хотя мать ничего не отвечала ей, но по движениям губ, по улыбке, по блеску глаз О-И-Сан видела, что та ее понимает.
Когда О-И-Сан была радостна, улыбалась и мать. Когда О-И-Сан была грустна, грусть ложилась и на дорогое лицо, и О-И-Сан спешила улыбнуться, чтоб развеселить милую мать. Так жила О-И-Сан.
Однажды через их деревню проходил премудрый жрец великой богини Каннун.
– Что ты делаешь, дитя мое? – спросил он, увидев О-И-Сан, которая смеялась и болтала, глядя в зеркало.
– Я разговариваю с покойной матерью, – отвечала О-И-Сан, – смотрю на ее лицо и радуюсь, что она сегодня такая веселая и счастливая.
– Да разве это лицо твоей матери, неразумное дитя? – покачал головой мудрый жрец. – Разве это портрет? Это зеркало, и оно отражает твое лицо. Понимаешь, твое? Дай мне зеркало, я посмотрю, и оно отразит мое лицо.
О-И-Сан со страхом подала ему зеркало и с ужасом увидела среди хорошенькой рамочки старое, желтое, мудрое лицо жреца. – Это был твой портрет!
– Мой? – воскликнула О-И-Сан и с рыданиями упала на землю. – Я опять потеряла свою мать! И она рыдала, рыдала неутешно, лежа на земле. И сказала богиня Каннун, богиня милосердия: – Проклятый жрец! Счастье в незнаньи. Зачем ты знаньем отравил счастье человека? Да будешь ты проклят с твоим знаньем! И прокляла она премудрого жреца. ДОЖДЬ
Сын неба, – пусть его имя переживет вселенную! – император Ли-О-А стоял у окна своего фарфорового дворца. Он был молод и потому добр. Среди роскоши и блеска он не переставал думать о бедных и несчастных. Шел дождь. Лил ручьями. Плакало небо, лили за ним слезы деревья и цветы.
Грусть сжала сердце императора, и он воскликнул:
– Плохо тем, кто в дождь не имеет даже шляпы!
И повернувшись к своему камергеру, он сказал:
– Я хотел бы знать, сколько таких несчастных в моем Пекине?
– Свет солнца! – ответил, падая на кольни и наклонив голову, Тзунг-Хи-Тзанг. – Разве есть что-нибудь невозможное для повелителя царей? Еще до заката солнца ты будешь знать, отец зари, то, что тебе угодно!
Император милостиво улыбнулся, и Тзунг-Хи-Тзанг побежал быстро, как только мог, к первому министру Сан-Чи-Сзну.
Он прибежал, едва переводя дух, и второпях не успел даже отдать всех почестей, которые следовали первому министру.
– Радость вселенной, наш всемилостивый повелитель, – задыхаясь проговорил он, – в ужасном беспокойстве. Его беспокоят те, кто ходит в дождь без шляпы в нашем Пекине, и он хочет знать сегодня же, сколько их числом!
– Да есть-таки бездельников! – отвечал Сан-Чи-Сан. – А впрочем…
И он приказал позвать Пай-Хи-Во, начальника города.
– Плохие новости из дворца! – сказал он, когда Пай-Хи-Во склонил голову к земле в знак внимания. – Владыка наших жизней заметил непорядки!
– Как? – с ужасом воскликнул Пай-Хи-Во. – Разве но существует прекрасного тенистого сада, который закрывает дворец от Пекина?
– Уж не знаю, как это случилось, – ответил Сан-Чи-Сан, – но его величество ужасно беспокоят негодяи, которые ходят в дождь без шляпы. Он желает знать сегодня же, сколько такого народа в Пекине. Распорядись!
– Позвать ко мне сейчас же эту старую собаку Хуар-Дзун-га! кричал через минуту Пай-Хи-Во своим подчиненным.
И когда начальник стражи города, белый от ужаса, дрожащий, повалился ему в ноги, мандарин обрушил на его голову целый водопад проклятий.
– Негодяй, бездельник, подлый предатель! Ты хочешь, чтоб нас всех распилили пополам вместе с тобой!
– Объясни мне причину твоего гнева, – колотясь от дрожи у ног мандарина, сказал Хуар-Дзунг, – чтоб я мог понимать утешительные слова, которые ты мне говоришь. Иначе, я боюсь, я не пойму языка твоей мудрости!
– Старая собака, которой следовало бы смотреть за стадом свиней, а не за самым большим городом на свете! Сам повелитель Китая обратил внимание, что у тебя в городе беспорядки, – по улицам шатаются негодяи, у которых даже в дождь нет шляпы, чтоб надеть. Чтобы к вечеру ты мне дал знать, сколько их останется в Пекине?
– Все будет исполнено в точности! – ответил, три раза ударяясь лбом об пол, Хуар-Дзунг, и через мнговенье ока он уже кричал и топал ногами на стражей, которые были собраны оглушающими звуками гонга.
– Негодяи, из которых я повешу половину только для того, чтобы остальных изжарить на угольях! Так-то вы смотрите за городом! У вас в дождь ходят по улицам без шляп! Чтобы через час[20] были переловлены все, у кого нет шляпы даже из тростника!
Стражи принялись исполнять приказание, – и в течение часа на улицах Пекина шла настоящая охота.
– Держи его! Лови! – кричали стражи, гоняясь за людьми, не имевшими шляп.
Они тащили их из-за заборов, из-под ворот, из домов, куда те прятались, как крысы, которых преследует повар, чтобы сделать из них рагу.
И через час без одной минуты все, кто в Пекине не имел шляп, стояли во дворе тюрьмы. – Сколько их? – спросил Хуар-Дзунг.
– Двадцать тысяч восемьсот семьдесят один! – отвечали, кланяясь в землю, стражи. – Палачей! – приказал Хуар-Дзунг.
И через полчаса[21] 20 871 обезглавленный китаец лежал на дворе тюрьмы.
А 20 871 голова была воткнута на пики и разнесена по городу в назидание народу.
Хуар-Дзунг пошел с докладом к Пай-Хи-Во. Пай-Хи-Во – к Caн-Чи-Сану. Сан-Чи-Сан дал знать Тзунг-Хи-Тзангу.
Наступил вечер. Дождь кончился. Пробегая, ветерок трогал деревья, и дождь бриллиантов летел с деревьев на благоухающие цветы, которые искрились и горели в лучах заходящего солнца.
Из блеска и благоухания был создан весь сад, – и сын неба Ли-О-А стоял у окна своего фарфорового дворца, любуясь чудной картиной.
Но, молодой и добрый, он и в эту минуту не забывал о несчастных!
– Кстати! – сказал он, обращаясь к Тзунг-Хи-Тзангу. – Ты хотел мне узнать, сколько народу в Пекине не имеют даже шляпы, чтоб накрыться во время дождя?
– Желание владыки вселенной исполнено его слугами! – с низким поклоном отвечал Тзунг-Хи-Тзанг.
– Сколько ж их? Смотри, говори только правду!
– Во всем Пекине нет ни одного китайца, у которого не было бы шляпы, чтоб надеть во время дождя. Клянусь, что я говорю чистейшую правду!
И Тзунг-Хи-Тзанг поднял руки и наклонил голову в знак священной клятвы.
Лицо доброго императора озарилось счастливой и радостной улыбкой.
– Счастливый город! Счастливая страна! – воскликнул он. – И как счастлив я, что под моим владычеством так благоденствует народ.
И все во дворце были счастливы при виде счастья императора. А Сан-Чи-Сан, Пай-Хи-Во и Хуар-Дзунг получили по ордену Золотого Дракона за отеческие попечения о народе. БЕЛЫЙ ДЬЯВОЛ
Мудрец Туиг-Са-О был ученейшим из людей. Он знал все, что делается на земле, под землей, в водах, среди звезд. Спокойно и неторопливо он делал теперь те несколько шагов, которые отделяли его от могилы, вырытой в его саду, среди цветов.
«Сегодня я еще сам иду к ней, а скоро!.. – улыбаясь, думал он, каждое утро идя посмотреть на свою могилу. – Я знаю многое, а здесь узнаю остальное!»
И он улыбался могиле, которая улыбалась ему среди цветов. И вот однажды, когда Тунг-Са-О стоял и смотрел в свою могилу, к нему подошел дух человеческий.
– А хорошо бы пожить еще раз! – сказал дух человеческий.
– Зачем? – воскликнул мудрец. – Только глупец, кончив тяжкий и утомительный путь и стоя перед дверью, возвращается назад и снова делает весь путь!
– А хорошо бы пожить! – ответил на это дух человеческий.
– Человек, как сурок, выскакивает из люльки, чтобы спрятаться в могилу. Я кончил это презренное существование! – воскликнул Тунг-Са-О.
А дух человеческий вздохнул и сказал:
– А хорошо бы пожить!
Долго и мудро говорил еще Тунг-Са-О о тщете человеческой жизни, о страданьях, лишеньях, болезнях, а дух человеческий вздыхал и повторял в ответ на все:
– А хорошо бы пожить!
– Знать и вечно жаждать знанья. И чем больше знаешь, тем больше мучишься этой палящей жаждой. Жизнь – неизреченное мученье! Жизнь это вечная жажда, и только могила сразу утолит ее!
– А хорошо бы пожить! – вздохнул дух человеческий.
И Тунг-Са-О закончил свои рассужденья:
– А хорошо бы, действительно, пожить! – со вздохом сказал он.
И в ту же минуту перед ним предстал дьявол, с белым, белым лицом. Он не носил нашей священной косы, и короткие волосы его были светлы и мягки, как шелк.
– Привет мудрому! – воскликнул белый дьявол. – Люди пред тобой, Тунг-Са-О, как трава перед вековым дубом, и я готов служить тебе. Я возвращу тебе юность, и всеми радостями наполню твое существование. Я дам тебе такие знанья, и научу тебя таким искусствам и ремеслам, что ты будешь волшебником и радостью наполнишь жизнь свою и жизнь кругом.
– А какой потребуешь ты за это платы? – спросил боязливо Тунг-Са-О. – Моей души? Жизни?
– Нет! О, нет! – воскликнул белый дьявол. – Про нас рассказывают глупости, будто мы отнимаем у людей душу, жизнь. Это клевета. Это незнанье. Ты пройдешь всю свою жизнь без страха, без опасений, – а я только буду идти всегда на один шаг впереди тебя.
– Иди! – сказал мудрец.
И они пошли через дремучий лес, заросший непроходимой чащей. Белый дьявол шел впереди и раздвигал колючие ветви, так что мудрец шел за ним по очищенной дорожке, спокойно, не получая ни одной царапины.
«Какой глупый этот белый дьявол! – улыбаясь, думал Тунг-Са-О. Пусть всегда идет впереди. Это даже очень хорошо, если приходится идти зкмой по глубокому снегу или там, где много волчьих ям».
Так пришли они к жилищу могущественного дракона, который коснулся своим жалом Тунг-Са-О, – и Тунг-Са-О вдруг стало опять 18 лет.
Помолодел но только он, а весь мир кругом. Он увидел в мире много цветов, которые чудно пахли, и среди этих цветов резвились птицы, певшие песни, которых он еще не слыхал, когда был стариком.
И Тунг-Са-О захотелось весь мир обратить в цветы. Тунг-Са-О проходил мимо лавки искусника, который делал из драгоценных камней побрякушки на радость людской пустоте.
– Я знаю чудные искусства и ремесла, которые не снились тебе! сказал Тунг-Са-О. – Дай мне обделать твои камни, и я превращу их в дивные цветы.
– Преврати, если ты такой искусник! – сказал ювелир. И так как Тунг-Са-О знал необыкновенные искусства и необыкновенные ремесла, то он принялся придавать драгоценным камням невиданную форму. Он принялся вытачивать цветы из цельных камней. Огромные бриллианты расцвели пышными розами, на лепестках которых солнце зажигало золотые, голубые, красные горящие точки. Большие изумруды приняли форму сверкающих листьев. А из сапфиров выросли незабудки.
Потрудившись так до вечера и страшно устав за работой, Тунг-Са-О пошел к хозяину, чтоб получить заработок.
– А у меня только что был белый человек, с волосами, как шелк, и получил все, что следовало, за тебя! – воскликнул хозяин. – Только что! Я удивляюсь даже, как вы не встретились в дверях.
– При таких условиях но стоит и работать! – проворчал очень недовольный Тунг-Са-О и стал думать только о наслаждениях.
Как раз навстречу Тунг-Са-О несли в паланкине 14-летнюю девушку, дочь самого богатого и самого знатного мандарина. Она была хороша, как благоухающий несорванный цветок. Ее ножки были так малы, что не могли бы сделать и шагу, – и это придавало ей прелесть ребенка, и счастлив тот, кто будет ее мужем: сколько радостей! Ее робкие, неуверенные шаги будут вызывать восторг и нежность в его сердце, как первые шаги ребенка.
Ее маленькие глазки смотрели на все кругом – деревья, дома, людей – с удивленным видом, словно спрашивали:
– Что это такое?
Так она была невинна.
А крошечные ручки с испугом держались за край паланкина, словно боялись, что ветер вот-вот подхватит этот цветок земли и унесет в воздух, и не отдаст его земле. Словом, красавица очень понравилась Тунг-Са-О. А так как ему помогал дьявол, а может быть, просто потому, что Тунг-Са-О было 18 лет, и он был красив, – сердце крошки-красавицы забилось сильнее, забилось желанием.
Мандарин с восторгом согласился выдать свою дочь за самого ученого человека и величайшего искусника в стране, и свадьба была отпразднована с величайшей пышностью.
Свадебный пир приходил к концу, и Тунг-Са-О, сопровождаемый нескромными шутками, которые еще больше зажигали горевшие желания, оставил гостей.
Он шел в покой своей жены, чтоб там, среди цветов, сорвать лучшую из лилий и горящими устами коснуться маленького алого цветка – уст своей невесты.
И на пороге покоя он встретил выходящего оттуда белого дьявола:
– Я это сделал за тебя!
Зарыдал Тунг-Са-О, и мир показался ему садом, в котором росли цветы без благоухания, и, без песен, бестолково прыгали пестрые птицы.
Так жил Тунг-Са-О долгую, долгую, серую жизнь, пока однажды он не очутился на берегу глубокого ручья.
Через ручей был переброшен мостик, такой легкий и такой непрочный, что по нем мог перейти только один человек. Первый же, кто прошел бы по нем, расшатал бы его так, что следующий упал бы в ручей и утонул.
И в ту минуту, как Тунг-Са-О хотел поставить ногу на мостик, впереди него проскользнул белый дьявол и перешел по мостику. За ним, вторым, пошел Тунг-Са-О. Мостик упал, и Тунг-Са-О утонул.
Утонул, радостно приветствуя смерть – избавительницу. Вот и вся сказка.
Сын неба! Бойся белых дьяволов! Они не отнимают ни души, ни жизни, но они оскверняют все, что есть лучшего в первой, берут себе все, что есть хорошего во второй.
О ПОЛЬЗЕ НАУК
Был в Китае богдыхан Цзан-Ли-О, – да сохранится его имя в памяти людей до тех пор, пока существует наше отечество. Он очень интересовался науками, хотя сам едва умел читать и поручал всегда подписывать свое имя другому, чем очень пользовались ближайшие мандарины.
Но так как, несмотря на это, он очень интересовался науками, то однажды Цзан-Ли-О и задал себе вопрос:
– Для какого дьявола они существуют на свете? И он приказал в определенный день созвать всех ученых для всенародного допроса.
Желание сына неба – закон для земли.
У ворот всех университетов забили огромные барабаны, и глашатаи закричали:
– Эй, вы! Ученый народ! Бросайте-ка книги, идите в Пекин отвечать радости вселенной, нашему милостивому богдыхану, какую такую пользу приносят ваши науки.
В назначенный день на большой площади перед дворцом собрались все ученые люди Китая. Были тут такие старики, что их несли на носилках, но были и молодые ученые, которые казались старше самых старых стариков. Были ученые, так высоко задиравшие голову, что у них спинной хребет выгнулся назад, и они не могли бы с почтением поклониться при встрече даже самому богу. Были тут и люди, у которых спинной хребет сломался в угол от сидения за книгами. Были люди, очень награжденные за свою ученость. Были ученые с тремя, четырьмя, попадались и с пятью шариками на шапке. Были такие, которые носили трехглазое павлинье перо. Были ученые и в зеленых куртках, и было даже несколько желтых кофт!
И все были, конечно, в очках, потому что очки, как известно, первый признак учености. Ученые всегда близоруки.
Когда солнце вышло из-за облаков и засверкало на этих очках, богдыхан даже зажмурился.
«Как горят у них глаза! – подумал он. – Словно ждут прибавки жалованья».
И богдыхан, оглядев толпу и увидав, что все в порядке, сказал:
– В никогда не прекращающихся заботах о благе наших детей-китайцев, решили мы выяснить вопрос: зачем это на свете существуют науки? Давно уже они существуют, и вот хотим мы узнать, для чего? А потому отвечайте нам прямо и откровенно, без утайки и безо всякой хитрости: зачем науки и какой от них толк? Начнем хоть с тебя! – указал он на знаменитейшего астронома. – Сам сын неба, с неба я желаю и начинать. Так будет мне приличнее. Твоя наука самая высокая, ты первый и говори!
Знаменитый астроном вышел вперед, отдал сколько полагалось по этикету поклонов и ласково сказал:
– Когда невежде приходится вечером выйти за чем-нибудь из дома, он, как свинья, смотрит только себе под ноги, а если и случится ему взглянуть на небо, он увидит только, что небо, словно оспой, покрыто звездами. Другое дело, ученый астроном! Для него рисунки из звезд это слова, и он читает небо, как книгу: надо ли ждать наводнений, велики ли будут приливы и отливы вод, как будет светить солнце, сильно или не очень. Вообще, мы узнаем будущее.
– Будущее! Это любопытно! – сказал богдыхан. – А ответь мне; что делается теперь, в эту самую минуту, в Нанкине?
– Откуда же я могу знать это, светило вселенной! – униженно кланяясь, ответил астроном.
– Недурно! – воскликнул богдыхан. – Будущее-то вы знаете, а вот настоящего-то – нет! Лучше бы вы настоящее знали, чем будущее! Полезнее бы! А то будущее! Будущее! Самая, по-моему, твоя бесполезная и глупая наука! Следующий!
За астрономом стоял знаменитый историк. Такой, говорят, историк, что знал по именам всех китайцев, которые когда-либо жили на свете! Он распростерся перед богдыханом и сказал:
– Образец добродетелей, великий правитель, равного которому даже я не знаю во всей истории Китая! Моя наука не возбудит, конечно, твоего мудрого гнева, как наука моего предшественника. Мы занимаемся прошлым. Изучаем его, отмечаем все промахи, ошибки, даже глупости.
– Наука, очень удобная для дураков! – воскликнул богдыхан. Всякий дурак может сколько угодно безнаказанно делать глупости. Стоит ему сослаться на вашу науку: ведь глупости и ошибки, скажет он, делались всегда. Дурацкая наука! Убирайся!.. Ты чем занимаешься и какой толк от твоей науки?
Дрожащий ученый, к которому был обращен этот вопрос, поборол кое-как свое волнение и сказал:
– Мы изучаем вопросы государственного устройства. Как должно управляться государство, какие должны быть законы, какие права должны иметь мандарины, какие простой народ.
– Должны! Должны! – крикнул богдыхан. – Как будто на свете все делается, как должно. На свете никогда не делается все, как должно. Поневоле, благодаря вашей науке, всякий будет сравнивать то, что есть, с тем, как должно быть, и всегда останется недоволен. Самая вредная наука! Прочь с глаз моих! Вон!.. Ты что нам расскажешь?
На этот раз вопрос был обращен к доктору.
– Нашу науку, – отвечал он с поклонами, – все признают полезной. Мы изучаем свойства трав и что из какой можно сделать – из какой вытяжку, из какой порошок, из какой бальзам. Мы собираем корни женьшеня и учим, что из них надо отбирать – которые больше всего похожи на человеческую фигуру. Мы сушим молодые, еще мягкие рога оленя, толчем их и делаем из них навар, густой, как клей, и целебный, как воздух весны: он как рукой снимает все недуги. Конечно, когда человек здоров, ему не нужна наша наука, но если он не убережется и заболеет, мы ему помогаем.
– Не убережется! Пускай бережется! – мягче, чем перед этим, но все же с гневом, сказал богдыхан. – Только поощряете людей к легкомыслию. Решительно не понимаю, какой толк от всех ваших наук!
И, обратившись к знаменитейшему и величайшему поэту Му-Си, который жил как раз в это самое время, богдыхан приказал:
– Ты отвечай о пользе науки! Му-Си вышел, поклонился, улыбнулся и сказал:
– Был у одного из твоих предков, сын неба, такой чудный сад, в котором росли такие чудные, душистые цветы, что не только пчелы слетались со всей округи, но даже люди за милю и более останавливались, нюхали воздух и говорили: «Вероятно, сегодня дверь рая оставлена открытой». И забралась однажды в этот сад корова. Увидав, что из земли много кой-чего растет диковинного, она начала есть цветы. Пожевала розу, но бросила, потому что наколола язык. Пожевала лилий, пощипала резеды, левкоев, взяла в рот жасмину и выплюнула. «Совсем никакого вкуса! – сказала корова. – Решительно не понимаю, зачем это люди разводят цветы!» По-моему, сын неба, корове лучше бы и не задавать себе этого вопроса.
Богдыхан рассердился и сказал:
– А отрубите-ка ему голову!
Палачи сейчас же здесь же отрубили Му-Си голову.
И, глядя на обезглавленное тело Му-Си, богдыхан задумался. Довольно долго думал, наконец, вздохнул и сказал:
– Один был умный человек во всем Китае, да и тот теперь помер!
ИСТОРИЯ ОБ ОДНОЙ КОРМИЛИЦЕ
Богдыхан Дзинг-Ли-О, прозванный Хао-Ту-Ли-Чи-Сан-Хе-Нун, что значит Сама Справедливость, однажды, проснувшись, почувствовал себя не совсем здоровым. – Богдыхан болен!
По дворцу пошли разговоры. Многие перестали кланяться первому министру. Придворный поэт написал приветственную оду преемнику.
Лучшие врачи, бледные от страха, с поклонами, с извинениями исследовали богдыхана, с ужасом пошептались, и старший врач, повалившись в ноги, воскликнул:
– Позволишь сказать всю правду, утешенье человечества?
– Говори! – разрешил богдыхан.
– Конечно, ты – сын неба! – сказал старший врач. – Но по несказанному милосердию своему ты иногда снисходишь к людям и тебе угодно бывает заболевать такими болезнями, какими могут страдать и обыкновенные смертные. Сегодня день твоей величайшей снисходительности: у тебя просто расстроен желудок.
Богдыхан страшно изумился:
– Отчего? На ночь я не пил ничего, кроме молока моей кормилицы. Триста шестьдесят месяцев, как я богдыханом, и питаюсь, как мне подобает, молоком кормилицы. У меня переменилось триста шестьдесят кормилиц, и никогда со мной не случалось ничего подобного. Кто и чем обкормил мою кормилицу?
Немедленно произвели строжайшее следствие, – но оказалось, что кормилица ела только самые лучшие блюда, и притом ей давали их в умеренном количестве.
– Может быть, она больна от природы. Чего смотрели те, кто мне ее выбирал? – разгневался богдыхан. – Казнить виновных.
Виновных казнили, но по самом тщательном исследовании оказалось, что они ни при чем: кормилица была совершенно здорова.
Тогда богдыхан приказал позвать к себе кормилицу.
– Отчего у тебя испортилось молоко? – строго спросил он.
– Сын неба, благодетель вселенной. Сама Справедливость, отвечала трепещущая кормилица, – ты ищешь правды не там, где она спряталась. Меня никто не обкармливал и я сама не объедалась. Точно так же я от роду не была ничем больна. Мое молоко сделалось дурным потому, что я все думаю, что делается у меня дома.
– Что же такое делается у тебя дома? – спросил богдыхан.
– Я родом из провинции Пе-Чи-Ли, управлять которой тебе угодно было поручить мандарину Ки-Ни. Он делает страшные вещи, радость вселенной. Он продал наш дом и деньги взял себе, потому что мы не могли дать ему взятки, которой он требовал. Он взял к себе в наложницы мою сестру, а ее мужу отрубил голову, чтобы тот не жаловался. Кроме того, он казнил моего отца и посадил в тюрьму мою мать. Вообще поступил с нами так, как он поступает со всеми. При воспоминании обо всем этом я плачу, – и вот отчего у меня портится молоко.
Богдыхан страшно разгневался.
– Созвать ко мне всех моих советников! И когда те явились, строго-настрого приказал:
– Найти мне сейчас честного человека.
Такого нашли. И богдыхан сказал ему:
– Мандарин Ки-Ни, которому я поручил управлять провинцией Пе-Чи-Ли, творит такие дела, что у моей кормилицы испортилось даже молоко. Сейчас же отправляйся туда, произведи моим именем самое строгое следствие и донеси мне. Только смотри, все без утайки, без прибавки, – чтобы правда смотрелась в твои слова, как смотрится месяц в спокойное заснувшее озеро. Знаешь, в тихую ночь, – когда смотришь и не разберешь: да где же настоящий месяц и где отраженье – в озере или на небе? Ступай.
Честный человек немедля отправился с целой сотней самых искусных следователей.
Насмерть перепуганный мандарин, видя, что дело плохо, предложил посланному взять хорошую взятку.
Но честный человек, будучи послан самим богдыханом, не решился этого сделать.
Три раза менялся месяц на небе, а честный человек с сотней следователей все еще разбирал дела. Наконец, когда четвертый месяц был уже на исходе, честный человек явился к богдыхану, повалился в ноги и спросил:
– Всю ли правду говорить, Сама Справедливость?
– Всю! – приказал богдыхан.
– Если есть во всем мире, который принадлежит тебе и никому больше, уголок, достойный слез, – то это провинция Пе-Чи-Ли, сын неба. Поистине она способна вызвать слезы у самого злобного дракона. По всей провинции все просят милостыню, и некому подать милостыни, потому что все ее просят. Дома разорены, рисовые поля не засеяны. И все это не потому, что жители отличаются леностью, а потому, что мандарин Ки-Ни берет у них все, что бы они ни заработали. В судах нет справедливости, и прав только тот, кто больше даст мандарину. О добрых нравах там забыли даже думать. Стоит увидеть Ки-Ни девушку, которая ему приглянется, и он берет ее себе, отнимая у отца, у матери. Да и не только девушек, он берет даже замужних женщин.
– Да не может быть! – воскликнул богдыхан.
– Не только месяц, но и солнце могло бы посмотреться в истину моих слов! – отвечал честный человек. – Все, что я говорю, правда. Украшение твоей власти, цвет твоих провинций, – провинция Пе-Чи-Ли гибнет!
Богдыхан схватился за голову в знак глубокой горести.
– Надо будет подумать, что сделать! Надо будет подумать!
Он приказал всем придворным ждать в большом зале, а сам, уединясь в соседней комнате, ходил из угла в угол и думал. Так прошел весь день. Перед вечером богдыхан вошел к придворным, торжественно сел под балдахином и, когда все упали лицом к земле, объявил:
– Провинция Пе-Чи-Ли находится в ужасном положении, а потому постановляем: никогда не брать оттуда кормилиц для богдыхана.
С тех пор никогда не берут для богдыхана кормилиц из провинции Пе-Чи-Ли.
ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
Когда премудрый, славный, великий богдыхан Юн-Хо-Зан наследовал власть от отца своего, повелителя вселенной Хуар-Му-Сяна, и вступил на престол своих предков, – по обычаю нашей страны, к нему приблизился с 100 поклонами верховный церемониймейстер и поставил около трона корзину из простого тростника.
– Что это значит? – милостиво спросил молодой сын неба.
– Повелитель вселенной, – отвечал церемониймейстер, – есть в нашей премудрой стране обычай ставить эту простую корзину у великолепного трона императора. В течение жизни богдыхан пишет на бумажках свои тайные желания и опускает в корзину. И при жизни богдыхана никто не смеет коснуться этой корзины. Когда же небо снова похищает его у земли, другими словами, когда он соединяется со своими предками, иначе говоря, когда он умирает, – эти бумажки развертываются, желания почившего богдыхана всенародно читаются и свято приводятся в исполнение.
– Отличное обыкновение! – сказал Юн-Хо-Зан. – Я хотел бы узнать, какие желания были высказаны моими святыми предками!
– На это нелицеприятно ответит тебе придворный историк, милость солнца!
И вперед с поклонами выступил придворный историк, готовый отвечать.
– Много ли желаний было найдено после моего прадеда, великого Тун-Ли-Чи-Сана, и каковы они были? – спросил богдыхан.
– Свет солнца! Улыбка небес! Когда небо ограбило землю, и твоего великого прадеда не стало больше с нами, в его корзине было найдено столько записок, сколько дней было в его справедливом и славном царствовании. И на всех записочках было написано одно и то же. Каждый день, отходя ко сну, он писал одно и то же тайное желание.
– В чем оно заключалось?
– Твой прадед, великий Тун-Ли-Чи-Сан, был премудрым, а главное, справедливым правителем. Изо всех добродетелей он больше всего стремился к этой. Справедливость, как цветок, цвела в его сердце. И его единственным желанием было: «Пусть судьи судят справедливо, мудро, честно и нелицеприятно». Когда, по священному обычаю, это желание было прочитано всенародно, все пали ниц и восславили божественную премудрость почившего богдыхана.
– Было ли исполнено это желание, как то подобает? – спросил богдыхан.
– Повелитель, мудрость, радость вселенной! – падая на землю, ответил придворный историк. – Не люди, а обстоятельства управляют землей. Планеты имеют влияние на ход земных дел. Среди драконов, управляющих миром, есть не только добрые, но и злые. «Между намерением и делом, – сказал Конфуций[22], – столько же расстояния, сколько между добром и злом». Человек часто походит на безумца и на слепого: идет налево, когда хочет идти направо, и шагает по рытвинам, когда рядом прямая дорога. Словом, желание твоего премудрого прадеда пока еще не приведено в исполнение.
– Ну, а каковы были желания моего деда? – захотел знать Юн-Хо-Зан.
– Правление твоего деда, великого А-Пуо-Чин-Яна, было продолжительно и счастливо, – отвечал придворный историк, – он получил в истории имя Бескорыстного. Когда бывал виновен кто-либо из вице-королей, и надо было наложить на него штраф в пользу казны богдыхана, – Бескорыстный предпочитал отрубить виновному голову. Он был не из тех, которых можно лечить металлами, как это издавна практикуется в нашей медицине. Блеск золота не излечивал его от гнева, и когда прочли его записки, оказалось, что лишь одна печаль омрачала его сердце. Он имел мудрый обычай писать свои записочки каждую новую луну. Когда новая луна всходила на небе, твой дед беседовал со своей душой, записывал ее тайное желание и опускал в корзину. После него было найдено столько же записочек, сколько лун было в его царствование. Его душа была мудрая душа, и ее желание было всегда одно и то же желание. На всех записочках было написано одно и то же: «Пусть мандарины не берут взяток!»
– Исполнилось ли это желание? – спросил Юн-Хо-Зан. – Повелитель вселенной, – воскликнул в ответ придворный историк, – правление его сына, твоего премудрого отца, было огорчено только одним: тем, что мандарины брали слишком много взяток!
– Хорошо, – помолчав, сказал Юн-Хо-Зан, – а много ли записочек нашли после моего отца, премудрого Хуар-Му-Сяна, да будет имя его славно в века веков?
– В корзине твоего отца, – отвечал придворный историк, – была найдена всего одна записочка. В ней вылилась мудрость всей его жизни. Он написал: «Как бы я хотел не быть богдыханом!» И он был единственным богдыханом, желание которого исполнилось. С тех пор, как он умер, он перестал быть богдыханом.
– Хорошо! – сказал Юн-Хо-Зан и обратился к верховному церемониймейстеру:
– Можете опрокинуть корзину вверх дном, а также уберите бумагу, тушь и кисточки. Я не думаю, чтоб мне все это понадобилось.
И все дивились премудрости молодого богдыхана.
ПЕРВАЯ ПРОГУЛКА БОГДЫХАНА
Богдыхан Сан-Ян-Ки, – да будет он примером для всех! – всю благословенную жизнь свою питал особое пристрастие к познаниям и путешествиям. Тем не менее, он благополучно царствовал 242 луны[23], и ему не удалось никогда видеть даже Пекина. Конечно, причиною этого был вовсе не недостаток желания. Каждый день богдыхан объявлял своему первому и полномочному министру Джар-Фу-Цяну:
– Сегодня я отправляюсь На прогулку и посмотрю Пекин!
Первый министр кланялся в ноги и спешил отдать необходимые приказания. Являлась стража, музыка, приносили паланкины, знамена, мандарины садились на коней. Первый министр докладывал:
– Все готово для исполнения твоей воли, сын неба!
И богдыхан шел садиться в паланкин. Но в эту минуту всегда что-нибудь да случалось. То выходил из толпы придворных верховный астроном, повергался на землю и говорил:
– Властитель вселенной, еще минута, и над Пекином разразится страшная гроза с ливнем и градом, величиной в ласточкино яйцо, которые ты кушаешь. Страшный вихрь будет слепить глаза, и ничего нельзя будет рассмотреть. Беда была бы тому паланкину, который очутится в эту минуту на улице. Его бы подхватило на воздух, завертело, подняло до облаков и потом так шарахнуло бы об землю, что, конечно, сидящий в нем не остался бы жить ни одного мгновенья. Такой страшный ураган разразится сегодня надо всем Пекином, исключая твоего дворца и сада. Само небо не смеет их тронуть. Так написано среди звезд и переписано в наши книги, радость вселенной.
То выходил вперед придворный историк, кланялся в ноги и говорил:
– Повелитель земли! Позволь тебе напомнить, что сегодня как раз день смерти твоего великого предка Хуар-Тзинг-Тзуна, жившего за двенадцать тысяч лун до нас, и обычай народный повелевает тебе в этот день безвыходно сидеть во дворце и предаваться, хотя бы наружно, печали!
То подбегал главный евнух, ударялся изо всех сил об землю и говорил:
– Повелитель рек, морей и гор! Только что привезли новую невольницу! Такой красоты я еще никогда не видал. Цветок, только что сорванный цветок. Мгновение ока жаль потерять, не видя ее. Пойди и только взгляни.
И прогулка отменялась.
Когда же, однако, исполнилось 242 луны счастливого царствования и настала 243, – богдыхан Сан-Ян-Ки сказал:
– Ну, нет! Довольно! я знаю, чьи это штуки! Это все мудрит Джар-Фу-Цян. Но теперь пусть себе хоть лопнет, а я увижу Пекин!
Он подкупил преданных ему слуг и сказал:
– Бейте в большой гонг, звоном которого извещают о смерти богдыхана. Вопите как можно громче. Кричите: богдыхан умер! Рвите на себе одежды, царапайте себе лица, – вам будет заплачено за все.
И он лег на высокое ложе, которое приготовили, по его приказанию, преданные слуги. Так и было сделано, как он велел.
Слуги ударили в большой гонг и объявили сбежавшимся бледным как смерть придворным:
– Свет солнца померк. Радость вселенной превратилась в печаль: наш премудрый богдыхан сидел за обедом, ел, ел и умер!
Дворец наполнился плачем и интригами. Первый и полномочный министр Джар-Фу-Цян ползал по земле около преемника и говорил:
– Я посвящу тебя, сын неба, во все тонкости управления страной. Доверься мне.
По обычаю, первым долгом, торжественно опорожнили «корзину желаний», стоявшую около императорского трона. В ней, впрочем, была только одна бумажка, и на ней было написано только одно желание почившего богдыхана:
«Желаю, чтоб меня похоронили на том же ложе, на котором я буду лежать во дворце, – и пусть никто не осмеливается не только до меня дотрагиваться, но и близко ко мне подходить». Желание почившего богдыхана священно и было исполнено. Его несли на императорское кладбище на том же ложе, высоко поднятом над толпой, на котором он лежал во дворце. Шествие было пышное и блестящее. Все были в белом. Улицы Пекина были полны народом, который сбежался посмотреть на богдыхана, хоть на мертвого.
Жрецы пели, придворные рыдали, народ делал свои замечания, а богдыхан лежал на своем возвышенном ложе и, приоткрыв один глаз, смотрел на Пекин.
«Ну, и свиньи же китайцы! – думал он, лежа и глядя. – Как они могут жить под такими дырявыми крышами? Хоть бы были еще при этом тепло одеты на случай дождя, а то ходят рваные и драные. Послушать, однако, что такое они вопят?»
И, насмотревшись, он принялся слушать.
А пекинцы вопили:
– Ага! Дворцовая лисица, Джар-Фу-Цян, конец пришел твоим грабежам и разбоям! Как новый– огдыхан прикажет отрубить тебе голову, иди на тот свет без головы! А мы-то уж на нее поплюем, как выставят ее на всеобщее посрамление! Не будешь больше нас раздевать догола!
– Эге! Вот они почему такие! – сказал себе богдыхан. – Погоди же!
Шествие, между тем, приблизилось к императорскому кладбищу. Народ удалили, и около могилы стали одни придворные.
– Ха, ха, ха! – расхохотался богдыхан, поднимаясь на ложе. Ловкую штуку я с вами сшутил? А? Ну, Джар-Фу-Цян, не случилось никакого урагана во время моей прогулки по Пекину?
Все стояли бледные, а Джар-Фу-Цян бледнее всех. Все дрожали, а Джар-Фу-Цян сильнее всех. – Что ж ты хочешь теперь делать? – спросил он. – Первым долгом, – отвечал богдыхан, – вернуться во дворец и сесть снова на трон, а дальше уж видно будет! Джар-Фу-Цян беспомощно оглянулся на придворных. – Это невозможно! – воскликнул, выступая вперед, придворный историк. – Мы должны жить согласно обычаям предков. А такого примера в истории не было, чтобы богдыхан умер и опять ожил. Это неслыханно. Это грозит страшными бедствиями и огромными волнениями среди народа! Это грозит гибелью Китаю, прямо надо сказать!
– Это невозможно! – воскликнул и верховный церемониймейстер. Все дело в этикете. А это нарушение всякого этикета. Все сделано. Похороны состоялись. И главное, – корзина желаний открыта, а она, по этикету, открывается только после смерти богдыхана. Значит, ты помер, раз корзина открыта. Да и этикета такого нет, – для возвращения богдыхана с кладбища на трон. Кто же в стране будет исполнять наши священные законы, если мы сами первые не соблюдаем этикета! Это прямо грозит гибелью Китаю!
– Конечно, гибелью и ничем больше! – воскликнул и великий жрец. Это противоречит всем святым установлениям нашей небесной религии. Сказано: раз богдыхан умер, – он становится богом. А бог не может быть богдыханом. Богдыхан должен быть смертным, он должен править страной, боясь небесного гнева. А бог – чего он будет бояться? Где же уверенность в его правоте? Это грозит всеобщим недовольством, смутами. Нарушение постановлений религии. Гибель, гибель Китаю!
Богдыхан посмотрел грустно-грустно кругом.
– Ну, что же! – сказал он. – Раз, действительно, это грозит такими бедствиями стране, – делать нечего! Закапывайте. Я не хочу гибели Китая.
– Не следовало делать этой прогулки, радость вселенной! Я всегда говорил, что она принесет тебе несчастье! – сказал Джар-Фу-Цян, кидая первый лопату земли.
За такую прозорливость преемник Сан-Ян-Ки оставил Джар-Фу-Цяна первым министром и дал ему еще больше полномочий.
А Джар-Фу-Цян первое, что сделал, – отрубил головы придворному историку, первому церемониймейстеру и верховному жрецу:
– Уж очень они хитры!
ДОБРЫЙ БОГДЫХАН
Богдыхан Фан-Джин-Дзян, прозванный историками Мун-Су, – что значит «отец народа», – был добрым богдыханом и заботливым о народе. Когда до него доходили слухи, что где-нибудь вице-король обижает подданных, он сейчас же призывал вице-короля и приказывал палачам:
– А ну-ка, снимите с этого молодца голову. Надеюсь, что его узнают на том свете и без головы, по одним его пакостям. И сейчас же назначал, вместо казненного, другого вице-короля, самого лучшего, какого ему советовали советники и министры. Он сам всегда читал все донесения вице-королей. В донесениях писалось, что Китай благоденствует, как еще не запомнит история, – солнце светит удивительно исправно, дожди идут в свое время, и жители не знают, что им делать с рисом. Богдыхан читал все это и думал:
– А не врут ли?
И вот пришла ему в голову мысль.
В назначенный день приказал он собраться во дворец всем своим министрам, советникам и царедворцам, сел на трон и объявил:
– Вице-короли пишут, что Китай наш благоденствует и что китайцы даже не знают, что им делать с рисом. Заботясь о нашем народе, решили мы об этом подумать, помолиться богам и допросить предков: что делать с несъеденным рисом, – так, чтоб это пошло на пользу народу. Посему мы отныне удаляемся во внутренние покои нашего дворца и займемся молитвами, размышлениями и духовными беседами с предками. А так как предков наших, благодарение богам, было не мало, то и полагаем мы, что пройдет не менее трех лун, пока мы с ними со всеми перебеседуем, не обижая никого. И вот, в течение трех лун воспрещаем мы нас беспокоить и являться во дворец кому бы то ни было. Три луны мы останемся невидимы ни для кого, кроме небес!
Министры, советники и придворные восславили мудрость богдыхана и разошлись из дворца радуясь.
А богдыхан, меж тем, позвал преданных своих слуг, переоделся нищим и их переодел, незаметно вышел из дворца и отправился странствовать по Китаю, чтоб узнать, правду ли пишут вице-короли в своих донесениях и действительно ли народ так благоденствует и так ли народ китайский в восторге от правителей.
Первою провинцией на пути богдыхана лежала провинция Пе-Чи-Ли.
Придя туда, богдыхан со своими спутниками подошел к одному дому и попросил:
– Во имя памяти ваших предков, добродетелями своими украшавших землю, а ныне украшающих небо, дайте горсть риса несчастным, умирающим с голода! Ему ответили:
– Судя по тому, что ты нищий, ты из нашей провинции и подданный нашего вице-короля. Но судя по тому, что ты просишь, чтоб мы тебе подали, ты, должно быть, откуда-нибудь издалека. А потому уходи от нас, неизвестный человек.
Богдыхан со спутниками подошел к другому дому. Там ему ответили на просьбу о горсточке риса:
– Нехорошо смеяться над чужим несчастьем! И прогнали прочь.
В третьем доме на просьбу о рисе хозяева только заплакали. А в четвертом при слове «рис» хозяин поднял голову и спросил:
– А кто он? Мандарин или зверь?
Улыбнулся богдыхан и сказал:
– Вице-король Пе-Чи-Ли писал правду. Действительно, если б здешним жителям дать рису, они не знали бы, что с ним делать: ни, кажется, никогда риса и не видели!
И стал он ходить по утрам по храмам, подслушивать, что говорит и о чем молится народ.
Желудки у китайцев были пусты, но храмы полны. Во всех храмах были толпы молящихся. И все повторяли только одну молитву:
– Святые наши предки, умолите небо, чтоб оно внушило нашему мудрому, нашему доброму, нашему заботливому богдыхану Фан-Джин-Дзяну превосходную мысль: отрубить голову нашему вице-королю Тун-Фа-О. Такого мошенника, такого грабителя еще никогда и на свете не было.
Так молились все люди во всех храмах, – как вдруг однажды, придя рано утром в храм, богдыхан увидел особенно горячо молившегося старика.
Все горячо молились, но старик горячее всех. Богдыхан приблизился, чтоб подслушать молитву старика, и услышал.
– Святые наши предки, – молился старик, – внушите нашему доброму, но беспокойному богдыхану Фан-Джин-Дзяну, чтоб он оставил Тун-Фа-О нашим вице-королем на долгие и долгие годы. И да пошлет небо Тун-Фа-О жить до глубокой старости, а там начать жить сызнова.
Диву дался богдыхан и, когда старик кончил молиться, спросил:
– Скажи, почтенный старец, вероятно, вице-король Тун-Фа-О сделал тебе что-нибудь особенно доброе, что ты за него молишься? Старик только усмехнулся:
– Не родилась еще мать матери того человека, которому Тун-Фа-О сделает что-нибудь доброе. Сразу видно, что ты не здешний, иначе бы ты не задавал таких глупых вопросов.
– Ну, может быть, Тун-Фа-О тебе так нравится, – спросил богдыхан, – осанкой, наружностью? Ты его видал?
Старик сотворил молитву предкам.
– Благодарение богам: ни я ему, ни он мне никогда не попадались на глаза!
Богдыхан совсем стал в тупик.
– Почему же в таком случае ты молишься за него, когда все в этой провинции только и молятся, чтоб богдыхан поскорей отрубил Тун-Фа-О голову?
– А это потому, – отвечал старик, – что они еще молоды и глупы, света не знают. А я при третьем вице-короле живу. Был у нас вице-король Цу-Ли-Ку, жадный был человек, жестокий был человек, стоном стонала вся наша провинция. Мы и молились небу с утра до ночи: «Пусть богдыхан отрубит Цу-Ли-Ку голову!» Вняло небо нашим молитвам, шепнуло богдыхану эту мысль. Богдыхан позвал Цу-Ли-Ку в Пекин и приказал отрубить ему голову, а нам прислал вице-королем мандарина Ксанг-Хи-Ту. Еще жаднее оказался Ксанг-Хи-Ту, еще жесточе. Еще сильнее завопила провинция Пе-Чи-Ли, и принялись мы молить богов, чтоб нашептали они богдыхану мысль отрубить Ксанг-Хи-Ту голову. Опять услышало небо наши молитвы, – позвал богдыхан к себе и Ксанг-Хи-Ту и ему отрубил голову, а нам прислал теперешнего Тун-Фа-О, да продлит небо его жизнь на долгие и долгие годы. Пройди всю провинцию вдоль и поперек, ни одного довольного лица не увидишь, ни одного сытого человека не встретишь. Мы сеем слезы вместо риса, и вырастает горе. Вот народ по глупости своей и молит небеса, чтоб они внушили богдыхану мысль отрубить Тун-Фа-О голову. А я человек старый, я боюсь, чтоб небо и впрямь не послушало их советов. Отрубит богдыхан Тун-Фа-О голову и пришлет к нам другого. А как другой-то еще хуже окажется? Хотя я думаю, что хуже Тун-Фа-О и ничего нет, – ну, да ведь поручиться нельзя. Почем знать? Нет, уж пусть этот остается, да продлит небо его жизнь на долгие и долгие годы.
Огорчился богдыхан, выслушав эту повесть, не пошел даже странствовать по другим провинциям и прямо вернулся в Пекин и прошел во дворец.
Созвал он своих министров, советников и царедворцев и сказал:
– Совещание наше с предками продлилось менее, чем мы полагали, потому что предки наши оказались в советах кратки и подали нам все в один голос один благоразумный совет: впредь, что бы ни говорили нам про наших вице-королей, какие бы слухи о них до нас ни доходили, никогда их не менять. Пусть так и будет!
И все восславили мудрость богдыхана. А вице-короли в особенности. А мудрый старик из провинции Пе-Чи-Ли больше всех.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮН-ХО-ЗАНА
Богдыхан Юн-Хо-Зан, о котором шла уже речь, был добрым и справедливым богдыханом. По крайней мере, стремился быть таким. Стремился всеми силами своей доброй, молодой души. Он был заботлив о народе.
Когда устраивались придворные празднества, фейерверки, большие шествия с фонариками, музыка и танцы, или когда в гарем богдыхана привозили новых невольниц, – Юн-Хо-Зан отказывался от всех этих удовольствий:
– Разве затем небо послало меня на землю, чтобы предаваться праздности и забавам?
Это воздержание богдыхана ужасно беспокоило придворных мандаринов.
– Не повредил бы он этим себе… да и нам! – говорили они, качая головами в знак тяжкого раздумья.
Юн-Хо-Зан проводил все время в чтении тех писем и донесений, которые писали ему мандарины, управлявшие Китаем. А мандарины писали всегда одно и то же. Так что, распечатывая письмо, Юн-Хо-Зан заранее уже знал, что в нем написано.
«Солнце освещает счастливейшую из стран!» – начиналось каждое письмо.
Так что Юн-Хо-Зан даже возроптал:
– Мне уже надоело это «освещающее солнце». Нельзя ли писать как-нибудь поразнообразнее?
И мандаринам было запрещено во всей стране, под страхом наказания бамбуками по пяткам, употреблять выражение:
«Солнце освещает». Все стали говорить:
– Солнце светит на счастливейшую из стран. Но и это надоело Юн-Хо-Зану. От долгого чтения мандаринских писем он и во сне только видел, что эти слова.
Ему снилось, что он бродит по своему дворцу, – и на всех стенах, потолках, полах было написано, выткано, выжжено: «Солнце светит на счастливейшую из стран». Это ему наскучило, и он выбежал из дворца. Он бежал долго, и когда оглянулся, то увидал, что на полях растут не травы и цветы, а письменные знаки, – и из этих знаков составляются слова:
«Солнце светит на счастливейшую из стран». И река, которая протекала по долине и сверкала золотой чешуей, делала бесчисленные изгибы и этими изгибами выписывала на земле:
«Солнце светит на счастливейшую из стран». – Солнце светит! Солнце светит! – свистали в кустах малиновки.
А дятлы в лесу долбили деревья и доканчивали фразу:
– На счастливейшую из стран!
– Солнце светит! – прокуковала вдали кукушка.
– На счастливейшую из стран! – ответило ей эхо. Ветерок пробежал, и листья зашептали смеясь:
– Солнце светит на счастливейшую, на счастливейшую, на счастливейшую из стран.
В ужасе богдыхан упал на колени и обратил взоры к небу. Но и на небе было написано то же: «Солнце светит» и т. д. А солнца-то на небе и не было.
Обеспокоенный страшным сном, Юн-Хо-Зан призвал к себе сверстников, преданных друзей детства, которые, в числе 12, по китайскому обычаю, воспитываются вместе с будущим богдыханом и получают за него все наказания.
– Правда ли это? Вот будто бы солнце светит и т. д. Я богдыхан, этикет запрещает мне выходить из дворца, а вы люди вольные, гуляете, где хотите, все видите, можете все знать. Именем неба и нашей дружбой заклинаю вас, скажите мне всю правду.
Друзья переглянулись:
– Правду?
– Знаешь ли ты, сын неба, что такое бамбук? – спросил самый любимый из них.
– Как не знать! – воскликнул Юн-Хо-Зан. – Я часто вижу бамбук в моем саду и люблю отдыхать под его тенью. Высокий, развесистый, тенистый кустарник!
– Вот, вот! Тенистый. С тех пор, как на земле стал расти бамбук, правде очень трудно светить на землю. Потому что у всякого человека есть пятки. Отдыхай себе мирно в тени бамбука, сын неба, и не задавай простым людям таких вопросов.
– Мы скажем тебе одно. Мандарины говорят тебе другое. Почем ты будешь знать, кто говорит правду? – добавил второй друг детства. Чтоб узнать, на чьей стороне правда, надо видеть все своими глазами!
– Отлично! – сказал Юн-Хо-Зан и приказал созвать всех своих придворных мандаринов.
– Вы знаете, – обратился он к мандаринам, – как я занимаюсь делами правления. Мандарины поклонились.
– Вчера в первый раз в жизни я зашел случайно в мой гарем, и жалость наполнила мою душу. Жалость и раскаяние. Мой гарем похож на прекрасный цветник, которого никогда не орошает благодетельная роса. Вянут и гибнут прекрасные цветы. Должен ли я так поступать? Не один ли раз мы живем на свете? Разве вернется молодость? А потому и решил я вознаградить себя за потерянное время и с сегодняшнего дня отдаться удовольствиям и забавам. С сегодняшнего дня отменяю я все донесения и все представления. Я удаляюсь в свой гарем и запрещаю меня тревожить государственными делами. Три года я пробуду там среди веселья и удовольствий. На три года прощайте!
– Твое решение премудро и благодетельно! – воскликнул придворный философ. – Какой прекрасный пример подаешь ты всем китайцам: жить в веселье. Отныне веселье наполнит нашу страну!
А придворный историк добавил:
– Твой пра-пра-пра-прадед Цян-Лян-Дзыр тоже начал с того, что занимался делами государства, а кончил тем, что ушел в свой гарем. Поступая так, ты следуешь примеру предков.
И по всей стране наступил настоящий праздник. Придворные мандарины отписали своим родственникам, мандаринам в провинции:
«Богдыхан принял премудрое решение: запереться в гарем, и не будет заниматься делами. Больше не надо писать даже донесений, а жалованья остаются все те же».
И все мандарины устроили по всей стране кто фейерверки, кто танцы.
А Юн-Хо-Зан, между тем, удалившись во внутренние покои, сказал друзьям детства:
– Я требую новой услуги от вашей дружбы. Теперь превратите меня из богдыхана в простого китайца. Вы знаете, какие они бывают с вида. Я же никогда не видал простого китайца. В таком виде я обойду всю страну и своими глазами увижу все, правду, не заслоненную тенью бамбука. Благо никто из китайцев никогда меня не видал и не узнает, – мне будет нетрудно это сделать.
Друзья детства переглянулись в смущении.
– Это трудно будет сделать, сын неба, – сказал самый любимый из них, – прежде всего у тебя, как у богдыхана, нет косы. А каждый простой китаец должен иметь косу!
– Так привяжите мне косу! – смеясь ответил богдыхан.
– Косу-то привязать, конечно, не трудно! – отвечал второй друг детства. – Но что же сделать с походкой? Ты ходишь прямо, как подобает сыну неба. А у простого китайца походка не такая, потому что их бьют бамбуками по пяткам. Простой китаец ходит особенно, с перевалочкой, боясь наступить на пятку.
– Вот так? – рассмеялся Юн-Хо-Зан и прошелся по комнате на цыпочках, словно у него пятки отбиты бамбуками. – Так я и буду ходить!
– Да, но ты можешь забыться, пойдешь прямо, и тебя сразу узнают по походке, сын неба! – заметил третий друг детства.
– В таком случае, отколотите меня бамбуками по пяткам, – вот и все! – воскликнул Юн-Хо-Зан.
Друзья пришли в невероятное смущение и повалились на землю.
Богдыхана?!
– «Никакая цена не высока для мудреца, желающего приобрести истину», – говорит Конфуций. Нечего валяться на полу. Вставайте-ка, да принимайтесь за дело! – весело воскликнул Юн-Хо-Зан. – Посмотрим, что это за удовольствие!
Послушные воле богдыхана, друзья детства тут же отсчитали Юн-Хо-Зану 100 ударов по пяткам, быть может, даже с несколько излишним усердием. По крайней мере, Юн-Хо-Зан, встав после этого на цыпочки, сказал:
– Однако! Как, должно быть, вам было больно, когда вас наказывали за меня!
Впрочем, он сейчас же поборол боль и приказал:
– Теперь подайте мне простое, скромное, но приличное платье и положите мне немного денег в карманы.
И когда переодеванье было окончено, Юн-Хо-Зан весело сказал:
– Теперь богдыхана Юн-Хо-Зана на три года не существует. Есть простой молодой китаец Юн-Хо, только что окончивший курс Конфуциевых наук и уже получивший бамбуками по пяткам. До радостного свидания, друзья мои! На три года!
И весело, на цыпочках, вышел из дворца. Ранним утром, свежим и радостным, входил Юн-Хо-Зан в один из своих городов.
Город был маленький, а при входе в него, с обеих сторон заставы, стояли два огромных-огромных здания за высокими-высокими заборами.
– Что это такое? – спросил Юн-Хо-Зан, указывая на здание направо.
– Тюрьма! – отвечали ему. – А это?
– Здесь сидят лишившиеся рассудка.
– Такой маленький городок, и такие большие тюрьма и сумасшедший дом! – рассмеялся Юн-Хо-Зан. – Этот город напоминает горбуна, у которого горб больше его самого!
– Таковы все города в нашей стране. Все так построены! – отвечали прохожие.
– Ну, с сумасшедшими мне делать нечего! – сказал себе Юн-Хо-Зан. – А тюрьму посмотрим, – какие-такие пороки в этом городе, что потребовалась такая тюрьма, в которую можно посадить его весь?
Он отправился к мандарину, смотрителю тюрьмы, и сказал:
– Прости, что утруждаю твою милость. Но Конфуций приказал: «Встретив богача, не проси у него денег, – но встретив мудрого, непременно попроси у него слова».
Мандарину понравились эти слова, и он сказал:
– Судя по всему, ты человек неглупый и ученый. С тобой беседовать стоит. Спрашивай.
– Я чужестранец! – с поклоном сказал Юн-Хо-Зан. – И мне бы хотелось знать, какими пороками отличается этот маленький город, если потребовалась такая огромная тюрьма? За что сидит, например, вот этот?
Он указал на одного узника.
– Этот? Он убил своего отца! – отвечал мандарин.
– А! Такого человека следует держать в тюрьме! – сказал Юн-Хо-Зан. – А этот?
– Этот по злобе поджег дом своего соседа.
– Тоже поделом. А этот?
– Этот резал и грабил людей по большим дорогам.
– Отлично сделали, что посадили. А этот?
– У этого нет косы.
– Косы?
– Косы! Он говорит, что у него кто-то отрезал ее у сонного, в насмешку или из злобы.
– Но он совершил что-нибудь преступное?
– Ничего, кроме того, что у него косы нет.
– Дурное?
– Ничего дурного за ним не знаем. Косы нет, – говорю тебе: кажется, ученый человек, а приходится одно и то же повторять десять раз!
– Прости меня. Но, может быть, этот человек добродетельный?
– Может быть. Почем знать! Но у него нет косы, его стража и забрала. Я держу его, брею ему голову, по утрам бью бамбуками по пяткам, – и буду так делать, пока у него не вырастет коса!
– Как же у него может вырасти коса, когда ты бреешь ему голову? в величайшем изумлении воскликнул Юн-Хо-Зан.
– Я действую на основании законов! – строго и с достоинством отвечал мандарин. – Статья двенадцать миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч двести тридцать девять говорит: «Каждый китаец должен иметь косу», а статья двадцать семь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи триста семьдесят пять говорит: «Каждому сидящему в тюрьме надо брить голову». Я и соблюдаю законы… Да ты уж не собираешься ли рассуждать о законах? Так вот что я тебе скажу, молодой ты еще человек! Судя по твоей походке, ты, кажется, изведал уже, что такое бамбуки. Смотри, чтоб не пришлось тебе отведать этого еще раз. Благодари еще богов, что у тебя есть коса! Ступай-ка отсюда, да когда пройдешь город, посмотри направо; там растет отличная бамбуковая роща. Посмотри на нее попристальнее! Ничто так не полезно молодому человеку, как созерцание бамбуковых рощ.
Юн-Хо-Зан поспешил откланяться и ушел. «Гм! – думал он. – Если так поступают: голову бреют и ждут, пока коса не вырастет, – я понимаю, что при таких порядках многие сходят с ума, и для чего потребовался такой большой сумасшедший дом!» И он зашагал по городу, думая:
«Как бы довести до всеобщего сведения о несообразностях, творящихся в тюрьме? Узнают и, конечно, прекратят».
Во время таких дум взор его упал на вывеску, на которой большими черными знаками было начертано:
«Летопись современных дел. Пишется лучшими летописцами и рассылается каждый день всем желающим за недорогую плату».
– Это достойно быть занесенным в летопись, – сказал себе Юн-Хо-Зан и зашел в дом, на котором красовалась такая вывеска.
Его встретил весь перепачканный в туши главный летописец, ласково приветствовал, усадил, угостил чаем и сказал:
– Да будет благословен день, в который ты зашел в нашу хижину, молодой человек! Я сразу полюбил тебя, как сына моего отца. Что угодно будет приказать тебе? Ты хочешь, вероятно, чтоб мы присылали тебе каждый день наши летописи? Благая мысль. Нам кстати нужны деньги, и мы возьмем с тебя недорого!
– Благодарю тебя за чай и за ласку! – отвечал, вставая пред ним, Юн-Хо-Зан. – Но я чужестранец, в городе не остаюсь и летописи мне получать некуда. Я пришел с другой целью. Я сам человек ученый, знаю шестьдесят шесть тысяч знаков и могу написать тушью на бумаге все, что думаю. Я хочу написать в вашу летопись сам интересную страницу, чтоб, прочитав, все знали, а узнавши, прекратили пагубное недоразумение.
Испачканный тушью человек, после таких слов, стал менее ласков, но все же, соблюдая вежливость, сказал:
– Сядь снова и скажи!
Юн-Хо-Зан рассказал ему, что видел в тюрьме. Уже с первых слов Юн-Хо-Зана испачканный тушью человек вскочил и плотно запер все окна и двери, а когда Юн-Хо-Зан кончил свой рассказ, он схватился за голову, в знак отчаяния, и горестно воскликнул:
– Ты хочешь погубить себя и нас, жестокий ты человек! Как? Написать такую вещь тушью на бумаге и вырезать с этого доску и с доски сделать оттиск и вклеить это в нашу «Летопись» и разослать всем?! Тогда возьми лучше просто убей моих детей! За что ты хочешь погубить голодной смертью несчастных малюток?
– Как? – спросил Юн-Хо-Зан. – Ты думаешь, что все после этого отвернутся от твоей летописи? Но ведь это правда, и это, я думаю, достойно быть занесено в летопись.
– Разве я тебе не верю? Разве я с тобой не согласен? – держась за голову, воскликнул человек, испачканный тушью. – Но нам позволено писать только о погоде!
– Как о погоде?
– Исключительно о хорошей погоде. Раньше мы писали также и о дурной, но потом мандарины запретили: «Если им запрещено осуждать то, что творится на земле, то как же они смеют так свободно писать о небе?» И с тех пор мы пишем каждый день о хорошей погоде. Описываем блестящий восход солнца даже в пасмурные дни и воспеваем вечерний ветерок, который тихо шелестит в кустах…
– Даже тогда, когда свищет вихрь и ревет ураган? Как же вы ухитряетесь делать это?
– Навык, мой молодой друг, навык. У нас есть летописцы, умеющие на одну тысячу манер описывать капельку росы и знающие восемьдесят восемь прилагательных к слову «куст». Есть удивительные искусники и даже зарабатывают на этом хорошие деньги.
– И сколько лун вы пишете все про погоду?
– Я – шестьсот. Да мой отец писал семьсот двадцать пять лун, да мой дед восемьсот тридцать две.
– И вам не надоест?
– Мы любим наше дело! – с гордостью отвечал человек, испачканный тушью.
– Что же мне, однако, делать? – спросил Юн-Хо-Зан. – И как довести о такой несправедливости до сведения высших? Этого так оставить нельзя!
– Попробуй, сходи к верховному мандарину нашего города!
Юн-Хо-Зан пошел с такой быстротой, с какой может идти человек, боящийся ступить на пятку.
В доме главного мандарина стоял крик и плач, когда к нему подошел Юн-Хо-Зан. Кричал один голос, а плакали многие.
– Мандарин сейчас занят, – сказали Юн-Хо-Зану прислужники, – он ругает китайцев. Подожди, пока кончит.
– За что ж он их ругает? – спросил Юн-Хо-Зан.
– А так. Чтобы чувствовали почтенье! – отвечали ему. – Делается это так. На восходе солнца к дому мандарина сходятся просители. Младшие мандарины, между тем, когда главный мандарин проснется, рассказывают ему содержание просьб и так раскаляют сердце мандарина, что, когда солнце доходит до полудня, он, как тигр, вылетает к просителям, кричит, ругается, топочет ногами и грозит извести на них целую рощу бамбуков. Просители от этот чувствуют почтение к власти.
– Но они чувствовали бы еще больше почтения, если бы мандарин без крика и шума спокойно и справедливо разбирал их жалобы! – сказал Юн-Хо-Зан.
– Эге! – воскликнули прислужники. – Уж не во время ли прогулки в бамбуковом лесу пришла тебе в голову эта мысль? В это время мандарин кончил кричать на прочих китайцев, и к нему позвали Юн-Хо-Зана.
Терпеливо выслушал Юн-Хо-Зан весь крик, с которым на него накинулся мандарин, поклонился и сказал:
«Когда мудрый говорит глупости, он все же умнее, чем самое умное, что скажет дурак», – говорит Конфуций. Мандарин улыбнулся:
– Это мне нравится. Ты, видно, человек неглупый и кое-что знаешь. Говори, в чем твое дело!
Юн-Хо-Зан рассказал ему о том, что видел и слышал в тюрьме.
– Гм… А у него действительно нет косы? – спросил мандарин, когда Юн-Хо-Зан кончил свой рассказ.
– Как же у него будет коса, когда ему каждую неделю бреют голову! – воскликнул Юн-Хо-Зан.
– В таком случае, это не мое дело! – сказал мандарин. – Если бы у него была коса, – мое дело посмотреть: настоящая коса или фальшивая. А раз косы нет, – это дело мандаринов-судей. К ним и иди.
Юн-Хо-Зан откланялся и поспешил в дом, где судили. Дом, где судили, был мрачный дом. Так и казалось, что вот-вот сейчас из-за угла выскочит человек, схватит и начнет бить по пяткам.
Преодолев, однако, все страхи, Юн-Хо-Зан прошел в ту комнату, где сидели мандарины-судьи.
Перед ними на коленях стоял человек, обвинявшийся в краже палки у соседа. С одной стороны этого человека стоял мандарин, который его ругательски ругал и всячески поносил. А с другой – стоял мандарин, который всячески восхвалял этого человека. Они спорили, а мандарины-судьи – кто слушал, кто рассматривал узоры на потолке.
– Палка! Палка! – кричал мандарин, ругавший подсудимого. – Не в палке дело, почтенные мандарины, а в том, зачем он ее взял. Это негодяй! Завзятый негодяй! Он на все способен! Он взял палку затем, чтобы убить своего отца и мать! Вот зачем! И я надеюсь, справедливые мандарины, что вы накажете его не за кражу, а по всей справедливости за отцеубийство. То есть, прикажете его разрезать на одну тысячу кусочков!
– Кража! Кража! – кричал мандарин, восхвалявший подсудимого. Тут кражи нет, а есть доброе дело. У кого взял этот человек палку? У соседа. А кто сосед? Негодяй, известный курильщик опия, безумный. Этот безумный негодяй, накурившись опия, исколотил бы палкой насмерть свою жену и детей. Жалея несчастных, этот человек и взял потихоньку палку у негодяя. Не казнить его надо, добродетельного человека, а поблагодарить. И я уверен, справедливые мандарины, что этот добрый человек не уйдет от вас без похвалы и награды. А что касается до отцеубийства, то, справедливые судьи, у него и отец и мать давно уже умерли. Кого же убивать-то?!
– А, умерли? – закричал мандарин-ругатель. – Тем хуже! Значит, он взял палку, чтобы раскопать их могилы. Осквернение памяти предков! Значит, вы присудите его прежде, чем разрезать на одну тысячу кусков, распилить тупой пилой надвое!
– Зачем они говорят все это? – удивился Юн-Хо-Зан, обращаясь к знающему, по-видимому, все эти дела человеку. – Человек украл палку, ну, и суди его за кражу палки. А зачем же один обвиняет его в отцеубийстве, а другой говорит о добродетели.
– А таков порядок, – отвечал знающий в делах толк человек, – один тянет истину к себе, другой – к себе, а, в конце концов, она и остановится прямо перед судьями! Один будет непомерно запрашивать, а другой – невероятно сбавлять. Мандаринам-судьям настоящая цена и выяснится.
– Странный обычай! – сказал Юн-Хо-Зан, и подождав, пока дело о палке кончилось, обратился к мандаринам со своим делом.
Мандарины выслушали его, одни – прислушиваясь к тому, что он говорил, другие – рассматривая узоры на потолке, и в один голос воскликнули: – Закон!
– Да тут два закона! – возразил Юн-Хо-Зан. – Один – иметь косу, другой – брить голову. Какой же закон должен быть исполнен?
– Оба. Все законы всегда должны исполняться! – отвечали в один голос мандарины. – Мы затем и приставлены, чтобы все законы всегда исполнялись.
– Все! – уже в испуге воскликнул Юн-Хо-Зан и поспешил, насколько пятки позволяли, поскорее убраться.
«Уж если от применения двух законов человека каждый день бамбуками по пяткам, – что же будет, если к нему применить сразу все!» – думал он.
«Нет, со старыми китайцами нам друг друга не понять! – решил Юн-Хо-Зан. – Видно, оттого, что я сам молодой человек. Поговорить-ка мне с теми, которые помоложе!»
И увидав бегущего из школы школяра, он приветствовал его, как должно:
– Здравствуй, племянник моей тетки!
– Привет тебе, истребитель монгольской саранчи, многоженец, похитивший всех принцесс мира, окровавленный воин, дракон, дышащий огнем! – отвечал школьник на таком древнем китайском языке, каким говорили только за сто двадцать тысяч лун.
– В наше время эти слова звучат уже как ругательства! – улыбнулся Юн-Хо-Зан. – Кто научил тебя таким скверным словам?
– А в школе! – с гордостью отвечал школьник. – У нас этот язык только и учат.
– Напрасно! – сказал Юн-Хо-Зан. – Лучше бы вас учили приветливо разговаривать с современниками на современном языке. А на этом придется говорить разве только на том свете, при встрече с каким-нибудь древним героем. Чему еще учат вас в школе?
– Истории родной страны! – с гордостью отвечал школяр.
– А, это прекрасная наука! – сказал Юн-Хо-Зан. – Всегда приятно вспомнить о доблести и славе предков. Расскажи мне что-нибудь хорошее!
– Что же тебе рассказать получше? За двадцать четыре тысячи лун до нас жил богдыхан Да-Гуан-Су и истребил в своей жизни четыре миллиона людей. За двенадцать тысяч лун жил богдыхан Бай-И-Шан, отличавшийся жестокостью и казнивший два миллиона китайцев. За шесть тысяч лун жил богдыхан Цянь-Лянь-Цзыр, у которого был самый большой гарем. Он был сластолюбив.
Юн-Хо-Зан, в знак горя, схватился за голову. – Замолчи, малютка! Какой негодяй рассказал тебе одни только гадости про родную страну!
Но в это время страж схватил сзади Юн-Хо-Зана за косу.
– Эге! о чем ты беседуешь с молодым китайцем? Какие мысли внушаешь?
И с такой силой потянул Юн-Хо-Зана, что привязанная коса отлетела.
– Разбойник! – завопили все кругом. – Без косы.
А страж, моментально заколотив Юн-Хо-Зана в колодки, потащил его к главному мандарину.
– Вот какого злодея я поймал! – воскликнул он, падая пред мандарином на колени.
– Эге! Знакомая ласточка! – воскликнул мандарин. – Вот он кем оказался! То-то я давеча смотрю: приходит и как негодяй в чужие дела вмешивается! Ты что же это? По тюрьмам шляешься, – место себе выбираешь? В «Летопись» возмутительную страницу вписать хотел? Школяров на улице ловишь и, что не следует, говоришь? Дать ему от меня сто ударов по пяткам, и так как он без косы, – тащи его в суд! Дело не мое.
Мандарины-судьи встретили Юн-Хо-Зана, как старого знакомого.
– А! Тот самый молодчик, который что-то насчет применения законов полагал? И без косы, и полагает! Мандарин, который бранит подсудимых, кричал: – То-то он давеча ворчал насчет отцеубийства. Сам он, должно быть, родного отца убил, справедливые мандарины!
И даже мандарин, который должен всех хвалить, ничего не нашелся сказать в похвалу Юн-Хо-Зана:
– Что я, справедливые мандарины, скажу? Сами видите, – человек без косы!
Юн-Хо-Зана отвели в тюрьму, выбрили начисто голову, и мандарин-смотритель сказал:
– Сиди тут, пока коса не вырастет. А я тем временем буду тебе голову брить. Говорил утром: прогуляйся к бамбуковой роще. Не захотел – она теперь по твоим пяткам прогуляется.
Тут Юн-Хо-Зан больше не выдержал и в страшном гневе воскликнул:
– Довольно! Знаете вы, кто я? Я – богдыхан! Все так и покатились со смеха.
– Да это сумасшедший! – сказали одни. – Посадить его напротив, в сумасшедший дом!
– Самозванец! – решили другие. – Отрубить ему голову! Последнее мнение одержало верх.
Так прекратилась династия Мингов[24] в Китае. Три года ждали возвращения Юн-Хо-Зана в Пекине, а через три года избрали ему преемником манчжура Ло-То-Жоу.
СОВЕСТЬ
Случилось это в давнишние, давнишние, незапамятные времена, когда и летописей-то еще не писалось! Случалось и тогда людям делать глупости, но никто их глупостей не записывал. Оттого, может быть, мы и считаем наших предков мудрыми.
В те незапамятные времена и родилась на свет Совесть. Родилась она тихою ночью, когда все думает. Думает речка, блестя на лунном свете, думает тростник, замерши, думает трава, думает небо. Оттого так и тихо.
Днем-то все шумит и живет, а ночью все молчит и думает. Каждая куколка думает, с какими бы пестрыми разводами ей выпустить бабочку. Растения ночью выдумывают цветы, соловей – песни, а звезды – будущее.
В такую ночь, когда все думало, и родилась Совесть. С глазами большими, как у ночных птиц. Лунный свет окрасил ее лицо бледным цветом. А звезды зажгли огонь в глубине ее очей.
И пошла Совесть по земле.
Жилось ей наполовину хорошо, наполовину плохо. Жила, как сова.
Днем никто с ней не хотел разговаривать. Днем не до того.
Там стройка, там канаву роют. Подойдет к кому – тот от нее и руками и ногами: – Не видишь, что кругом делается? Тут камни тащат, тут бревна волокут, тут лошади ездят. Тут надо смотреть, как бы самого не раздавили. Время ли с тобой разговаривать! Зато ночью она шла спокойно. Она заходила и в богатые фарфоровые дома, и в шалаши из тростника. Тихонько дотрагивалась до спящего. Тот просыпался, видел ее в темноте горящие глаза и спрашивал:
– Что тебе?
– А ты что сегодня делал? – тихонько спрашивала Совесть.
– Что я делал! Ничего, кажется, я такого не делал!
– А ты подумай. – Разве вот что…
Совесть уходила к другому, а проснувшийся человек так уж и не мог заснуть до утра и все думал о том, что он делал днем. И многое, чего ему не слышалось в шуме дня, слышалось в тишине задумавшейся ночи. И мало кто спал. Напала на всех бессонница.
Даже богатым ни доктора, ни опиум помочь не могли. Сам мудрый Ли-Хан-Дзу не знал средства от бессонницы. У Ли-Хан-Дзу было больше всех-денег, больше всех земли, больше всех домов. Потому люди и думали: – Раз у него всего больше всех, – значит, у него больше всех и ума!
И звали Ли-Хан-Дзу премудрым. Но и сам премудрый Ли-Хан-Дзу еще больше других страдал от той же болезни и не знал, что поделать.
Кругом все были ему должны, и все всю жизнь только и делали, что ему долг отрабатывали. Так мудро Ли-Хан-Дзу устроил.
Как мудрый человек, он всегда знал, что надо делать. Когда кто-нибудь из должников крал у него что и попадался, Ли-Хан-Дзу колотил его, – и колотил, по своей мудрости, так примерно, чтоб и другим неповадно было.
И днем это выходило очень мудро: потому что другие действительно боялись.
А по ночам Ли-Хан-Дзу приходили иные мысли: – А почему он ворует? Потому что есть нечего. А почему есть нечего? Потому что заработать некогда: он весь день только и делает, что мне долг отрабатывает. Так что мудрый Ли-Хан-Дзу даже смеялся.
– Вот хорошо! Выходит, меня же обворовали, я же и не прав!
Смеялся, – а заснуть все-таки не мог. И до того его бессонные ночи довели, что Ли-Хан-Дзу, – несмотря на всю свою мудрость, однажды взял, да и объявил: – Верну я им все их деньги, все их земли, все их дома! Тут уж родные мудрого Ли-Хан-Дзу вой подняли: – Это с ним от бессонницы. От бессонных ночей на мудрого человека безумье напало! И доктора сказали то же. Пошел шум: – Все «она» виновата! Если уж на мудрейшего из людей безумье напало, что же с нами будет? И испугались все: и богатые, и бедные. Все жалуются:
– И меня «она» бессонницами мучает!
– И меня!
– И меня!
Бедные испугались еще больше, чем богатые:
– У нас всего меньше всех, значит, и ума меньше. Что же с нашими умишками будет?
А богатые сказали:
– Видите, как «она» бедных людей пугает, надо нам хоть за бедных вступиться!
И все стали думать, как бы от Совести отделаться. Но с кем ни советовались, ничего выдумать не могли.
Жил тогда в Нанкине А-Пу-О, такой мудрый и такой ученый, что равного ему по мудрости и учености не было во всем Китае. Решили люди:
– Надо у него совета спросить. Кроме него, никто помочь не может!
Снарядили посольство, принесли дары и до земли много раз поклонились.
– Помоги от бессонницы!
Выслушал А-Пу-О про народное горе, подумал, улыбнулся и сказал:
– Можно помочь! Можно и так сделать, что «она» даже и приходить не будет иметь права!
Все так и насторожились. А-Пу-О опять улыбнулся и сказал:
– Давайте сочинять законы. Где ж темному человеку знать, что он должен делать, чего не должен? Вот и давайте – напишем на святках, что человек должен делать и чего нет. Мандарины будут учить законы наизусть, а прочие пусть к ним приходят спрашивать: можно или нельзя. Пусть тогда «она» придет: «Что ты сегодня делал?» – «А то делал, что полагается, что в свитках написано». И будут все спать спокойно. Конечно, прочие будут мандаринам платить: не даром же мандарины будут себе мозги законами набивать!
Обрадовались тут все.
Мандарины – потому что все-таки легче в книжных значках ковыряться, чем, например, в земле.
А прочие – что лучше уж мандарину заплатить да днем с ним минутку поговорить, чем по ночам с «ней» разговаривать.
И принялись писать все, что человек должен делать и чего он не должен. И написали.
А мудрого А-Пу-О сделали верховнейшим из мандаринов. И зажили люди отлично. Даже с лица поправляться стали.
Нужно человеку что сделать, он сейчас к мандарину, выкладывает перед ним приношение:
– Здравствуй, премудрый! Разворачивай-ка свитки, – что в таком случае делать надлежит?
Зайдет спор, оба к мандарину идут, оба приношения выкладывают:
– Разворачивай свитки. Кто по ним выходит прав? Только уж самые последние бедняки, у которых даже мандарину за совет заплатить было нечем, бессонницей страдали.
А прочие, как только к ним приходила ночью Совесть, говорили:
– Что ты к нам лезешь! Я по законам поступал! Как в свитках написано! Я не сам! Переворачивались на другой бок и засыпали.
Даже мудрец Ли-Хан-Дзу, который больше всех от бессонницы страдал, теперь только посмеивался, если к нему ночью Совесть приходила:
– Здравствуй, красавица! Что скажешь?
– Что ж, ты имущество возвращать хотел? – спрашивала Совесть, глядя на него глазами, в которых мерцали звезды.
– А имею я право? – похохатывал Ли-Хан-Дзу. – А что в свитках сказано? «Имущество каждого принадлежит ему и его потомству». Как же я буду чужое имущество расточать, если мое потомство на раздачу не согласно? Выходит, или я вор, у них краду, или сумасшедший, потому что у себя ворую. А в законе сказано: «Вора и сумасшедшего сажать на цепь». А потому и меня оставь спать спокойно, да и тебе советую лучше спать, а не шататься!
Поворачивался к ней, спокойно и сладко засыпал. И всюду, куда ни приходила Совесть, она слышала одно и то же:
– Почем мы знаем! Как мандарины говорят, так мы и делаем. У них поди и спрашивай! Мы – по закону.
Пошла Совесть по мандаринам:
– Почему меня никто слушать не хочет?
Мандарины смеются:
– А законы на что? Разве можно, чтобы люди тебя слушались и так поступали! А не поймет кто тебя, а перепутает, а переврет? А тут для всех тушью на желтой бумаге написано! Великая штука! Недаром А-Пу-О за то, что это выдумал, верховнейшим мандарином числится.
Пошла тогда Совесть к самому премудрому А-Пу-О. Дотронулась до него слегка и стала. Проснулся А-Пу-О, вскочил:
– Как ты смеешь ночью без спроса в чужой дом являться? Что в законе написано? «Кто явится ночью тайком в чужой дом, того считать за вора и сажать его в тюрьму».
– Да я не воровать у тебя пришла! – отвечала Совесть. – Я Совесть!
– А по закону ты развратная женщина. Ясно сказано: «Если женщина ночью является к постороннему мужчине, – считать ее развратной женщиной и сажать ее в тюрьму!» Ты развратница, значит, если не воровка?
– Какая я развратница! – воскликнула Совесть. – Что ты?!
– Ах, ты, значит, не развратница и не воровка, а просто не хочешь исполнять законов? В таком случае и на это закон есть: «Кто не хочет исполнять законов, – считать того беззаконником и сажать в тюрьму». Гей, люди! Заколотить-ка эту женщину в колодки, да посадить за решетку на веки вечные, как развратницу, подозреваемую в воровстве и уличенную в явном неповиновении законам.
Наколотили Совести на руки колодки и заперли. С тех пор она уж, конечно, ни к кому больше не является и никого не беспокоит. Так что даже совсем про нее забыли.
Разве иногда какой грубиян, недовольный мандаринами, крикнет:
– Совести у вас нету!
Так ему сейчас бумагу покажут, что Совесть под замком сидит.
– Значит, есть, если мы ее под замком держим!
И грубиян смолкнет: видит, что действительно правы! И живут люди с тех пор спокойно, спокойно.
ГУСЛЯР
Богдыхан Дзин-Ла-О, да будет его память священна для всего мира, который только носит косы, – был мудрый и справедливый богдыхан.
Однажды он призвал к себе своих приближенных и сказал им: – Я хотел бы знать имя величайшего злодея во всем Пекине, – чтоб наказав его примерно, устрашить злых и поощрить к добродетелям добрых.
Придворные поклонились в ноги и отправились. Три дня и три вечера ходили они по Пекину, посещали базары, чайные дома, курильни опиума, храмы и вообще места, где толпился народ. Внимательно прислушивались.
А на четвертый день пришли к богдыхану, поклонились в ноги и сказали:
– Мы сделали все, что нам только позволяли наши слабые силы, чтоб исполнить твою небесную волю. И исполнили.
– Знаете ли вы теперь величайшего злодея в Пекине? – спросил богдыхан.
– Да, повелитель вселенной. Мы его знаем. – Его имя? – Тзянь-Фу.
– Чем же занимается этот негодяй? – воскликнул, вскипев благородным негодованием, богдыхан.
– Он играет на гуслях! – ответили посланные.
– Какие же преступления совершает этот гусляр? Он убивает людей? – спросил богдыхан.
– Нет.
– Он грабит?
– Нет.
– Он крадет?
– Нет.
– Да что же, наконец, такое невероятное делает этот человек? воскликнул богдыхан, теряясь в догадках.
– Ровно ничего! – ответили посланные. – Он только играет на гуслях. И славно играет, надо сознаться. Сам ты, владыка солнца и повелитель вселенной, не раз изволил слушать его игру и даже одобрять ее.
– Да, да! Теперь я припоминаю! Гусляр Тзянь-Фу! Припоминаю. Отличный гусляр! Но почему же вы считаете его величайшим злодеем в Пекине?
Придворные поклонились и отвечали:
– Потому что его ругает весь Пекин. «Негодяй Тзянь-Фу»! «Мошенник Тзянь-Фу»! «Злодей Тзянь-Фу»! – только и слышишь на каждом шагу. Мы обошли все храмы, все базары, все чайные дома, все места, где толпится народ, – и всюду все только и говорили, что о Тзянь-Фу. А говоря о нем, только и делали, что его ругали.
– Странно! – воскликнул богдыхан. – Нет, тут что-нибудь да не так!
И он решил сам расследовать загадочное дело. Переоделся простолюдином и в сопровождении двух тоже переодетых телохранителей отправился странствовать по улицам Пекина. Он пришел на базар.
Утренний торг кончился, торговцы складывали свои корзины и болтали между собой.
– Негодяй этот Тзянь-Фу! – кричал один из торговцев. – Он опять вчера вечером на празднике, по случаю новолунья, играл печальную песню. Что бы ему сыграть что-нибудь веселое!
– Да как же! Ждите! – злобно захохотал другой. – Разве этот негодяй может играть веселые песни! Весел тот, у кого душа бела, как цветок чайного дерева. А у этого мошенника душа черна, как тушь. Вот он и играет печальные песни.
– Как только не повесят такого злодея! – воскликнул кто-то в толпе.
– Его надо распилить тупой пилой пополам, и непременно вдоль! поправил сосед.
– Нет, привязать к двум лошадям за руки и за ноги и так разорвать!
– Посадить в мешок с давно не кормленными кошками!
И все кричали:
– Злодей Тзянь-Фу! – Негодяй Тзянь-Фу! – Как его терпит земля!
Богдыхан пошел в чайный дом.
Посетители сидели на циновках и пили чай из крошечных чашечек.
– Добрый день, добрые люди! Пусть души предков шепчут вашим душам хорошие советы! – приветствовал богдыхан, входя и кланяясь. – Что новенького в Пекине?
– Да вот мы только что без тебя говорили о негодяе Тзянь-Фу! сказал один из присутствовавших. – А он сделал что-нибудь? – спросил богдыхан. – Как? Разве ты не слышал? Весь город говорит об этом! воскликнули все кругом. – Вчера он нечаянно зацепил ногтем не за ту струну и взял неверную ноту! Негодяй!
– Что это был за ужас! – воскликнул один, делая вид, что корчится.
– И его еще не повесили! – Не растерзали!
И все, возмущенные до глубины души, восклицали:
– Негодяй Тзянь-Фу! – Мошенник Тзянь-Фу! – Злодей Тзянь-Фу!
Богдыхан пошел в курильню опиума. Там стоял страшный шум.
– Что случилось? – спросил богдыхан.
– А! Как всегда! Спорят о Тзянь-Фу! – махнул рукой хозяин.
Курильщики, ложась на полати, ругали Тзянь-Фу на чем свет стоит.
– Сыграл вчера пять песен! – кричал один. – Как будто не достаточно двух! – Сыграл вчера пять песен! – ворчал другой. – Как будто не мог сыграть семь или восемь!
И они ругательски ругали Тзянь-Фу, пока не засыпали с открытыми глазами.
И тогда все-таки бормотали во сне: – Злодей Тзянь-Фу! – Негодяй Тзянь-Фу!
– Мошенник из мошенников Тзянь-Фу!
Богдыхан пошел в храм.
Люди молились богам, но, когда уставали молиться, обменивались замечаниями и шепотом говорили друг другу:
– А Тзянь-Фу, все-таки, негодяй!
Короче сказать, до вечера богдыхан обошел весь город и везде только слышал: – Тзянь-Фу! Тзянь-Фу! Тзянь-Фу! Злодей! Негодяй! Мошенник! Наконец, вечером, возвращаясь домой, он зашел по дороге в дом бедного кули и, пожелав хозяевам хорошего ужина, спросил:
– Слыхали ли вы гусляра Тзянь-Фу?
– Где нам! – ответил бедный кули. – Разве у нас есть время развлекаться или платить за игру на гуслях! У нас не хватает на рис! Но мы знаем все-таки, что Тзянь-Фу негодяй! Об этом говорит весь Пекин.
И вся семья принялась разбирать игру человека, которого они никогда не видали и не слыхали, и приговаривать: – Злодей Тзянь-Фу! Негодяй Тзянь-Фу! – Мошенник Тзянь-Фу!
Богдыхан, вернувшись во дворец, был вне себя от изумления.
– Что бы это значило?
И, несмотря на поздний час, приказал немедленно разыскать и привести Тзянь-Фу.
Гусляра разыскали и немедленно привели к богдыхану.
– Здравствуй, Тзянь-Фу! – сказал богдыхану. – Знаешь ли ты, что во всем Пекине никого не ругают, кроме тебя?
– Знаю, небесная мудрость! – отвечал, лежа ниц, Тзянь-Фу.
– Все только и делают, что разбирают твою игру. Докапываются до таких мелочей, что просто ужас. И ругают тебя за эти мелочи на чем свет стоит!
– Знаю, небесная мудрость! – лепетал Тзянь-Фу.
– Отчего же это происходит?
– А происходит это по очень простой причине! – отвечал Тзянь-Фу. – Им не позволено ничего обсуждать, кроме моей игры на гуслях. Вот они меня одного и разбирают, и ругают.
Богдыхан приложил палец ко лбу и сказал:
– А!
И приказал запретить также обсуждать и игру Тзянь-Фу. Богдыхан Дзин-Ла-О был справедливый богдыхан.
НАГРАДЫ
При дворе, ведь, любят делать шум, хотя, по этикету, и полагается полнейшая тишина.
В Пекине однажды случилось следующее происшествие. Богдыхан Юн-Хо-Зан проснулся поздно и в дурном расположении духа.
Он призвал к себе главного евнуха и сказал:
– Сегодня я проспал доклад моих приближенных и не мог сделать распоряжений, как управлять страной. Вместе с тем я проспал и утреннюю молитву, – и души предков огорчены теперь, сердятся и, наверное, нашлют несчастья на Китай и на меня. И все эти беспорядки на земле и на небе происходят оттого, что какой-то зверь сегодня всю ночь рычал в саду у моего окна и мешал мне спать.
Главный евнух задрожал всем телом и сказал:
– Уж не забрался ли как-нибудь тигр?!
Но богдыхан пожал плечами и ответил:
– Ты вечно сочиняешь страхи и ужасы там, где их нет. Это не был тигр. Рычание было куда тише.
– Не был ли в таком случае это осел? – воскликнул евнух. – Он кричит тоже пренеприятно!
– Нет! – подумав, заметил богдыхан. – Это не был и крик осла. Я знаю, как кричит осел. Это было гораздо, гораздо тише. Зверь рычал вот так. Я хорошо запомнил.
И богдыхан показал, как рычал неизвестный зверь.
– Хорошо! – сказал главный евнух. – Прикажу сейчас созвать всех наших ученых. Пусть призовут на помощь все-все свои знания, пусть пороются в книгах, старых и современных, – и решат, что это был за зверь!
С этими словами он после бесчисленных поклонов удалился, отправился преспокойно к себе, попил чаю, повалялся в постели и часа через три явился к богдыхану и сказал:
– Ученые оказались на высоте своего звания и разгадали загадку. Животное, которое не давало тебе спать, сын неба, известно, ученым под именем – лягушки. Это – одно из самых хитрых животных, какие только существуют на свете. Оно живет в траве, – и, чтобы не быть пойманным, нарочно отличается маленькими размерами, крайней быстротой в движениях и имеет зеленый цвет!
– Да! При таких условиях очень трудно поймать это животное в траве! – сказал богдыхан. – Тем не менее, я очень хотел бы, чтоб вы постарались. Поймайте, убейте, – вообще сделайте что-нибудь такое, чтоб я мог спать, молиться и заниматься делами.
– Желанье, как видишь сам, сын неба, почти неисполнимое! воскликнул главный евнух. – Тем не менее, мы приложим все наши силы, всю нашу энергию, призовем на помощь все силы нашего рассудка, и, может быть, любовь и преданность к тебе помогут нам с честью выполнить задачу!
– Благодарю заранее! – сказал тронутый богдыхан. – Передай всем, что сумею наградить усердие каждого.
Главный евнух отдал положенное число поклонов, вышел и сказал младшему евнуху:
– Там, в саду, завелась лягушка. Скажи, чтоб ее поймали и убили!
Младший евнух передал приказание смотрителю дворца, смотритель дворца – садовнику, садовник – начальнику роз, начальник роз старшему поливальщику, старший поливальщик призвал рабочего Тун-Ли и сказал ему:
– Пойди и поймай лягушку!
Тун-Ли пошел в сад, поймал лягушку, прыгавшую по дорожке, взял ее за задние лапки, ударил головкой о камень, принес и положил:
– Пожалуйте!
Старший поливальщик отнес лягушку начальнику роз, начальник роз садовнику, садовник – смотрителю дворца, смотритель дворца – младшему евнуху, младший евнух принес ее к старшему:
– Вот лягушка! Поймана и убита!
Но старший евнух сказал:
– Ну, нет! Это было бы чересчур просто! И приказал бить в самый большой гонг и созывать всех служащих при дворце. Охотников, стражу, войска, евнухов и жрецов.
Поднялась страшная суматоха.
Богдыхан видел из окна, как прошел начальник охотников и полюбовался его вооружением.
На начальнике охотников были надеты латы, за поясом торчало до десяти кинжалов. На нем было два меча: один висел с левого бока, другой с правого, на случай, если бы первый сломался. В одной руке было у него копье с красными перьями, в другой – лук из черного дерева со страшно тугой тетивой. За плечами у него висело два колчана со стрелами. На одном крупными буквами было написано:
– Не трогайте! Стрелы отравлены!
На другом:
– Можно трогать. Стрелы не отравлены.
За ним шли рядами охотники, которые и оцепили весь сад. За каждым кустом стояло по охотнику с натянутым луком.
Стража заняла дворец и с обнаженным оружием стояла у всех дверей и окон, на случай, если бы зверь, испугавшись облав, вздумал кинуться во дворец.
Во дворе на всякий случай стоял отряд войска, построенный в боевой порядок.
Жрецы в кумирне возносили молитвы богам о благополучном исходе охоты.
А евнухи во внутренних покоях утешали плачущих жен и рассказывали им разные сказки.
Среди всей этой суматохи ходил богдыхан и подбодрял то тех, то других обещанием награды. Так прошел весь день.
Когда же спустилась на землю ночь, и цветы дворцового сада утонули во мраке, давая знать о своем существовании только благоуханием, – тогда вдруг раздался громовый победный клик.
Главный евнух вбежал к богдыхану, упал ниц и воскликнул:
– Лягушка убита!
Следом за ним шесть евнухов внесли на большом золотом блюде маленькую зеленую лягушку с белым брюшком и разбитой головой.
– Поразительно! – воскликнул богдыхан. – Как они в темноте могли рассмотреть такого крошечного зверька!
– Все благодаря усердию! – поклонился главный евнух и вздохнул. Дело, как видишь сам, было нелегкое. Конечно, это я распорядился и созвать всех, и разместить. Но, следуя истине, я все же не могу приписать себе одному всю заслугу этой блестящей охоты. Все старались, все работали, все, кто только есть при дворце.
Богдыхан нахмурился:
– Ну, нет! Не все. Днем, обходя охотников, стражу, войско, сад, дворец и все службы, я заметил одного лентяя в одежде простого рабочего. В то время, как все были заняты охотой на зверя, он лежал на животе и грел себе спину на солнце. Сейчас же узнать мне его имя!
Главный евнух побежал узнавать. Это был не кто иной, как Тун-Ли.
Поймав лягушку и доставив ее старшему поливальщику, он завалился на солнце и пролежал весь день.
Его сейчас же отыскали, и главный евнух поспешил донести богдыхану:
– Имя лентяя – Тун-Ли!
– Чего же он валялся, как последняя из свиней, когда все работали и ловили лягушку? – в гневе воскликнул богдыхан.
– По привычке к лени и праздности! – пожал плечами главный евнух. – Простой народ – что с ними поделаешь! Разве им есть до чего дело? Они привыкли лентяйничать, ничего не делать и любят валяться на боку. Из всего делают себе праздники!
– Хорошо же! – воскликнул богдыхан. – Я сумею наградить каждого по заслугам!
И он щедрой рукой рассыпал вокруг себя милости. Главный евнух получил на три года в свое распоряжение богатейшую провинцию со всеми доходами.
Остальные евнухи получили по золотому кафтану за утешение жен во время несчастья.
Жрецы были осыпаны деньгами за успешные молитвы и получили в свое распоряжение столько жертв, сколько обыкновенно не получали в течение года.
Начальнику охотников отделали драгоценными камнями все оружие.
Все охотники получили в подарок дорогое оружие, точно так же, как и стража, охранявшая дворец во время охоты.
Даже ученые, совершенно неожиданно для них, получили: кто лишние шарики на шапку, кто почетную куртку, кто мандаринское достоинство.
А Тун-Ли было приказано дать 50 ударов бамбуками по пяткам:
– За лень, праздность и ничегонеделание во время охоты на лягушку.
И удары лежавшему Тун-Ли давал старший садовник, а главный евнух стоял около и считал. Странно устроен свет.
«Кто лежит – часто должен был бы стоять. А стоит тот, кто должен был бы лежать», – как говорит китайская пословица.
И ничего!
Пока, наконец, один факир, тридцать лет перед тем не открывавший рта, не снял ради меня с себя обет молчания. Он рассказал мне эту легенду – благословят его Брама, Вишну, Сигма и прочие индийские божества. Вот как было дело.
РЕФОРМА
Индийская легенда
Мне хотелось узнать о происхождении этой прекрасной богини, и так как о происхождении богов самое лучшее наводить справки в Индии, то я и посетил добросовестно страну сказок и легенд.
Я изъездил ее вдоль, поперек и наискось. Я был в Бомбее, в Калькутте, в священном Дели. Заезжал на минутку в Лагор[25], в Кашмир. Посетил Алмерабад, Гайдерабад.
Я весело взбегал на Гималаи и топтал своими ногами белый, белый, как сахар, снег их девственных вершин, которых никогда до меня не касалась человеческая нога. На меня с изумлением смотрели своими кроткими глазами индусы, шоколадные, как шоколад, и персы, белые, как молоко, и говорили:
– Вот молодчина русский журналист!
Они щелкали от зависти своими великолепными зубами слоновой кости, а я на спине скатывался с Гималаев и погружался в цветущие долины Патни и Лукно[26].
Я переплывал Персидское море и Бенгальский залив, случалось – и Индийский океан, весело пофыркивая всякий раз, как соленая вода попадала мне в рот.
Я душил своими руками удавов, толстых, как полено, и гибких, как лианы. Я снимал моментальные фотографии с тигров, резвившихся на свободе. Истреблял стада слонов. Бегал за жирафами. Перерезал девственные леса и ощупью бродил по таинственным пещерам Индии.
Она родилась на священных берегах многоводного Ганга, в первое весеннее утро, с первым лучом солнца. Прекрасная, стройная, гибкая богиня Реформа. Природа не пожалела красок, чтоб ее одеть. Ни черной краски, как уголь, для ее глаз. Ни розового цвета для ее тела. Ее волосы казались сотканными из лучей восходящего солнца.
Но одета она была только в краски. Она была нагая и прекрасная, свободная и смелая в движениях.
Природа создала ее в час вдохновения. Солнце ярче и сильнее полило свои золотые лучи на землю, увидев богиню. Земля улыбнулась ей цветами. Пальмы при виде ее задумчиво качали головами и тихо шептали друг другу: – Как она прекрасна! Как она прекрасна! Газель взглянула на нее из-за чащи лиан, – и с тех пор глаза газели стали прекрасными. Тигры ласково мурлыкали при виде ее, побежденные красотой новорожденной богини, и, грациозно изгибаясь, ласкались к ней. Змеи ползали у ее ног и не могли причинить ей вреда. Первыми увидели ее пастухи.
Пастухи, которые пасли свои стада на тощем, сожженном солнцем склоне горы. Голодные и измученные, они не могли удержаться от крика восторга, увидев ее, и забыли все прошлое горе и страданья.
Когда богиня появилась перед ними на горизонте, казалось, что она только что сошла с неба и несется по воздуху, едва касаясь цветов своими стройными ногами.
Пастухи поклонились ей до земли и, в восторге, не в силах оторвать глаз от нее, пошли за нею.
А богиня привела их и их стада в пышные, тучные, цветущие поля и, оставив их там, пошла в священный город Дели.
Там первыми ее увидели индусские юноши, и сразу их сердца забились горячей и страстной любовью к прекрасной богине. За ними женщины. За женщинами их мужья. Старики и дети – все были влюблены в нагую богиню и следовали за ней толпами, повторяя: – Как она хороша!
Ведь она родилась в первый весенний день, с первым лучом солнца. И воздух, теплый, ласковый, нежный, полный аромата цветов, казался ее дыханием. Она дышала, и кругом полной грудью дышали все.
Но было жарко, – и она, ища прохлады, зашла в храм. В старинный храм Тримурти.
В храме было темно и холодно, как в подвале, и пахло плесенью и гнилью.
Огромные амбразуры окон были наглухо закрыты, и в мрачном сумраке, в глубине храма что-то мерещилось, сверкало, когда отворялись двери и робкие лучи света проникали в тяжкий мрак и таяли в нем. Что сверкало там?
Поднятый меч, занесенный над головой людей, копье, направленное в грудь молящихся, стрелы, готовые сорваться с лука и нанести гибель и смерть? Никто не знал.
И в этой тьме люди, испуганные, дрожащие, хватались за белые широкие одеяния старых браминов и молили:
– Умолите за нас грозное божество, которое мерцает там, в глубине храма…
Перед божеством, на жертвенных столах, лежали груды лотоса – этой весной лотос еще не цвел. Это были старые цветы лотоса, оставшиеся с прошлого года. Они лежали на жертвенных столах, наполняя воздух смрадом плесени и гнили.
А брамины пели молитвы, которые полагалось петь тогда, когда лотосы свежи и пахучи:
– Как милость твою, мы вдыхаем этот аромат лотосов, только что расцветших и принесенных сюда, тебе в жертву. Как наши молитвы, пусть несется этот тихий, чистый аромат к престолу твоему, божество, и ароматом наполняет твое сердце! И все дышали запахом гнили и пели про аромат. Никто ничего не понимал, и это только увеличивало благочестие.
Войдя в храм, богиня прежде всего воскликнула:
– Откройте окна! Откройте все окна, как можно скорей!
И толпа, послушная каждому ее слову, кинулась отворять огромные окна.
Волны света, горячего и яркого, ворвались и наполнили храм, – и толпа в восторге в первый раз увидела золотое божество в глубине храма.
Не было ни грозно поднятых мечей, ни направленных неумолимо копий, ни готовых сорваться и нанести гибель стрел.
Божество никого не хотело убивать. Оно смотрело на толпу, ласково улыбаясь своими тремя головами.
– Выбросите эти сгнившие цветы! – приказала богиня. – И принесете сюда свежих полевых цветов!
– Но божеству нужен лотос! – пробовали протестовать брамины.
– Божеству нужен аромат свежих, только что сорванных цветов! отвечала богиня. – Цветов, цветов сюда! Цветов с полей, убранных бриллиантами росы!
И толпа бросилась исполнять приказание богини. Гниющие груды старых лотосов были выброшены, и вместо них жертвенные столы были покрыты целыми стогами свежих, только что сорванных, пахучих, росистых цветов. Их носили охапками юноши, женщины, старики, дети. Цветы сыпались по дороге на землю, и по этому ковру из цветов смело и радостно люди шли к ласковому и доброму божеству, на три стороны улыбавшемуся всем. Жрецы были забыты.
Больше никто не обращался к их помощи, к их заступничеству.
Все шли сами. Женщины поднимали к божеству своих детей, моля доброго Тримурти послать свое благословение. Со слезами восторга на глазах старики смотрели на улыбавшегося бога:
– А мы-то считали его грозным и кровожадным! Все толпились около божества, протискиваясь, чтобы коснуться рукой его золотой одежды.
А Тримурти, ласковый и улыбающийся тремя улыбками, тремя потоками лил кругом благословение и радость.
Отдохнув в храме, бодрая и веселая богиня пошла по улицам города в сопровождении несметной толпы. На главной площади Дели возвышался приготовленный костер. На нем лежало вытянувшееся и осунувшееся под белым покрывалом тело старого умершего раджи. А вдова раджи, молодая и красивая, закутанная в самые дорогие из своих одежд, со слезами готова была вступить на костер, сложенный из благовонных дерев.
В эту минуту к ней и подошла добрая и веселая богиня.
– Ты хочешь умереть! – весело сказала богиня. – Почему бы и нет? Ведь жизнь это только подарок, который делает людям небо. Ты хочешь отказаться от подарка – откажись. Ты хочешь отдать огню свое тело, отдай. Тело твое. Но зачем же ты хочешь отдать огню и все твои богатые одежды? Радже нужна ты, твое тело, а не твои одежды. Одежды радже не нужны, – он сам снимал их с тебя! Отдайся же радже так, как ты отдавалась ему. Сбрось с себя все. Зачем заставлять огонь еще срывать твои одежды? Пусть он сразу осыплет своими поцелуями тебя, – твое тело. А одежды отдай, – ну, хоть бедным. Это будет еще одно доброе дело перед смертью! Чего же ты плачешь, однако?
– Мне страшно умирать! – отвечала вдова раджи. – Зачем же ты хочешь умереть?
– Так требуют закон, обычай, люди. Люди хотят, чтоб исполнялся священный обычай!
– Исполни! Но раньше сделай доброе дело. Сбрось с себя одежды. Пусть бедные возьмут их и благословят память твою и твоего мужа!
Молодая женщина послушалась богини, сбросила с себя одежды и отдала их стоявшим около:
– Возьмите!
При виде ее, нагой и прекрасной, ропот восторга прошел по толпе:
– Как она хороша! Почти как богиня! Их сердца наполнились жалостью, – и раздались крики: – Не надо! Не надо, чтоб она шла на костер!
А богиня, улыбаясь, поглядела на стоявшего около юношу, который смотрел на нее с восторгом, со страстью.
– Ты влюблен в меня! – сказала богиня. – Но я родилась в небесах, и земное мне чуждо. Посмотри на эту женщину. Разве она не так же хороша, как и я? Разве красота разлита в одних небесах – и не разлита на земле? Красота – это небо. Ваша жизнь – как вода. Небеса отражаются в воде, – и оттого она кажется голубой. Посмотри, как она красива! Возьми ее! У тебя будет мое отражение на земле! Возьми!
И когда глаза юноши при виде обнаженной женщины загорелись страстью, богиня сказала вдове раджи:
– Ты хочешь умереть на огне. Но огонь разлит и в сердцах. Вот этот юноша, он также сожжет тебя своим пламенем. Он обнимет тебя, обовьет, как огонь, своими объятиями. И ты умрешь не раз. День и ночь будешь ты умирать, чувствуя, что душа расстается с телом. Сожги себя так!
И молодая вдова, зардевшись от стыда и страсти, бросила факел в благовонный костер, на котором одиноко лежало вытянувшееся и осунувшееся тело старого раджи, – и, протягивая свои руки к юноше, сказала:
– Прикрой меня твоим плащом и унеси отсюда…
В тот год стоял страшный зной.
Бог Индра,[27] – разгневанный, как говорили брамины, – жег землю палящими лучами солнца, жег беспощадно, жег немилосердно.
Поля стояли черные, словно обугленные, и умиравшие с голоду люди, худые как скелет, приходили в город и ложились на улицах, говоря:
– Мы умрем здесь и зловоньем наших трупов отравим воздух, если вы не дадите нам есть.
Брамины решили вынести из храма статую Индры и обвезти вокруг города.
Грозного бога везли на огромной колеснице, запряженной десятью черными слонами.
Люди кидались сотнями под слонов и колесницу и умирали, раздавленные, в корчах, в муках, с воплями.
– Бог Индра не слышит тихих стонов страждущих! – говорили они. Пусть он услышит хоть наши вопли, ужаснется, глядя на нашу гибель, и сменит свой беспощадный гнев милостью.
Процессия медленно тянулась среди воплей, криков и стонов, которые должны были обратить внимание божества. Слоны окровавленными ступнями давили лежавших на их пути людей, и огромные красные, мокрые колеса вязли в грудах изодранного человеческого тела.
А шествие неумолимо двигалось вперед. Навстречу ему вышла богиня.
Она была так прекрасна в лучах заходящего солнца, что проводники остановились и остановили своих черных слонов.
Они смотрели на богиню полными восторга глазами и не могли двинуться вперед.
Богиня стояла на дороге.
Они не могли двинуть шествие на эту дивную красавицу и повернули слонов, и кровавая процессия по холодеющим, истерзанным трупам вернулась назад в мрачный храм Индры.
А те, кто лежал впереди на пути, ожидая смерти, – были спасены.
Так провела богиня свой первый день.
А на следующий с первыми лучами солнца брамины собрались на совещание.
– Из-за этой новой богини гибнет вера в старых богов! – говорили они.
– Гибнем мы! Никто не нуждается больше в наших молитвах – все молятся сами!
– Она распространяет нечестье! Вдовы не хотят умирать от верности!
– Она навлечет на нас гнев Индры, который останется без жертв.
И все ломали головы, что бы такое сделать.
– Убить! – робко сказал кто-то.
Но ему даже не ответили. Разве можно убить бессмертную богиню?
Тогда поднялся самый древний и самый мудрый из браминов.
– Мы посадим ее в пещеру. А людям скажем, что богиня унеслась на небо, как с неба она и сошла. Не видя ее, люди вернутся к благочестию. Пусть посидит в пещере. А потом, – потом можно будет ее и выпустить. Она уже будет стара, безобразна, и никто не станет сходить от нее с ума!
Все одобрили совет старого брамина и поклонились ему до земли:
– Хорошее, испытанное средство!
Захватив с собой мечи, копья, они отправились к ручью, около которого на ложе из цветов проспала ночь богиня: крадучись по кустам, окружили ее и вышли из засады, окружив кольцом.
Но, увидев их, богиня весело крикнула:
– Ко мне! Ко мне!
И все окрестные жители, услышав веселый и звонкий голос богини, сбежались, чтоб посмотреть: какую новую радость придумала проснувшаяся богиня.
Увидев себя окруженными, брамины не посмели коснуться богини, они поклонились ей до земли и сказали:
– Мы пришли, чтоб поклониться тебе, – а оружие принесли, чтоб воздать тебе почести, как повелительнице.
И они сложили оружие к ногам богини, как будто в знак покорности.
Брамины совсем пали духом.
– Мы должны спасти себя и людей от гнева Индры и прочих богов!
Собравшись на новое совещание, они три дня и три ночи с отчаяньем думали, что бы предпринять против богини, а на четвертый, довольные, веселые, радостные, вышли из своего храма и обратились к первому проходившему поклоннику богини.
– Вы все поклоняетесь новой богине! – сказали они. – Мы тоже поклоняемся ей, потому что она прекрасна. Но вы совсем не заботитесь о ней. Богиня ходит нагая: ее тела касаются ветер, лучи солнца. Солнце обожжет ее, и ветер сделает грубой ее кожу. Вам надо позаботиться об одежде для богини! Чтоб сохранить ее красоту, чтоб в этой одежде она имела, действительно, величественный, достойный ее вид. Украсьте ее. Покажите пред всеми свою любовь.
– Это правда! – воскликнул поклонник. – Как это сразу не пришло нам в голову!
И он, поблагодарив браминов, побежал к своим друзьям, чтобы подать им эту хорошую мысль.
Брамины же всякому, кого встречали, говорили то же самое.
И все находили их мысль отличной и благодарили их. Весь народ собрался около богини, обсуждая:
– Какую бы ей сделать достойную ее одежду?
Одни говорили:
– Есть ткани, тонкие, как паутина, едва видные. Мы достанем таких тканей и из них сделаем одежду для богини. Чтобы ни одна черточка ее божественного тела не пропадала для глаза! Другие возражали:
– Вот еще! Одежда, которую с трудом даже и заметишь! Нет, одежда должна быть такая, чтобы все сразу видели, как мы любим и ценим богиню. Мы достанем тканей, вытканных из чистого золота, украсим самоцветными камнями…
– И похороним под этой золотой корой красоту богини! – восклицали третьи. – Нет, тут нужен шелк, нежный, гибкий, который повиновался бы каждому ее движению. – Шерсть дает лучше, мягче складки, чем шелк!
И поднялись горячие споры. Так прошел день.
А брамины в это время снова заперли храм Тримурти, сожгли двух вдов и отдали распоряжение на завтра приготовить шествие статуи бога Индры.
На следующий день толпа поклонников снова сошлась вокруг богини.
Одни принесли разноцветные шали и примеряли их богине:
– Смотрите, как будет хорошо!
Другие кричали:
– Уйдите вы со своими шалями! Ее нужно одеть в парчу!
Третьи несли кружева, четвертые – драгоценные камни. Люди спорили, ругались, дрались, – как, в каком виде показать богиню миру.
А брамины торжественно совершали процессию вокруг города, и десять черных слонов ногами в крови месили тела бросавшихся под колесницу людей.
– Так идет и до сих пор! – закончил свою легенду тридцать лет не говоривший факир. – Все идет по старому, а новая богиня… ей все примеряют туалеты, в каком виде лучше показать ее перед миром! – C'est epatant![28] – добавил факир.
ИСТИНА
Восточное сказание
За высокими горами, за дремучим лесом жила царица Истина. Рассказами о ней был полон весь мир.
Ее не видел никто, но любили. О ней говорили пророки, о ней пели поэты. При мысли о ней кровь загоралась в жилах. Ею грезили во сне.
Одним она являлась в грезах в виде девушки с золотистыми волосами, ласковой, доброй и нежной. Другим грезилась чернокудрая красавица, страстная и грозная. Это зависело от песен поэтов. Одни пели:
– Видел ли ты, как в солнечный день, словно море, золотыми волнами ходит спелая нива? Таковы волосы царицы Истины. Расплавленным золотом льются они по обнаженным плечам и спине и касаются ее ног. Как васильки в спелой пшенице горят ее глаза. Встань темной ночью и дождись, как зарозовеет на востоке первое облачко, предвестник утра. Ты увидишь цвет ее щек. Как вечный цветок, цветет и не отцветает улыбка на ее коралловых устах. Всем и всегда улыбается Истина, которая живет там, за высокими горами, за дремучим лесом.
Другие пели:
– Как темная ночь черны волны ее благоухающих волос. Как молния блещут глаза. Бледно прекрасное лицо. Только избраннику улыбнется она, черноокая, чернокудрая, грозная красавица, которая живет там, за дремучим лесом, за высокими горами.
И юный витязь Хазир решил увидеть царицу Истину. Там за крутыми горами, там за чащей непроходимого леса, – пели все песни, – стоит дворец из небесной лазури, с колоннами из облаков. Счастливый смелый, которого не испугают высокие горы, кто пройдет через дремучий лес. Счастлив он, когда достигнет лазурного дворца, усталый, измученный, и упадет на ступени и споет призывную песнь. Выйдет к нему обнаженная красавица. Аллах только раз видел такую красоту! Восторгом и счастьем наполнится сердце юноши. Чудные мысли закипят в его голове, чудные слова – на его устах. Лес расступится перед ним, горы склонят свои вершины и сравняются с землей на его пути. Он вернется в мир и расскажет о красоте царицы Истины. И, слушая его вдохновенную повесть об ее красоте, все, сколько есть на свете людей, – все полюбят Истину. Ее одну. Она одна будет царицей земли, и золотой век настанет в ее царстве. Счастлив, счастлив тот, кто увидит ее! Хазир решил ехать и увидеть Истину.
Он заседлал арабского коня, белого, как молоко. Туго стянулся узорным поясом, обвешал себя дедовским оружием с золотой насечкой.
И, поклонившись товарищам, женщинам и старым витязям, собравшимся полюбоваться на молодца, сказал:
– Пожелайте мне доброго пути! Я еду, чтобы увидеть царицу Истину и взглянуть в ее очи. Вернусь и расскажу об ее красоте.
Сказал, дал шпоры своему коню и поскакал. Вихрем несся конь по горам, крутился по тропинкам, по которым и козочке проскакать бы с трудом, распластавшись по воздуху, перелетал через пропасти.
И через неделю, на усталом и измученном коне, Хазир подъезжал к опушке дремучего леса.
На опушке стояли кельи, а среди них жужжали на пчельнике золотые пчелы.
Тут жили мудрецы, удалившиеся от земли, и думали о небесном. Они звались: – Первые стражи Истины.
Заслышав конский топот, они вышли из келий и с радостью приветствовали увешанного оружием юношу. Самый старый и почтенный из них сказал:
– Будь благословен каждый приход юноши к мудрецам! Небо благословляло тебя, когда ты седлал своего коня!
Хазир соскочил с седла, преклонил колена перед мудрым старцем и ответил:
– Мысли – седины ума. Приветствую седины твоих волос и твоего ума.
Старику понравился учтивый ответ, и он сказал:
– Небо уже благословило твое намерение: ты благополучно прибыл к нам через горы. Разве ты правил на этих козьих тропинках? Архангел вел под уздцы твою лошадь. Ангелы своими крыльями поддерживали твоего коня, когда он, распластавшись в воздухе, словно белый орел, перелетал через бездонные пропасти. Какое доброе намерение привело тебя сюда?
Хазир отвечал:
– Я еду, чтоб увидеть царицу Истину. Весь мир полон песен о ней. Одни поют, что волосы ее светлы, как золото пшеницы, другие, – что черны как ночь. Но все сходятся в одном: что царица прекрасна. Я хочу увидеть ее, чтоб потом рассказать людям об ее красоте. Пусть все, сколько есть людей на свете, полюбят ее.
– Доброе намерение! Доброе намерение! – похвалил мудрец. – И ты не мог поступить лучше, как явившись за этим к нам. Оставь твоего коня, войди в эту келью, и мы расскажем тебе все про красоту царицы Истины. Твой конь пока отдохнет, и, вернувшись в мир, ты сможешь рассказать людям все про красоту царицы.
– А ты видел Истину? – воскликнул юноша, с завистью глядя на старика.
Мудрый старец улыбнулся и пожал плечами.
– Мы живем на опушке леса, а Истина живет вон там, за дремучей чащей. Дорога туда трудна, опасна, почти невозможна. Да и зачем нам, мудрым, делать эту дорогу и предпринимать напрасные труды? Зачем нам идти смотреть Истину, когда мы и так знаем, какова она? Мы мудры, мы знаем. Пойдем, и я расскажу тебе о царице все подробности!
Но Хазир поклонился и вдел ногу в стремя:
– Благодарю тебя, мудрый старик! Но я сам хочу увидеть Истину. Своими глазами!
Он был уже на коне. Мудрец даже затрясся от негодования.
– Ни с места! – крикнул он. – Как? Что? Ты не веришь в мудрость? Ты не веришь в знание? Ты смеешь думать, что мы можем ошибаться? Смеешь не доверять нам, мудрецам! Мальчишка, щенок, молокосос!
Но Хазир взмахнул шелковой плеткой.
– Прочь с дороги! Не то я оскорблю тебя плеткой, которой не оскорблял даже коня!
Мудрецы шарахнулись в стороны, и Хазир помчался на отдохнувшем коне.
Вдогонку ему раздавались напутствия мудрецов:
– Чтоб ты сгинул, негодяй! Пусть небо накажет тебя за дерзость! Помни, мальчишка, в час смерти: кто оскорбляет одного мудрого, оскорбляет весь мир! Чтоб тебе сломать шею, мерзавец!
Хазир мчался на своем коне. Лес становился все гуще и выше. Кудрявые кустарники перешли в дубраву. Через день пути, в тенистой, прохладной дубраве, Хазир выехал к храму.
Это была великолепная мечеть, какую редко сподобливался видеть кто из смертных.
В ней жили дервиши, которые смиренно звали себя: – Псами Истины. И которых звали другие: – Верными стражами.
Когда молчаливая дубрава проснулась от топота коня, – навстречу витязю вышли дервиши, с верховным муллой во главе.
– Пусть будет благословен всякий, кто приходит к храму аллаха, сказал мулла, – тот, кто приходит в юности, благословен на всю жизнь!
– Благословен! – подтвердили хором дервиши. Хазир проворно соскочил с коня, глубоко поклонился мулле и дервишам.
– Молитесь за путника! – сказал он. – Откуда и куда держишь путь? – спросил мулла.
– Еду для того, чтобы, вернувшись в мир, рассказать людям о красоте Истины.
И Хазир рассказал мулле и дервишам про свою встречу с мудрецами.
Дервиши рассмеялись, когда он рассказал, как он должен был плеткой пригрозить мудрецам, – и верховный мулла сказал:
– Не иначе, как сам аллах внушил тебе мысль поднять плетку! Ты хорошо сделал, что приехал к нам. Что могли сказать тебе мудрецы про Истину? То, до чего они дошли своим умом! Выдумки! А мы имеем все сведения о царице Истине, полученные прямо с неба. Мы расскажем тебе все, что знаем, и ты будешь иметь сведения самые верные. Мы скажем тебе все, что сказано о царице Истине в наших священных книгах.
Хазир поклонился и сказал:
– Благодарю тебя, отец. Но я поехал не для того, чтоб слушать чужие рассказы или читать, что пишется в священных книгах. Это я мог сделать и дома. Не стоило трудить ни себя, ни лошадь.
Мулла нахмурился слегка и сказал:
– Ну, ну! Не упрямься, мой мальчик! Ведь я знаю тебя давно. Я знал тебя, когда еще жил в мире, когда ты был совсем маленьким, и часто держал тебя на коленях. Я ведь и отца твоего Гафиза знал, и деда твоего Аммелека тоже знал отлично. Славный человек был твой дед Аммелек. Он тоже думывал о царице Истине. У него в доме лежал коран. Но он даже и не раскрывал корана, – он довольствовался тем, что ему рассказывали об Истине дервиши. Он знал, что в коране написано, должно быть, то же самое, – ну, и довольно. К чему ж еще читать книгу! Твой отец Гафиз тоже был очень хороший человек, но этот был помудренее. Как задумается, бывало, об Истине, возьмет сам коран и прочтет. Прочтет и успокоится. Ну, а ты еще дальше пошел. Ишь ты какой. Тебе и книги мало. К нам порасспросить приехал. Молодец, хвалю, хвалю! Идем, готов рассказать тебе все, что знаю. Готов!
Хазир улыбнулся:
– Отец мой пошел дальше, чем дед. Я – дальше, чем отец. Значит, сын мой пойдет еще дальше, чем я? И сам, своими глазами захочет увидеть Истину? Не так ли надо думать?
Мулла вздохнул:
– Кто знает! Кто знает! Все может быть! Человек не деревцо. Смотришь на побег – не знаешь, что вырастет: дуб, сосна или ясень.
Хазир сидел уж на коне.
– Ну, так вот что! – сказал он. – Зачем же оставлять сыну то, что могу сделать я сам?
И он тронул лошадь. Мулла схватил его за повод.
– Стой, нечестивец! Как же ты смеешь после всего, что я сказал, продолжать путь? А, неверная собака! Так ты смеешь, значит, не верить ни нам, ни корану!
Но Хазир дал шпоры своему коню. Конь взвился, и мулла отлетел в сторону. Одним прыжком Хазир был уже в чаще, а вслед ему неслись проклятия муллы, крики и вой дервишей.
– Будь проклят, нечестивец! Будь проклят, гнусный оскорбитель! Кого ты оскорбил, оскорбляя нас? Пусть раскаленные гвозди впиваются в копыта своей лошади при каждом ее шаге! Ты едешь на гибель!
– Пусть разлезется твой живот! Пусть выползут, как гадины, как змеи, твои внутренности! – выли дервиши, катаясь по земле. Хазир продолжал путь.
А путь становился все труднее и труднее. Лес все чаще, – и чаща все непроходимее.
Пробираться приходилось уж шагом, да и то с большим трудом. Как вдруг раздался крик:
– Остановись!
И, взглянув вперед, Хазир увидел воина, который стоял с натянутым луком, готовый спустить дрожащую стрелу с тугой тетивы. Хазир остановил коня.
– Кто такой? Куда едешь? Откуда? И зачем держишь путь? – спросил воин.
– А ты что за человек? – переспросил его, в свою очередь, Хазир. – И по какому праву спрашиваешь? И для какой надобности?
– А спрашиваю я по такому праву и для такой надобности, – отвечал воин, – что я воин великого падишаха. А приставлен я с товарищами и с начальниками для того, чтоб охранять священный лес. Понял? Ты находишься на заставе, которая называется «заставой Истины», – ибо она устроена для охраны царицы Истины!
Тогда Хазир рассказал воину, куда и зачем он едет. Услыхав, что витязь держит путь к лазурному дворцу Истины, воин позвал своих товарищей и предводителей.
– Ты хочешь узнать, какая такая на самом деле Истина? – сказал главный предводитель, любуясь дорогим оружием, славным конем и молодецкой посадкой Хазира. – Доброе намерение, юный витязь! Доброе намерение! Сходи же скорей с твоего коня, – идем, я тебе все расскажу. В законах великого падишаха все написано, какая должна быть Истина, и я тебе охотно прочту. Можешь потом вернуться и рассказывать.
– Благодарю тебя! – отвечал Хазир. – Но я отправился затем, чтобы видеть ее своими глазами.
– Эге! – сказал предводитель. – Да мы, брат, не мудрецы тебе, не муллы и не дервиши! Мы разговаривать много не умеем. Слезай-ка с коня, живо, без разговоров!
И предводитель взялся за саблю. Воины тоже понаклонили копья. Конь испуганно насторожил уши, захрапел и попятился.
Но Хазир вонзил ему шпоры в бока, пригнулся в луке и, засвистав над головой кривою саблей, крикнул:
– Прочь с дороги, кому жизнь еще мила!
За ним только раздались крики и вой. Хазир уже летел сквозь густую чащу.
А вершины деревьев все плотней и плотней смыкались над головой. Скоро стало так темно, – что и днем царила в лесу ночь. Колючие кустарники плотной стеной преграждали дорогу.
Обессилевший и измученный благородный конь уж терпеливо выносил удары плетки и, наконец, пал. Хазир пошел пешком пробираться через лес. Колючий кустарник рвал и драл на нем одежду. Среди тьмы дремучего леса он слышал рев и грохот водопадов, переплывал бурные реки и выбивался из сил в борьбе с лесными потоками, холодными, как лед, бешеными, как звери.
Не зная, когда кончался день, когда начиналась ночь, – он брел и, засыпая на мокрой и холодной земле, истерзанный и окровавленный, – он слышал кругом в лесной чаще вой шакалов, гиен и рев тигров.
Так неделю брел он по лесу, – и вдруг зашатался: ему показалось, что молния ослепила его.
Прямо из темной, непроходимой чащи он вышел на поляну, залитую ослепительным солнечным светом.
Сзади черной стеной стоял дремучий бор, а посреди поляны, покрытой цветами, стоял дворец, словно сделанный из небесной лазури. Ступени к нему сверкали, как сверкает снег на вершинах гор. Солнечный свет обвил лазурь и, как паутиной, одел ее тонкими золотыми черточками дивных стихов из корана.
Платье лохмотьями висело на Хазире. Только оружие с золотой насечкой было все цело. Полуобнаженный, могучий, с бронзовым телом, увешанный оружием, – он был еще красивее.
Хазир, шатаясь, дошел до белоснежных ступеней и, как пелось в песнях, измученный и без сил упал на землю.
Но роса, которая брильянтами покрывала благоухающие цветы, освежила его.
Он поднялся, снова полный сил, он не чувствовал более боли от ссадин и ран, не чувствовал усталости ни в руках, ни в ногах. Хазир запел:
– Я пришел к тебе чрез дремучий лес, чрез густую чащу, чрез высокие горы, чрез широкие реки. И в непроглядной тьме дремучего бора мне светло было, как днем. Сплетавшиеся верхушки деревьев казались мне ласковым небом, и звезды горели для меня в их ветвях. Рев водопадов казался мне журчаньем ручейков, и вой шакалов песнью звучал в моих ушах. В проклятиях врагов я слышал добрые голоса друзей, и острые кустарники казались мне мягким, нежным пухом. Ведь я думал о тебе! Я шел к тебе! Выйди же, выйди, царица снов моей души!
И, услыхав тихий звук медленных шагов, Хазир даже зажмурился: он боялся, что ослепнет от вида чудной красавицы.
Он стоял с сильно бьющимся сердцем, и когда набрался смелости и открыл глаза, – перед ним была голая старуха. Кожа ее, коричневая и покрытая морщинами, висела складками. Седые волосы свалялись в космы. Глаза слезились. Сгорбленная, она едва держалась, опираясь на клюку. Хазир с отвращением отшатнулся.
– Я – Истина! – сказала она.
И так как остолбеневший Хазир не мог пошевелить языком, – она печально улыбнулась беззубым ртом и сказала:
– А ты думал найти красавицу? Да, я была такой! В первый день создания мира. Сам аллах только раз видел такую красоту! Но, ведь, с тех пор века веков промчались за веками. Я стара, как мир, я много страдала, а от этого не делаются прекраснее, мой витязь! Не делаются!
Хазир чувствовал, что он сходит с ума.
– О, эти песни про златокудрую, про чернокудрую красавицу! простонал он. – Что я скажу теперь, когда вернусь? Все знают, что я ушел, чтоб видеть красавицу! Все знают Хазира, – Хазир не вернется живой, не исполнив своего слова! У меня спросят, – спросят: «Какие у нее кудри, – золотые, как спелая пшеница, или темные, как ночь? Как васильки или как молнии горят ее глаза?» А я! Я отвечу: «Ее седые волосы, как свалявшиеся комья шерсти, ее красные глаза слезятся»…
– Да, да, да! – прервала его Истина. – Ты скажешь все это! Ты скажешь, что коричневая кожа складками висит на искривленных костях, что глубоко провалился черный, беззубый рот! – И все с отвращением отвернутся от этой безобразной Истины. Никто уж больше никогда не будет любить меня! Грезить чудной красавицей! Ни в чьих жилах не загорится кровь при мысли обо мне. Весь мир, – весь мир отвернется от меня.
Хазир стоял перед нею, с безумным взглядом, схватившись за голову:
– Что ж мне сказать? Что ж мне сказать?
Истина упала перед ним на колени и, протягивая к нему руки, сказала умоляющим голосом:
– Солги!
БЕЗ АЛЛАХА
Арабская сказка
Однажды Аллаху надоело быть Аллахом. Он покинул свой трон и чертоги, спустился на землю и сделался самым обыкновенным человеком. Купался в реке, спал на траве, собирал ягоды и питался ими.
Засыпал вместе с жаворонками и просыпался, когда солнце щекотало ему ресницы.
Каждый день солнце всходило и заходило. В ненастные дни шел дождик. Птицы пели, рыба плескалась в воде. Как будто ничего и не случилось! Аллах с улыбкой глядел кругом и думал: – Мир, как камушек с горы. Толкнул его, он сам собой и катится.
И захотелось Аллаху посмотреть:
– Как-то живут без меня люди? Птицы, – те глупы. И рыбы тоже глупы. А вот, как-то без аллаха живут умные люди? Лучше или хуже?
Подумал, оставил поля, луга и рощи и отправился в Багдад.
– Стоит ли уж и город-то на месте? – думал Аллах. А город стоял на своем месте. Ослы кричат, верблюды кричат, и люди кричат. Ослы работают, верблюды работают, и люди работают. Все, как было и раньше!
– Только моего имени уж никто не поминает! – подумал Аллах.
Захотелось ему узнать, о чем люди разговаривают. Пошел Аллах на базар.
Входит на базар и видит: торговец продает лошадь молодому парню.
– Клянусь аллахом, – кричит торговец, – конь совсем молодой! Три года всего, как от матери отняли. Ах, какой конь! Сядешь на него, витязем будешь. Клянусь аллахом, что витязем! И без пороков конь! Вот тебе аллах, ни одного порока! Ни самого маленького!
А парень смотрит на коня:
– Ой, так ли?
Торговец даже руками всплеснул и за чалму схватился:
– Ой, какой глупый! Ой, какой глупый человек! Таких глупых я еще и не видывал! Как же не так, если я тебе аллахом клянусь? Что же мне, по-твоему, своей души не жалко! Парень взял коня и заплатил чистым золотом. Аллах дал им кончить дело и подошел к торговцу. – Как же так, добрый человек? Ты аллахом клянешься, а ведь аллаха-то и нет больше!
Торговец в это время прятал золото в кошель. Тряхнул кошелем, послушал звон и усмехнулся.
– А хоть бы и так? Да разве, спрашивается, иначе-то он купил бы у меня коня? Ведь конь-то старый, да и копыто у него треснувшее! Улыбнулся Аллах и пошел дальше.
А навстречу ему носильщик Гуссейн. Куль такой несет, – вдвое больше, чем он сам. А за носильщиком Гуссейном – купец Ибрагим.
У Гуссейна под кулем ноги подкашиваются. Пот градом льет. Глаза на лоб вылезли. А Ибрагим идет следом и приговаривает: – Аллаха ты не боишься, Гуссейн! Взялся куль нести, а несешь тихо! Этак мы в день и трех кулей не перенесем. Нехорошо, Гуссейн! Нехорошо! Ты бы хоть о душе подумал! Ведь аллах-то все видит, как ты лениво работаешь! Аллах тебя накажет, Гуссейн.
Аллах взял Ибрагима за руку и отвел его в сторону. – Чего ты все аллаха на каждом шагу поминаешь? Ведь, аллаха-то нету! Ибрагим почесал шею.
– Слышал я об этом! Да ведь что ж ты поделаешь? Как иначе Гуссейна заставить кули поскорее таскать? Кули-то тяжелы. Денег ему за это прибавить, – убыток. Отколотить, – так Гуссейн поздоровее меня, самого еще отколотит. К вали его отвести, – так Гуссейн по дороге сбежит. А аллах-то и всех сильнее, и от аллаха никуда не сбежишь, вот я его аллахом и пугаю!
Покачал головою Аллах и пошел дальше. И везде, куда только Аллах ни заглядывал, только и слышал, что: – Аллах! аллах! да аллах! А день уж склонился к вечеру.
Побежали от домов длинные тени, пожаром запылали небеса, – и с минарета понеслась протяжная, протяжная песнь муэдзина:
– Ля илль аго илль алла…[29]
Остановился Аллах около мечети, поклонился мулле и сказал:
– Чего же ты народ в мечеть собираешь? Ведь аллаха больше нет!
Мулла даже вскочил в испуге.
– Тише ты! Помалкивай! Накричишь, услышат. Нечего сказать, хорош мне тогда почет будет! Кто ж ко мне и пойдет, коли узнают, что аллаха нет!
Аллах нахмурил брови и огненным столбом взвился к небесам на глазах онемевшего и грохнувшегося на землю муллы.
Аллах вернулся в свои чертоги и сел на свой трон. И не с улыбкой уж, как прежде, глядел на землю, которая была у его ног.
Когда первая же душа правоверного предстала пред Аллахом, робкая и трепещущая, Аллах посмотрел на нее испытующим оком и спросил:
– Ну, а что хорошего сделал ты, человек, в жизни?
– Имя твое не сходило у меня с уст! – отвечала душа.
Аллах покачал головой:
– Ну, дальше?
– Что б я ни предпринимал, что бы ни делал, – все с именем аллаха.
– Хорошо! Хорошо! – перебил Аллах. – Дальше-то, что ты делал хорошего в жизни?
– А я и другим внушал, чтоб помнили аллаха! – отвечала душа. – Не только сам помнил! Другим, на каждом шагу, с кем только имел дело, всем напоминал про аллаха.
– Экий усердный какой! – усмехнулся Аллах. – Ну, а нажил при этом ты много?
Душа задрожала.
– То-то! – сказал Аллах и отвернулся.
А к душе ползком, ползком подобрался Шайтан, схватил ее за ноги и поволок. Так прогневался на землю Аллах.
СУДЬЯ НА НЕБЕ
Восточная сказка
Азраил, ангел смерти, летая над землей, коснулся своим крылом мудрого кади Османа.
Судья умер, и бессмертная душа его предстала пред пророком[30]. Это было у самого входа в рай.
Из-за деревьев, покрытых, словно розовым снегом, цветами, доносился звон бубнов и пение божественных гурий[31], призывавшее к неземным наслаждениям.
А издали, из дремучих лесов, неслись звуки рогов, звонкий топот коней и лихие клики охотников. Храбрые на белоснежных арабских скакунах носились за быстроногими сернами, свирепыми вепрями.
– Пусти меня в рай! – сказал судья Осман. – Хорошо! – отвечал пророк.
– Но сначала ты должен сказать, чем его заслужил. Таков у нас закон на небе.
– Закон?
Судья глубоко поклонился и приложил руку к челу и к сердцу, в знак величайшего почтения.
– Это хорошо, что у вас есть законы, и вы их исполняете. Это я в вас хвалю. Закон должен быть везде и должен исполняться. Это у вас хорошо устроено.
– Итак, чем же ты заслужил рай? – спросил великий пророк.
– На мне не может быть греха! – отвечал судья. – Я всю жизнь только и делал, что осуждал грех. Я был судьею там, на земле. Я судил, и судил очень строго!
– Вероятно, ты сам блистал какими-нибудь особенными добродетелями, если судил других? Да еще судил строго! – спросил пророк. Судья нахмурился.
– Насчет добродетелей… не скажу! Я был такой же, как и все люди. Но я судил потому, что получал за это жалованье!
– Невелика еще добродетель! – улыбнулся пророк. – Получать жалованье! Я не знаю ни одного порочного человека, который бы от этого отказался. Выходит так: ты осуждал людей за то, что у них нет тех добродетелей, каких нет и у тебя. И за это еще получал жалованье! Те, кто получает жалованье, судят тех, кто жалованья не получает. Судья может судить простого смертного. А простой смертный не может судить судьи, хотя бы судья и был явно виноват. Мудрено что-то! Чело судьи хмурилось все больше и больше.
– Я судил по законам! – сухо сказал он. – Я знал их все и по ним судил.
– Ну, а те, кого ты судил, – полюбопытствовал пророк, – знали законы?
– О, нет! – с гордостью ответил судья. – Куда им! Это дается не каждому!
– Значит, ты судил их за неисполнение законов, которых они даже и не знали?! – воскликнул пророк. – Ну, что же ты? Старался о том, чтоб все знали законы? Старался просвещать незнающих?
– Я судил! – с твердостью ответил судья. – Видя, что законы нарушаются, – старался ли ты сделать так, чтоб людям не нужно было нарушать законов? – Я получал жалованье за то, чтоб судить! Судья мрачно и подозрительно посмотрел на пророка. Чело судьи наморщилось, глаза были гневны. – Ты говоришь неподходящие вещи, пророк, должен я тебе заметить! – строго сказал он. – Опасные вещи! Ты рассуждаешь слишком вольно, пророк! По твоим рассуждениям я подозреваю, – не шиит[32] ли ты, пророк? Суннит так не должен рассуждать, пророк! Твои слова предусмотрены книгами Сунн!
Судья подумал.
– А потому, на основании четвертой книги Сунн, страница сто двадцать третья, четвертая строка сверху, читать со второй половины, и руководствуясь разъяснениями мудрых старцев, наших святых мулл, я обвиняю тебя, пророк… Тут пророк не выдержал и рассмеялся.
– Иди назад, на землю, судья! – сказал он. – Ты слишком строг для нас. Тут у нас, на небе, гораздо добрее!
И он отослал премудрого судью обратно на землю.
– Но как же это сделать, когда я умер? – воскликнул судья. – Как оформить?
– Прошу считать твою смерть недействительной! – улыбнулся пророк.
– А! Так хорошо! Раз так оформлено, я согласен! И судья вернулся на землю.
ЧЕЛОВЕК
Восточная сказка
Однажды Аллах спустился на землю, принял вид самого, самого простого человека, зашел в первую попавшуюся деревню и постучался в самый бедный дом, к Али.
– Я устал, умираю с голода! – сказал Аллах с низким поклоном. Впустите путника.
Бедняк Али отворил ему дверь и сказал:
– Усталый путник – благословение дому. Войди.
Аллах вошел.
Семья Али сидела и ужинала.
– Садись! – сказал Али. Аллах сел.
Все отняли у себя по куску и дали ему. Когда кончили ужинать, вся семья встала на молитву. Один гость сидел и не молился. Али посмотрел на него с удивлением. – Разве ты не хочешь молиться аллаху? – спросил Али. Аллах улыбнулся.
– А знаешь ли ты, кто у тебя в гостях? – задал он вопрос. Али пожал плечами.
– Ты мне сказал свое имя – путник. К чему мне знать еще другое?
– Ну, так знай же, кто зашел в твой дом, – сказал путник, – я Аллах!
И весь он засверкал, как молния.
Али повалился в ноги Аллаху и со слезами воскликнул:
– За что мне оказана такая милость? Разве мало на свете людей богатых и знатных? Есть у нас в деревне мулла, есть старшина Керим, есть богач-купец Мегемет. А ты выбрал самого бедного, самого нищего, Али! Благодарю тебя.
Али поцеловал след ноги Аллаха. Так как было уж поздно, все улеглись спать. Но не спалось Али. Всю ночь он проворочался с бока на бок, все о чем-то думал. Следующий день весь тоже все о чем-то думал. Задумчивый сидел и за ужином и ничего не ел.
А когда ужин кончился, Али не выдержал и обратился к Аллаху:
– Не разгневайся на меня, Аллах, – что я задам тебе вопрос!
Аллах кивнул головой и разрешил: – Спрашивай!
– Дивлюсь я! – сказал Али. – Дивлюсь и никак понять не могу! Есть у нас в деревне мулла, человек ученый и знатный, – все при встрече ему в пояс кланяются. Есть старшина Керим, важный человек, – у него сам вали останавливается, когда ездит через нашу деревню. Есть купец Мегемет – богач такой, каких, я думаю, по свету не много. Уж он бы сумел угостить тебя и уложил бы спать на чистом пухе. А ты взял да и зашел к Али, бедняку, к нищему! Должно быть, я угоден тебе, Аллах? А?
Аллах улыбнулся и ответил:
– Угоден!
Али даже рассмеялся от радости:
– Вот я рад, что тебе угоден! Вот рад!
Отлично спал в ту ночь Али. Весело пошел он на работу. Веселым вернулся домой, сел за ужин и весело сказал Аллаху:
– А мне, Аллах, после ужина надо с тобой поговорить!
– Поговорим после ужина! – весело ответил Аллах.
Когда ужин кончился и жена убрала посуду, Али весело обратился к Аллаху:
– А должно быть, я очень угоден тебе, Аллах, если ты взял да ко мне и зашел?! А?
– Да! – отвечал с улыбкой Аллах.
– А? – продолжал Али со смехом. – Есть в деревне мулла, которому все кланяются, есть старшина, у которого сам вали останавливается, есть Мегемет-богач, который наворотил бы подушек до самого потолка и десяток баранов к ужину рад был бы зарезать. А ты взял и пошел ко мне, к бедняку! Должно быть, уж очень я тебе угоден? Скажи, очень?
– Да! Да! – ответил, улыбаясь, Аллах.
– Нет, ты скажи, действительно, я очень угоден тебе? – приставал Али. – Что ты все «да, да». Ты расскажи мне, как я угоден тебе?
– Да, да, да! Очень, очень, очень ты мне угоден! – со смехом отвечал Аллах.
– Так очень?
– Очень!
– Ну, ладно. Идем, Аллах, спать.
На следующее утро Али проснулся в еще лучшем расположении духа.
Весь день ходил, улыбаясь, думал что-то веселое и радостное. За ужином ел за троих и после ужина похлопал по коленке Аллаха.
– А я думаю, ты, Аллах, ужасно как должен радоваться, что я так тебе угоден? А? Скажи-ка по душе? Очень радуешься, Аллах?
– Очень! Очень! – улыбаясь, ответил Аллах.
– Я думаю! – сказал Али. – Я ведь, брат Аллах, по себе знаю. Мне даже, если собака какая угодна, так и то удовольствие доставляет ее видеть. Так, ведь, то собака, а то я! То я, а то ты, Аллах! Воображаю, как ты должен радоваться, на меня глядючи! Видишь перед собой такого угодного для тебя человека! Сердце-то, небось, играет?
– Играет, играет! Идем спать! – сказал Аллах.
– Ну, идем, пожалуй, и спать! – ответил Али.
– Изволь!
Следующий день Али ходил задумчивый, за ужином вздыхал, посматривал на Аллаха, и Аллах заметил, что Али раз даже незаметно смахнул слезу.
– Чего ты, Али, такой грустный? – спросил Аллах, когда кончили ужинать. Али вздохнул.
– Да вот о тебе, Аллах, задумался! Что бы с тобой было, если бы меня не было?
– Это как так? – удивился Аллах.
– Что бы ты стал без меня делать, Аллах? Посмотри-ка, на дворе какой ветер и холод, и дождь словно плетьми хлещет. Что было бы, если бы такого угодного тебе человека, как я, не было? Куда бы ты пошел? Замерз бы ты на холоду, на ветру, на дожде. Нитки бы на тебе сухой не было! А теперь сидишь ты в тепле, в сухости. Светло, и поел ты. А все почему? Потому что есть такой угодный тебе человек, к которому ты мог зайти! Погиб бы ты, Аллах, если б меня на свете не было. Счастливец ты, Аллах, что я на свете существую. Право, счастливец!
Тут Аллах уж не выдержал, звонко расхохотался и исчез из вида.
Только на скамье, где он сидел, лежала груда больших червонцев, в две тысячи штук.
– Батюшки! Какое богатство! – всплеснула руками жена Али. – Да что ж это такое? Да разве на свете бывает столько денег? Да я помешаюсь!
Но Али отстранил ее рукою от денег, пересчитал золотые и сказал:
– Ннемного!
СТАТИСТИКА
Индийская легенда
Гремели громы.
Магадэва был страшен в праведном гневе своем. Молнии его взоров прожигали небеса, и в прожженных небесах вспыхивали новые звезды, зловеще глядевшие на землю.
– Чудовищный мир обманов и лжи! – гремел Магадэва. И был голос его, как рев вод всемирного потопа. – Комок грязи! Моя ошибка!.. Ложь, как смрад, поднимается от тебя к небесам. И я не знаю правды, что делается там, на этой презренной земле.
В ярости ударил Магадэва жезлом по своим небесам. И из разверстого неба робкая, трепещущая и прекрасная предстала пред Магадэвой новая богиня. Ее звали – Статистика.
– Чего хочет бог богов, повелитель неба и земли? – преклоняя колени спросила она.
– Боги задобрены жертвами! – воскликнул Магадэва. – Ты не испорчена! Я только что создал тебя! Иди же на землю. Изучи все. И явись ко мне, чтобы сказать, что делается там, – там, на этой земле!
Богиня скользнула по облакам и по радуге сошла на землю. Она спустилась в священный город Кэнди[33].
– А на земле очень недурно! – сказала богиня, оглядываясь кругом, и улыбнулась.
На ее веселую улыбку ответил мрачной улыбкой шедший навстречу молодой человек.
Это был факир, занимавшийся умерщвлением плоти и возвышеннейшими мыслями о вещах, помещавшихся не ниже девятого неба.
Он был довольно космат, – но в общем ничего тебе. Богине он понравился, и богиня пошла за ним.
– Ну-с, будем заниматься возвышенными мыслями вместе! – сказал факир, когда богиня зашла за ним в его хижину. И они много говорили о том, что находится на девятом небе. Так много говорили, что сами занеслись на девятое небо и очутились там.
Когда же настало время обеда, – факир достал из маленького-маленького мешочка восемь зерен риса, – четыре положил перед богиней, четыре – перед собой и сказал:
– Ну-с, пообедаем!
«Эге! – подумала богиня. – А я-то сильно проголодалась!» И так как она была Статистика, – то и принялась за вычисления.
– Сколько зерен риса у тебя на день, мой тростник?
– Восемь, моя пальма.
Богиня попробовала разделить восемь на три. Ничего не вышло.
– Плохо дело! – сказала себе богиня. – Если этак, все путешествуя на девятое небо, мы окажемся со временем втроем… Плохая арифметика!
И так как богиня была женщиной, – она решила: – Нет, надо задать стрекача от этого лохматого факира! На восемь зерен не разгуляешься!
Богиня съела четыре зерна и, когда факир лег спать, пошла по улицам, думая: «Где бы пообедать?»
Перед ней вдруг, словно из-под земли, вырос молодой человек с необыкновенно белым лицом.
– Такая хорошенькая мисс, – и одна! – улыбнулся он, совсем не так мрачно, как лохматый факир.
– Я не мисс, а богиня! Белый молодой человек весело рассмеялся:
– Будьте моей богиней! Я ничего не имею против! – Меня зовут Статистикой!
– А меня Джоном. Зовите меня просто Джо. Милый Джо! Душка Джо! Как вам будет угодно! Я английский чиновник, прислан управлять этой землей, начальство. Но для вас я подчиненнейший из подчиненных. Позвольте предложить вам имбирного пива и пару-другую сандвичей!
И очень ловко изогнув руку, он предложил ее голодной богине.
Богине это очень понравилось, потому что было похоже на крендель.
В ресторане богиня поела сандвичей и думала: «А этот белобрысый куда лучше, чем лохматые факиры!» Богиня сказала:
– Мне хотелось бы с вами ходить в это прекрасное место почаще!
– Да хоть каждый день!
И Джо ее чмокнул так, что у богини зазвенело в ушах.
– Ну, Джо! Молодчина! – говорили Джону товарищи по службе. – С какой красоткой познакомился!
Джо был малый веселый и добрый.
– Хотите, познакомлю?
– Ее зовут?
– У этих индианок всегда странные имена! Вообразите, Статистикой!
В тот же вечер он явился в ресторан с компанией товарищей по службе:
– Богиня! Все английские чиновники! Делают тебе честь!
Статистика насчитала их восемь. Было выпито 30 бутылок имбирного пива.
– Мой друг! – сказала богиня Джону, который тянул шестую бутылку. – Мне кажется, ты пьешь слишком много?
– Вот, вздор! Тридцать бутылок, десять человек. По три бутылки на человека. Подать еще!
Богиня нашла, что это очень весело. На следующий вечер ужинали снова. И Джо, выпивший один восемь бутылок, сказал:
– Тридцать бутылок, десять человек. По три на брата. Подать еще!
Ужины шли каждый вечер.
– Статистика! – кричал Джо, осушая пятую бутылку. – Сколько я выпил?
Она смеялась звонким, веселым смехом, словно сотни птиц пели взапуски, и считала:
– Двадцать бутылок, десять человек. Значит, ты выпил две!
Так весело они проводили время, и Статистика выучилась чрезвычайно быстро считать. Но вот, однажды, в полночь, когда весь мир заснул, и на него загляделись звезды, – богиня услышала голос Магадэвы. Голос призывал ее.
Богиня предстала пред Магадэвой прикрашенная, подрумяненная, приодетая.
– А ты похорошела там, на земле! – с удовольствием сказал Магадэва.
– На земле хорошо! – с поклоном отвечала богиня.
– Изучила ли ты землю, как я повелел?
– Да, повелитель!
– Сейчас мы узнаем это! – сказал Магадэва и указал ей на землю:
– Видишь ту движущуюся точку?
– Да, это дженерикша, тащит в колясочке загулявшего до поздней ночи джентльмена!
– Бедняга дженерикша! Я хочу знать, как ему живется и что у него есть!
– Сию минуту! – отвечала Статистика и про себя сосчитала: «У джентльмена осталось в кармане после кутежа сто фунтов. Да у дженерикши есть два пенса. Итого, у двоих сто фунтов и два пенса. Значит, на каждого приходится…» – Готово, отец богов.
– Ну?
– На дженерикшу приходится пятьдесят фунтов и один пенс!
– Ого! – воскликнул с удовольствием Магадэва. – У них в городах даже бедные люди живут недурно! Посмотрим, как в деревнях… Вот среди пальмового леса, на берегу заснувшего озера, стоит залитая лунным светом деревня. Я хотел бы знать, сколько рабочих слонов приходится на каждого жителя?
Богиня сосчитала в уме:
«Сто жителей. У одного есть сто двадцать слонов. Он скупил все стадо по дешевой цене, когда все страшно нуждались. А теперь отдает их в работу по дорогой цене. Итого: сто двадцать слонов и сто жителей. Если разделить, это будет… это будет…»
– На каждого человека приходится больше чем по слону! воскликнула Статистика.
– Клянусь нирваной! – воскликнул Магадэва. – Да это больше, чем хорошо! Чего же жители этой планеты все жалуются? Не понимаю!
И он ласково потрепал по щеке похорошевшую на земле богиню:
– Скажи, однако, как ты выучилась так скоро и так точно считать?
– Меня выучили этому английские чиновники! – ответила Статистика.
– Молодцы английские чиновники! – сказал Магадэва. Богиня сияла.
ДАР СЛОВА
Индийская легенда
Брама творил.
Полный радости, полный веселья, – он мыслил и грезил. И лишь только мысль родилась в его божественной голове, – она сейчас же воплощалась на земле.
Поднимались горы с вершинами, покрытыми снегом, который сверкал на солнце, как серебро, осыпанное брильянтами. Земля покрывалась цветами и ковром изумрудной травы. Вырастали кудрявые рощи, леса, – и из их чащи выпрыгивали полосатые тигры, пятнистые леопарды. Змеи, сверкавшие всеми цветами радуги, вились вокруг деревьев. И птицы пели мысли Брамы.
Когда Брама улыбался, из лесов выходили неуклюжие, важные, огромные слоны, и проворные обезьяны начинали с визгом прыгать, кувыркаться, ломаться среди ветвей.
Из земли били ключи прозрачной, как кристалл, воды. С веселым шумом по долинам неслись реки и, с криком превращаясь в алмазную пыль, спрыгивали с утесов в пропасть.
И все ото, – горы, долины, цветы, водопады, – все было воплотившимися на земле грезами Брамы.
Опьяненный творчеством, Брама воскликнул:
– Как все прекрасно! Но я хочу совершенства!
И в тот же миг на поляну пестревшую цветами, из чащи лиан, навстречу друг другу, вышли два прекрасных существа. Они были красивее, чем все, что было создано до сих пор. Мужчина и женщина.
Линиями их тела залюбовался сам Брама, а их мерцавшие неземным светом глаза с восторгом, с любовью, со страстью встретились взглядами. И руки связали их объятиями.
Они были хороши, как греза молодого бога – Брамы. Все любовалось ими.
Птицы гремели гимны в чаще листвы, воспевая их красоту. Звери смотрели на них из-за кустов, из-за деревьев, любуясь ими, полные восторга.
Цветы посылали им свой аромат, как привет. И все ожило на земле с появлением прекрасных существ. Громче зазвенели хоры птиц, благоуханнее запахли цветы, горячее стали лучи солнца.
А когда на землю спустилась ночь, – на небо высыпали мириады любопытных звезд полюбоваться людьми.
И Брама радостно смеялся, как творец, создание которого вызвало всеобщий восторг.
Вишну спал. Как спят-боги, которым не о чем думать, – они все знают. Для которых нет тревог, потому что нет будущего, потому что они видят все впереди. Но не спал мрачный, суровый, черный Шиву. Бог огня, словно спаленный стихией, которой он повелевал. Грозный и завистливый, смотрел он на творения Брамы и толкнул спящего Вишну:
– Проснись, бог! – сказал он мрачно. – Конец твоему покою! Твоему торжеству! Твоему совершенству! Теперь уж не нам будет воздавать хвалу вся природа. Не мы совершенство, – а люди, последнее творение Брамы. Взгляни, как все поклоняется им, как все восторгается ими, – ими, в которых нет ни одного недостатка! Браме было мало создать храм природу. Он создал еще и бога этому храму, – людей. Зачем теперь мы?!
И взволнованный словами Шиву, Вишну смотрел спросонья, мрачно и недовольно, на последнее творение Брамы.
– Мы должны помешать Браме создать новых богов! – сказал Шиву. Он лишит власти себя и нас, – не должно быть на земле совершенства! Тогда будет упразднено небо! – Не должно! – тихо подтвердил Вишну. И Шиву ласковым голосом обратился к Браме: – Как прекрасно последнее создание твоей творческой мысли! Поистине, оно превосходит все, что грезилось тебе до сих пор. Я полон восторга. Позволь же и мне одарить этих богов земли, этих созданных тобою людей! Позволь мне еще украсить их совершенство и наградить их таким даром, какого никто не имеет на земле! Брама взглянул на него спокойно и ясно и сказал:
– Твори!
Шиву улыбнулся злою улыбкой и подарил людям дар слова. Разверзлись молчавшие до сих пор уста, – и все мысли их полились по языку.
Минуту они с восторгом слушали друг друга. Через минуту заспорили.
К вечеру ненавидели, утром презирали друг друга. Мужчина рвал на себе волосы и в отчаянии кричал:
– Как она глупа! Как она глупа!
Женщина рыдала и затыкала уши:
– Как он груб!
Они кричали друг другу:
– Молчи! Молчи!
И, наконец, кинулись друг на друга со сжатыми кулаками, с глазами, горевшими ненавистью. Над ними звонко хохотали птицы. Презрительно улыбались звери.
Больше никому не приходило в голову любоваться, восторгаться ими.
Глупость больше не была скрыта – и фонтаном била из их уст.
Брама в ужасе глядел на них:
– Какие глупые мысли гнездятся в их головах! Зачем, зачем они показывают их наружу? Зачем, зачем они говорят?!
И Шиву, радостно улыбаясь, сказал Вишну:
– Теперь засни! Будь спокоен! Безумная затея Брамы разрушена навсегда! Нет совершенства на земле! Пусть говорят его люди!
И Вишну спокойно заснул.
Так дан был человеку дар слова, сделавший его самым несносным из животных.
СУД
Из мавританских легенд
Утром, светлым и веселым, сидел халиф Махоммет в великолепном зале суда в Альгамбре[34], на резном троне из слоновой кости, окруженный евнухами, окруженный слугами. Сидел и смотрел. Утро было прекрасно.
На небе не было ни облачка, ни паутинки от облачка. Двор Львов был словно покрыт куполом из синей эмали. В окно глядела долина, изумрудная, с цветущими деревьями. И этот вид в окне казался картиной, вставленной в узорную раму.
– Как хорошо! – сказал халиф. – Как прекрасна жизнь. Введите тех, кто своими отвратительными поступками отравляет тихие радости жизни!
– Халиф! – ответил главный евнух. – Сегодня пред твоей мудростью и правосудием предстанет только один преступник!
– Введите его…
И Сефардина ввели. Он был босой, грязный, в рубище. Руки его были скручены веревками назад. Но Сефардин позабыл о веревках, когда его ввели во Двор Львов.
Ему показалось, что его уже казнили и что душа его уже перенеслась в рай Магомета. Пахло цветами.
Букеты брильянтов взлетали над фонтаном, покоившимся на десяти мраморных львах.
Направо, налево в арки были видны покои, устланные узорными коврами.
Разноцветные мозаичные стены кидали отблеск золотой, синий, красный. И покои, из которых веяло ароматом и прохладой, казались наполненными золотым, голубым, розовым сумраком.
– Падай на колени! Падай на колени! – шептали стражи, толкая Сефардина. – Ты стоишь перед халифом.
Сефардин упал на колени и зарыдал. Он еще был не в раю, – ему еще предстояли суд и казнь.
– Что сделал этот человек? – спросил халиф, чувствуя, что в сердце его шевельнулось сожаленье.
Евнух, избранный, чтоб обвинять без страсти и без жалости, ответил:
– Он убил своего товарища.
– Как? – разгневанный, воскликнул Махоммет. – Ты лишил жизни себе подобного?! Из-за чего этот негодяй совершил величайшее из преступлений?
– По самому ничтожному поводу! – отвечал евнух. – Они подрались из-за куска сыра, который обронил кто-то и который они нашли на дороге.
– Из-за куска сыра! Правый аллах! – всплеснул руками Махоммет.
– Это не совсем правда! – пробормотал Сефардин. – Это не был кусок сыра. Это была только корка от сыра. Ее не обронили, а бросили. В надежде, что найдет собака. А нашли люди.
– И люди погрызлись, как собаки! – с презрением заметил евнух.
– Злей, чем собаки! – добавил Сефардин.
– Замолчи, несчастный! – крикнул вне себя от гнева Махоммет. Каждым словом ты туже затягиваешь петлю на своей глотке! Из-за корки сыра! Взгляни, презренный! Как жизнь прекрасна! Как жизнь прекрасна! И ты лишил его всего этого!
– Если бы я знал, что жизнь такова, – отвечал Сефардин, оглядываясь кругом, – я никогда и никого бы не лишил ее! Халиф! Говорит всякий, слушает – мудрец. Выслушай меня, халиф!
– Говори! – приказал Махоммет, сдерживая свое негодование.
– Великий халиф! Жизнь здесь, на Священной горе, и жизнь там, в долине, откуда меня привели, – две жизни, халиф. Позволь мне задать тебе вопрос!
– Спроси.
– Видел ли ты когда-нибудь во сне корку хлеба?
– Корку хлеба? – удивился халиф. – Такого сна я не припомню!
– Ну, да! Корку хлеба! Вспомни хорошенько! – продолжал, стоя на коленях Сефардин. – Корку хлеба, которую кинули. Корку хлеба, облитую помоями. Покрытую плесенью, грязью. Корку хлеба, которую нюхала собака и не стала есть. И хотелось ли тебе съесть эту корку хлеба, халиф? Протягивал ли ты к ней руку, дрожащую от жадности? И просыпался ли ты в эту минуту, в ужасе, в отчаянии: корка, облитая помоями, корка, покрытая плесенью и грязью, – только снилась! Это было только во сне.
– Такого странного, такого низкого сна я еще не видел никогда! выкликнул халиф. – Я вижу сны. Армии врагов, которые бегут перед моими всадниками. Охота в мрачных ущельях. Диких коз, которых я поражаю меткой, звенящей в воздухе стрелой. Иногда мне снится рай. Но такого странного сна я не видел никогда.
– А я видел его каждый день и всю мою жизнь! – тихо ответил Сефардин. – Во всю мою жизнь я не видел другого сна! И тот, кого я убил, во всю его жизнь не видел другого сна, кроме этого. И никто у нас в долине никогда не видел ничего другого. Нам снится корка грязного хлеба, как тебе победа и рай.
Халиф сидел молча и думал.
– И ты убил в споре своего друга?
– Убил. Да. Если бы он жил, как твои слуги, в Альгамбре, – я лишил бы его радостей жизни. Но он жил в долине, как и я. Я лишил его страданий. Вот все, чего я его лишил.
Халиф все сидел молча и размышлял.
И как тучи собираются на вершине гор, собирались морщины на его челе.
– Закон ждет от тебя слова правосудия! – осмелился прервать молчание халифа евнух-обвинитель. Махоммет взглянул на Сефардина.
– Он ждет, чтобы его также освободили от страданий? Развяжите его и пустите. Пусть живет.
Все кругом не смели верить своим ушам: так ли они слышат?
– Но законы?! – воскликнул евнух. – Но ты, халиф! Но мы! Мы все, обязанные соблюдать законы.
Махоммет с грустной улыбкой посмотрел на его испуганное лицо.
– Мы постараемся, чтобы ему впредь снились сны получше, и чтобы он не грызся, как собака, из-за корки сыра! И он встал в знак того, что суд окончен.
КИТАЙСКАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Из сказок Небесной империи
Мандарин Чин-Хо-Зан был премудрым судьею. А так как мудрые судьи редкость в Китае, – то к Чин-Хо-Зану приходили судиться даже из чужих провинций. Сколько ни брал взяток Чин-Хо-Зан, – не это изнуряло старика.
Главное, что повторялось всегда одно и то же. Когда разбиралось уголовное дело, обвиняемый падал в ноги судье и вопил:
– Чин-Хо-Зан, бойся увлеченья! Мое дело гражданское, и уголовного в нем ничего нет. Присуди с меня деньги, если у тебя хватит на это совести, моему обидчику. Но в тюрьму меня сажать не за что. Дело о деньгах! Дело гражданское. И суди меня по законам гражданским, а не по уголовным.
Когда же разбиралось дело гражданское, тогда кидались в ноги оба: и ответчик, и истец. Истец вопил:
– Чин-Хо-Зан, бойся состраданья! Что мне из того, что ты взыщешь с него деньги? Ты в тюрьму его засади! Это дело не гражданское! Каналья не хочет платить того, что должен! Это мошенничество! Это дело уголовное! А ответчик в это время, валяясь в ногах, плакал: Чин-Хо-Зан! Хочешь раз в жизни быть справедливым? Засади в тюрьму бестию, которая требует денег с тех, кто ему не должен! Чистейшее мошенничество! Чин-Хо-Зан! Что из того, если ты в гражданском порядке откажешь ему в иске? В тюрьму его, подлеца! Это дело уголовное!
Это повторялось всю жизнь, – и в конце концов надоело Чин-Хо-Зану. Китайская пословица говорит:
– Девятая тарелка самой вкусной похлебки уже не вкусна.
Так как у Чин-Хо-Зана было два сына, взрослых молодца, – то он призвал их и сказал:
– Довольно вам бить баклуши в Китае. Вот вам денег! Поезжайте в Европу. Есть такая страна. Туда и солнце является с запозданием. Заплатите деньги и учитесь. Там знанием торгуют, как у нас провизией. Стараясь сбыть тухлятину. И есть там, я слышал, две такие науки. Гражданское право и уголовное. Ты изучишь гражданское, а ты уголовное. И вернетесь сюда и расскажете. И буду я знать, наконец, чем отличается гражданское дело от уголовного. Ступайте!
Дети собрались и со многими слезами поехали в Европу. Четыре года пропадали они в Европе. Все ездили с места на место и везде учились. Отец получал письма с самыми странными названиями городов. То «Па-Риж», то «Лон-Дон», то «Ве-На», то «Бер-Лин».
А один раз в заголовке письма было написано: – Moulin-Rouge[35].
Каждое письмо заканчивалось словами:
– Варвары жадны. Знание сладко. А посему пришли нам еще денег.
Наконец, это надоело старику. Однажды, получа такое письмо, он не послал денег.
И через тридцать дней и ночей сыновья вернулись. Вернулись худые, тощие, со впалыми глазами, едва стоя на дрожащих ногах.
– Хочу думать, что это от наук! – сказал Чин-Хо-Зан и велел сыновьям:
– Рассказывайте мне все, чему вы выучились в далекой стране, куда даже солнце доходит с опозданием. Сначала ты, мой старший сын, расскажи мне, что такое гражданское дело, а потом ты, мой младший, расскажи мне об уголовном. Чтоб знал я, старик, как разбираться мне в делах тяжущихся.
Сыновья поклонились и начали.
Сначала старший сын два часа рассказывал, что такое, по науке о праве, дело гражданское.
Потом младший подробно, в течение трех часов излагал, какое дело надо считать уголовным. Уж солнце устало и стало склоняться к закату. Устал и старик.
– Кончили, наконец? – спросил он.
– Кончили.
– Фу-у!
Чин-Хо-Зан с минуту подумал, улыбнулся и сказал:
– Вижу, действительно, что белые варвары торгуют знанием, как наши торговцы свининой. Стараются взять побольше денег и сбыть тухлятину! Бамбуками бы их по пяткам. Пять часов несли какую-то ахинею! А, по-моему, дело просто. В уголовном деле ясен один мошенник. Тот, который сидит на скамье подсудимых. А гражданским называется такое, где трудно разобраться, кто мошенник: тот ли, кто ищет, или тот, с кого взыскивают. Вот и все различие между гражданским процессом и уголовным. А посему и надлежит: в уголовном процессе давать бамбуками по пяткам одному, а в гражданском обоим тяжущимся. Так это просто!
И все дивились юридическому инстинкту премудрого китайца.
ХАН И МУДРЕЦ
Кавказская легенда
Это было в далекие-далекие времена, когда и Машук и Бештау[36], и весь этот край вплоть до дальних снеговых кряжей принадлежали хану Аббасу.
Был Аббас стар и силен, храбр и мудр.
И все Аббаса уважали, потому что все Аббаса боялись. Занимался Аббас тем, чем занимались все в те времена. Единственным благородным занятием: воевал с соседями. В свободное от войны время – охотился. А в свободное от охоты время – предавался мудрости. Ханская ставка была полна мудрецами. Только мудрецы-то не были мудры. И вся мудрость мудрецов состояла в том, что они умели хану угождать. И все племя молило аллаха: – Пошли, аллах, Аббасу мудрых мудрецов. Однажды под вечер поехал Аббас верхом без провожатых в горы полюбоваться, как дрожат и умирают на вершинах розовые лучи заката, а из ущелий поднимается черная ночь.
Доехал Аббас до того места, где словно облитые кровью лезут из земли огромные красные камни.
Соскочил с лошади старый Аббас и, словно юноша, взбежал на самую высокую скалу.
На скале за выступом сидел старый мулла Сефардин. Увидал Аббаса встал и поклонился.
– Здравствуй, мудрец! – сказал Аббас.
– Здравствуй, хан! – отвечал Сефардин. И, уступая свое место, добавил: – Место власти!
– Место мудрости! – ответил хан и предложил Сефардину садиться:
– Тот, кто приветствует мудрость, приветствует славу аллаха!
– Тот, кто приветствует власть, приветствует веление неба! отвечал Сефардин. И они сели рядом.
Перед ними вдали, за горными хребтами, словно две белые папахи, сверкали на солнце две главы Эльбруса.
Солнце спускалось ниже и ниже к горам. По белым вершинам потянулись голубые тени.
Лучи заката стали розовыми, и, словно две горы роз, загорелись вершины Эльбруса.
– Что ты тут делаешь, мудрец? – спросил Аббас.
– Читаю! – ответил Сефардин.
И так как Аббас с удивлением взглянул на пустые руки Сефардяна, Сефардин улыбнулся и показал рукою кругом:
– Самую мудрую из книг. Книгу аллаха. Аллах написал горами по земле. Видишь, аллах написал извилинами реки по долине. Аллах написал цветами по траве и звездами на небе. День и ночь можно читать эту книгу. Книгу, в которой аллах написал свою волю.
– Пусть будет благословен пророк, что в свободный час послал мне мудрого для беседы! – сказал Аббас, касаясь рукой чела и сердца. Ответь мне на три вопроса, мудрец!
– Постарайся задать вопросы, над которыми стоило бы подумать, отвечал Сефардин, – а я постараюсь на них ответить, если смогу.
– Люди родятся и умирают! – сказал Аббас. – Зачем они живут? Я часто спрашивал об этом своих мудрецов. Один говорит: «Для счастья!» Но есть и несчастные на свете. Другой говорит мне: «Для славы!» Но позора на свете больше, чем славы. Разве можно жить, не зная, зачем люди живут? Сефардин пожал плечами:
– Однажды ты, великий хан, послал гонца к соседнему хану Ибрагиму. Дал ему письмо, как следует перевязав шелковым шнурком и припечатав своим перстнем. И велел гонцу: «Не останавливаясь, лети к хану Ибрагиму и отдай ему это письмо». Дело было под ночь. Полетел гонец через скалы, через ущелья, по таким тропинкам, по которым и туру проскакать только днем. Ветер горный, ледяной, свистал ему в уши, рвал на нем одежду. И ни на мгновенье ока нельзя было выпустить лука из рук, – вдруг выскочат разбойники. И на каждый куст надо было смотреть в оба: не сидит ли засада. И спросил себя гонец: «Хотел бы я знать, что ж такое пишет хан Аббас хану Ибрагиму, что заставляет ночью, в стужу, среди опасностей лететь над пропастями человека?» Остановился гонец, разжег огонь, сломал твою ханскую печать, разорвал шелковый шнурок и прочел письмо. Что теперь было делать гонцу? К хану Ибрагиму нельзя привезти прочитанного письма без шнурка и без печати. И к тебе вернуться нельзя: как мог сломать печать и открыть письмо. Да еще вдобавок, – рассмеялся Сефардин, – прочитав письмо, гонец в нем ничего не понял. Потому что писал ты, хан, Ибрагиму о ваших с ним делах, гонцу совсем неизвестных. Дал тебе аллах жизнь нести, – неси. Аллах умнее самых мудрых. Он знает – зачем. А мы, если бы и узнали, может, все равно не поняли бы. Это дело аллаха.
– Хорошо! – сказал Аббас. – Преклонимся пред волей аллаха! Но я, хан, живу, – и последний погонщик ослов тоже живет. Надо жить. Пусть будет так. Но кем же надо жить?
– Был на свете, – ответил Сефардин, – один такой же мудрый и благочестивый человек, как ты. И молил он аллаха: «Сделай меня, премудрый, таким существом, чтоб никому я не мог принести зла, самой маленькой букашке». Услышал его молитву аллах и сделал благочестивого человека муравьем. Ушел муравей в лес, очень довольный: «Теперь-то уж я никому не могу принести вреда». И стал жить. Только в первый же день около самого муравейника, где поселился муравей, волк нагнал испуганную козочку и стал драть. И есть-то волку не хотелось, – так, просто волчья природа: не может видеть животного, чтобы не задрать. А козочка умирала в мучениях под его зубами и когтями, и крупные слезы лились из ее огромных, печальных и страдальческих глаз. Страшны были ее мучения. А муравей должен был смотреть на все это. Что он мог сделать? Взлезть на волка и укусить? И думал муравей: «Был бы я львом – бросился бы на волка и не дал бы ему терзать козочки. Зачем я не лев?» Кем лучше быть, Аббас?
– Послушай, – воскликнул хан, – как усталый путник из кристального горного ключа, пью я слова твоей мудрости. Ведь мы были когда-то дружны!
– Были! – отвечал Сефардин с печальной улыбкой.
– Так почему же теперь не доходят до меня лучи твоей мудрости? И окружен я какими-то невеждами, которые только сами себя зовут мудрыми?!
– Зайдем за этот камень, – сказал Сефардин, – я отвечу тебе на твой третий вопрос. Они зашли за камень.
– Теперь сядем и полюбуемся на Эльбрус, – сказал Сефардин.
– Как же любоваться, когда его теперь не видно? – с изумлением воскликнул Аббас.
– Как не видно?
– Из-за камня не видно.
– Из-за камня?… Эльбруса?
Сефардин рассмеялся и покачал головой:
– Эльбрус такой огромный. А камень что в сравнении с Эльбрусом? Разве только сам себя может считать горою! И из-за него не видно Эльбруса! А Эльбрус теперь должен быть очень красив! Правда, хан, досадно на камень, что он закрывает от нас Эльбрус?
– Конечно, досадно! – согласился хан.
– Чего же ты сердишься на камень, – улыбнулся Сефардин, – когда ты сам за него зашел? Кто тебе велел? Сам своей волей зашел за камень, а на него сердишься, что не видишь Эльбруса!
По лицу хана пошли сердитые тучи.
– Ты дерзок, – сказал он. – А не боишься ты, что я и разгневаться могу на такую мудрость? Мулла покачал головою:
– Рассердись на воздух. Что будет толку? Разгневайся на воду. Что ты ей сделаешь? Рассердись на землю. Точно так же сердиться и на мудрость. Мудрость разлита аллахом на земле!
Хан улыбнулся.
– Спасибо, старик!
И они вместе сошли со скал.
Сефардин поддержал стремя, Аббас вскочил на коня.
– А если мне захочется посмотреть Эльбрус и послушать истинную мудрость? – спросил хан.
– Тогда выйди из-за камней, за которые сам зашел! – сказал Сефардин.
Хан тронул коня и весело крикнул мулле:
– Так, значит, до свиданья, мудрец!
А Сефардин печально ответил ему:
– Прощай, хан!
МУЖ И ЖЕНА
Персидская сказка
– Удивительно создан свет! – сказал мудрец Джафар.
– Да, надо сознаться, престранно! – ответил мудрец Эддин. Так говорили они пред премудрым шахом Айбн-Муси, который любил стравить между собою мудрецов и посмотреть, что из этого выйдет премудрого.
– Ни один предмет не может быть холоден и горяч, тяжел и легок, красив и безобразен в одно и то же время! – сказал Джафар. – И только люди могут быть в одно и то же время близки и далеки.
– Это как так? – спросил шах.
– Позволь мне рассказать тебе одну историю! – ответил с поклоном Джафар, довольный, что ему удалось завладеть вниманием шаха.
А Эддин в это время чуть не лопался от зависти.
– Жил в лучшем из городов, в Тегеране, шах Габибуллин, – шах, как ты. И жил бедный Саррах. И жили они страшно близко друг от друга. Если бы шах захотел осчастливить Сарраха и пройти к нему в хижину, – он дошел бы раньше, чем успел бы сосчитать до трехсот. А если бы Саррах мог пройти во дворец шаха, – он дошел бы и того скорее, потому что бедняк всегда ходит скорее шаха: ему больше в привычку. Саррах часто думал о шахе. И шах иногда думал о Саррахе, потому что как-то по дороге видел Сарраха, плакавшего над издохшим последним ослом, и по милосердию своему спросил имя плачущего, чтоб упоминать его в своих вечерних молитвах: «Аллах! Утешь Сарраха! Пусть Саррах больше не плачет!» Саррах иногда задавал себе вопрос:
«Хотел бы я знать, на каких конях ездит верхом шах? Я думаю, что они кованы не иначе, как золотом, и так раскормлены, что просто ноги раздерешь, когда сядешь верхом!» Но сейчас же отвечал себе:
«Экий я, однако, дурень! Станет шах ездить верхом! За него ездят верхом другие. А шах, наверное, целый день спит. Что ему больше делать? Конечно же спит! Нет занятия лучше, как спать!»
Тут Сарраху приходило в голову:
«Ну, а есть-то как же? Шах должен и есть. Тоже занятие не вредное! Хе-хе! Поспит, поест и опять заснет! Вот это жизнь! И есть не что-нибудь, а всякий раз нового барана. Увидит барана, сейчас зарежет, изжарит и съест в свое удовольствие. Хорошо!.. Только и я-то дурень! Станет шах, словно простой мужик, всего барана есть. Шах выедает барану только почки. Потому почка – самое вкусное. Зарежет барана, отъест ему почки и другого зарежет! Вот это шахская еда!» И вздохнул Саррах:
«И блохи же, я думаю, у шаха! Жирные! Что твои перепела! Не то, что у меня – дрянь, есть им нечего. А у шаха и блохи должны быть, как ни у кого. Откормленные!»
Шах же, когда ему вспоминался плачущий над издохшим ослом Саррах, думал:
«Бедняга! И с вида-то он худ. От плохой еды. Не думаю, чтоб каждый день у него жарилась на вертеле горная козочка. Я думаю, питается одним рисом. Хотел бы я знать, с чем он готовит плов, – с барашком или с курицей?»
И захотел шах увидеть Сарраха. Одели Сарраха, вымыли и привели к шаху.
– Здравствуй, Саррах! – сказал шах. – Мы с тобой близкие соседи!
– Да, не дальние! – отвечал Саррах.
– И хотел бы я поговорить с тобой по-соседски. Спроси у меня, что ты хочешь. А я у тебя спрошу.
– Рад служить! – отвечал Саррах. – А спрос у меня невелик. Одна вещь не дает мне покоя. Что ты силен, богат, – я знаю. У тебя много сокровищ, – это я, и не глядя, скажу. Что у тебя на конюшне стоят великолепные лошади, – тут и задумываться нечего. А вот прикажи мне показать тех блох, которые тебя кусают. Какие у тебя сокровища, лошади, – я себе представляю. А вот блох твоих прямо себе представить не могу!
Диву дался шах, пожал плечами, с удивлением оглядел всех:
– В толк взять не могу, о чем говорит этот человек. Какие такие блохи? Что это такое? Должно быть, просто в тупик хочет меня поставить этот человек. Ты, Саррах, вот что! Вместо того, чтобы разговаривать о каких-то там камнях или деревьях, – что такое эти твои «блохи»? – ты мне ответь-ка лучше сам на мой вопрос.
– Спрашивай, шах! – с поклоном отвечал Саррах. – Как перед пророком, ничего не скрою.
– С чем ты, Саррах, готовишь свой плов: с барашком или с курицей? И что ты туда кладешь: изюм или сливы?
Тут Саррах глаза вытаращил, на шаха с изумлением взглянул:
– А что такое плов? Город или река?
И смотрели они друг на Друга с изумлением.
– Так только люди могут быть, повелитель, в одно и то же время близки и далеки друг от друга! – закончил мудрый Джафар свой рассказ.
Шах Айбн-Муси рассмеялся:
– Да, диковинно устроен свет!
И, обратившись к мудрецу Эддину, который позеленел от успеха Джафара, сказал:
– Что ты на это скажешь, премудрый Эддин? Эддин только пожал плечами:
– Повелитель, прикажи послать за женою Джафара! Пусть она принесет мой ответ.
И пока слуги бегали за женою Джафара, Эддин обратился к мудрецу:
– Пока ходят за твоей достойной супругой, Джафар, будь добр, ответь нам на несколько вопросов. Давно ли ты женат?
– Двадцать лет полных! – отвечал Джафар.
– И все время живешь с женой неразлучно?
– Какой странный вопрос! – пожал плечами Джафар. – Шляется с места на место дурак. Умный сидит на одном месте. Он, и сидя у себя дома, мысленно может обтекать моря и земли. На то у него и ум. Я никогда, благодаренье аллаху, не имел надобности выезжать из Тегерана, – и, конечно, прожил с женой неразлучно.
– Двадцать лет под одной кровлей? – не унимался Эддин.
– У всякого дома одна только кровля! – пожал плечами Джафар.
– Скажи же нам, что думает твоя жена?
– Странный вопрос! – воскликнул Джафар.
– Ты, Эддин, конечно, мудрый человек. Но сегодня в тебе сидит словно кто-то другой и говорит за тебя. Выгони его, Эддин! Он говорит глупости! Что может думать жена человека, который всеми признан за мудреца? Разумеется, она рада, что аллах послал ей мудреца в спутники и наставники. Она счастлива этим и гордится. И все. Я не спрашивал ее об этом. Но разве спрашивают днем: «теперь светло?» – а ночью: «теперь на улице темно?» Есть вещи, которые разумеются сами собою.
В это время привели жену Джафара, всю в слезах. Конечно, когда старую женщину зовут к шаху, она всегда плачет, – думает, что ее накажут. Зачем же больше звать?
Шах, однако, успокоил ее ласковым словом и, крикнув, чтоб не плакала, спросил:
– Скажи нам, жена Джафара, счастлива ли ты, что замужем за таким мудрецом?
Женщина, видя, что ее не наказывают, взяла волю и начала говорить не то, что следует, а то, что думает.
– Уж какое там счастье! – воскликнула жена Джафара, вновь разражаясь слезами, словно глупая туча, из которой дождь идет по два раза в день. – Какое счастье! Муж, с которым двух слов сказать нельзя, который ходит и изрекает, словно он коран наизусть выучил! Муж, который думает о том, что делается на небе, и не видит, что у жены последнее платье с плеч валится! Смотрит на луну в то время, как у него со двора уводят последнюю козу. За камнем веселее быть замужем. Подойдешь к нему с ласкою, – «женщина, не мешай! Я думаю!» Подойдешь с бранью, – «женщина, не мешай! Я думаю!» Детей даже у нас нет. За таким дураком быть замужем, который вечно думает и ничего не придумает, какое же счастье! Да обережет аллах всякую, кто добродетельно закрывает свое лицо!
Шах расхохотался.
Джафар стоял весь красный, смотрел в землю, дергал себя за бороду и топал ногой. Эддин посмотрел на него насмешливо и, довольный, что уничтожил соперника, с глубоким поклоном сказал шаху:
– Вот мой ответ, повелитель! С людьми, которые долго смотрят на звезды, это бывает. Они и шапку, как свою судьбу, начинают искать среди звезд, а не на своей голове. То, что сказал мой премудрый противник Джафар, совершенно верно! Удивительно создан свет. Ничто не может быть одновременно и тепло, и холодно, только люди могут быть и близки, и далеки в одно и то же время. Но меня удивляет, зачем ему понадобилось за примерами ходить в грязную хижину какого-то Сарраха и топтать своими ногами полы шахского дворца. Стоило заглянуть под крышу собственного дома. Шах, всякий раз, как ты захочешь видеть это чудо, людей, которые были бы близки и далеки друг от друга в одно и то же время, – не надо ходить далеко. Это ты найдешь в любом доме. Возьми любого мужа и жену.
Шах остался доволен и подарил Эддину шапку.
ПРАВДА И ЛОЖЬ
Персидская сказка
Однажды на дороге близ большого города встретились Лжец и человек Правдивый.
– Здравствуй, Лжец! – сказал Лжец.
– Здравствуй, Лжец! – ответил Правдивый.
– Ты чего же ругаешься? – обиделся Лжец.
– Я-то не ругаюсь. Вот ты-то лжешь.
– Такое мое дело. Я всегда лгу.
– А я всегда говорю правду.
– Напрасно!
Лжец засмеялся.
– Велика штука сказать правду! Видишь, – стоит дерево. Ты и скажешь: «стоит дерево». Так это и всякий дурак скажет. Нехитро! Чтоб соврать, надо что-нибудь придумать, а чтоб придумать – надо все-таки мозгами поворочать, а чтоб ими поворочать – надо их иметь. Лжет человек, – значит ум обнаруживает. А правду говорит, – стало быть, дурак. Ничего придумать не может.
– Лжешь ты все! – сказал Правдивый. – Выше правды ничего нет. Правда украшает жизнь!
– Ой ли? – опять засмеялся Лжец. – Хочешь пойдем в город, попробуем. – Пойдем!
– Кто больше людей счастливыми сделает: ты со своей правдой, я ли с моей ложью. – Идем. Идем. И пошли они в большой город.
Был полдень, а потому было жарко. Было жарко, а потому на улицах ни души не было. Только собака какая-то дорогу перебежала.
Лжец и Правдивый зашли в кофейню.
– Здравствуйте, добрые люди! – приветствовали их сидевшие, словно сонные мухи, в кофейне и отдыхавшие под навесом люди. – Жарко и скучно. А вы люди дорожные. Расскажите нам, не встречали ли чего любопытного в пути?
– Ничего и никого я не видал, добрые люди! – отвечал Правдивый. В такую жару все по домам да по кофейням сидят попрятавшись. Во всем городе только собака какая-то перебежала дорогу.
– А я вот, – сказал Лжец, – сейчас на улице тигра встретил. Тигр перебежал мне дорогу.
Все вдруг ожили. Как истомленные зноем цветы, если взбрызнут их водою.
– Как? Где? Какого тигра?
– Какие бывают тигры? – отвечал Лжец. – Большой, полосатый, клыки оскалил – вот! Когти выпустил – вот! По бокам себя хвостом лупит, видно зол! Затрясся я, как он из-за угла вышел. Думал – на месте умру. Да – слава аллаху! Он меня не заметил. А то не говорить бы мне с вами! – В городе тигр!
Один из посетителей вскочил и во все горло крикнул:
– Эй, хозяин! Вари мне еще кофе! Свежего! До поздней ночи в кофейне сидеть буду! Пусть жена дома кричит хоть до тех пор, пока жилы на шее лопнут! Вот еще! Как я домой пойду, когда по улицам тигр ходит!
– А я пойду к богачу Гассану, – сказал другой. – Он мне хоть и родственник, но не очень-то гостеприимен, нельзя сказать. Сегодня, однако, как начну рассказывать про тигра в нашем городе, расщедрится, угостит и барашком, и пловом. Захочется, чтобы рассказал поподробнее. Поедим за тигрово здоровье!
– А я побегу к самому вали! – сказал третий. – Он сидит себе с женами, да прибавит ему аллах лет, а им красоты! И ничего, чай, не знает, что в городе делается! Надо ему рассказать, пусть сменит гнев на милость! Вали мне давно грозит: «Я тебя в тюрьму посажу!» Говорит, будто я вор. А теперь простит, да еще деньгами наградит, – что первый ему такое важное донесение сделал!
К обеду весь город только и говорил, что на улицах бродит тигр.
Сотня людей самолично его видела:
– Как не видать? Как вот тебя теперь вижу, – видел. Только, должно быть, сыт был, не тронул. А к вечеру и жертва тигра обнаружилась. Случилось так, что в тот самый день слуги вали поймали одного воришку.
Воришка стал было защищаться и даже одного слугу ударил.
Тогда слуги вали повалили воришку и поусердствовали так, что уж вечернюю молитву воришка отправился творить пред престолом аллаха.
Испугались слуги вали своего усердия. Но только на один миг.
Побежали они к вали, кинулись в ноги и донесли:
– Могущественный вали! Несчастье! В городе появился тигр и одного воришку насмерть заел!
– Знаю, что тигр появился. Мне об этом другой вор говорил! отвечал вали. – А что воришку съел, – беда невелика! Так и надо было ожидать! Раз тигр появился, – должен он кого-нибудь съесть. Премудро устроен свет! Хорошо еще, что вора!
Так что с тех пор жители, завидев слуг вали, переходили на другую сторону.
С тех пор как в городе появился тигр, слуги вали стали драться свободнее.
Жители почти все сидели взаперти. И если кто заходил рассказать новости про тигра, того встречали в каждом доме с почетом, угощали чем могли лучше:
– Бесстрашный! Тигр в городе! А ты по улицам ходишь!
К богачу Гассану явился бедняк – юноша Казим, ведя за руку дочь Гассана, красавицу и богатую невесту Рохэ. Увидав их вместе, Гассан затрясся весь от злости:
– Или на свете уж больше кольев нет? Как посмел ты, нищий и негодяй, в противность всем законам, правилам и приличиям, обесчестить мою дочь, дочь первого богача: по улице с ней вместе идти?
– Благодари пророка, – отвечал с глубоким поклоном Казим, – что хоть как-нибудь к тебе дочь да пришла! А то бы видел ты ее только во сне. Дочь твою сейчас чуть было тигр не съел!
– Как так? – затрясся Гассан уж с перепуга. – Проходил я сейчас мимо фонтана, где наши женщины берут обыкновенно воду, – сказал Казим, – и увидал твою дочь Рохэ. Хоть ее лицо и было закрыто, – но кто же не узнает серны по походке и по стройности пальмы? Если человек, объездив весь свет, увидит самые красивые глаза, он смело может сказать: «Это Рохэ, дочь Гассана». Он не ошибется. Она шла с кувшином за водой. Как вдруг из-за угла выпрыгнул тигр. Страшный, огромный, полосатый, клыки оскалил – вот! когти выпустил – вот! Себя по бокам хвостом бьет, значит – зол.
– Да, да, да! Значит, правду ты говоришь! – прошептал Гассан. Все, кто тигра видел, так его описывают.
– Что испытала, что почувствовала Рохэ, – спроси у нее самой. А я почувствовал одно: «Пусть лучше я умру, но не Рохэ». Что будет без нее земля? Теперь земля гордится перед небом, – на небе горит много звезд, но глаза Рохэ горят на земле. Кинулся я между тигром и Рохэ и грудь свою зверю подставил: «Терзай!» Сверкнул в руке моей кинжал. Должно быть, аллах смилостивился надо мной и сохранил мою жизнь для чего-нибудь очень хорошего. Блеска кинжала, что ли, тигр испугался, но только хлестнул себя по полосатым бокам, подпрыгнул так, что через дом перепрыгнул, и скрылся. А я, – прости! – с Рохэ к тебе пришел.
Гассан схватился за голову:
– Что ж это я, старый дурак! Ты уж не сердись на меня, любезный Казим, как не сердятся на сумасшедшего! Сижу, старый осел, а этакий дорогой, почетный гость передо мной стоит! Садись, Казим! Чем тебя потчевать? Чем угощать? И как милости прошу, позволь мне, храбрый человек, тебе прислуживать!
И когда Казим, после бесчисленных поклонов, отказов и упрашиваний, сел, – Гассан спросил у Рохэ:
– Сильно ты испугалась, моя козочка?
– И сейчас еще сердце трепещет, как подстреленная птичка! отвечала Рохэ.
– Чем же, чем мне тебя вознаградить? – воскликнул Гассан, вновь обращаясь к Казиму. – Тебя, самого доблестного, храброго, лучшего юношу на свете! Какими сокровищами? Требуй от меня чего хочешь! Аллах – свидетель!..
– Аллах среди нас! Он свидетель! – с благоговением сказал Казим.
– Аллах свидетель моей клятвы! – подтвердил Гассан.
– Ты богат, Гассан! – сказал Казим. – У тебя много сокровищ. Но ты богаче всех людей на свете, потому что у тебя есть Рохэ. Я хочу, Гассан, быть таким же богачом, как и ты! Слушай, Гассан! Ты дал Рохэ жизнь, а потому ее любишь. Сегодня я дал Рохэ жизнь, и потому имею право также ее любить. Будем же ее любить оба.
– Не знаю, право, как Рохэ… – растерялся Гассан. Рохэ глубоко поклонилась и сказала:
– Аллах свидетель твоих клятв. Неужто ж ты думаешь, что дочь посрамит родного отца перед аллахом и сделает его клятвопреступником!
И Рохэ вновь с покорностью поклонилась.
– Тем более, – продолжал Казим, – горе связывает язык узлом, радость его развязывает, – тем более, что я и Рохэ давно любим друг друга. Только попросить се у тебя я не решался. Я нищий, ты богач! И мы каждый день сходились у фонтана оплакивать нашу горькую долю. Потому-то я и очутился сегодня около фонтана, когда пришла Рохэ. Омрачился Гассан:
– Нехорошо это, дети!
– А если бы мы у фонтана не сходились, – отвечал Казим, – тигр бы съел твою дочь! Гассан вздохнул:
– Да будет во всем и всегда воля аллаха. Не мы идем, он нас ведет!
И благословил Рохэ и Казима. И все в городе славили храбрость Казима, сумевшего добыть себе такую богатую и красивую жену.
До того славили, что даже сам вали позавидовал:
– Надо и мне что-нибудь с этого тигра получить!
И послал вали с гонцом в Тегеран письмо.
«Горе и радость сменяются, как ночи и дни! – писал вали в Тегеран. – Волею аллаха темная ночь, нависшая над нашим славным городом, сменилась солнечным днем. Напал на наш славный город лютый тигр, огромный, полосатый, с когтями и зубами такими, что глядеть страшно. Через дома прыгал и людей ел. Каждый день мои верные слуги доносили мне, что тигр съел человека. А иногда ел и по два, и по три, случалось – и по четыре в день. Напал ужас на город, только не на меня. Решил я в сердце своем: «Лучше пусть я погибну, но город от опасности спасу». И один пошел на охоту на тигра. Встретились мы с ним в глухом переулке, где никого не было. Ударил себя тигр хвостом по бокам, чтоб еще больше разъяриться, и кинулся на меня. Но так как я с детства ничем, кроме благородных занятий, не занимался, – то и умею я владеть оружием не хуже, чем тигр хвостом. Ударил я дедовской кривой саблей тигра между глаз и разрубил его страшную голову надвое. Чрез что и спасен мной город от страшной опасности. О чем я и спешу уведомить. Тигрова же кожа в настоящее время выделывается, и, когда будет выделана, я ее пришлю в Тегеран. Сейчас же невыделанную не высылаю из опасения, чтоб тигрова кожа в дороге от жары не прокисла».
– Ты смотри! – сказал вали писарю. – Внимателен будь, когда переписывать станешь! А то бухнешь вместо «когда будет выделана»«когда будет куплена!» Из Тегерана вали прислали похвалу и золотой халат. И весь город был рад, что храбрый вали так щедро награжден.
Только и разговоров было, что о тигре, охоте и награде. Надоело все это Правдивому человеку. Стал он на всех перекрестках всех останавливать: – Ну, что вы врете? Что врете? Никогда никакого тигра и не было! Выдумал его Лжец! А вы трусите, хвастаетесь, ликуете! Вместе с ним мы шли, – и никакого тигра нам никогда не попадалось. Бежала собака, да и то не бешеная. И пошел в городе говор:
– Нашелся Правдивый человек! Говорит, что тигра не было!
Дошел этот слух и до вали.
Приказал вали позвать к себе Правдивого человека, затопал на него ногами, закричал:
– Как ты смеешь ложные известия в городе распространять!
Но Правдивый человек с поклоном ответил:
– Я не лгу, а говорю правду. Не было тигра, – я и говорю правду: не было. Бежала собака, – я и говорю правду: собака.
– Правду?!
Вали усмехнулся:
– Что такое правда? Правда – это то, что говорит сильный. Когда я говорю с шахом, – правда то, что говорит шах. Когда я говорю с тобой, – правда то, что говорю я. Хочешь всегда говорить правду? Купи себе раба. Что бы ты ему ни сказал, – все всегда будет правда. Скажи, ты существуешь на свете?
– Существую! – с уверенностью ответил Правдивый.
– А по-моему – нет. Вот прикажу тебя сейчас посадить на кол, – и выйдет, что я сказал чистейшую правду: никакого тебя и на свете нет! Понял?
Правдивый стоял на своем:
– А все-таки правду буду говорить! Не было тигра, собака бежала! Как же мне не говорить, когда я своими глазами видел!
– Глазами?
Вали приказал слугам принести золотой халат, присланный из Тегерана.
– Это что такое? – спросил вали.
– Золотой халат! – ответил Правдивый.
– А за что он прислан?
– За тигра.
– А за собаку золотой халат прислали бы?
– Нет, не прислали бы.
– Ну, значит, ты теперь своими глазами видел, что тигр. Есть халат – значит, был и тигр. Иди и говори правду. Был тигр, потому что сам халат за него видел.
– Да, ведь, правда…
Тут вали рассердился.
– Правда это то, что молчат! – сказал он наставительно. – Хочешь правду говорить, – молчи. Ступай и помни.
И пошел Правдивый человек с большим бесчестием. То есть в душе-то его все очень уважали. И Казим, и вали, и все думали:
– А, ведь, один человек во всем городе правду говорит!
Но все от него сторонились:
– Кому же охота, Правдивому человеку поддакивая, Лжецом прослыть?!
И никто его на порог не пускал.
– Нам вралей не надо!
Вышел Правдивый человек из города в горе. А навстречу ему идет Лжец, толстый, румяный, веселый.
– Что, брат, отовсюду гонят?
– В первый раз в жизни ты правду сказал! – отвечал Правдивый.
– Теперь давай сосчитаемся! Кто больше счастливых сделал: ты своей правдой или я своей ложью. Казим счастлив, – на богатой женился. Вали счастлив, – халат получил. Всяк в городе счастлив, что его тигр не съел. Весь город счастлив, что у него такой храбрый вали. А все через кого? Через меня! Кого ты сделал счастливым?
– Разговаривать с тобой! – махнул рукой Правдивый.
– И сам даже ты несчастлив. А я, – погляди! Тебя везде с порога. Что ты сказать можешь? То, что на свете существует? То, что все и без тебя знают? А я такое говорю, чего никто не знает. Потому что я все выдумываю. Меня послушать любопытно. Оттого мне везде и прием. Тебе одно уваженье. А мне – все остальное! И прием, и угощенье.
– С меня и одного уваженья довольно! – ответил Правдивый.
Лжец даже подпрыгнул от радости:
– В первый раз в жизни солгал! Будто довольно?
И так как Правдивый покраснел, то Лжец добавил:
– Соврал, брат! Есть-то, ведь, и тебе хочется!
ЧЕЛОВЕК ПРАВДЫ
Персидская сказка
Шах Дали-Аббас любил благородные и возвышающие душу забавы.
Любил карабкаться по неприступным отвесным скалам, подбираясь к турам, чутким и пугливым. Любил, распластавшись с лошадью в воздухе, перелетать через пропасти, несясь за горными козами. Любил, прислонившись спиной к дереву, затая дыхание, ждать, как из густого кустарника с ревом, поднявшись на задние лапы, вылезет огромный черный медведь, спугнутый воплями загонщиков. Любил рыскать по прибрежным тростникам, поднимать яростных полосатых тигров.
Наслажденье для шаха было смотреть, как сокол, взвившись к самому солнцу, камнем падал на белую голубку и как летели из-под него белые перья, сверкая на солнце, словно снег. Или как могучий беркут, описав в воздухе круг, бросался на бежавшую вприпрыжку в густой траве красную лисицу. Собаки, копчики и ястребы шаха славились даже у соседних народов.
Не проходило ни одной новой луны без того, чтоб шах не ездил куда-нибудь на охоту.
И тогда приближенные шаха летели заранее в провинцию, которую назначал шах для охоты, и говорили тамошнему правителю:
– Торжествуй! Неслыханная радость выпадает на долю твоей области! В такой-то день два солнца взойдут у тебя в области. Шах едет к тебе на охоту.
Правитель хватался за голову:
– Аллах! И поспать-то не дадут порядком! Вот жизнь! Лучше умереть! Гораздо спокойнее! Наказанье мне от аллаха! Прогневал!
Слуги правителя скакали по селеньям:
– Эй, вы! Дурачье! Бросайте-ка ваши низкие занятия! Довольно вам пахать, сеять, стричь ваших паршивых овец! Кидайте нивы, дома, стада! Будет заботиться о поддержании вашей ничтожной жизни! Есть занятие повозвышеннее! Сам шах едет в нашу область! Идите проводить дороги, строить мосты, прокладывать тропинки!
И к приезду шаха узнать нельзя было области.
Шах ехал по широкой дороге, по которой спокойно проезжали шестеро всадников в ряд. Через пропасти висели мосты.
Даже на самые неприступные скалы вели тропинки. А по краям дороги стояли поселяне, одетые, как только могли, лучше. У многих были на головах даже зеленые чалмы[37]. Нарочно заставляли надевать, – будто бы эти люди были в Мекке.
Когда шах возвращался с охоты к себе в Тегеран, он первым долгом шел в мечеть и благодарил аллаха:
– Научи меня таким словам, чтоб я мог достойно возблагодарить тебя, премудрый! Все в моей стране хорошо и устроено. Даже на неприступных скалах есть дороги! А народ так благочестив и так зажиточен, что на каждом шагу встречаешь людей, которые ходили в Мекку. Есть ли счастье выше, как владеть страной, где все так хорошо? И это высшее счастье ты послал мне, недостойному, великий аллах!
Затем шах шел в свой гарем, где соскучившиеся без него жены и невольницы, одна перед другой, старались петь и плясать, как можно соблазнительнее, каждая суля ему как можно больше наслаждений. Шах смотрел на них и думал:
– Фатьма что-то растолстела. И танцует уж неповоротливо! Пошлю-ка я ее в подарок правителю области, в которой был сейчас на охоте. Я от некрасивой бабы избавлюсь, а ему она доставит счастье. И мне удовольствие, и ему честь!
Или шел в свою сокровищницу и кричал:
– Опять развели моль! Опять летают эти мотыльки вашей лености! Давно на колу никто не сидел! Выберите-ка хороший ковер, поеденный молью! Я пошлю его правителю области, где охотился!
Или просто призывал к себе евнуха:
– Пойди-ка в дом, где хранится мое оружие. Посмотри-ка там, нет ли лука какого, который надломился. Пошли его от меня в подарок правителю области, где я теперь был. Пусть стреляет с осторожностью!
Вообще награждал, как может награждать шах. И притом мудрый. И себе не в ущерб, и другому в удовольствие.
Правил в те времена одной из провинций Керим. Человек, которого никто не любил. Все терпеть не могли. Умному он говорил:
– Ты умен!
Что того, конечно, обижало.
– Как будто этого все и без того не знают! Словно об этом еще говорить нужно!
Глупому говорил:
– Ты дурак!
На что тот справедливо обижался:
– Можно бы, кажется, об этом и помолчать!
Жулику прямо резал:
– Ты жулик!
Тот, конечно, возмущался до глубины души:
– Сам знаю, что я жулик, но не люблю, когда мне об этом говорят!
Честному человеку Керим говорил:
– Знаешь? Ты честный человек!
На что честный человек про себя обижался:
– А коли я честен, так ты меня за это награди! А языком о зубы трепать, – какая мне из этого польза?
Вообще Керим не знал, что такое учтивость. А потому и говорил правду.
Когда к Кериму прискакали царедворцы шаха:
– Радуйся! На твою область ляжет тень аллаха.
Керим спокойно ответил:
– Я рад! Действительно, два солнца взойдут в тот день над моей областью. Солнце и шах. Да будет благословен такой день!
Царедворцы заикнулись было:
– Ты прикажи везде проложить дороги, и поселянам вели одеться получше. Будто у тебя в области все очень хорошо!
Но Керим только посмотрел на них:
– Я во всю жизнь никогда не лгал! Стану теперь начинать? Последнему рабочему не лгал, – стану шаху, тени аллаха на земле, врать?
– Да, ведь, везде… – начали было царедворцы. Но Керим не дал им даже продолжать:
– Пусть везде обманывают шаха. У меня же шах пусть видит правду. Пусть видит мою область такою, какова она есть!
Угостил царедворцев как следует и отпустил в Тегеран. Все пришло в смущение вокруг Керима.
Даже ближайшие советники, которых он за правдивость только и держал, и те всполошились:
– Керим! С ума ты сошел? Говори правду тем, кто ниже тебя. Это безопасно. Но шах! К шаху надо иметь почтение.
Керим только крикнул:
– Пошли, в таком случае, вон!
И разослал по всем селениям гонцов:
– Не сметь ни чинить, ни поправлять дорог, ни делать новых! Пусть все как есть, так и остается. Потому что шах едет. Навстречу ему всем выходить, – но всякий пусть надевает свое. А у соседей занимать нечего! Это ложь, и аллаху противно. Точно так же, чтоб те, кто не был в Мекке, зеленой шалью головы не закутывали. А кто закутает, – тот потеряет вместе с шалью голову!
И стал Керим спокойно ждать шаха. Шах приехал мрачный, не в духе:
– У тебя, Керим, народ не богомольный! За всю дорогу я только две зеленых чалмы и видел.
Керим отдал поклонов сколько нужно и ответил:
– Народ как везде. Богомолен одинаково. Только у меня зеленые чалмы для твоей встречи надели те, кто взаправду был в Мекке! Шах нахмурился и сказал:
– Конечно, куда же твоему народу в Мекку ходить? Они и одеты не так, как в других областях. Бедно. Словно нищие. На один хороший халат десять драных. Кроме дыр ничего не видел!
Керим опять отдал поклонов сколько надо и ответил:
– Народ как везде. И дыр сколько везде. Только у меня в области всякий в своем халате ходит. У кого какой есть! А у соседей за деньги доставать, чтоб твой глаз обманывать, я не велел!
– Да и дороги у тебя дрянь! – сказал шах.
– Это, если по совести говорить, дорога еще была ничего! Подожди, что еще впереди будет! – ответил Керим.
На следующий день поехал шах на охоту. Керим, как подобает, сейчас же за ним. Чтобы морда лошади приходилась у седла шаха.
– Да! Тут не поскачешь! – сказал шах. – Ужели всегда жители твоей области по таким дорогам ездят?
– Всегда! – ответил Керим.
Они доехали до пропасти.
– А где же мост? – спросил шах.
– Какой мост? – спросил Керим.
– Над всякой пропастью есть мост! – с удивлением ответил шах.
– Пропасти у нас есть, а мостов нет, – ответил Керим. – Чем могу, тем и служу!
– Как же мне на ту сторону переехать? – спросил шах.
– Поедем в объезд. Вниз спустимся, а потом наверх поднимемся. К вечеру на той стороне будем!
– Как? – воскликнул шах. – Да что же у вас люди-то вдвое дольше живут, что ли, – если они могут по целому дню тратить, чтоб на ту сторону переехать?
– Истратишь и два дня, когда моста нет! – ответил Керим. – Так и ездят.
Шах повернул коня.
– Хочу взобраться на ту скалу. Думаю, что там есть туры.
– Туры там должны быть, – ответил Керим, – слезай с коня, поползем.
– А тропинка?
– Какие же тропинки на неприступных скалах?
– На каждую неприступную скалу есть тропинка! – с убеждением сказал шах.
– Как же тогда на свете есть неприступные скалы? – спросил Керим.
Шах приказал ехать домой, к Кериму. Шах был так разгневан, что даже обедать не стал. Он сел в самой большой комнате, окруженный царедворцами, и приказал Кериму предстать пред очи, мечущие молнии.
– Понимаю я теперь, Керим, – сказал шах, – почему никто почти из твоей области не был в Мекке, а вместо халатов носят одни дыры! До набожности ли тут, когда на плечи надеть нечего! Да и откуда быть, когда в твоей области ни прохода, ни проезда. Ни к соседям проехать что не надо продать, ни к соседям пройти что нужно купить, – ничего! Поневоле обносишься, поневоле ничего в кармане не будет! Грех мой перед аллахом, что вверил область такому ленивцу, как ты! Так-то ты мое доверие оправдываешь? Нерадивец, лентяй, обманщик! Твоя область в моем государстве, что пятно на шелковом халате. Весь халат хорош, только на спине пятно, – и весь халат хоть брось! Как ты мне смел всю страну испортить? Отвечай сейчас же! Да только правду!
Керим отбил столько поклонов, сколько требуется, и спокойно ответил:
– Ни солнцу не говорят: свети! Ни облакам, – плывите! Солнце само по себе светит, и облака без приказа плывут. Так и мне не надо приказывать: «Говори правду!» Я только и говорю, что правду. Я не говорю тебе, шах: «Будь справедлив!» На то ты и шах. Я говорю тебе только: «Выслушай, чтоб знать!» На то ты – человек. Изо всех имен, которое можешь мне дать, одно не подходит ко мне, и ты мне его дал: «Обманщик!» Я потому и гнев твой навлек, что я не как другой, – не обманщик. Слушай, шах! Час правды настал! В благородной страсти «с охоте ты объездил все области твоей земли. Знай же, что нигде нет таких дорог, чтоб шестерым в ряд ехать можно. Потому что такие дороги никому и не нужны. Нигде над пропастями нет мостов, а неприступные скалы везде неприступны.
– Как нигде нет? Когда я видел везде своими глазами! Везде, кроме твоей области! – выкликнул шах.
– Эти дороги, мосты, тропинки делались, шах, только для тебя. Чтоб ты увидел и подумал: «Вот как хорошо в этой области!» Чтоб получить от тебя награду. А я, шах, тебя обманывать не захотел и булыжник в голубой цвет красить, чтоб выдать за бирюзу, не пожелал. Вот, шах, моя область, какова она есть! Таковы же и все твои области! Только там к твоему приезду, чтоб обмануть тебя, нарочно дороги строят. А я не хотел. Правда выше всего!
И Керим вновь отдал столько поклонов, сколько надо. Шах глубоко задумался.
– Да! Вот оно что! – промолвил шах. – Это дело надо сообразить. Ступай, Керим. А я подумаю. На завтра я объявлю тебе свою волю.
Ног под собой не чувствовал Керим от радости, когда шел:
– Самому шаху правду сказал!
И во сне себя в ту ночь не иначе, как в золотом халате, видел.
– Не иначе мне, как золотой халат, за такую заслугу дадут!
Смущало Керима немного:
– Что теперь бедняги, правители других областей, делать будут?
Керим был хоть и правдивый, но добрый человек. Кроме правды, и людей любил. Но Керим успокоился:
– Что ж? Я не виноват. Зачем они врали?!
ПРИЗРАКИ ПУСТЫНИ
Андижанская легенда
Давно, давно, в незапамятные времена жил в Андижане богатый и славный купец Макам-бей-мирза-Сарафеджин. Был он так же богат деньгами, как днями прожитой жизни. Если бы вы встретили в пустыне пять верблюдов, – вы могли бы, указав на пятого, сказать:
– Это верблюд Макам-бея-мирзы-Сарафеджина. И никогда бы не ошиблись.
Везде кругом ходили его караваны, развозя товары и возвращаясь к Макам-бею с золотом.
В конце концов стал беден Макам-бей только одним: часами, которые оставалось ему жить.
Лежит Макам, одинокий и бездетный, в своем доме. Лежит и не спит. Не спит и думает.
Ветер вдруг уныло, уныло провоет и замолкнет. Дерево около дома проснется среди ночи, задрожит все и зашумит листьями. Ворон каркнет. Стена хрустнет.
И чувствует Макам, что это ангел смерти, посланный аллахом по его душу, кругами ходит около дома. Все меньше и меньше становятся круги. Ближе и ближе. Страшно Макаму. Послал Макам за муллой и сказал:
– Ты знаешь, что писал пророк, чего хочет аллах. Ты премудрость божия на земле. Я тебе скажу, что я думаю. А ты выслушай и скажи, что думает об этом бог.
Мулла ответил:
– Говори.
– Два светила светят миру: солнце и луна! – сказал Макам. – На солнце смотреть больно, – ослепнешь. На луну все смотрят, все любуются. Так есть и две правды на земле. Одна правда для людей, человеческая, другая – божия. Час мой уже такой, что, хочешь не хочешь, надо на солнце взглянуть. Я богат и стою своего богатства, потому что умен и дела понимаю. Чье ж и богатство, как не мое, раз оно у меня? Это правда человеческая. А по божеской-то правде, какое ж это мое богатство. Что я делаю? Сижу в Андижане! А богатства – все сделали мои слуги. Они жарились в пустыне, их пронизывал ветер, их засыпали раскаленные пески. Они жизнью своею рисковали, составляя богатства. Их и имущество. Я так думаю. И решил я обратиться к тебе. Когда придет ангел смерти и возьмет из этого тела то, что нужно аллаху, и унесет, возьми все мое имущество и раздели между моими слугами. Ты знаешь, что написал пророк, и чего хотел аллах. Ты премудрость. божия на земле. Что ты мне на это скажешь? Мулла встал и поклонился:
– Солнце светит с неба, а дрянь песчинка валяется на земле. Осветило ее солнце, и горит песчинка, – подумаешь, драгоценный камень. Что такое мулла? Я песчинка, такая же дрянная песчинка, как и миллионы миллионов песчинок, но осветило меня солнце, и я блещу. И люди говорят: драгоценный камень горит на земле! Что я скажу тебе, когда ты говорил с аллахом? И стоит тебе советоваться с муллой, когда ты посоветовался с аллахом? Как аллах тебе велел, так ты мне и сказал. А как ты мне сказал, так я и сделаю. Умирай с миром.
Легко стало Макаму. Словно тяжелое бремя свалилось с его старых плеч.
Лежит Макам и спокойно слушает. Птица около дома шарахнулась с испуганным криком. В окно словно кто-то заглянул, проходя мимо. В сенях что-то хрустнуло. Идет кто-то. Дверь скрипнула.
Поднялся на ковре Макам-бей-мирза-Сарафеджин и приветливо сказал:
– Добро пожаловать!
Подошел ангел смерти к Макаму, припал с поцелуем к беззубому рту. Юными стали старческие губы Макама, отвечает он на поцелуй, как встарь отвечал на поцелуи. И, целуя, чувствует Макам, как за плечами его крылья растут, растут…
Умер Макам, а быть может, только еще жить начал, – кто его знает.
Идут Макамовы слуги к мулле и посмеиваются:
– Богатства между всеми делить будут! Дожидайся! Разделят! Что ж, они и Даудке колченогому тоже богатства давать будут? Как же? Воспользуются, что дурак, дадут ему тилли[38]: «полакомься». Да и все!
Перед мечетью лежали горы товара, лежало насыпанное на ковре золото, стояли, пофыркивая, верблюды.
– Делите сами между собою, – сказал мулла бывшим слугам Макама, помните только, что на вас смотрит аллах!
И слуги с опаской приступили к дележу между собою богатств.
А к Даудке колченогому мулла обратился отдельно:
– А тебе, Даудка, чтоб тебя никто не обидел, – вот твоя часть!
И мулла указал Даудке на восемь верблюдов. Жирных, откормленных, крутогорбых, здоровенных.
Обрадовался Даудка, погнал верблюдов гуськом на базар и стал, ожидая, не наймет ли кто товары куда везти. Самые лучшие на базаре верблюды – Даудкины. Пришел на базар бухарский купец, сразу на них воззрился. Подошел, ходит кругом, ладонями об халат бьет:
– Ах, какие верблюды! Вот это верблюды! Чьи такие? Кто хозяин?
Даудка колченогий выступил вперед:
– Мои теперь.
– Не возьмешь ли у меня товар в Гуль отвезти на своих верблюдах?
– Отчего ж не взять?
Купец с опаской поглядывает на верблюдов:
– А много ли хочешь?
Даудка подумал, подумал:
– Два тилли!
Засмеялся бухарский купец. До Гуля 8 дней пути. Совестно стало купцу, – кругом все смеются.
– Вот что, милый ты мой! Ты, я вижу, человек простой. Я заплачу тебе не два, а шестьдесят тилли. Иди брать мой товар.
Обрадовался Даудка, подтянул пояс потуже, зыкнул, крикнул, погнал верблюдов рысью к купцу товар брать.
Нагрузили верблюдов, как только можно было, шелками, шалями, коврами, кошмами самыми дорогими, – и караван отправился в путь: Даудка, сын купца и приказчик.
Идут они по степи. Солнце жжет. Верблюды колокольцами позвякивают:
– Звяк… звяк…
Рядом по горячему песку ковыляет колченогий Даудка, в песке по колено вязнет, думает:
– Везу я в Гуль чужой товар, – вот бы мне свой везти!
А верблюды колокольцами позвякивают:
– Так… так…
А солнце жжет, жжет еще сильнее.
– Буду я всю жизнь свою вот так-то на солнце жариться, пока совсем не испекусь! Чужие товары возить, – думает Даудка.
А верблюды колокольцами, словно посмеиваются:
– Вот… вот…
А солнце жжет. А солнце жжет! Падает от жажды Даудка. В глазах мутится.
– Словно около реки всю жизнь стоять! – думает Даудка. – С раскрытым ртом, от жажды дохнуть! Мимо сколько воды течет. А тебе в рот когда-когда капелька брызнет.
И мерещится Даудке.
Отвез он свой товар в Гуль, продал, нового накупил, такого же вот Даудку на базаре нанял. Жарься тот Даудка, вези товар! А он будет себе сидеть, как Макам-бей-мирза-Сарафеджин сидел, – да ждать, когда деньги ему привезут.
– Только, – усмехается про себя колченогий Даудка, – я-то уж шестидесяти тилли Даудке не дам, ежели два просит! Пусть за два и везет, если он такой дурак!
Остановились на третий ночлег. Стреножили верблюдов, развели костер, поели и легли спать. Притворяется Даудка, будто спит. Не спит Даудка. Третья ночь его лихорадка бьет.
Когда купеческий сын и приказчик заснули, поднялся Даудка колченогий и вынул из-за пояса острый, отточенный, кривой нож.
Как кошка, неслышно шагая, подкрался Даудка к купеческому сыну. Купеческий сын спал, храпел разметавшись, откинув голову, раскинув руки. Наклонился Даудка. Горло перед ним. Дрожит Даудка, зубы стучат. А купеческий сын ему прямо в лицо дышит, храпит, носом свистит. Резнул Даудка по обнаженному горлу. Только кровь булькнула, и горячие капли обожгли Даудке лицо. Только глаза открыл купеческий сын и руками и ногами дернул.
И тихо все.
Подкрался Даудка, сгорбившись, к приказчику. Тот спал на боку. Высмотрел Даудка в горле местечко, где жила бьется, словно мышонок там. Наставил против этого места нож острием и изо всей силы ударил.
Замычал приказчик, ногами, руками быстро, быстро перебирать стал, задрожал всем телом и на песке длинный, длинный вытянулся. Стреноженные верблюды жевали, спокойно смотрели на то, что происходило, и только, когда в воздухе запахло свежею кровью, фыркнули и запрыгали прочь. Поднялся весь в крови Даудка. Горячая кровь жжет похолодевшее тело. Тихо все.
