Читать онлайн #живи бесплатно
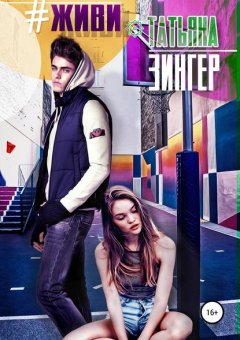
Фото 1. Слово на букву «С»
Если бы мне пришлось описать себя одним предложением, я бы ограничилась словом «посредственная». Одноклассники и учителя никогда не воспринимали меня всерьез. Я не участвовала в соревнованиях, не была душой компании, не пыталась выделиться.
Короче говоря, сплошное «не».
Зато теперь из-за меня урок биологии прерывает школьный психолог, неулыбчивая Наташка. Открыто она, конечно, не признается, зачем пожаловала, но говорит так проникновенно и смотрит в мою сторону так жалостливо, что хочется провалиться сквозь землю.
Двадцать минут Наташка заунывно вещает о том, как тяжело быть подростком. Напоминает, что всего год назад окончила институт и пришла работать в нашу школу (где уже успела всех достать). Класс откровенно зевает, я корчу страдальческие мины. Наконец, она подытоживает:
– Моя лекция могла показаться вам скучной, но не забывайте: рядом с вами всегда есть тот, кто готов выслушать. Все мы когда-то были юны. Все мы страдали. Не замыкайтесь в себе. Не совершайте необдуманных поступков и помните: услышат только того, кто отважится открыться.
– А если мы не хотим ни с кем делиться своей личной жизнью? – с насмешкой уточняет Кэт.
На секунду Наташка подвисает.
– Тогда заведите личный дневник, – осеняет её. – Пишите о том, что наболело. О том, что гложет. Пишите о плохом, чтобы выпустить всю черноту наружу. И о хорошем, чтобы не забывать: черная полоса всегда сменяется белой. Перечитывайте записи. Излейте себя на бумагу.
Фраза какая-то глупая: излить себя. Будто бы растечься лужицей по тетрадному листу. Впрочем, Наташка во всем такая. Нелепая. Не старая, но какая-то древняя. Серая мышь в безразмерной кофте. Она прячет глаза за толстыми линзами очков, а ещё вставляет невпопад философские цитаты.
– Живи и ошибайся, в этом жизнь1, – бубнит мечтательно. – Я сказала что-то смешное, Сорокина? Отчего же ты так радуешься?
Кэт, зажав ладошкой рот, качает головой. Наташка неодобрительно вздыхает, но не раздувает скандала из пустяка.
– Саша, ты слышишь? – обращается ко мне вкрадчивым голосом. – Не копи боль в себе. Расскажи о ней кому-нибудь.
– Слышу, – а сама закусываю губу.
Как же надоела эта навязчивая забота. Хочется зажать уши руками и раскачиваться из стороны в сторону, пока всё не станет как прежде.
Раствориться.
Уйти.
Сбежать.
Извещая о конце урока, по классу разносится торжественная музыка – в нашей школе привычные «звонки» заменили неофициальным гимном города. Неофициальным, потому что придумали его школьники. К слову, гимн получился под стать городу – скучный и незапоминающийся. Таких городов (и гимнов) – сотни. Бывает, спрашивает меня новый интернет-знакомый:
– Ты сама откуда?
– Из такого-то города.
– Это где-то на севере, да? (недалеко от Анапы, в Беларуси, чуть выше Казахстана, а-что-такой-город-вообще-существует?) – без задней мысли уточняет он, а я всякий раз злюсь.
В общем-то, не в гимне дело. А в Наташке, которая сходит с ума и тянет нас за собой в мир бредовых фантазий. Не обращая на неё внимания, мы вскакиваем с мест. Кидаем тетрадки и ручки в рюкзаки, толпимся у двери, только бы поскорее выскользнуть из класса. Кэт язвит:
– Нам что, по десять лет? Какой нормальный человек будет вести дневник?
Семенящая рядом Ирка Сонина безостановочно кивает, становясь похожей на китайский болванчик. Ирка во всём соглашается с Кэт. Даже если та заявит: «Земля квадратная», Ирка наверняка ответит: «Я всегда это знала!»
– А что туда писать? Жизнь – боль, меня никто не понимает? – тянет Кэт с раздражением.
Ирка поддакивает и смеется, запрокинув голову. Я молчу. Слова Наташки застревают в ушах, и внезапно мне хочется завести дневник. Разумеется, не бумажный (прошлый век, фу), а виртуальный. Такой, чтобы показать его всему миру, но при этом спрятать среди тысяч – или миллионов – профилей. Пусть он будет всеобщим и только моим. Почему бы не попробовать? Если не понравится – удалю.
Тем же вечером я лежу в кровати с ноутбуком и просматриваю сайты. «Живой журнал» и прочие текстовые блоги давно никому не интересны (даже самим владельцам). Подумывала зарегистрироваться в «Твиттере», но там запрещены сообщения длиннее 280 символов. Вот зачем загонять людей в рамки? Краткость, может, и сестра таланта, но роман не станет лучше, если ужать его до пересказа. Да ну. От «Твиттера» я без сожаления отказываюсь.
А может, создать видео-дневник? Ага, буду делиться впечатлениями о прожитом дне (скучном и однообразном, как и всегда), а редкий зритель заснет лицом в клавиатуре. Плохая затея.
И тут я вспоминаю про красочный «Инстаграм». Яркий, сочный, насыщенный. В нем можно выложить фотографию кружки кофе, написать короткую цитату ни о чем конкретном – и людям это понравится. А можно делиться сокровенным, находить единомышленников, листать красочные профили. Решено, у меня будет фото-блог.
Изображение № 1: Унылое селфи с Машкой Второй.
Подпись: Всем привет! Сегодня школьный психолог посоветовала мне и моему классу вести дневники, чтобы не замыкаться в себе. Странно, но идея мне понравилась. Если коротко: за день не произошло ничего особенного. А у вас?
С фотографией, конечно, намучилась Машка Вторая – норовистая кошка. Мама в шутку называет её «пантерой». Не за цвет шерсти – она рыжая в белых пятнах, – а за злющий характер. Машка чуть не расцарапала мне лицо и обругала всеми кошачьими ругательствами. Но! Я справилась и теперь обновляю страницу в ожидании первых лайков или комментариев.
Пустота.
Даже как-то грустно. Словно в громадном интернет-океане плавает мелкая рыбешка по имени Саша, которую вообще никто не замечает.
После долгих сомнений – как же стыдно показаться непопулярной клушей! – всё-таки прошу у Кэт совета. Не понимаю, как ей удалось собрать в своем профиле почти двести подписчиков? Причем ничем особенным Кэт не делится, только выкладывает скриншоты переписок с подругами или фото себя любимой на фоне магазинов-кафе-парков.
– Ты что, с другой планеты, Алекс? – хмыкает Кэт. – В инсте всем начхать на твои описания или фотки. Главное – лепи побольше хэштегов. Я с подписью вообще не заморачиваюсь, – поясняет с ленцой. – Пишу штук десять тегов, и всё.
– Ну а какой тег ставить мне? – спрашиваю, безостановочно тыкая на кнопку «обновить».
«Нравится: 1». Моя фотография интересна всего одному человеку. Мне.
– Да какой угодно, – отмахивается Кэт как от назойливой мухи. – Кот, инстаграм, дружба, селфи, жизнь прекрасна. В одно слово, – добавляет после короткой паузы.
– Всё в одно слово? – туплю я.
– Нет же! «Жизнь прекрасна» пиши в одно слово. Всё, мне некогда, Дима звонит, – произносит она скороговоркой и нажимает на сброс.
Я редактирую запись, добавляю теги, и – о, чудо! – появляются первые отклики. Кто-то даже становится моим подписчиком, но в основном – те, кто похудел на десять килограмм за неделю, а теперь советует похудеть мне.
Кэт, кстати, в друзья не добавилась, хотя мой ник выпытала. Якобы у нее слишком много подписок, и она всё равно не успевает их отслеживать. Обидно, но я терплю. Кроме Кэт, у меня нет приятелей. Была ещё Марина, но… больше нет. Так получилось.
На глазах выступают непрошеные слезы. Я бесцельно брожу из угла в угол, чтобы не разреветься, затем останавливаюсь возле окна, упираю ладони в подоконник и рассматриваю сонное вечернее шоссе. Куда-то спешат автомобили, загорается и гаснет неисправный светофор.
Мама заглядывает в комнату без стука.
– Как дела? – спрашивает осторожно.
В последнее время всех особенно волнует, как у меня дела. Глупый вопрос. Будто они могут быть как-то иначе, кроме «никак». С тех пор, как в моей жизни не стало Марины (вообще ни в чьей жизни не стало Марины), эта самая жизнь превратилась в существование. В первые дни я отказывалась верить, сопротивлялась, бежала от самой себя. Но прошло уже три недели – и я потихоньку свыклась с тем, что моя подруга ушла.
– Нормально, – отвечаю, задергивая занавески.
Комната погружается в тягучий полумрак.
– Пойдем кушать? – не требует, но мягко приглашает мама.
Она у меня нормальная, только слишком отстраненная. Её не трогают никакие трагедии. Ей меня не понять. Никому не понять, потому что ни у мамы, ни у Кэт, ни у тех людей, которые просматривают моё селфи, не произошло ничего такого.
Под мамины комментарии я ем безвкусную, будто резиновую гречневую кашу («гречка выводит шлаки и токсины»), запиваю чаем с мелиссой («чудесно успокаивает») и ухожу к себе. До глубокой ночи лазаю по интернету. Моя страница в социальной сети полупуста: минимум контента, разве что количество аудиозаписей близится к тысяче. Бездумно листаю немногочисленные фотографии, натыкаюсь на одну и долго рассматриваю её.
Наш последний снимок с Мариной. Душу выворачивает наизнанку, прокручивает щипцами как стоматолог – гнилой зуб.
Не сдерживаюсь и выкладываю фотографию в блог.
Изображение № 2: Мы с Мариной сидим на скамейке. За нашими спинами стелется закат. Она, светло-русая, глазастая, улыбается, а я показываю язык.
Подпись: Марина всегда была для меня особенным человеком. Мы дружили с детского сада и никогда не ссорились. Я знаю о ней всё. Знаю, что в первый раз она поцеловалась в 13 лет на вписке со старшеклассником. Знаю, что она царапала вены (не всерьез, булавкой). Знаю, что любила Р. К. Знаю, что её не стало в марте этого года.
Я не добавляю хэштегов. Не хочу. Наше фото слишком личное, чтобы выделять его однотипными тегами. Закрыв блог, перехожу на страничку Марины в социальной сети. Она такая классная на аватарке. Кружится, раскинув руки в стороны. В волосы вплетена изумрудная лента, а на лице – неподдельное счастье. Я уже лайкала это фото (даже писала комментарий), но сейчас снимаю «сердечко» и ставлю заново. Может быть, она там всё увидит и поймет, что я не забываю о ней ни на минуту. Интересно, как ей… там?
Что вообще случается с теми, кто покидает нас? Они счастливы?
Я не впервые сталкиваюсь со словом на букву «с». Когда мне было семь лет, умерла Машка Первая (тогда её звали просто Машкой). Она прожила долгую кошачью жизнь, а потом резко истощала и перестала вставать с лежанки. Однажды родители отвезли её в ветеринарную клинику, а обратно не привезли. Машка Первая уснула навсегда. Папа объяснил, что врачам пришлось усыпить нашу кошку, потому что ту пожирал заживо рак. Не речное животное, а заболевание. Онкология. Я подумала, что рак – это такая звериная болезнь. А потом – мне только-только исполнилось десять лет – рак сожрал папину маму, мою самую любимую бабушку. Меня не взяли на похороны. Морозным февральским вечером поставили перед фактом: бабушки больше нет, смирись.
«Свекровь сгорела в одночасье», – ровным тоном объяснялась мама, когда ей звонили родственники или друзья. Наверное, папа тоже сгорел, потому что тем летом он ушел к другой женщине. Мы до сих пор видимся с ним, но редко. У него новая семья, где ничего не напоминает о бабушке и онкологии. Он назвал сына Матюшей, а меня зовет исключительно полным именем. Александрой. Будто я настолько взрослая, что недостойна быть Сашенькой или Сашей.
И вот, три недели назад ушла Марина.
Внутри пусто. После того, как её не стало, во мне поселилось отчаяние, но теперь и его нет. Лишь пустота, холодная, колючая, безысходная, скручивается внизу моего живота. Не могу уснуть. Ворочаюсь, сбивая одеяло и простыню в ком. Машка Вторая посапывает на подушке, но ближе к полуночи спрыгивает с кровати. Долго бродит по подоконнику, роняет с полок мягкие игрушки. Она – цунами, сносящее всё на своем пути. В час ночи в спальню прокрадывается мама – зажмуриваюсь и громко соплю, изображая крепкий сон – чтобы унести кошку. Становится так одиноко, так тоскливо. В тишине чудятся голоса, и ребра сдавливает от страха. Засыпаю, только бы одиночество хоть ненадолго исчезло из моей жизни.
Фото 2. Закрытая группа в социальной сети
С трудом размыкаю глаза – в них будто насыпали песка. Мама уже приготовила завтрак: на тарелке высятся постные оладушки («от дрожжей толстеешь»), в фарфоровой мисочке краснеет горка перетертой клубники без сахара. Аппетита нет, живот сводит при одном виде еды. Я размазываю клубнику по дну кровавой кашицей и сбегаю в школу.
У раздевалки топчется Кэт, поправляя перед зеркалом прическу. Её смоляные волосы заплетены в косу, глаза подведены серым карандашом. Кэт одета в настолько рваные джинсы, что они скорее похожи на шорты с лоскутами ткани, висящими по краям. Другую бы в нашей школе давно отругали за внешний вид, но Кэт всё сходит с рук.
– Алекс, куда торопишься? Эй, постой! – Она ловит меня за рюкзак и, цокая каблуками, ведет к кабинету истории. – Я за тобой не успеваю. Прикинь, что вчера случилось…
Нехотя замедляю шаг. Кэт рассказывает, что её парень, Дима, на вечерней тренировке сломал ногу, потому она не спала, не ела и вообще всячески переживала всю ночь, а утром извела полтюбика тонального крема на синяки под глазами.
– Ты сама как? – Кэт переводит на меня взгляд, когда мы подходим к классу истории.
– Нормально, – привычно откликаюсь, дернув за дверную ручку.
Кэт пожимает плечами.
Я её задание. В прямом смысле слова. На следующий день после того, как не стало Марины, классная руководительница пригласила Кэт к себе после урока и сказала что-то типа:
– Катерина, ты самая популярная девочка в классе. К твоему мнению все прислушиваются, потому возьми Александру под своё крыло. Ей сейчас тяжело: она никому не нужна, у неё нет подруг, а от её кислого выражения лица вянут фиалки.
Ну и Кэт ответила что-нибудь в своем духе, цокнув языком:
– Мне, что, изображать её подружку?
На что классная руководительница повела густыми бровями.
– Хочешь итоговую пятерку по алгебре?
Кэт, которая в алгебре ни бум-бум, закивала.
– Окей, раз уж вы просите.
Разумеется, я не присутствовала при их разговоре. Но нетрудно догадаться, о чем они общались. Неспроста же Кэт сидит со мной и на уроках, и в столовой; терпеливо отвечает на любые вопросы, изображая подругу. Раньше здоровалась через раз, а теперь мы неразлучны. Ей хорошо дается новая роль – Кэт с первого класса играет во всех театральных постановках и даже ездила с драмкружком на фестиваль театрального искусства.
Я ей почти верю.
Но Кэт не хватает душевности. Мы разные, хоть она и старается вовлечь меня в свой – популярный – мир, где нет никаких забот, кроме шмоток и парней. Неделю назад она пинками привела меня в кафе с вкуснейшим bubble tea на свете. Я даже и не подозревала, что если в обычный чай добавить кусочки желе, получится так классно! Зато теперь хожу в Crazy Bubble (так называется кафе) почти каждый день. Там, действительно, крейзи! На белых обоях брызги красок, а стена у барной стойки утыкана распечатанными снимками из их «Инстаграма». Вместо столов и стульев – мягкие пуфики. Музыка бьет битом. Чай подают в пластиковых стаканчиках, на каждом из которых нарисован смайлик. Нет ни унылых официанток в передниках, ни подносов, ни керамических чайников – ничего из того, что превращает кофейню в банальность.
Ценники там, конечно, – закачаешься. Кэт не видит в них ничего запредельного, а я всякий раз выскребаю последнюю мелочь и никогда не беру двойную порцию.
А на выходных она затащила меня к своим друзьям на дачу, откуда я сбежала тем же вечером. Уехала на последней электричке после того, как хозяин дачи напился какой-то дряни и рыдал на кухне, а его друг лапал меня за коленку и лез целоваться. Когда я в спешке закидывала одежду в рюкзак, Кэт только пожала плечами – мол, сама не понимаешь, от чего отказываешься.
У нас нет ни единого общего интереса, так откуда же взяться дружбе?
– Ребят, а вы в курсе, что Алекс завела инста-блог?! – во весь голос заявляет Кэт.
– Ничего я не завела! – пытаюсь перебить, чтобы одноклассники не вздумали залезать ко мне и рассматривать то фото.
Они же будут смеяться или изображать сострадание.
Поздно. Кэт сбрасывает мой профиль (ну зачем я ей отправляла ссылку?) в наш групповой чат. Телефон безостановочно вибрирует. Лайки растут. Класс добавляется ко мне в подписчики. Девочки говорят, что фото с кошкой шикарное, а мы с Мариной очень симпатичные. Даже парни помалкивают, хотя месяц назад назвали бы и меня, и Марину, и Машку Вторую швабрами. Никогда раньше одноклассники не проявляли к нам ничего, кроме равнодушия.
Зачем лгать? К чему пытаться быть участливыми? Для них мы с Мариной были никем. От нелепой жалости тошнота подкатывает к горлу.
Лицемерие – повсюду. В школьной газете тоже написали: «Горюем вместе с семьей Марины», а на следующей странице выложили статью о «комедиях, способных довести до икоты».
Представляю, как смешно Марине наблюдать за всем этим оттуда.
– Спасибо, – бурчу я, уткнувшись в учебник. – Обязательно ко всем добавлюсь.
На мое счастье, в кабинет заходит историчка. Она нудит, что Перестройка сменила период «застоя», а в наших головах не откладывается ничего, кроме непонятных названий. Кэт под столом переписывается с Димой и изредка выдает ироничные замечания:
– Зойка – единственный живой экспонат первобытнообщинного строя, – это она про историчку. – У нее и телефон с тех времен сохранился, – показывает на кнопочный мобильник Зои Павловны, лежащий на краю учительского стола.
Я не улыбаюсь, а вот Ирка подобострастно хихикает с задней парты. Зоя Павловна учительница, незлая и справедливая, но старенькая, а потому совсем глухая; она расписывает на доске какие-то даты, а Кэт распаляется, не сдерживаясь.
– Как вы думаете, Зойка застала динозавров? Не, она была причиной, почему те вымерли. – Её плечи трясутся от беззвучного хохота. – Алекс, ну и чего сидишь такая тухлая, будто это ты померла, а не Татарчук? – заявляет она, но тут же понимает, что именно ляпнула. – Ой, – глаза округляются, – прости. Я случайно.
Случайно?! Во мне закипает ярость, а пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. Поднимаюсь так резко, что стул валится на пол. Бах! Все, как назло, замолкают. Зато Зоя Павловна реагирует на громкий звук и оборачивается к нам, слепо сощурившись.
– Александра! Что за вольности?! Ну-ка сядь на место! – Стучит указкой по доске, но я не реагирую.
Как ей ответить? «Уж простите, что Кэт ржет над смертью моей лучшей подруги?»
Хватаю рюкзак и сбегаю подальше от всех. Перед глазами всё расплывается пятнами, и мне кажется, что я запнусь о собственную ногу и непременно навернусь с лестницы. Не удержу равновесия. Разобьюсь вдребезги, как хрустальная ваза. И пусть. Так будет лучше для всех.
Почти забегаю в гардероб, но у поворота меня ловит Наташка.
– Давай-ка заглянем на минутку ко мне. Держи. – Протягивает носовой платок, но я уже стерла слезы рукавом пуловера. – Мы плачем, приходя на свет, а все дальнейшее подтверждает, что плакали мы не напрасно2, – вздыхает она горестно.
Обычно Наташка держит дверь в свой кабинет нараспашку – «эта дверь открыта так же, как и я сама», – но теперь запирает её изнутри и садится напротив меня. Нас разделяет пустой письменный стол. Никогда не понимала, зачем в школе психолог? Неужели хоть кто-то в здравом уме пойдет делиться проблемами с взрослой теткой? Пожалуется на парня-неудачника или на безразличие родителей? На то, как напился дешевого пойла и не помнит, что творил после вечеринки?
Не верю.
Именно поэтому Наташка так воодушевилась, когда новость о Марине пробежалась шепотками по школьным коридорам. У неё появилась настоящая работа. С того дня она проводит с нами дополнительные занятия, требует честности, зазывает в свой кабинет на «непринужденную беседу» и просит заполнять тупые анкеты.
Думали ли вы о самоубийстве?
А. Думаю постоянно
Б. Часто
В. Редко
Г. Никогда
Д. Думаю прямо сейчас, потому что от идиотских вопросов хочется утопиться.
Правильный ответ: «Г».
Да-да, в анкете есть правильные или неправильные ответы! И вообще, как отвечать честно, когда анонимностью даже не пахнет – каждый бланк именной?
Наташка не подозревает, насколько всем наплевать и на Марину, и на то, что она ушла дождливым пятничным вечером, перед самыми выходными. Написала свой последний статус в социальной сети, под которым сейчас плодятся однообразные соболезнования, и… всё.
А я здесь – дышу, двигаюсь, разговариваю, но не живу, – и вынуждена отвечать на наводящие вопросы. Как эта девица может называться психологом, если даже одевается по-дурацки: в темные блузки и бесформенные юбки длиной ниже колена? Если носит очки, моет голову раз в четыре дня и бубнит себе под нос что-то несуразное?
– Саш, что с тобой?
– Я немного сорвалась. – Сцепляю пальцы в замок и рассматриваю клубок пыли, не выметенный уборщицей.
– Неудивительно, ведь ты копишь всё в себе. Глубоко вдохни и резко выдохни. Расскажи, что скопилось на сердце. – О нет, она опять заводит знакомую песню! – До сегодняшнего дня нам не удавалось поговорить по душам. Знаешь, смерть Марины коснулась каждого в этой школе.
«Не смерть – уход. Она просто ушла», – твержу себе.
– Марина была светлой и невероятно талантливой девочкой. – Наташка качает головой.
Меня распирает от негодования. Нет, нет и нет! Что за бред?! Марина ничем не выделялась: не умела готовить, вышивать, вязать, рисовать или петь. Да ей на ухо наступил не медведь, а целое стадо слонов. Марина не увлекалась никаким творчеством. Она была самой обычной.
Чувствую, как закипаю, а Наташка продолжает, поправив дужку очков:
– В этом кабинете мы частенько обсуждали её фотоснимки за чашечкой чая.
В смысле?..
Я поднимаю полный непонимания взгляд.
– Она ходила к вам?
– Да, – соглашается Наташка, радостная, что я поддалась на её манипуляцию. – Не ежедневно, но несколько раз в месяц. Мне очень нравилось общаться с Мариной.
– Вы лжете, – выдавливаю из себя и ощущаю, как щеки наливаются краской. – Марина бы сказала, что ходит к психологу. Она ни разу не заикалась про вас!
Но психолог улыбается каким-то своим мыслям .
– Мне незачем обманывать тебя. Марина была честна со мной, и она бы не хотела, чтобы её лучшая подруга сейчас страдала, убегала с уроков и плакала где-то совсем одна.
«Не лучшая, а единственная», – хочу поправить, но прикусываю язык.
Не может быть. Бред. Несуразица. Моя Марина – простая и понятная – не стала бы проводить время с этой унылой девицей, от которой пахнет не духами, а хозяйственным мылом.
Впрочем, в последний год Марина оставалась после уроков на какие-то дополнительные занятия. Мне говорила, что по химии, а я не понимала, на кой ей химия, которую она знает в совершенстве? Неужели Марина скрывала от меня дружбу со школьным психологом?
– Скажи, ты ведешь дневник? – спрашивает Наташка проникновенно.
– Да, – отвечаю без особого энтузиазма. – Я завела инста-блог. Выкладываю туда свои снимки.
Надеюсь, что её смутит незнакомое слово, но Наташка выставляет большой палец в знак одобрения.
– Какая неординарная идея. Какого рода фотографии ты делаешь? Тебе нравится то, чем ты занимаешься?
Наташка – первая, кто всерьез интересуется моим блогом. Не из жалости. Не чтобы проявить участие, а с неподдельным любопытством. В её взгляде загораются искорки, и внезапно меня прорывает:
– Пока не уверена. Я только начала выкладывать фото, но уже есть несколько подписчиков. Правда, я буду скрывать записи от одноклассников, потому что не хочу делиться с ними личным. Мне не нужны лайки из жалости.
– Согласна. Такие дневники лучше вести под вымышленным именем, чтобы никто из знакомых не лез в твое личное пространство. Да и чужих людей, по правде, незачем туда пускать.
– Возможно, – обрываю её.
– Не настаиваю на своей правоте. – Наташка поднимает руки ладонями ко мне. – Кстати, я тоже веду блог.
Она добавляет очередную цитату, открывая на телефоне инста-профиль. Экран наполняется красками: цветы, вязание, озера и лесные просторы. У Наташки аж пятьсот подписчиков (больше, чем у Кэт!).
– Между прочим, создала по совету Марины. Мы сошлись с ней на любви к фотографии. Если захочешь – добавляйся.
– У Марины была страница? – не верю своим ушам.
Кивает, но отказывается дать ссылку. Якобы запамятовала. Мы недолго обсуждаем учебу и планы на лето. Всё кажется безобидным, пока Наташка не произносит:
– Саш, скажи, ты что-нибудь слышала о «группах смерти»?
– О чем? – я недоуменно хмурюсь.
– Ну, о группах в социальных сетях, куда заманивают подростков и принуждают их к суициду. – Она отводит взгляд в сторону. – Тебе не кажется, что Марина могла стать жертвой чьей-то расчетливой игры на смерть?
Какая же бессмыслица! Мои брови ползут ко лбу, а губы кривятся в ироничной ухмылке. Сразу видно, что Наташка пускай и молодится, но внутри – старуха старухой, иначе бы даже не допустила мысль, что где-то в соцсетях есть группы, которые кого-то там убивают.
Только у закостеневших взрослых во всем и всегда виноват интернет. Зрение испортилось – разумеется, из-за компьютера; проблемы в учебе – слишком много зависаешь в сети. Им невдомек, что в мировой паутине сконцентрирована целая жизнь, гигантская, вылезающая за рамки государств, возрастов и статусов. Здесь все равны, а запреты практически отсутствуют. Интернет не поддается контролю, не укладывается в рамки и стереотипы – а потому некоторые считают, что в нем скоплено всё зло на планете.
– Нет, – отвечаю максимально резко и поднимаюсь, собираясь уйти.
Наташка задерживает меня легким прикосновением к руке.
– Я бы не спрашивала тебя об этом, но недавно вспомнила один разговор с Мариной. – Она жует губу, сомневаясь, надо ли продолжать. – В тот день она была такая окрыленная, всё рассказывала, как нашла единомышленников, как они делятся друг с другом наболевшим. Я очень обрадовалась и посоветовала почаще общаться с теми людьми,. – Наташкин голос срывается, словно наша психолог по-настоящему переживает о случившемся. – А спустя несколько дней Марина… покончила с собой. Я даже не думала связывать произошедшее и тот её рассказ, пока не прочитала статью в газете о «группах смерти». Якобы там есть какие-то ужасные квесты, ради победы в которых участники платят своей жизнью.
Её глаза блестят под толстыми линзами очков.
– Ладно, – Наташка дергает плечом. – Вероятно, я себя накручиваю.
Когда гимн бьет по ушам первыми нотами, она отпускает меня на все четыре стороны, даже не отругав за прогул урока.
– Заходи, если будет свободная минутка, – предлагает вместо прощания.
Выскочив из душного кабинета, я вливаюсь в пестрый поток старшеклассников, который тащит меня прямиком в столовую. Голова гудит. Незадолго до того, как уйти, Марина с кем-то познакомилась? Почему она хвасталась новыми друзьями перед Наташкой, а мне, своей лучшей подруге, не сказала ни слова? Ревность – неоправданная, мелочная, глупая – терзает меня, рвет в клочья.
Пока гомонящая очередь продвигается к кассе, я пытаюсь осмыслить разговор с Наташкой. Что-то не складывается. Как минимум, сами по себе «группы смерти» – даже звучит тупо. Разве способен какой-то паблик довести до самого края и столкнуть вниз? Разумеется, нет.
Скорее всего, эти группы придумали какие-нибудь всезнайки-психологи, считающие, что если человек увлекался виртуальным миром – значит, тот его и прикончил. Надо же как-то оправдать собственное бессилие перед необъяснимым.
Окончательно уверившись, что Наташка просто «разводила» меня, и вся её история про невероятно-таинственных-друзей – несуразная выдумка, я успокаиваюсь. Горячий чай и булочка с маком («в ней столько калорий, что проще съесть кусок сливочного масла») возвращают меня к реальности.
Остаток учебного дня Кэт извиняется, причем так вычурно и красочно, что ни капли не верю в её раскаяние. Это набор красивых реплик, очередная роль, и ничего более. За её словами нет искренности, и глядит она куда угодно, только не на меня.
«Не верь тем, кто много говорит и совсем не смотрит в твою сторону, – наставляла меня бабушка. – Легче врать, когда отводишь взгляд».
Бабушка научила меня многому. Её хрипловатый, будто простуженный голос прочно отпечатался в памяти. Бабушка знала Хрущева (не лично, конечно, но видела его по телевизору), а потому я всегда считала её невероятно старой. Она любила рассказывать о Москве и Ленинграде – да-да, она называла Питер Ленинградом! – тех времен, о советских запретах и правилах, о тогдашней моде.
– Наши девчушки носили точно такие же плиссированные юбочки, как у тебя, – уверяла она, а я сидела с открытым ртом и не верила, что в том мире было что-то современное. – Только у вас выбор больше, мы-то довольствовалась малым.
Бабушка не застала Великую Отечественную войну, но делилась воспоминаниями тех, кто воевал и был в блокаде, кого забрали в эвакуацию. И я представляла войну как черно-белый фильм, где кадры молниеносно проносились, землю усыпали снаряды, а люди – худые до изнеможения – не сдавались и не отступали до самого конца. Потому что у них была цель – спасти Родину от фашизма.
Бабушка очень любила меня, а я – её.
Она приучила меня не говорить, а слушать. Не тратить слова попусту, смотреть вперед и никогда не унывать.
Потому, когда она умерла, я ходила с приклеенной к губам улыбкой и заверяла родителей твердым голосом:
– Всё отлично.
Иногда я думаю: может, потому папа и взбесился? Неспроста же он ушел от нас спустя три месяца после смерти бабушки? Не вытерпел моих гримас, оскорбился и развелся с мамой, чтобы только не видеть меня? Что, если он потому и называет меня полным именем, что терпеть не может?..
Вдруг во всем виновата именно я?
Бесполезная Саша, от которой один только вред.
Разумеется, папе я о своих тревогах не рассказываю – он до последнего будет отрицать очевидное.
Иногда мне кажется, что взрослые считают подростков недалекими. Нас опекают как маленьких, но при этом требуют самостоятельности. От нас скрывают правду, но хотят, чтобы мы были честны. Наши проблемы считают незначительными, с нашими желаниями не считаются. Мамы-папы-учителя убеждены, что наши жизни можно – и нужно – контролировать.
Потому мы молчим. Копим в себе страхи и переживания, чтобы в один день переполниться ими до краев. Разбиваем в кровь костяшки пальцев. Беззвучно кричим в подушку ночами. Мы становимся дикими от черноты, разрывающей изнутри, а родители недоумевают: что стряслось с их замечательными детьми?
Ничего не стряслось, просто мы давно повзрослели.
Изображение № 1: Прозрачный стакан с ярко-розовым чаем, на боку которого отпечатан плачущий смайлик.
Подпись: Это мой новый профиль, где не будет реальных имен. Зовите меня Одинокой лисицей, ладно? По-моему, очень симпатичный ник. Что нужно знать обо мне? Ну… Мне нравится Крейзи бабл за то, что здесь никто не обращает на тебя внимания. На соседнем пуфике целуется какая-то парочка, а я пью малиновый чай и листаю ленту. Иногда мне хочется, чтобы, кроме интернета, ничего не существовало. Пусть бы все друзья были нереальными. В смысле, реальными, но далекими. Сетевыми. Мы бы с ними переписывались вечерами, но никогда не виделись. Мне кажется, я не привязалась бы к ним так прочно, как когда-то к своей М.
Не люблю теги, но поставлю парочку из тех, которые считаю уместными, а не популярными.
Всем пока!
#крейзибабл #мирбезинтернета #bubbletea
***
Поразительно, как одно зернышко-слово может разрастись в гигантское древо сомнений.
До позднего вечера я слоняюсь по тесным улочкам, не находя себе места от чего-то, что кусает поджилки, впивается зубами-иглами в позвоночник. Почему-то слова Наташки, днем кажущиеся несусветной ерундой, приобретают новые – зловещие – оттенки с наступлением сумерек. В темных подворотнях и в молчаливом сквере, и в затихших проспектах мерещится опасность.
Группы смерти всё ещё представляют мне аморфным злом, которое изобрели взрослые для того, чтобы обвинить во всех бедах интернет. Всё это не взаправду. Тогда почему я залезаю на страничку Марины и прокручиваю стену, вчитываясь в цитаты из фильмов и книг? Порою они переполнены грустью, но какого подростка не охватывает черная как туча депрессия? Моя подруга была увлечена мелодрамами, зачитывалась романами о настоящей любви, чаще всего трагичной – но в её статусах нет отчаяния.
Хм, всё-таки одна запись выбивается из общего настроения. Раньше я не обращала на неё внимания, но теперь, перечитав трижды, напрягаюсь.
«Я готова играть».
Без смайлика, без какой-либо ясности, что скрывается за, казалось бы, непримечательной фразой. Три слова, за которыми может быть что угодно. Возможно, Марина собиралась на соревнования или участвовала в каком-то флешмобе? Вроде нет. Кажется, я спрашивала у нее про статус, но что она ответила?..
Я прокручиваю наш диалог, с даты на дату, с числа на число, когда телефон начинает вибрировать, и на экране высвечивается: «Маман».
– Когда домой? – спрашивает она.
– Уже иду.
– Ты гуляешь с кем-то? – В мамином голосе появляется терпкая нотка тревоги. – Или одна? Почему так долго?
– Мам, я одна. Не волнуйся, – отвечаю нетерпеливо.
– Точно ничего не случилось?
– Ничего! Всё, скоро буду.
Первой нажимаю на сброс. Терпеть не могу, когда меня достают бессмысленными вопросами. Вот какая разница, с кем я хожу, чем занимаюсь? Если вдуматься, мама вырастила идеального ребенка: не пью, не курю, не ошиваюсь в сомнительных компаниях, в неприятности не влипаю. Что ещё надо? Вон, Кэт как-то набила на лопатке галочку-птичку, так её родители неделю хватались за сердце. Но в итоге смирились, даже одобрили.
С другой стороны, меня начинает глодать совесть. Мама и так максимально не лезет ко мне – чего обижаться на разовый звонок?
Не отлипая от телефона, я сворачиваю к дому. Переписка пестрит нашими эмоциями, стикерами и голосовыми сообщениями. Марина постоянно отправляла мне репосты из популярных групп, а я ей – песни. Мне не хватает нашего общения, иногда безумного, а иногда столь доверительного, что кажется – никого другого я не смогла бы подпустить так близко, на расстояние удара.
Нашла!
Взгляд бежит по строчкам. Мой полный любопытства вопрос: «А что это означает?» и беззаботный ответ Марины: «Да ерунда, мысли вслух». Почему я удовлетворилась этой отпиской? Не допросила, не усомнилась – безропотно проглотила, как глотают нелепые отговорки.
Нет, я зря себя накручиваю. Было бы что-то важное – подруга обязательно бы поделилась этим со мной. Чушь же, какие могут быть смертельные игры…
Или не чушь?
Марина не выглядела грустной и никогда не думала о том, чтобы свести счеты с жизнью. У неё был парень, она хотела поступить в институт на журналиста.
А потом как в убыстренной перемотке: прощальный статус – прыжок – липовая аллея на кладбище и могильный камень без фотографии.
Классной руководительнице сообщили на выходных, а в понедельник она собрала нас перед первым уроком и прошептала дрожащими губами:
– Я не знаю, как сказать. Это немыслимо, но… Марины Татарчук больше нет.
Меня тут же облепили взгляды одноклассников. Липкие, назойливые, неприятные взгляды, которые хотелось сбросить с себя как намокшую одежду. Помню, я кивнула и… улыбнулась. Потому что бабушка учила никогда не выворачивать душу наизнанку перед чужаками.
Когда я вхожу в подъезд, и когда поднимаюсь по лестнице, и когда роюсь в сумке, чтобы найти связку ключей – читаю наш диалог. Ключ входит в замочную скважину, но я не проворачиваю его.
Есть кое-что ещё. Одна-единственная картинка, отправленная Мариной каким-то тоскливым вечером. На ней изображено окровавленное запястье, бритвенное лезвие, зажатое в кулаке, и короткая подпись внизу: «Это мой выбор».
Меня начинает подташнивать, как и в тот раз, когда я впервые посмотрела на картинку. Она была опубликована в группе «Слишком поздно». Марина скинула её без каких-либо комментариев, а я открыла и тут же закрыла. Порезы на запястье были реальными: глубокие рытвины сочились алой жидкостью.
«Фу, мерзость какая», – написала я, а Марина ничего не ответила.
Никогда мы не поднимали тему суицида: обсуждали парней и скорые экзамены, желание свалить прочь из города, переехать куда-нибудь, где нет назойливых учителей и родительского контроля. Подобных картинок Марина больше не скидывала.
Всеми стремлениями, каждой мечтой о будущем она планировала жить.
Это было за три недели до того, как случилось непоправимое.
Ключ прокручивается в замке, и дверь, скрипя, открывается. Мой палец давит на название группы. Я перехожу по ссылке.
Доступ закрыт.
***
На город опускается ночь, темная и беззвездная. Такими ночами одиночество так сильно сдавливает горло когтистыми лапами, что дыхание перехватывает.
Марина была подписана на сотню страниц, но все они открытые и совершенно непримечательные: картинки, посты, обсуждения, мнения, сплетни, слухи. «Слишком поздно» внешне ничем не отличается от других групп. Всё как у всех. Только вот в ней всего семьсот подписчиков, и она недоступна тем, кому не даст разрешения на вступление лично админ.
Зачем закрывать обычную группу?
Желание докопаться до правды оттеснило все мысли, но вполне вероятно, что никакой правды не будет. Марина просто сдалась под напором трудностей, а группа просто закрыта. Как одержимая, я навожу курсор на обложку, но после тянусь к крестику – закрыть вкладку. Во мне бурлят сомнения, скручиваются змеиным клубком меж ребер.
Ладно, если это всё ерунда, то посмотрю и удалюсь.
А если нет?..
Что тогда делать?
Участники тоже вполне обычные: школьники и студенты, любители аниме и футбола, тяжелого рока и уличного рэпа. Тыкаю на одного, второго, третьего подписчика. Они никак не пересекаются друг с другом, кроме сущего пустяка. У всех них есть один общий друг.
Марина.
«Она была такая окрыленная, всё рассказывала, как нашла единомышленников».
Эти люди из разных городов. С Мариной их не связывает ничего. Ничего, кроме закрытой страницы в социальной сети и таинственной дружбы.
Подать заявку на вступление в группу.
Заявка отправлена.
Фото 3. Мы – рядом
«Заявка отправлена», – издевательская надпись за ночь не сменяется ни отказом, ни одобрением, и мне остается лишь смириться с ней.
Ненадолго отпустить из головы. Переключиться на что-то незначительное, что не скребется в животе неосознанным страхом.
От недосыпа кружится голова, и все уроки я откровенно сачкую. Да и как можно углубляться в биологию или обществознание, когда на улице жарит почти летнее солнце, а в кабинетах так душно, что хочется стянуть с себя лишние слои одежды и уйти загорать в парк? Кэт с Иркой Сониной так и поступают. На них полупрозрачные сарафаны, под которыми виднеются завязки купальника – девочки переоделись в туалете после уроков, иначе директор бы устроил истерию на тему неподобающего внешнего вида – одинаковые солнцезащитные очки скрывают половину лица. Ирка так умело копирует Кэт во всем, что издалека подружки неотличимы.
– Пойдем с нами? – зазывает меня Кэт, когда мы выходим из школы.
– Не, я просидела до утра в интернете. Меня жутко рубит, – честно признаюсь я и протяжно зеваю. – Развлекитесь сами.
Ирка смеряет меня взглядом, означающим: «Ну и сиди одна, неудачница», а Кэт издает протяжный вздох, мол, опять она за своё.
От меня отстают, и на том спасибо.
В надежде пообедать и завалиться спать, я спешу домой.
Ага, как бы ни так!
Мама затеяла генеральную уборку. Кошмар! Она носится по кухне, засучив рукава клетчатой рубашки. Из-под нелепой косынки выбивается прядка волос. У мамы вид совершенно ненормальный, как у Безумного Шляпника. Глаза горят азартом – так всегда, когда она берется за что-то всерьез.
– Привет! – Взмахнув шваброй, мама чуть не сбивает с тумбочки вазу. – Как успехи?
Я пожимаю плечами и, стянув кеды, заталкиваю их на обувную полку. Волочу за лямку отяжелевший рюкзак и запираюсь в комнате.
– Твою спальню не трогала, – доносится до меня мамин голос. – Приберись.
У мамы есть маленький, но весомый недостаток – она помешана на порядке. В нашей квартире так чисто, что можно есть с пола. Любое пятнышко – даже крошечное – будет обнаружено и стерто, пусть даже на его устранение потребуется весь день. Однажды я испачкала диван йодом, так мама не ложилась спать, пока не оттерла обивку дочиста.
Это невыносимо. Мне хочется быть нормальным подростком: жить в бардаке, спотыкаться о горы одежды и изредка забывать, куда я подевала носки.
– Может, завтра? – уныло вопрошаю я, заранее предугадав ответ.
– Нет, сегодня. Чистые полки – чистые мысли.
Спорить с мамой себе дороже, потому я вяло переставляю фоторамки, отряхиваю мягкие игрушки от кошачьей шерсти. Плюшевый заяц смотрит на меня с укором – я давно не сплю с ним в обнимку и достаю только затем, чтобы выбить из него пыль. Всякий раз мама просит избавиться от старых вещей, но я не могу заставить себя выбросить что-то из прошлого: мягкие игрушки, подаренные отцом, одежду, которую давным-давно купила мне бабушка, даже плакат с некогда любимым актером – потому что это всё напоминает мне о детстве.
Вот и заяц когда-то был моим лучшим другом, а теперь всего лишь пылесборник, как выражается мама.
Заглянув за шкаф, я обнаруживаю там паука размером с мой ноготь. Паук, словно учуяв опасность, забивается в самый угол. Крохотные лапки проворно перебираются по паутине. Я рассматриваю его, но не трогаю, не смахиваю метелкой. Пусть в спальне будет хоть частичка беспорядка.
Вот бабушка не любила уборку. Она считала, что ценен человек, а не вымытая посуда. Наверное, из-за этой несхожести мама и не сошлась характерами с бабушкой, а за спиной называла её пренебрежительно «свекровью». Слово показалось мне оскорбительным, и однажды я наябедничала бабушке на маму, а та лишь рассмеялась:
– Так я и есть свекровь. Я – мать твоего папы, тебе бабушка, а твоей маме – свекровь. Понятно?
– Вроде бы. – Почесала в затылке. – Значит, другая моя бабушка, ну, мамина мама, для папы тоже свекровь?
– Теща, – поправила бабушка, после чего нарисовала на тетрадном листочке кучу всяких семейных связей, непонятных и запутанных.
Если по правде, слово «свекровь» нравится мне больше, чем «теща». Дело в том, что бабушку по папиной линии я обожала, а к маминой всегда относилась с опаской. Вторая бабушка всех учит жизни. Маму называет бесхребетной, а меня – растяпой. Называет не со зла – она просто не умеет иначе. Даже когда хвастается мной перед соседками, говорит: «Неумеха-то моя вон чего учудила». После встреч с бабушкой мама всегда мрачнеет и замыкается в себе. Впрочем, бабушка живет за семьсот километров от нас, потому гостим у неё мы исключительно летом.
Я люблю вторую бабушку, но не доверяю ей так безоговорочно, как папиной маме.
Интересно, мне уже одобрили вступление в группу?
Нет. Заявка всё ещё висит где-то в цифровом пространстве, непрочитанная администратором. Тот, кстати, в сети появился, но почему-то не спешит сделать меня частью «Слишком поздно» либо навсегда вычеркнуть из списка допущенных лиц. Неизвестность пугает. Что может быть внутри такого, что админ должен придирчиво рассматривать каждого кандидата на вступление? Может, у них ещё и отбор специальный? Типа закрытого клуба, куда допускают лишь избранных.
Надо бы отвлечься, иначе точно свихнусь от незнания.
Прибравшись и поужинав, я решаю найти профиль Наташки в «Инстаграме». О чем она может писать? Наверняка, о чем-то безмерно скучном.
Долго просматриваю записи. Неплохо. Снимки четкие, симпатичные, а философские цитаты вставлены более-менее в тему. Оказывается, Наташка тоже ходит по кафе-барам, отдыхает на природе с друзьями и даже встречается с мужчиной! Она не похожа на унылого школьного психолога, когда переодевается в джинсы и клетчатые рубашки, распускает тугой хвостик и снимает очки.
Залезаю в подписки Наташки, намереваясь обнаружить среди них Марину. Но тотчас нажимаю на кнопку «Назад». Поищу профиль Марины завтра, иначе опять не усну. Буду грызть себя изнутри. Вспоминать.
Трудно побороть любопытство, но я справляюсь.
Изображение № 2: Полумесяц покачивается на облаках, а под ним темную аллею освещает одинокий фонарь.
Подпись: Мне нравится луна. В ней есть что-то загадочное и манящее. Вечерами хочется кому-то открыться, но у меня не так много виртуальных друзей (реальных вообще нет), чтобы болтать с ними ночами напролет. Что нужно знать обо мне ещё? Я не очень общительная, иногда угрюмая и резкая. Мой характер терпела только М.
Но если вдруг захотите пообщаться – я всегда рада.
Добрых снов.
#одиночество #ночь
Добавляю ещё несколько тегов, жму кнопку отправки. Моя запись появляется в ленте, и луна – без всяких фильтров – сияет с экрана мобильного телефона. Её отмечают комментариями и лайками. Приятно, что кому-то пришелся по вкусу мой текст, что кто-то, возможно, думает так же, как и я.
Не самая плохая идея – вести онлайн-дневник.
***
Уведомление появляется ближе к полуночи: «Ваша заявка на вступление одобрена».
Моё сердце на секунду останавливается, чтобы забиться чаще, сойдя с ритма. От волнения, едкого как кислота, трясутся руки. Я захожу на страницу и морщусь при виде закрепленной записи.
Девушка улыбается, закусив лезвие. Её глаза настолько пусты, настолько лишены всякого смысла, что кажется – это кукла в оболочке живого человека. Она плачет – слезы стекают по обеим щекам, – но почему-то продолжает тянуть эту неестественную улыбку, намертво приклеенную к губам.
Ничего особенного, но мне становится не по себе.
Я должна закрыть эту ссылку и забыть о ней, но палец ведет по экрану, и лента новостей оживает, ползет вниз, открывая картинку за картинкой. На некоторых нет ничего, кроме черного фона и белого текста. Слова тяжелые, но понятные и знакомые почти каждому подростку.
Я отвергаю этот мир.
Его смех мне заменят слезы.
Ты тоже говорил, что счастлив, скрывая в душе черноту?
Мы, дети заблудшего поколения, никому не нужны.
Они будут скучать, если меня не станет?
Здесь много дельфинов и бабочек, китов, устремленных в небеса. Изображения разные: реалистичные и ненатуральные, почти карикатурные. С кладбищенских надгробий смотрят незнакомые люди. Безлюдные крыши на рассвете манят к себе. Тянущееся вдаль железнодорожное полотно приглашает балансировать по рельсам. Разрисованные запястья пульсируют. Плачущие люди спешат отвести взгляд от прицела фотоаппарата. Израненные судьбы повсюду.
И кровь. Так много крови, что на губах становится солоно.
Первые минуты меня трясет от отвращения, но чем глубже я закапываюсь, тем сильнее впускаю «Слишком поздно» в себя. Есть в ней что-то, что заставляет остаться ещё на секунду, а потом ещё на одну, и ещё.
Здесь все свои. Участники анонимно и открыто делятся переживаниями, оставляют комментарии. Ежедневно кому-то разбивают сердце, а кто-то другой теряет смысл жизни. Тогда он пишет в группу, а ему отвечают другие, расколотые или сломленные, или учащиеся жить заново.
Кажется, Наташка глубоко заблуждалась. Эта группа не толкает на самоубийство, а позволяет найти тех, кто подаст тебе руку помощи. Да, иногда тут выкладываются трагичные посты – но лишь потому, что каждый подросток знает, каково страдать.
Я возвращаюсь к началу страницы и читаю новую запись, которая появилась только что: «Приветствуем нашего нового друга, Сашу». Имя подсвечено ссылкой и ведет на мою страницу.
На губах расплывается глупая улыбка, а в животе поселяется тепло, солнечное, живое. Впервые за долгое время меня кто-то выделил среди толпы.
Следующий час ко мне в друзья добавляются самые разные люди. Из России и Беларуси, из Украины и Казахстана. Их так много, что я не успеваю запоминать имена. Они отправляют мне смайлы и многозначительно добавляют: «Круто, что ты с нами!»
Мне хочется спросить: «Слушайте, а что это за группа?», но вопрос кажется тупым. Мол, а чего подписывалась, если не знаешь.
Ничего, я всё выведаю сама.
***
Субботнее утро наступает внезапно. В секунду темень сменяется ослепительным светом. Солнечные лучи поглаживают по волосам, настырно лезут в глаза. Я давно не сплю, но не нахожу в себе сил подняться с кровати. Слишком тяжело. Как только я встану, официально начнется день, и придется жить.
На кухне мама готовит завтрак, напевая песенку из рекламы шампуня. Гремят кастрюли, шумит вода, пищит микроволновка.
Перевернувшись на бок, накрываю голову подушкой. Звуки смолкают, и в ушах отдается биение сердца. Одиночество вновь давит на виски. Рывком стягиваю с себя одеяло. Чищу зубы – может, сделать фото ванной комнаты? – одеваюсь в шорты и футболку – или гардероба? – завтракаю вязкой овсяной кашей, которая прилипает к зубам.
– Зайдешь сегодня к папе? – Мама сидит напротив, уперев подбородок в кулак.
– А надо? – уточняю я, проглотив кашу, не жуя.
Она равнодушно дергает плечом. Мамины глаза всегда пустеют, когда речь заходит об отце. Родители не общаются и никогда не вспоминают друг друга. Почему, расставшись, они оборвали любые контакты? Что послужило причиной?
Я помню, как счастливы мы были раньше. Помню, как ходили в парк аттракционов, где взмывали ввысь на цепочных качелях, и мама заливисто смеялась, а папа называл меня трусихой. Помню, как мама подкрадывалась к папе со спины и крепко обнимала его, а он целовал её в щеку.
Неужели любовь может взять и иссякнуть? Лопнуть как мыльный пузырь?
– Сходи, если хочешь. – Мама наливает мне зеленого – экологически чистого и полезного, а потому особенно гадкого – чая без сахара. – Папа, должно быть, соскучился.
Сомневаюсь. Мой папа не умеет скучать, ведь у него маленький ребенок, тяжелая работа и любимая жена. Я – лишь пунктик в его списке важных дел. Ненужный такой пунктик, бесполезный, но от которого не избавиться.
После завтрака я звоню отцу и, запинаясь, спрашиваю:
– Можно зайти к вам на часик?
– Не задавай глупых вопросов, Александра, – ворчит он в трубку, а у меня внутри обрывается струна. – Мы ждем тебя в любое время.
В их квартире всегда шумно: болтает на своем языке Матюша, папина новая жена Юля безостановочно готовит то завтрак, то обед, то ужин. Скворчит масло на сковородке. Трясется, возмущаясь, кухонный комбайн. В телевизоре журналист восхваляет новомодный сериал про странных подростков.
– В школе всё нормально? – спрашивает папа, дожидаясь, когда я переобуюсь в тапки и вымою руки с мылом. Водосток засорен рыжими волосами. Юлины. В этом доме проще относятся к чистоте – по правде, я опасаюсь ходить босиком, чтобы не вляпаться в пластилин или пюре.
– Нормально.
Рядом с отцом всегда хочется выпрямиться и отвечать по-военному коротко.
Юля накрывает на стол. Каждое её движение отточено, как танец: поворот – захват вилок – движение рукой – поворот. Она управляется за секунду. Бряцают тарелки и ложки. В пузатом заварочном чайнике чернеет свежая заварка. С котлеты стекает подсолнечное масло.
Я не голодна, но не могу отказаться под суровым взором отца.
– Матюша научился говорить, – Он усаживает сына на колени. – Ну, скажи что-нибудь сводной сестре, а?
Матвей мурчит что-то себе под нос и пытается вылезти из отцовских объятий, а я давлю в себе зависть. Успехами какой-то-там-Александры папа не хвастается. Подозреваю, что он не помнит, в каком классе учится его дочь – что уж говорить про мои скромные достижения.
– Не верю, что Матюше вот-вот исполняется два годика, – торжественно добавляет Юля, целуя сына в нос. – Саша, ты придешь к нам на праздник?
Вот что мне делать на дне рождения Матвея? Куча родственников будут умиляться его пухлым щечкам или редким зубам, болтать с ним, дарить подарки. А я, как в прошлом году, забьюсь в угол, где просижу до позднего вечера в гордом одиночестве.
– Я бы очень хотела зайти, но в среду итоговая контрольная, боюсь, что не успею подготовиться, – вру, опустив взгляд. – Матвей не обидится?
Масло растеклось по тарелке несимпатичным пятном. Макароны разварились и слиплись. Юля – неплохая женщина, искренняя и веселая. Но готовить она не умеет. Впрочем, папа с аппетитом уплетает неаппетитное месиво. Если счастье можно измерить в количестве съеденных макарон, то папа безмерно счастлив.
– Конечно же, нет! – восклицает Юля. – Он даже не заметит. Ты учись. Это главное!
– Очень жаль, – добавляет папа пасмурно. – Постарайся всё же выкроить часок по возможности. Мы – одна семья.
Ой, да ладно. На мой день рождения ты, папа, не пришел, как и на мамин юбилей. Мы – одна семья только тогда, когда дело касается твоих новых родственников. Кто бы знал, как обидно быть запасным ребенком. Вроде бы и родная, но особых надежд на меня не возлагают, потому что есть младший сын, единственный и неповторимый.
Короче говоря, день окончательно испорчен. Напоследок я тайком фотографирую спальню Матвея и ухожу, отказавшись от чая с тортом. Мама говорит, что сладкое вредит фигуре, и я небрежно бросаю эту фразу, когда Юля предлагает мне кусочек. Матвей весь измазан тортом, он черпает его пальцами прямо с коробки. Кусок, предназначавшийся мне, он тоже подъел: сколупнул взбитые сливки и мастику. Не хватало только доедать объедки за любимым папиным сыном. Поэтому я ссылаюсь на срочные дела («мама просила вернуться пораньше») и убегаю.
Изображение № 3: На обоях детской спаленки танцуют овечки в комбинезонах. По потолку плывут нарисованные фосфорной краской звезды. Вся мебель белая-белая, и пол усыпан игрушками.
Подпись: В этой волшебной комнате живет мой сводный брат. Ему скоро исполнится два годика, и родители обожают его. Даже мой бывший папа. Вообще-то он до сих пор мой папа, но после его ухода из семьи наши отношения испортились. Папа обожает сына, а ко мне относится… ну, как к дальнему родственнику, которого и не выгонишь, но и не вспоминаешь без надобности. Если честно, мне очень обидно, но я стараюсь не подавать вида. Иначе папа скажет, что я уже взрослая, а веду себя как ребенок.
#одиночество #грустьтоска #семья
Число подписчиков не меняется, зато я получаю первые осмысленные комментарии. Незнакомые люди советуют не обижаться на младшего брата, которому уделяют больше внимания. Предлагают подружиться с ним, найти общий язык. Уверяют, что папа любит меня так же сильно, как и раньше. Вот откуда им знать? Как могут они утверждать что-либо, не зная ни моей семьи, ни моего отца, ни меня саму?
Разумеется, я не бегу домой, а бесцельно слоняюсь по парку. Сижу у озера, по зеркальной глади которого чинно плывут утки.
Перечитываю комментарии к фото и отвечаю на некоторые.
Интересно, а что будет, если я выложу этот же снимок в «Слишком поздно»?
Первый комментарий прилетает от Риты Миропольской из Барнаула, у которой вместо фотографии – бескрайнее небо, а в статусе написано: душа насквозь пробита людским равнодушием.
«Мои родители тоже завели себе нового ребенка и на меня забили. Сделай то, посиди с сестрой, зачем тебе куда-то ходить, лучше приберись или помой посуду. Якобы им тяжело, пока я развлекаюсь. Меня они не спросили, а хочу ли я сестру. Мне она нафиг не сдалась».
О да, хоть где-то меня понимают!
Мы переписываемся с Ритой и другими ребятами, которые не стараются найти тайный умысел в моих словах и не пишут тупых ответов, а искренне переживают. Некоторые из них грубы – оскорбления летят в адрес отца и Матвея, – а другие просто очаровательны. Никаких нравоучений, советов с припиской «уж поверь моему опыту», высокомерных фраз – ничего из того, что способно задеть меня за живое.
Честное слово, взрослые раздражают своим всезнанием! Почему родители или учителя, или вообще незнакомые люди из интернета позволяют себе считать, будто понимают что-то в жизни подростков? Они разговаривают с нами так, словно мы не заслужили доверия: покровительственно, с ноткой надменности. Советуют, как поступить, да только это не советы – а требования.
Здесь этого нет.
Только общение. Настоящее. Чистое. Позитивное.
Ко мне в «друзья» стучится та самая Рита.
«Привет! – пишет она, дождавшись моего согласия. – Блин, меня аж взбесило поведение твоего отца! Если что, я с тобой».
«Спасибо за поддержку», – отвечаю и добавляю несколько смайликов: смущение и алое сердце.
«Да ерунда. Меня вот родители вообще не понимают. Они зациклены, знаешь, на всякой фигне. Типа, надо учиться, поступать в универ, ходить на самбо, с сестрой сидеть. А мое мнение их не волнует. Я для них – бесплатная сиделка. Знаешь, папаша иногда как глянет на меня искоса, я аж скукоживаюсь. Типа бездарность он вырастил. Ты, наверное, испытывала что-то такое?»
Рита так откровенно жалуется на непонимание, не стесняясь меня, что внезапно мне тоже хочется открыться ей, сделать эту девушку из далекого города чуточку ближе. Мы общаемся как давние знакомые. С Ритой как-то легко, будто и нет между нами расстояния. Она заполняет пустоту собой, и одиночество потихоньку расцепляет пальцы, сползая с моих плеч.
«А как ты нашла нашу группу?» – интересуется Рита через полчаса оживленного общения, когда мы обсудили и друзей, и врагов, и любимые фильмы. Мы с ней очень похожи. Когда я пишу, что обожаю английские сериалы, Рита запросто перечисляет самые классные, которые она пересматривала по несколько раз.
«Да просто копалась в подписках подруги и обнаружила».
«Круто! Тебе очень повезло. В СП добавляют немногих. Ты типа избранная, да. Я давно жду начала игры. Блин, может, и ты на неё попадешь! Или ты пока только смотришь?»
«Какой игры?» – я стесняюсь своего незнания, но лучше расспросить обо всём нормальную Риту, чем незнамо кого.
«О, ты не знаешь? – Она добавляет удивленный смайл. – Не, я не должна тебе говорить. Это приказ Кита. Если будет надо, то сама поймешь попозже. Не спрашивай ни о чем, ок?»
Очень странно. Непонятная игра представляется мне чем-то завораживающим, но неопасным. Уж точно не смертельным квестом, как выражалась Наташка. Я не лезу с расспросами. Кит – это, видимо, админ группы. По крайней мере, того зовут Никитой. Ничего. Надо потерпеть.
Я пишу Рите ответ – «всё нормально, тема закрыта», – но она уже вышла из сети, не прощаясь. Будто бы испугалась меня или нашей переписки и сбежала, чтобы не сболтнуть лишнего.
Неужели я опять всё испортила?
Купив в ларьке нарезной батон (это я говорю по-московски, потому что петербуржцы, якобы, называют батон булкой), кормлю уток, а те жадно поедают мякиш. Вообще-то у уток от хлеба может быть заворот кишок – так сказала биологичка, – но я вспоминаю об этом слишком поздно.
– Пожалуйста, не умирайте от моего хлеба, – прошу их.
Утки меня не слышат – плывут к другим кормильцам, загребая лапами воду.
Погода стремительно портится. Небо, недавно синее до рези в глазах, заволокло черными тучами. Ещё не дождит, но воздух пахнет сыростью. Я качаюсь на качелях – одна на всей детской площадке – и просматриваю подписки Наташки. Одну за другой. Чужие лица и фото. Незнакомые профили, среди которых с трудом нахожу Маринин – в нем нет ни одного портрета. Понимаю, что профиль принадлежит ей, а не кому-то другому, по фотке из окна её спальни: безлюдный сквер и усыпанная палыми листьями тропинка к дому.
Я изучаю фотоснимки, читаю короткие подписи. У Марины была другая жизнь: за пределами школы и наших переписок. Нечто, чем она не делилась со мной. Оказывается, моя подруга любила фотографировать природу, особенно – зимнюю. Снега, метель, заиндевевшие ветви, красногрудые снегири. Так красиво, что перехватывает дыхание! Не удержавшись, ставлю «лайк» всем снимкам и добавляю Марину в подписки. Пусть она где-то там, но я тут, я всё вижу, и мне нравится то, чем увлекалась моя подруга.
Почему она скрывала от меня свое хобби?
У нас не было секретов друг от друга. Когда Марина впервые поцеловалась за школой с каким-то восьмиклассником, она тут же позвонила мне. Когда я пошла на первое в своей жизни свидание – отписалась ей в кинотеатре, где мы смотрели ужасно скучный фильм с ужасно скучным парнем.
Горести и радости мы делили пополам.
То есть я делила, а она скрывала сеансы у школьного психолога, свой блог, любовь к фотосъемке.
Много чего скрывала.
Слезы вновь подступают к глазам, но я впиваюсь зубами в нижнюю губу, прокусив её до крови. Боль отрезвляет.
Между тем, Кэт обрывает телефон сообщениями. Приглашает погулять или потусоваться где-нибудь вдвоем. Зазывает в Crazy Bubble или на вписку к старшекласснику Игнату, с которым она дружит по театральному кружку. Я не отвечаю.
Вообще-то до одури хочется поговорить с кем-нибудь, но не с ней. Жалко, что Рита исчезла из сети. Скука съедает меня, когда я натыкаюсь на листовку. Её почти срывает с фонарного столба порыв ветра, но она держится на клею. Упрямая листовка.
