Читать онлайн Дай руку, капитан! бесплатно
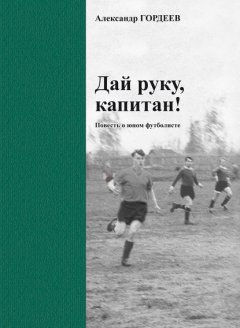
© Гордеев А. И., 2018
© ГБУК «Издатель», 2018
Глава 1
Вот так проводы!
…На столе у меня лежали белые кубики необычного сахара. Сутки назад привез их из командировки. Там, на опытном заводе, массивные и искристые «головки» этого продукта распилила на конце конвейера автоматическая пила. Вкус у него оказался идеально сверхсахарный.
Много лет вынашивал идею, защитил диссертацию. Еще три года ушло на то, чтобы после разработки проектно-сметной документации, взламывания бюрократических барьеров воплотить в металл и запустить опытную линию, хотя и не верили в нашем НИИ, что все задуманное получится. Моя идея заключалась в получении нетрадиционного источника сахара.
Вы слышали когда-нибудь, чтобы этот высокоэнергетический продукт вырабатывали на промышленной основе из сортов сахароносного сорго, которое хорошо себя чувствует на степных и полупустынных землях? Только по левобережью реки Волги это земли Самарской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей, на которых могли бы разместиться многие из европейских стран. За культурой сорго – бесспорное будущее.
Работа работой, но в жизни человека должен быть и отпуск, которого я ждал, как высокой награды. Три года только и грезил о нем. Летом переносился в зиму, представляя себя идущим на лыжах и попавшим в эпицентр колкой, сбивающей с ног пурги, в круговерти которой на тебя наваливается страшная усталость и кажется, что ты потерял ориентир. Где-то продираешься сквозь черные заросли терновника, чутьем находишь спуск в овраг с кривым мостиком, решительно скатываешься к нему, стараясь проскочить посередине, и уже на знакомом подъеме выходишь на кряжистый одинокий клен. И если в белом ослеплении заворачиваешь по толще сугробов к улочке, зажатой с боков позеленевшими от сырости и ветхости плетнями, значит, скоро пробьешься через враждебную пляску хлесткого снега к теплу родного дома с горячим духом русской печи.
Ну, а зимой представлял себе знойное лето, с густой зеленью садов, безмятежным воркованием горлинок на проводах, искрами слепого дождя и необыкновенной легкостью воздуха, первыми яблоками, темно-малиновыми вишнями и самым незабываемым – зарослями камыша у дремлющего на зорьке пруда. И ты сидишь на какой-нибудь коряге, и у тебя в руках длинное суковатое удилище с пробкой-поплавком, который обязательно должен подскочить на глади воды, а потом ускользнуть, погружаясь, в сторону. И ты делаешь подсечку и физически ощущаешь радостную тяжесть, когда после плавного рывка отчаянно трепещется и горит на крючке, словно золотой шар, красноперый карась в лучах восходящего солнца.
…Сколько раз, бывало, в тиши конструкторского бюро витаешь в воспоминаниях, ничего не видя и не слыша. И вдруг приходишь в себя от легкого толчка и обеспокоенного голоса коллеги: «Петрович! Ты чего?»
Волей-неволей возвращаешься к действительности. Все уплывает и рассеивается. Только успеваешь пробормотать: «Да так, задумался».
– Знаем-знаем, задумался, – улыбается сосед.
В последнее время, когда под окнами института сходил почерневший снег и шла в рост шелковистая трава, а потом цвела сирень, об отпуске вспоминал все чаще и чаще. От такого нетерпенья мог бы помчаться самолетом в родные края. Но зачем? Мало ли на них летал? Пролетишь за полтора часа над облаками, и все – спускайся с трапа. Какая же это дорога? А где впечатления, к которым ты можешь возвращаться сколько душе угодно?
Уж лучше податься на Казанский вокзал, по-своему особенный, если сравнивать его с двумя другими в «Бермудском треугольнике» Москвы. Может, замечали на его здании башню с площадкой? Это звонница об одном колоколе, которая, замечу как инженер, функционально связана с большими часами. Лишь только минутная стрелка обежит темно-синий циферблат с золочеными знаками зодиака, незаметно продвинув часовую стрелку, так и ударят молотки, отбивая время на почернелой меди колокола.
А рядом на угловой пирамидальной башне непонятное существо, выкованное из металла, поворачивает, как флюгер, нос по ветру на тонком золотом шпиле.
Кто-то скажет, разглядывая оперение, что это жар-птица, а кто-то заспорит – петух, мол. Нет, ни то и ни другое. Это стилизованный крылатый змий Зилант с Черной горы Каратау, он изображен на старинном гербе Казани и считается ее символом.
Вот и надо сесть в купейный вагон и махнуть по железной дороге. В поезде можно встретить множество попутчиков и с каждым, не называя себя, беседовать сколько хочешь. С иными и расставаться жаль.
Разве плохо? Колеса стучат и стучат, а ты, прислушиваясь, радостно размышляешь, что отпуск только на старте и все заветное – впереди.
– Все! – сказал я своим разлюбезным коллегам. – Заместитель – на месте. Билет – в кармане. Счастливо оставаться! И покорнейше прошу телеграммами не беспокоить. Что не так – после наверстаем.
Шутливо раскланиваясь, я даже подмигнул моему кульману со снятой рейсшиной: попылись-ка, дружок, отдохни. Птицей пролетел по длинным коридорам, слаломистом спустился широкой лестницей в вестибюль и с генеральской важностью вышел через парадный подъезд.
Меньше часа, и я уже забыл, что такое городской шум, транспортные пробки и наше научно-исследовательское учреждение. Знакомой тропкой шел к своей девятиэтажке. И вдруг к ногам подкатил футбольный мяч, живым существом крутнулся вокруг оси и остановился, подставив на обозрение ободранные, с травяной прозеленью шестиугольники.
– Дя-адь, дай пас! – услышал крик распалившегося парнишки, который понравился мне с первого же взгляда: его глаза, сверкавшие от куража, прикрывала назойливая челка. Явный лидер команды, нетерпеливый, он машинально пытался сдуть ее на место. Стоял он метрах в тридцати, ближе всех ко мне, машинально заправляя выбившуюся из трусов майку с эмблемой общества «Спартак». Его футбольная ватага замерла за спиной, наблюдая, как я справлюсь с просьбой.
Не знаю, что и произошло, но во мне проснулся инстинкт футболиста, а главное – желание показать, что в футбольном деле не лыком шит. Легким накатом поддел мяч на подъем правой стопы, пока он за доли секунды отрывался от земли, сделал отмашку и сильным ударом послал его обладателю спартаковской футболки. Пока мяч описывал крутую дугу, я с любопытством наблюдал, как неожиданный партнер примет нелегкую подачу.
Никакой растерянности не обнаружилось. Парнишка, вытянув перед собой руки, принял мяч на грудь, расслабив корпус, погасил силу падения, перевел его на колено, с колена – на подъем правой ноги, слегка подкинул перед собой и резким ударом ввел в игру. Виртуоз и только! Некоторое время я следил за тем, как парнишка владеет мячом. Наука эта давалась ему легко, потому что во всех направлениях, в самых горячих местах мелькала его белая, словно облитая сметаной, вихрастая голова. Не без зависти оценивал экипировку: команда, где заправлял мой незнакомец, была в полной футбольной форме, и почти каждый был обут в кроссовки фирмы «Адидас», да и другая выглядела не хуже.
Да-а-а! Разве так выходили когда-то играть в футбол мои ровесники? И обувались, и одевались кто во что горазд. И мяча-то путного не было. Купить его было невозможно, потому что ни копейки лишних денег не было. Самый лучший, пошитый из кирзы, с кислиновым ремешком-шнурком, берегли для особых игр, а в будни гоняли самодельный тряпичный мяч. Наша ли была вина, что жили в послевоенное время? И нужно ли смеяться, если мы, хуторские мальчишки, мало разбирались в правилах игры? Но и у нас футбольный азарт был хоть куда.
Каждый из нас вынес из своих лет не легкую беззаботность, а горечь утрат в семье, понятие о тяжелом труде. В какой-то мере дети в силу возраста были ограждены от переживаний. Лишь иногда что-то роковое из слов родителей доходило до нашего сознания: кто-то погиб в бою, умер в госпитале от ран, а то и вовсе пропал без вести. Может быть, мы недоедали, может, не так хорошо одевались, может, нам не хватало игрушек, но все это было в порядке вещей.
В который уже раз я сожалел, что не мог родиться раньше, чем мои старшие братья Владимир и Леонид! А все потому, что слишком плохо умел читать. С дружком моим Володей Двужиловым мы ходили в обнимку и афиши о кинофильмах в нашем клубе ухитрялись читать вдвоем. Он знал одну половину алфавита, а я – другую. Так, складывая буквы по слогам, однажды уловчились вычитать: «Александр Невский». Уточнили у проходившей мимо аптекарши. И был у нас великий восторг, ведь прочитали-то правильно. А кинофильм оказался ну просто мировой.
Я помню письмо, сложенное из серой бумаги в треугольник, аж из самого немецкого города Берлина. Старшие братья никак меня к нему не допускали. Только они и мать с отцом лучше моего знали, что в нем написано химическим карандашом.
– Чудак-человек! – говорила матушка, вытирая руки от муки рябым полотенцем после того, как заканчивала месить тесто. – Хорошо, что после войны родился, голод и холод тебе не достались, как Володе и Лёне. Им и крапива, и лебеда, и ракушки-перловицы из речушки Тишанки шли на еду, отчего животы раздувались, а то случались и запоры.
– Об этом ничего не слышал. Но лучше расскажи про письмо дяди Труши.
– Сначала немного о нем, – вздохнула матушка. – Дядя Труша, или Трофим Иванович Агапов, родился в станице Нехаевской. Рослый, крепкий. Хорошо на коне скакал. На войну пошел, приписав себе один год возраста. От развалин Сталинграда прошел до развалин Берлина, за боевые заслуги был награжден орденом Красной звезды и медалью «За отвагу».
– А что в письме-то?
– В нем он обращался к нам – родителям и особенно к вам – племянникам:
Дорогие мои орлы, Володя и Лёня! Вот она, радость Победы! Только что отсалютовали из автоматов в немецкое небо, черное от копоти и дыма. А все же свернули мы фашистам головы. Нет больше Гитлера. Скоро приеду домой. Увидимся и обнимемся. А вам, дорогие мои орлы, я привезу два трофейных аккордеона. Вот научитесь играть на них, сколько хороших песен споем, ведь это мы – советские солдаты, для всего мира завоевали мир.
Это письмо матушка знала почти наизусть – дорогое, радостное письмо. Но потом замолчала. Ее улыбчивое лицо омрачалось раздумьем, пока я не потеребил ее за передник.
– А как узнали, что он погиб?
– Знаешь, сынок, боевые друзья обменялись домашними адресами, чтобы в случае гибели кого из них навестить их родственников. Ну, а о его последнем письме ты теперь знаешь.
Однажды в наш дом зашел фронтовик в выгоревшей от солнца гимнастерке, но зато с серебряными медалями. Он оказался шофером, единственным после трагедии оставшимся в живых человеком. Машина-полуторка отъехала на восток 100 километров и на одном из поворотов случайно наскочила задним колесом на мину. Взрыв. Полуторку разорвало на куски. Убитых и раненых раскидало из кузова по сторонам, а сам шофер вылетел при взрыве на дорогу через лобовое стекло кабины и остался жив.
– Мам, а он сказал, где могила дяди Труши?
– Где-то в Германии. Больше ничего сказать не смог. Ведь его тогда же, тяжелораненого, отвезли в госпиталь.
…Годы, годы, годы. Иногда человеку кажется, что проносятся они, как вдох и выдох. Двадцать лет минуло после окончания войны. Второй старший брат Леонид, в звании старшины инженерных войск, завершал шестой год службы в ЗГВ – западной группировке войск. Советских войск, конечно. Все это время его не покидала мысль найти могилу родного дяди. Но как это сделать, если существуют уставы и воинская дисциплина? Одно дело – в составе «китайской роты» в рекордный срок наводить понтонную переправу через реку Эльбу с ее шириной, глубиной и быстрым течением, но совсем другое – получить увольнение из воинской части с дислокацией в Магдебурге, чтобы найти захоронение Трофима Ивановича Агапова. Только и видел старший брат в Трептов-парке величественный бронзовый монумент советскому воину-освободителю. И то утешение. Выходит, один на всех не вернувшихся с войны памятник поставлен…
Но вернемся к детскому послевоенному футболу в далекой сельской глубинке.
…Это сколько же времени прошло с той поры, когда мы на свой лад, всеми доступными возможностями осваивали футбол? В школу пошли аж в 1953 году. Если прикинуть, больше чем полвека наберется.
* * *
…А игра в парке на лугу шла азартная. Насколько я понял, дворовая команда «Спартак», которую возглавлял мой неожиданный партнер, одолевала соседей. В этом я убедился, обернувшись напоследок еще раз: юный спартаковец сумел обойти шеренгу суетливых защитников и прошить ударом мяча импровизированные ворота. – Ура! «Спартак» – чемпион!
…На следующий день, направляясь после полудня на вокзал, я увидел на скамейке сделанную наспех черной краской неожиданно броскую надпись – «Спартак» – чИмпЕон!» Рядом красовался корявый ромб известного спортивного общества с буквой «С» в середине, увенчанный короной.
Нетрудно догадаться, чьих рук дело. Ну что за «авторы» у нас пошли, не владеющие правописанием? Под скамейкой одиноко валялся пустой баллон из-под краски, очень ходкий у автомобилистов для заделки царапин на кузовах машин.
…До чего же толпист и шумен Казанский вокзал! Не знающим конца конвейером катят к нему автобусы и такси, делают остановки трамваи и троллейбусы. Из них и из подземелья метро вырываются люди. Кто тут пассажир, а кто провожающий – не разберешь.
Вот сгрудились в кружок студенты с гитарой, может, где-то на природе хотят отдохнуть, а может, стройотрядом направляются в глубинку, чтобы что-то построить и заработать. А вот из-за дальних из-за гор, а точнее – барханов и пустынь, в стеганом халате, в тюбетейке и сапогах с резиновыми галошами, прошел с переметными сумами седобородый аксакал. Что забыл он в первопрестольной? Не всякий догадается.
Я заметил у него на груди все положенные ветерану войны и фронтовику знаки рядом с орденами Красной звезды, Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу». Одна из версий – неуемное желание встретиться в глубокой старости с братьями по оружию, с кем ковали Великую Победу.
А вот носильщик погрузил на тележку чемоданы, узлы и корзины. Везет не только их, но и… какую-то бабку, которая сидит румяная, наряженная, словно кукла на чайнике. И все, кто видит это «чудо», невольно улыбаются.
Движутся, мелькают лица людей. На то он и Казанский вокзал…
Смотрю на часы, сверяя их с курантами на башне. В запасе пятнадцать минут: целое богатство. У вагона перевожу дух, предъявляю билет статной проводнице в голубой пилотке, пришпиленной к прическе. Машет мне рукой, проходите, мол, после проверю. Что-то душновато во мраке купе. С силой опускаю оконную раму.
«Ба! Знакомые все лица!» Кто бы мог представить что-то подобное: ведь это же вчерашние мальчишки, выходит, провожают на этот же поезд белобрысого капитана. Остановились под окном, о чем-то говорят.
И вдруг слышу крики: «„Спартак“ – чемпион! „Спартак“ – чемпион!». Шлеп-шлеп! Шлеп-шлеп-шлеп!» – хлопают ладонями. И кто-то сорванным голосом вопит: «Знайте, люди, что пока нет сильнее «Спартака»…»
Болельщик болельщику рознь. Преданность команде-кумиру у иного так и прёт через потуги голосовых связок, ему кажется, что для выражения безграничной любви это самое что ни на есть надежное средство. Но есть солидный болельщик, который воздает уважение любимой команде достойным молчанием. И в этом молчании, можете согласиться, больше силы. Зато на стадионе, когда идет жаркий матч, все одинаковы, все следят за событиями на одном дыхании. Если кто-то допустил досадный промах на зеленом поле, полстадиона ахает, ну а если точен и неотвратим завершающий удар, оглашается ревом весь стадион.
Мало кто из суетившихся пассажиров и провожающих обращал внимание на какие-то неуклюжие комплименты «Спартаку». Люди, озабоченные оставшимися до отхода поезда минутами, багажом, билетами и так далее, лишь досадливо морщились на мельтешащих «сдвинутых» ребят.
Только некоторых любителей футбола, годами намного старше, выкрики мальчишек все же задели. Собравшись по двое-трое, они стали выяснять – какая из команд в чемпионах числится? И все у них перепуталось: «Динамо» и «Торпедо», «Локомотив» и «Зенит». Даже волгоградский «Ротор» чуть в чемпионы не попал.
Спорщики смотрели друг на друга такими глазами, словно боялись остаться ограбленными. Однако никто не хотел согласиться, что «Спартак» – чемпион. И неизвестно, чем бы кончился спор и был ли он главным во всем происходящем, если бы поезд не тронулся. Настоящие болельщики расходились по вагонам в легкой задумчивости.
Глава 2
Магическая сила кроссворда
Тем временем поезд набирал скорость. В мое купе вошел знакомый незнакомец. Ловко забросил на верхнюю полку туго набитую спортивную сумку и уселся напротив.
– Привет, чемпион! – обратился я к нему. А потом нарочито, с назиданием подняв палец над головой, добавил: – Знайте, люди, что пока нет сильнее «Спартака»!
– Здравствуйте, дяденька. Но наш «Спартак» – чемпион…
– Бог с ним, со «Спартаком». Куда путь держишь?
– До станции Филоново, дяденька.
– О! И мне туда же!
– Вот здорово!
– Еще бы! А почему один?
– Мама – в командировке, а папа… мы давно без него живем…
– Что ж, бывает. Ну, а дальше как?
– Дальше? – переспросил спартаковец. – Ничего страшного, дяденька, в Филоново меня встретят.
– А дальше?
– Хутор Дёминский.
– Дёминский?
– Да, проще – Дёминка.
– Хоть стой, хоть падай: я ведь оттуда родом!
– Значит, нам по пути?
– Выходит, что так.
В нашем диалоге наступила пауза. Каждый из нас «переваривал» свалившееся столь неожиданно. А вагонные колеса в своем перестуке давно вошли в азартный ритм, стремясь как можно быстрее поглотить расстояние. С шумом и грохотом прорывался состав через арки мостов, соединявших берега рек, встречавшихся на пути.
– Дяденька, а откуда вы знаете, что наш «Спартак» – чемпион?
– Я много чего знаю. Знаю, например, что ты живешь в седьмом микрорайоне.
– Вы, дяденька, телепат?
– Нет, я конструктор, почти засекреченный.
– Граждане, ваши билетики! – обратилась к нам проводница.
– Пожалуйста! А скажите, почему два нижних места свободные?
– Подождите, вот доедем до Рязани, там обязательно кто-то подсядет.
– Очередные чудеса Казанского вокзала, – заметил я.
– Что-что, а чудес у нас на железной дороге хватает, – улыбнулась проводница. – Подождите, скоро вам с сынком принесу постельные принадлежности.
Мы со спартаковцем переглянулись и начали смеяться.
– Вот что, «сынок», – не выдержал я. – Давай знакомиться, а то заладил – «дяденька-дяденька».
Мне эти сю-сю-сю ни к чему. Зовут меня Андрей Петрович, а фамилия – Ковалев. Ну, а я с кем честь имею?
– Меня зовут Роман, фамилия – Телегин.
– Знатно. Так ты, значит, спрашиваешь, откуда мне ведомо, что ты – спартаковец, да к тому ж и капитан команды? Ведь так? Капитан? Может, помнишь, кто-то тебе еще вчера мяч подавал?
– И спартаковец, и капитан. А вот вас, Андрей Петрович, не припомню.
– Это не важно. Матч-то шел серьезный. А вот почему для игры не нашли другого места? Неужели городских стадионов мало? Сколько футбольных полей, и все пустуют. И солнышко светит, и газоны зеленые, а получается, что все это ни для кого.
– Команда у нас классная, но школьный стадион завалили какими-то трубами. Пришли на стадион «Динамо», а там толсторукие мужики от ворот поворот показали. Вот и маемся где придется…
Об этом Роман сказал с каким-то горестным вздохом, пряча от меня свои в тон настроению серые глаза. Видя это, я поспешил перейти на другую тему:
– Да, брат, по Дёминке скучаю. Там, поди, лет пятнадцать не был. Наверное, вся родня давно про меня забыла. Ну, а ты у кого гостить собираешься?
– Бабушка там у меня, хорошая такая, Анастасия Харитоновна.
– Стоп-стоп-стоп! Уж не та ли, в чьем саду анисовые яблоки? Грозная для нас тетка была. Значит, еще жива?
– А что с ней будет? Еще как жива.
– А Дёминку хорошо знаешь?
– Откуда? В первый раз еду.
– Ничего, дело поправимое. Все будет как надо: ты встретишь местных ребят, познакомишься с ними, а главное – природа, воздух, рыбалка наконец. Как насчет нее? Удочкой владеешь?
– Рыбалка, наверное, хорошо, но с удочкой не очень, – сознался Роман.
– И это дело поправимое, – уверял я. – Ты бы видел, какие там пруды. Каскадом идут, с плотинами – Большой, Новый, Глазков. И рыба есть: караси, карпы и даже белые амуры. А за хутором прудов еще больше. Иные на три километра тянутся. Красота!
– Я больше, Андрей Петрович, ротанами занимался. Такие они серые и мелкие. Их даже в канавах выуживал, на голый крючок брал, – поддержал разговор Роман и, видимо повторяя заключение взрослых, добавил: – Сорная рыбешка, всю икру в водоемах пожирает, даже лягушиную. Говорят, с Владивостока аквариумисты завезли и теперь ее ничем не выведешь.
– Это не рыбалка, баловство одно. Вот сходим на зорьке, тогда узнаешь, что такое золотые шары.
– Какие шары?
– Это когда карась на крючке трепещется.
– Хорошо бы… – не верилось Роману.
«Рыбалка рыбалкой, но как бы главное не упустить, – подумал я. Удивительно знакомыми показались мне глаза Романа Телегина. Что же особенного подметил в них? Уж не зеленоватые ли крапинки? И не только они до боли волновали и вызывали воспоминания. Может, цвет волос? Вроде бы и нет. Видимо, он передался от блондина – Телегина-старшего. – Да, этот мальчик даже не подозревает, чем я еще его удивлю».
Я продолжал рассматривать мальчика и размышлял.
«Значит, едет к бабушке, а у нее когда-то бойко бегала по двору замечательная темно-русая девчонка. То кур созывала: «Цыпа-цыпа-цыпа!», кормила их, разбрасывая на утоптанной площадке зерно из совка, то развешивала на веревке постиранное белье, то корову с козами и овцами пригоняла с околицы по вечерам, а то до самозабвения играла с куклами под яблонями в саду.
Все хуторяне считали, что у этой девочки никого, кроме бабушки, нет. И все жалели ее, такую пригожую сиротку. Помню, родители говорили, что где-то под Москвой работает телеграфисткой ее мать, у которой было неудачное замужество. Вот и привезла она Иринку к бабушке неизвестно на какое время.
Иного не дано, – пришел я к выводу. – Роман Телегин – сын Иры».
– А хочешь, Ромка, я угадаю, как зовут твою маму?
– ???
– Не Ирина ли Алексеевна? И уж не Щелкина ли по девичьей фамилии?
– Ну, дя-день-ка… Ой-ой, Андрей Петрович! Вы – колдун!
– Какой уж колдун? В свое время заглядывался на нее. Это уж точно.
– Мама у нас красивая.
– Еще бы! Одна улыбка чего стоила. Улыбалась не как все, а как-то приподнимая правый уголок рта.
– Она и сейчас так улыбается.
– А еще, когда волновалась, сжимала пальцы на правой руке и оттопыривала мизинец.
– И сейчас так…
– Значит, она. Эх, Ромка, мы же с ней в одном классе учились и были хорошие товарищи. Беда в том, что когда в десятый перешли, она неожиданно уехала. С той поры след потерялся. Наверное, я виноват, что не искал ее.
– Это дело поправимое, – уверил Роман моими же словами.
– Благодаря тебе. Может, встретимся, вспомним о дружбе.
Одно за другим, как бы волнами, накатывали воспоминания. Мог ли я откровенничать и тем самым смущать парнишку? И нужно ли знать ему, что было у меня с Ириной? Не лучше ли вернуться к тому, о чем толковали раньше?
…Не знаю, о чем думал Роман, но у меня все никак не выходил из головы эпизод проводов капитана на вокзале, заодно припомнились грязные надписи на скамейках: «Спартак» – чИмпЕон!»
Ни Романа, ни его друзей я бы к футбольным фанатам не причислил. Фаны – вокруг да около футбола, лишь бы побольше шума наделать. А юные спартаковцы, уж если так они назывались, играли в футбол сами, причем на хорошем для их возраста уровне.
Может, что спросить об этих фанах у Романа? Как он их расценивает? А вдруг обидится, если у меня прорвется назидательный тон, который любой человек встречает в штыки? Разве навяжешь другим свое мнение? Душу человека не запрограммируешь – она сложнее любой электроники.
Я с осторожностью затронул эту тему.
И что же? Собеседник отказался достойный. Мне понравилось его чисто рыцарское отношение к футболу. Любовь к команде, конечно, не запретишь. Но как и в чем она выражается? Одно дело – относиться к ней спокойно и с достоинством, совсем другое – когда кто-то выпячивает свое «Динамо» или «Торпедо». С флагами и грубой символикой так и рвутся на трибуны стадионов и ребята семнадцати лет, и какие-то набрякшие от пива мужики за тридцать. Всем им хоть кол на голове теши…
Ну какой смысл выпендриваться, когда схлынет накал борьбы на зеленом поле, когда известен счет игры и положение команд в турнирной таблице. Нет же, среди фанатов накаляются страсти вплоть до потасовок.
Я не мог не отметить наблюдательности Романа, когда он сказал, что реклама рекламе рознь. Уж если реклама, то она должна быть умной.
– Я недавно, Андрей Петрович, ехал в электричке в Подольск. Раньше из окна видел длинный забор – серый, железобетонный. А недавно увидел, какой он стал – прочитал надпись метровыми буквами: «Любители футбола, поддерживайте команду «Локомотив»! Это вам не граффити.
– Ну, а что осталось после вашей последней игры на скамейках?
– Ах, это? Это Пашки Шишова работа. У него всегда руки чешутся. – И с присущим большинству подростков простодушием посоветовался: – Может, вздуть хорошенько нашего Пашку?
– Скорый гнев – плохой советчик. Вы сначала научите его правильно писать слово «чемпион».
– О-о, он у нас – грамотей, – засмеялся Роман.
– Ну, а как ты и твои ребята смотрите на флаги у фанатов, галстуки, повязки и другие причиндалы, с которыми они так и валят на стадионы?
– Как? Если бы поменьше кричали и лезли со своими символами, еще ничего. А то скамейки опрокидывают, стекла в витринах колотят. Наш физрук все это называет «эпидемией», надеется, что она когда-нибудь кончится. Хотя…
В глубине души я радовался, что сумел объясниться с парнишкой, как мне казалось, по трудным вопросам. Приятно было сознавать, что во взглядах на футбол нашел с ним взаимопонимание. В какой-то степени завидовал Ромке, у которого в мире футбола все еще впереди, а у меня остались одни воспоминания.
…Неожиданно из узкого прохода купейного вагона послышался голос буфетчицы вагона-ресторана, торгующей с лотка съестными припасами:
– Бутерброды из окорока! Бутерброды из окорока!
Мы с Романом прыснули со смеху. Все было хорошо в призывах полной, низкорослой женщины в белом тонком полухалате, в волооком взоре под крыльями черных бровей, вот только ее картавое «р» вызывало невольную улыбку. И может, потому ее товар шел нарасхват.
– А вы бутербродов с окороком не желаете? – просунулась она в наше купе, ослепив золотыми коронками зубов и золотыми серьгами.
Роман Телегин, слегка покрасневший, вопросительно посмотрел на меня. В самом деле, не пора ли подкрепиться?
– Четыре порции к чаю хватит? – спросил я у него.
– Вполне.
Пока «маркитантка» продвигалась со своим лотком в другой конец вагона, я по-приятельски обратился к Телегину:
– А не махнуть ли нам в ресторан?
– В вагон-ресторан? Эт-то можно? – удивился он.
– А как же?
…Через несколько минут мы уже сидели в уютном салоне за отдельным столиком. Наверное, не нам одним было приятно здесь. Работал кондиционер, ласкали глаз льняные скатерти, вазочки с полевыми цветами и бумажными салфетками, приборы со специями, тихо позванивающие в такт колесам. Сиди себе и изучай в глянцевых картонках листки с отпечатанным меню.
В салоне было довольно людно. Распахнутые шелковые шторы слегка покачивал ветерок, доносивший запах хвои из проплывавшего по бокам железной дороги леса.
– Какая прелесть! – восторгались, всплескивая руками с наманикюренными ногтями, нарядные женщины.
– Это замечательно! – вторили им мужчины.
И те и другие находили, что стволы высоких сосен в лучах закатного солнца словно выкованы из красной меди и что от белизны березовых рощ отдает чуть ли не зимней прохладой. Перелески и насыпи пестрели зарослями иван-чая и бело-желтых ромашек.
– Молодые люди! У вас свободно? Можно к вам подсесть?
– Пожалуйста! – ответили мы старичку интеллигентной наружности.
Мне даже польстило, что новый сосед причислил меня к разряду молодых людей. А что? Пятьдесят или шестьдесят? Разве заметишь? А старик, видно, отмахал по жизни чуть ли не на треть века больше.
Обмахиваясь соломенной шляпой, незнакомец смотрел по сторонам, наблюдая, как снуют по проходу, изгибая станы, официантки в накрахмаленных кокошниках. Одна из них не устояла перед его гипнотизирующим взглядом и вскоре деловито записывала карандашиком заказ.
Как и мы, он заметил двух посетителей, которые, не спеша потягивая пиво, листали журнал и все громче переговаривались. Как мы догадались, они разгадывали кроссворд в журнале «Крокодил» и что-то знакомое послышалось нам в их репликах.
– По вертикали: одиннадцатиметровый удар в загрантурне.
– Сколько букв?
– Восемь.
– Пенальти!
Услышав это, мы придвинулись ближе.
– Э-э-э, по горизонтали: галантерейный товар, который недолюбливают судьи.
– Хо-хо! Мы-ы-ло…
– Точно! Оно и есть. Теперь по вертикали посмотрим. Значит, так: часть стадиона, постоянно находящаяся под угрозой эмоционального взрыва. Семь букв.
– Наверное, трибуна?
– Вписывается! Теперь по горизонтали: одна из забытых форм командной игры.
– Сколько букв?
– Пять.
– Маловато. Надо подумать…
Тут мы заметили, как поворачивают головы сидящие за ближайшими к нам столиками.
– Можно и нам подумать? – спросили они.
Польщенные вниманием хозяева кроссворда великодушно согласились – валяйте, мол, валяйте.
– Позвольте и мне! – поднялся старичок. – Мне думается, что забытой формой командной игры стала атака. Так надо полагать, коль этого требует юмор.
– Отлично, старик! Смотрите, атака вписалась!
– Дальше-дальше – по горизонтали что идет?
– А вот: богиня, имеющая непосредственное отношение к футболу.
– Ника! – выдохнула половина вагона-ресторана.
– А вот, кажется, каверзный вопросик по вертикали: ситуация, когда аутсайдер кладет на лопатки лидера.
– Но ведь это парадокс! – вскочил наш сосед.
– Парадокс? Ну-ка, по буквам пощупаем. Надо же! Восемь – и все одна в одну, – удивился один из хозяев журнала.
– Давайте дальше! Дальше давайте! – взмолились со всех сторон.
– Друзья мои! – обратился владелец журнала. – мы весь ужин только и заняты, что кроссвордом. Может, хватит? А то ведь скоро нас отсюда попросят.
Народ зашумел:
– Нет, не хватит. Продолжим дальше.
– Ну ладно, последний вопрос по вертикали. Слушайте внимательно: на ответ отведено в сетке шесть клеточек. Скажите, что это за одна из команд Союза, лишь однажды достигшая вершины?
Полминуты задумчивого бормотанья, и с места сорвался человек из Армении:
– Па-га-ди, да-ра-гой, па-га-ди! Я скажу. «Арарат» – вот что я скажу. «А-ра-рат»!
Кто бы мог подумать, что за отгадыванием кроссворда соберется такая большая группа. Кто-то даже попросил любезного разрешения полистать журнал в сторонке. Остальные стали интересоваться: что это за бодрый старикан, похожий на Хоттабыча, сидит рядом с нами? Ведь это надо же, как ловко в кроссворд «атаку» и «парадокс» ввернул!
Нашим соседом оказался доктор исторических наук, направлявшийся консультантом на раскопки Сарай-Берке где-то под Волгоградом. Назвался редкостным сочетанием имен – Филипп Кириллович, словно перепелка на лугу пропела. Видно, ему не привыкать к аудиториям с молодыми людьми.
– Хотите лекцию? – лукаво улыбаясь, спросил он.
– Историческую?
– Что вы! Футбольную лекцию, но с историческими элементами.
– А разве такое бывает?
– А почему бы и нет?
– Ну, мало ли? Непривычно для уха: футбольная лекция на исторической основе.
– Что же вы думаете, у меня не получится?
– Да нет, вот только…
И кое-кто из окружающих опасливо оглянулся на директора вагона-ресторана, который, забыв про дела, с любопытством наблюдал за происходящим во вверенном ему заведении.
– Чего стесняться? – пробасил он. – Мы за волгоградский «Ротор» ох как болеем. В городе-герое команда, ей давно пора бы играть в самом верхнем эшелоне. Вроде бы дождались…
Вытирая распаренное на кухне лицо вафельным полотенцем, директор опустился на табуретку.
– Покорнейше благодарю, – сказал наш сосед и вытащил из портфеля, оказавшегося у него под ногами, довольно потрепанный блокнот.
Установив тишину, доктор исторических наук слегка откашлялся и начал профессионально поставленным голосом:
– Итак, самое древнее свидетельство о существовании футбола нашли в Египте при раскопке пирамид. В гробницах фараонов обнаружили не только рисунки этой игры, но и сами мячи. Но ведь какая метаморфоза: в наши дни в Египте футбол не очень-то на высоте. Вряд ли кто из нас сможет назвать ведущую египетскую команду.
Старичок слегка задумался, голос его окреп:
– А знаете ли вы, что в футбол играли древние греки? Найдена амфора, на которой изображен юноша-футболист. Вот что значит колыбель Олимпийских игр! И сейчас греческий футбол в состоянии постоять за себя. И представьте себе, футболом увлекались древние римляне. Об этом писал еще философ Сенека. Но ему, видите ли, было не по душе, что люди предпочитали спокойному отдыху удары ногой по мячу. Наверное, не мог допустить совмещения философии с футболом. Но тогда и то, и другое выглядело еще молодо.
Простим такое заблуждение. Перейдем к итальянцу Антонио Сканно, который в 1555 году издал «Трактат об игре в мяч» – своего рода свод правил. Он указал даже вес мяча – 300 граммов.
А вот скажите, кто теперь пишет трактаты о футболе? – обратился к слушателям Филипп Кириллович. – Но только отечественному футболу от этого не легче, если говорить о мировых чемпионатах.
В салоне засмеялись, послышались редкие, но сильные хлопки. Лектор поднял руку, и все утихли.
– А знаете ли вы, что в футбол играли и в Древней Руси? В новгородских деревнях гоняли мяч, набитый тряпьем и волосом. Вот, оказывается, где начало нашего футбола. Но принято считать родиной футбола Англию, а днем его рождения – 23 октября 1863 года. Оно конечно, в ближней нам цивилизации главное что-то вовремя зарегистрировать, так сказать, под букву закона подогнать. Выходит, ценен не изобретатель с идеей, а регистратор с бумагой, да простят мне вольность языка и сравнений.
Эрудит шутливо поклонился и спросил:
– А хотите некоторые анекдоты? Да вы не бойтесь. Это в продолжение лекции, так сказать.
– Чего уж! Ради такого случая можно, пожалуй! – подбодрили его из дальнего угла.
– У меня тут много чего, – вытирая платком вспотевший лоб, окинул взглядом благодарных слушателей историк. – Откуда, к примеру, появился футбольный марш? Не знаете? Напомню: музыку написал страстный болельщик Матвей Блантер. Кто-то из организаторов отечественного футбола долго просил у него своеобразную музыкальную тему, которая могла бы украсить начало и конец футбольного матча. Требовалась ну просто позарез, ведь футбол не просто массовое зрелище, но и праздник. Композитор упорно «забывал» об этом, хотя и не пропускал ни одной встречи любимого им ЦДКА. Тогда перед очередным матчем, как бы нечаянно, заперли Блантера под трибуной стадиона. Более ста минут композитор слышал рев болельщиков над собой, их свист, не ведая, как складывается игра. И представьте себе, вырвался наружу возмущенным и радостным, потому что футбольный марш уже «сидел» у него в голове. Вот и теперь этот марш придает заряда и куража как игрокам, так и всем любителям футбола.
– Вот как раз о болельщиках можете продолжить?
– Всегда пожалуйста! Командой, обладающей огромной силой воли, считают одесский «Черноморец». Наверное, потому, что у него самые верные болельщики. Они, как в древнегреческих Академах, могут собираться в парке напротив улицы Дерибасовской до тысячи человек, простоять два часа кряду и не хуже жрецов-авгуров предсказать будущее своей команды…
– А волгоградский «Ротор»? Кто-то смеялся над его неудачами, говорил, силенок маловато. Вот если бы к ротору добавили статор, тогда получился бы двигатель, не хуже всяких там динамо-машин, ведущих в высшую лигу. Если и нужен какой статор для «Ротора», так это поддержка сверху… Честь и слава болельщикам на стадионе «Волга», потому, может, команда и поднимается на футбольном олимпе…
Уставший лектор развел руками, давая понять, что к придуманной им лекции больше добавить нечего.
Когда утихли аплодисменты, с места вскочил болельщик из Армении и ни с того ни с сего закричал:
– «Арарат» был чемпион! «Арарат»!
– Ха! Он только что проснулся.
Кто-то прыснул в кулак, а кто-то пальцем повертел у виска. Темпераментный болельщик, видя это, не сдавался:
– А почему мальчишки на Казанском вокзале кричали: «„Спартак“ – чемпион!»? Он что, каждый год чемпион? Каждый год?
От крайнего столика прошел с «Крокодилом» какой-то болельщик, примирительно посмотрел на коллегу из Армении и сказал:
– Мы тут еще кое-что нашли. Разрешите, прочту?
– О футболе все можно. Это интересно! – обрадовался лектор.
– Вот, слушайте:
- «Спартак», тебе желаем стать
- Мы чемпионом вскоре.
- Чтобы об этом прочитать
- Не только на заборе.
Дружный хохот заставил зазвенеть неубранную посуду на столиках. Только сердился болельщик «Арарата»:
– Опять «Спартак» – чемпион? Когда же это кончится?
За разговорами и смехом не заметили, когда в вагоне-ресторане погасли плафоны. Вместе с Романом возвращаемся длинными и узкими проходами вагонов к себе в купе, довольные антрекотами с зеленью, отличным чаем, а также неожиданно подвернувшимся кроссвордом и редким лектором.
У себя в купе чуть не споткнулись о гору чемоданов и каких-то корзин. На нижних полках, в самых вольных позах, похрапывали незнакомые нам попутчики. Что такое? Какая-то женщина с двумя детками, улегшись «валетом», заняла мое ложе – вот они, чудеса Казанского вокзала! Тут же заметил – верхняя полка застлана ее заботливыми руками. И хоть бы кто пошевельнулся. Не до объяснений. Видно, крепко подустали, ожидая поезда на своей станции.
Тихо раздевшись, осторожно устроились с Романом на своих верхних «отсеках», головою к окну. Лежа на животах, подперев подбородки сложенными руками, смотрели в черный простор ночи, усеянный редкими россыпями огней далеких деревень. Шепотом обменивались впечатлениями. Я шутливо подтрунивал над Телегиным насчет популярности «Спартака», а он нет-нет да и ярился на «фанов», которые только дискредитируют любимые команды. Упорно уверял, что «Спартак» – такая команда, которая в рекламе не нуждается, с чем я не мог не согласиться.
– Андрей Петрович, а вы в футбол играли?
– А ты как думаешь?
– Думаю, вряд ли… Все же война прошла, Великая Отечественная. Все в разрухе. Возможно, и хутор пострадал, куда мы едем. Да и вам-то, мальчишкам, лет по десять, совсем мало по возрасту было, чтобы футболом заниматься.
– Нам из-за возраста досадно не было. Были бы интерес и желание. Вот что главное, чтобы футбол полюбить раз и навсегда.
– А в Дёминке стадион есть?
– Когда-то был. Давным-давно. Как теперь – не знаю.
– А как вы играли?
– Наверное, как и все в свое время.
– А все же?
– У нас, Рома, будет время во всем разобраться. А сейчас – спать-спать-спать…
Глава 3
Когда ушла война
Вагонные колеса дробно отстукивали чечетку. С грохотом, вздымая тугие потоки воздуха, темно-зелеными и черными полосами проносились встречные поезда.
Как это нередко бывает, я не мог уснуть. Хорошо Роме: руку протяни и не растолкаешь. И куда делось его беспокойство за исход путешествия: на меня положился. Теперь он как за каменной горой. Посмотрим – что завтра будет?
И тут я остановился на мысли, о чем же вспоминать, что рассказать ему? Конечно же спросит: а играл ли я в футбол? Ясное дело – играл. Но будет ли ему интересно узнать о многом, что отложилось в памяти? Я не Лев Яшин и не Игорь Нетто. Они – звезды не только отечественного, но и мирового футбола. А кто я? Так себе. Несостоявшийся мечтатель. Когда-то, мальчишкой, воображал себя знаменитостью, был почти уверен в этом, даже самоуверен. Ан нет. Все шло иначе, по другому руслу, хотя казалось, что начинаю не хуже, чем знаменитые игроки, о которых слышал по радио, читал в газетах, спорил с друзьями детства.
Перед глазами, словно в забытом фильме, начали раскручиваться ленты-воспоминания: мелькали дни, недели, годы, высвечивая значительные и незначительные события, факты, детали. Все начиналось очень и очень давно. За бедностью и трудностями открывалось и что-то хорошее в нашем послевоенном детстве, в котором мы тоже беззаветно любили футбол.
По стук колес крупным планом предстал передо мной мальчик, белобрысый и худощавый. Нетрудно догадаться, что это был я. Но ведь вот какая штука: себя взрослого я уже не мог поставить рядом с ним. Виделся он мне со стороны, как бы в третьем лице.
Ну что ж, начну, пожалуй, вспоминать о себе в третьем лице, раз такое дело.
Итак, Андрей Ковалев, который еще и в школу ходить не собирался. Очень хорошо помнит он черную тарелку запыленного репродуктора, висевшую на беленой стене почти под потолком. Тогда многие предметы, начиная с портрета Сталина, фотографии в рамках, картинки, полки с утварью, книгами, размещали на гвоздях очень высоко. Наверное, родители боялись, что дети малые могут разбить стекло, порвать что-то в книгах и, упаси Боже, совершить налет на сладкое – конфеты, сахар или пряники.
И вот тихим летним вечером, когда в сумерках уходящего дня потемнели за окном листья на кленах, в репродукторе что-то зашипело, щелкнуло, и в комнату, где никого не было, откуда-то издалека вторгся беспокойно-бодрый перезвон невидимых колокольчиков. А за ним, словно толчками, выплеснулась невероятно мелодичная, упругая и быстрая мелодия.
Как потом выяснилось, это был футбольный марш. Андрюшка как завороженный слушал его, позабыв об игрушках, которые возил по полу. Игрушки заменяли клапан от противогаза, рубчатый корпус противотанковой гранаты, крышка от солдатской табачницы с проушинками для ремешка – мелкий хлам грязно-зеленого цвета, оставшийся от войны. Да много чего броского оставалось после нее: продолжали зиять по хутору воронки от сброшенных с немецких самолетов авиабомб, и там и сям стояли обгорелые хаты, а то и торчали в небо печные трубы. И родители говорили: «Это Матерь Божия спасла и оборонила нас от фашистов – полста верст не дошли до нас…».
После марша он услышал возбужденный голос человека, который взахлеб спешил рассказать о каких-то воротах и мяче. На самом интересном месте его бесцеремонно заглушали голоса людей, можно было догадаться, что их собралось видимо-невидимо. А когда голоса затихали, слышны были свистки. Невидимый дядька говорил-говорил, а ропот не умолкал, напоминая о том, что собравшиеся толпы еще не раз заглушат его.
Нет, ничего Андрейка не мог тогда понять. Только мелодию марша усвоил без запинки. Под нее хорошо было босиком, особенно по лужам после дождя, гонять по улице ржавый обруч от кадушки, поддерживая его в верхней части куском проволоки с крючком на конце.
Позже Андрюшка оказался свидетелем семейной драмы. Домой вернулся на велосипеде из станицы Староаннинской гостивший неделю у бабушки старший брат Владимир. Видно было, как он избегал встречи с отцом – крутым по характеру человеком. И вот почему: перед отъездом брату купили новые полуботинки. В семье никто, кроме отца, не заметил, в какое состояние они пришли после поездки. Рассерженный отец тряс ими перед лицом старшего брата, тыкал пальцем в сбитые каблуки и облупленные носы, все больше и больше распаляясь:
– Кучу денег за них отвалили, кучу рублей! Для чего мы барана продавали? В школу тебя готовили, как человека приобули. А ты? Кто ты теперь у нас? Босяк, вот кто!
– Что я? Все ребята играли, и я играл… Мне что? В стороне стоять, что ли?
– Мог бы и босиком побегать! Ишь господин. Футбол – дело хорошее, но зачем же ботинки рвать?
– Но ведь мы же не проиграли…
– Чего-чего? Корову не проиграли? Нет, ты скажи мне: кого и когда футбол кормил? Городских бездельников? Дык они в городе живут, голубей с присвисточкой после жидкого супцу гоняют, а ты же сельский. Тебе ли на них равняться?
Старший брат опасливо оглядывался, как бы отец в гневе своем не пристукнул чем-нибудь попавшимся под руку.
– Говори, кто вас футболом заразил? Уж не Павел ли Федорович? Дык о нем всякое гутарят. Вроде бы в плену с немцами в энтот футбол гонял. А он, чудак, все никак не может оправдаться: никто его побаски всерьез не берет…
– Да перестань же ты, Петя, – вмешалась мать. – И горожан припомнил, и человека с несчастной судьбинкой приплел. Наш сынок в этой обушке всю осень может проходить. Пусть к сапожнику Рикитяну сходит. После и валенки понадобятся.
– А-а-а, ну вас к лешему, – отмахнулся отец и надолго замкнулся в молчании.
Так Андрейка впервые услышал слово «футбол». Но ему было непонятно: как же так – «футбол – дело хорошее», а вот из-за него брат приехал в разбитой обуви и отец еле удержался, чтобы не задать ему трепку.
И еще никак не мог мальчик осознать, кто такой «футбол», который никого и никогда не кормил? Может быть, это какой-то очень и очень жадный человек, которого отец, наверное, правильно ругал за жадность?
На долгое время врезались в память сгоряча сказанные слова о тайне Павла Федоровича. Обычно тайны когда-нибудь да раскрываются. А тут большой, очень высокий ростом человек хочет рассказать о ней, а его не то что слушать, никто не понимает и понять не хочет, как бы он ни старался. Как же это – «в плену с немцами в футбол играл»? Немцы – это злые враги, беспощадные фашисты – все о них так говорят, потому что это они затеяли войну, на которой много людей поубивали.
…Хутор Дёминский, раскинувшийся в степи на большой равнине, изрезанной в разных местах балками с мелколесьем и оврагами, именуется с XIX века в честь его основателя – зажиточного казака Дёмина. Андрейке хутор казался большим миром, населенным взрослыми людьми, а также всякой живностью – коровами, лошадьми, козами, курами, гусями. Мальчиков и девочек Андрейка не знал, потому что родители на прогулки их из дому не выпускали. Сиди себе в хате и дальше двора носа не суй.
Но и без прогулок он хорошо усвоил, что его Дёминка как бы делится на две половины: в одной из них жили люди, работавшие в колхозе, а в другой – те, кто трудится на машинно-тракторной станции – МТС.
Хата Ковалевых, как и другие под соломенными, камышовыми, изредка железными крышами, находилась на колхозной стороне, где бухал, посылая черные кольца дыма из трубы, составленной из нескольких железных бочек, паровой двигатель, работающий на мазуте. Это потом мальчик увидел, как на мельнице паяльной лампой раскаляют какой-то чугунный шар, как с лязгом начинает оживать сплошь железо, вращая длинные, широкие ремни и раскручивая жернова из твердого камня-песчаника, окованные железными обручами. Сытный, густой запах муки шел из черного провала дверей. Люди таскали на согнутых спинах мешки с мукой. А внутри будто зима опустилась – все белым-бело – ступеньки, подмостки, лари.
Такие же хаты были и в эмтээсовской стороне. Ее по утрам заполняла разноголосица железных, без кабин, тракторов на больших колесах в блестящих железных шипах. Были и совсем чудные, не на колесах, а на гусеницах – железных половиках. На работу, на обед и с него, а также с работы звали со стороны машинного двора и мастерской удары старого церковного колокола, потому что не у каждого были карманные часы. В той же стороне высилась ажурная мачта ветровой установки, качавшей из скважины воду. Отец уверял, что по ее лопастям можно определить направление ветра.
Постепенно хуторские половины расширялись, как мир, объединяясь в понятии мальчика в единое целое. У Андрейки стали появляться друзья. Вместе с ними он мечтал пойти в школу. А когда собирался в первый класс, ему досталась «по наследству» холщовая торба старшего брата с кармашком для пузырька с чернилами. В торбе лежали букварь и коробочка карандашей, самым ценным из которых был малиновый. Как урок рисования, так все наперебой выпрашивают его, надеясь, что от малиновых яблок на дереве или малинового солнца над хаткой пятерка за рисунок обеспечена.
У младших классов учеба проходила во вторую смену, поэтому Андрейка не мог не заметить, как по вечерам в его школу ходят взрослые люди, те, кто работал и в колхозе, и в МТС. Многие из бывших пехотинцев, танкистов, артиллеристов, вернувшись с войны с орденами и медалями, хотели изучать математику, физику химию, биологию, чтобы лучше управлять тракторами, комбайнами, грузовиками. И уж тогда можно эффективнее растить пшеницу, просо, кукурузу. Наконец-то до книг добрались, особенно до литературы, истории, лишь бы выкраивались для чтения свободные зимние часы, ведь долгие фронтовые годы учились самой главной грамоте – громить врага.
Для взрослых, можно считать, учителя устроили третью смену. Было даже странно видеть, как на перемене выходили в темноту утомленные люди. Вот они присаживаются у стен школьного здания на корточки и делятся махоркой, вертят из газетной бумаги цигарки, и их огоньки при глубоких затяжках, озаряют грубые черты лиц, большие натруженные руки, орденские планки на кителях и гимнастерках, расставшихся с погонами.
Иногда фронтовики вполголоса заводили песни о путях-дорогах фронтовых, о скромненьком синем платочке или о том, как солнце скрылось за горою. И тогда на крыльцо школы выходила молодая, тоненькая учительница и подпевала им красивым звонким голосом.
– Молодец, Клавушка, – говорили взрослые ученики.
Андрейке и его товарищам странно было слышать это. Для всех школьников – Клавдия Ивановна, а для фронтовиков – Клавушка.
Были и шутки, и короткие истории, которые у них никогда не переводились. Тут – свои, там – немцы. Свои воюют без расписания, а немцы изволят какой-то кофий пить. Редко, но можно было услышать страшные рассказы про убитых и раненых.
Еще за год до школы Андрейку так и тянуло в эмтээсовскую часть хутора. Нравилось ему ходить вдоль шеренг колесных и гусеничных тракторов, которые казались настоящей загадкой. Ну вот, например, гусеничные трактора СТЗ-НАТИ или железные гиганты С-80. Как они поворачивают влево или вправо? Ведь на каждую из гусениц двигатель дает одинаковое усилие, значит, гусеницы должны крутиться на люльках-катках одинаково.
Незнакомый тракторист громко посмеялся, услышав такое. Потом стал показывать на свои ступни, обутые в самодельные брезентовые тапки-бахилы, почерневшие от солярки и машинного масла.
– Тут, брат ты мой, фрикционы помогают трактору разворачиваться на гусеницах. Ты вообрази, что ноги мои – гусеницы. Левую гусеницу я притормаживаю, а правая – заезжает вперед и боком. Видишь, какой поворот получается? Одна гусеница замерла, другая – едет. Вот тебе и поворот.
И мальчик, который видел, как для пущей убедительности пылят брезентовые тапки-бахилы – одна ни с места, другая выезжает, – понимал, что дядька, как трактор, стоял на месте, а поворот все же был.
– Вот и хорошо, что ты такой смышленый. Что еще непонятно, приходи к нам, трактористам, – похвалил незнакомый дядька.
Потом Андрейка шел вдоль линейки прицепных комбайнов «Коммунар» и «Сталинец-6». Были они жуть какие железные, настоящие фабрики, выдававшие убранное зерно.
Мир фантастики начинался для мальчишки в ремонтной мастерской. Там стучал по раскаленному бруску металла электромолот, там закручивали фиолетовые, синие, золотистые стружки токарные станки, а там опускалось на железный отвал плуга толстенное сверло и делало в нем отверстие.
Однажды Андрейка пробирался к мастерской и застрял у самых ворот в черной непролазной грязи, да так крепко и глубоко, что через голенища больших брательниковых сапог полезла холодная, противная жижа.
– Э-э-э, плохо тебе, орел! – услышал он голос коренастого, длинноносого мужчины. – Как ни возражай, а придется брать тебя на буксир, чтобы вытащить поскорее.
Мальчик почувствовал сильные руки, подхватившие его под мышки. Сильный рывок, и уже на весу он увидел, как один сапог съехал с ноги, впечатавшись в грязь. Из сапога торчал шерстяной носок.
– Нам ли бояться? Не такие подбитые танки вытаскивали у немцев из-под носа, – смеялся мужчина. – Ты на скамейке постой, а я сейчас схожу и сапог тебе верну.
Так подружился мальчик с линейным механиком МТС орденоносцем (как потом оказалось, орденов у него целых пять) Кузьмой Никоновичем Сафроновым.
А теперь и он, бывший на фронте техником старший лейтенант танковых войск, сидел у завалинки, расслабляясь в нередко затяжную школьную перемену. Это мог быть перекур, задушевная песня или увлекательный рассказ, например, как бывший танкист Аксенов чуть Героем Советского Союза не стал. И на самом интересном месте его прерывал веселый звон, лившийся с золотых потертостей валдайского поддужного колокольчика. оставшиеся в живых фронтовики, еще не снявшие тех самых сапог, которые помнили асфальт и брусчатку освобожденных городов и стран, беззаветно любили жизнь. Если работали, то до седьмого пота на выгоревших гимнастерках. Домой всегда возвращались как на крыльях: о чем-то переговариваясь, с неиссякаемым оптимизмом в глазах, и командным голосом призывали жен-домохозяек накрывать на стол. В их семьях с каждым годом все прибавлялось и прибавлялось ребятишек, будь то семья Двужиловых или Ивановых, Ефимовых или Синицыных, Соловьевых или Скворцовых. Всех и не вспомнишь. В среднем не меньше десятка человек, вместе со стариками, усаживалось за стол на длинные некрашеные скамейки. И сколько детских головок возвышалось над столами – стриженных под машинку или с тонкими косичками. В маленьких руках мелькали искромсанные по краям деревянные ложки.
– После войны только детей и рожать, – говорили уставшие ждать воевавших мужей казачки. – Жить в миру – не просто, а в войну жить – совсем невыносимо.
Вот семья Двужиловых. Отец Николай Иванович всю войну прошел поваром, награжден медалью «За боевые заслуги» – весь израненный, болезненный человек. Садятся дети: Виктор, Надежда, Юрий, Петр, Владимир, и совсем мелюзга – Клавка, Надька и Мишка. В центре стола огромный чугунок со щами, поданный на ухвате-рогаче матерью Анастасией Филипповной из жаркого жерла русской печи. Щи разливают по глиняным мискам, не на одного, а на трех едоков. Стучат деревянные ложки, постепенно уплывают с блюда куски нарезанного хлеба. Вдруг Клавка пищит: её обидел плутоватый Вовка. Взъярившийся родитель шлепает сына ложкой по лбу, а та разлетается на куски. Все смеются, а отец распаляется еще больше…
А вот семья Ивановых накрывает стол прямо во дворе, рядом с коровьим хлевом, там же в отдельном закутке хрюкают свиньи на откорме. За столом Яков Тарасович – крупный, плотный, большеголовый мужчина. И он прошел через войну. На одной из бесхитростных фронтовых фотографий, висевших в рамке на стене, мальчик видел его с друзьями на трофейном мотоцикле в пилотке, ватнике, стеганых штанах и валенках, перепачканных мазутом вперемешку с грязью. Лицо усталое, а в глазах – блеск лихости. На другом снимке, в группе товарищей, глава семьи заснят с кинжалом на поясном ремне. Только знаток скажет, что это за кинжал. Таким кинжалом с надписью «Все для Германии!» награждали только высокопоставленных эсэсовцев. Значит, в какой-то из моментов боевой жизни он имел дело с гитлеровскими головорезами.
После щей тетя Груня подает на стол мужу, сыновьям Семену, Алексею, Василию, Владимиру, дочерям Надежде и Машеньке миску вареников с творогом.
Что-то странное подметил в этой посуде скромно сидевший в стороне Андрейка. Где-то он ее видел? Ах да! В больнице. Это же – обыкновенный ночной горшок. Ну и что? Он же чистый, в него никогда с момента покупки по нужде не ходили. Этот вместительный горшок ярче всего подтверждал философию жизни взрослых в послевоенное время: главное, чтобы к зиме все были одеты, обуты и каждый день сыты. Тем более, что другой посуды – фарфоровой, фаянсовой или эмалированной – в сельпо не поступало.
– Не ты ли дружок моего Вовки? – спросил Яков Тарасович. – Давай подгребай к нам, поешь вареников наших, поокунай их в сметану!
…Новые друзья появились у Андрейки на окраине хутора, между МТС и нефтебазой. Там стояла невзрачная халупа на полторы комнаты, продуваемая всеми ветрами. И жила в ней очень и очень бедно семья Абрамовых. Дети Абрамовых, почти подросток Вера и ее брат Вовка, постарше Андрюшки на целый год, дружили крепко.
Как-то забрели друзья в хибарку, спасаясь от ноябрьского холода, и застали Веру за шитьем.
– Ты что же? – с упреком спросила она, качая головой, у брата. – опять в ботинках без носков в школу ходил?
– Да где же я другие носки возьму, если старые все в дырах?
– Знаю, как ты их в решето протер. Я тут старые мамины чулки нашла, трикотажные. Вот сейчас лохмотья снизу обрежу и зашью. И будут тебе совсем новые носки.
Старательно сопя, Вера черными нитками, через край, кладет ровный шов на светло-коричневом чулке. Оттянув нитку на иголке, перекусывает ее на последнем стежке и протягивает брату.
– Ну, Вовка, теперь тебе теплее будет, бегай сколько хочешь. Я и себе такие же чулки соображу…
Потом Вера варила исключительно картофельный суп. Крошила в него необжаренный лук, капала чуть-чуть растительного масла и говорила:
– Вот сейчас вскипит, и мы горяченького похлебаем. Вот увидите, от варева нам теплее станет. И ты, Андрюха, присаживайся – хлеба на всех хватит.
– Ты, Верка, совсем как мама разговариваешь. Спасибо тебе! – выразил благодарность ее растроганный брат. – Правда, носки для меня получились… без пяток.
– Ха-ха-ха! – смеется Вера. – Ну кто тебе в обушку заглянет? Зато на всю зиму хватит.
Как часто видел Андрейка на глазах сестры и брата горькие слезы! Особенно в те минуты, когда они, убрав все лишнее со стола, скрипя стальным пером, очень крупным почерком писали очередное трогательное письмо милой мамочке в далекую тюрьму.
Каждый раз, заканчивая нехитрый рассказ о трудном без нее житье-бытье, они в письме целовали ее миллион раз. А может, и больше, до тех пор, пока в нижнем правом углу на листке ученической тетради в косую линейку хватало места для нулей.
Это со временем Андрей узнал, что в семье Абрамовых сразу же после родов умер третий ребенок. И нашлись «доброжелатели», которые сгустили краски перед властями. И дали матери по суду несколько лет заключения.
А отец ничего не умел делать, потому что не имел специальности и его сразу «забрили» на фронт. Добывал кусок хлеба как придется, в основном разнорабочим. Для него, бывшего автоматчика, мирного времени не существовало. После контузии на фронте он все еще «воевал». О нем говорили, что у него «вся психика надломлена».
Что такое «психика», Вера с Вовкой объяснить Андрейке не могли. Может, лицо у него было слишком рябое? А может, зубы не как у всех людей – с блестящими, железными коронками? Им было страшно, когда отец приходил домой в сильном опьянении и грозил детям, что «возьмет их в плен», «к стенке поставит», а то и «из автомата расстреляет»…
Наконец, господь Бог услышал слезные мольбы детей, и их маму выпустили из тюрьмы. Наверное, впервые несчастные Вера и Володя ощутили небывало теплую заботу о себе и услышали ласковое слово. Тут и одежда чистая и выглаженная, тут и запахи густого борща или жареной картошки. Но отец встретил другую женщину, а мать с детьми переехали неизвестно куда. А вот куда? Этого не знала даже брошенная халупа с дверью, наискось забитой доской.
Что касается воспитания детей, то многие вопросы, связанные с этим, решали сходами. При конфликтных ситуациях, а их было не так уж и много, шли в сельсовет, как к верховному судье. Чувствовалось влияние общины, как в старину. Сейчас бы сказали – коллективизма. При этом придерживались определенных правил.
Редко какая из детских шалостей проходила незамеченной. Например, на улице зарвавшегося озорника мог остановить любой взрослый и напомнить ему о стыде и совести. Уж что-что, а эти слова впитывались в кровь и сознание основательно. Если не действовали никакие увещевания, считалось в порядке вещей оттрепать виновного за уши, выговаривая при этом, за что именно, чтобы тот больше так не делал.
Родители в таких случаях за провинившихся детей не вступались.
Конечно, сейчас все не так. Хорошо ли это, плохо ли? Только одно можно сказать: все хорошо для своего времени.
Глава 4
Просветитель Митрофан
Во второй ли, в третий ли класс ходил Андрей Ковалев, только с каждым разом, когда из репродуктора на стене вырывался футбольный марш и начинал тараторить, захлебываясь в волнах эфира, голос диктора, покрывая гвалт болельщиков, ему становилось все понятнее и понятнее, что такое футбол. Приходило и другое понятие – как велика Родина, которая не ограничивается одним только хутором Дёминским – маленькой песчинкой на ее необъятных просторах. Диктор говорил, что передачу из столицы слушает вся страна, что в больших и маленьких городах болельщики с нетерпением ждут результатов встречи команд.
…Итак, мальчик ходил в школу во вторую смену. Отсиживал за партой положенные уроки, иногда стоял у доски, спрягая глаголы или решая арифметическую задачку. На переменах играл с друзьями в догонючки.
Под вечер солнце держалось еще высоко над горизонтом и можно было поиграть в футбол на школьной волейбольной площадке. Второклассники ли, третьеклассники – такая мелюзга, что для нее годилась любая ровная поверхность – тогда ее размеры для игры мало что значили.
Кто-то из предприимчивых ребят набил тряпками большую шерстяную варежку, перехватив ее крест-накрест для прочности бечевкой. Странной конфигурации получился мяч, с торчащим сбоку пальцем. Как его мальчишки ни вправляли вовнутрь, он упрямо вылезал наружу. И, может, потому во время игры их эрзац-мяч выписывал и в воздухе, и на земле самые немыслимые траектории.
Тем не менее каждый входил в кураж: кто самый быстрый, кто самый ловкий, а кто самый выносливый и меткий. Стенка на стенку ломили, лишь бы загнать мячик в ворота из пальто, пиджаков, шапок, сумок, сложенных кучами.
Игра шла, можно сказать, вприглядку, потому что никаких правил не знали. Допустим, если кто хватал мяч рукой, не важно, где и как, били одиннадцатиметровые – легче сказать: одиннадцатишаговые. Линий разграничений не признавали, потому что о них тоже никакого понятия не имели. Ребята гоняли мяч по всему пространству, куда бы он ни залетал. Бывало, пропылят с ним за ворота – спину вратаря видать – разворачиваются и обратно гонят, чтобы потом нацелить перед стражем ворот и так пробить, чтобы он его ни за что не поймал, даже за палец.
Бедный вратарь! По вольной трактовке правил, он не имел никакого права выбегать навстречу игрокам и стоял между кучками «штанг» как пришпиленный. Ему не разрешалось отбивать мяч ногами. Он мог действовать только руками и больше ничем. В этом диком футболе у него была только одна привилегия: он мог брать в руки куртку, пиджачишко, ловить или отбивать ими катившийся или летевший к нему мяч. При этом его движения становились такими забавными, как будто он ловил на лугу кузнечиков или тушил ползущий по земле пожар.
Действия вратаря отдаленно напоминали манипуляции во время корриды, но, так сказать, с футбольной спецификой. Если матадор элегантно встряхивает алого шелка плащ и побуждает криками «Торо!» разъяренного быка направить рога на него, чтобы от обманного движения красноглазая морда попадала в пустоту, то вратарь без крика, не заботясь об эффектных телодвижениях, целит серым пиджачишкой прямо в летящий к нему «однорогий» эрзац-мяч.
В зависимости от игровой ситуации он со своим пиджачишкой-ловушкой устремлялся в два-три низких подскока навстречу кувырком летящему мячу, а то как рак пятился назад. Нередко страж ворот делал два-три шага, отступая вправо или влево, остро реагируя на бегущую и кричащую орду игроков, а то застывал как вкопанный, в напряжении держа пиджачишко перед собой, чтобы все же справиться со своей задачей и не пропустить в ворота очередной гол. В любом случае пиджачишко, как стрелка компаса, поворачивался, увы, не к полюсу, а к трудно предсказуемому в своем поведении мячу.
И только пыль столбом стояла вокруг вратаря. На протяжении всей игры она никак не могла осесть на истоптанную неутомимыми ногами начинающих футболистов площадку.
Ребята не имели ни малейшего понятия ни о таймах, ни о перерывах. Бегали до полного изнеможения. Не знали они и о смене ворот. Обычно договаривались играть до пяти, а то и десяти забитых голов. Вот и стремились команды к установленным «нормативам».
Играть на время? Ничего подобного! Это и в голову не приходило. Откуда у ребят могли быть часы – невероятнейшая роскошь, доступная взрослым, да и то не всем?
Это потом мальчишки стали делать восхищавшие их «открытия», касавшиеся правил игры. И что ни открытие, то целая революция местного футбола, делавшая его более совершенным и привлекательным. Когда ребята узнали, что есть вратарская площадка, они своею милостью разрешили вратарю выбегать в ее пределы. На то она и вратарская площадка, чтобы он чувствовал себя хозяином и мог более надежно защищать ворота.
А когда узнали, что линия ворот – это не только линии внутри них, то прекратили варварские набеги с мячом в их тыловые части. И наконец, что-то всем показалось тесновато в пределах волейбольной площадки.
Тут, видно, вырос не только «класс» игры, но и сами. Ареной игры стал весь школьный двор, способный вместить десять таких площадок.
С каждым «открытием» игра становилась все интересней и интересней, все более упорядочиваясь. Теперь каждый, через отца ли, брата, старался разузнать что-нибудь новое о правилах игры в футбол, и это новое приносило всеобщую радость.
…Как же Андрей сожалел, что нет рядом старшего брата Владимира. Уж кто-кто, а он бы о футболе рассказал все, что знает. Уселись бы где-нибудь в уголке, чтобы не видел отец, и пошла бы беседа. Андрейка все бы запомнил.
А отец бы и не узнал и не стал бы ворчать, что «футбол еще никого не кормил».
Год назад старший брат окончил 10 классов и стал учиться в городе Урюпино на тракториста широкого профиля. Домой добирался пешком даже в лютую зиму. Может, ему хотелось показать, в какую форму бесплатно одевали в училище механизации? Почти как военная, но только не защитного, а черного цвета. Одна фуражка со скрещенными серебряными молоточками и алой звездочкой сверху чего стоила! Дом, родная семья, гостинцы, друзья и подруги, новости всяческие…
А поступил он в училище со многими одноклассниками, с которыми крепко дружил и еще до училища каждое лето подавался на заработки в колхоз. И работали парни кто прицепщиком на пахоте, а кто и помощником комбайнера – «штурвальным».
Видел бы город, как тяжело дается хлеб крестьянский. Нет, этого он почему-то не замечал, равнодушно выкачивая из «глубинки» весь урожай, кроме семенного зерна. Как и взрослые, парни днями пропадали в поле, особенно в дни жатвы. Идут хлеборобы в потемках к родным хатам, еле ноги тащат, и без разницы – кто тракторист, кто прицепщик, кто комбайнер, а кто штурвальный. У всех, как у шахтеров, поднявшихся из забоя, блестят из-за пыли и пятен смазки белки глаз и зубы. Дома торопливо постучат «носиком» рукомойника, стараясь тщательнее намылить руки, шею и подмышки дешевеньким серым мылом. Потом скромный ужин с парой вареных картошек, куском хлеба, кружкой молока и пучком зеленого лука. Затем глубокий, пятичасовой сон до рассвета. И как только с хлебных массивов сходит роса, жатва продолжается под раскаленным солнцем.
В дни страды не обходилось без жертв. Комбайнер Маркин умер от ожогов, полученных при тушении хлебоуборочного комбайна. Рядом с его могилой поставили крест подростку Овчинникову, задавленному на току потоками зерна из-за лопнувшего щита. Еще долго на его кресте висели красный галстук и пионерский горн.
Мало кому в урок потерянные так жизни, потому что голодный ест хлеб с благоговением, а сытый – не задумываясь, с привычным равнодушием.
После трудов праведных хлеб на селе приносил только радость. Где-то в середине осени к дому подвозили мешки зерна, заработанного на трудодни отца и старшего брата. Ведь зерно было гарантом сытости и даже достатка. Большую часть его перемалывали в муку и могли сами выпекать хлеб – еще во многих казачьих хатах оставались русские печи. Что похуже, шло на корм курам, уткам и гусям. Остатки со стола в виде помоев доставались корове и поросенку. Что-то перепадало козам и овцам.
Один горожанин как-то высказался: «Вот оно, крестьянство, вся жизнь в том и состоит, чтобы желудок набить». А сам-то он, пролетарий, для чего спешит по утрам на заводскую или фабричную проходную?
В начале зимы, а это раз в году, полагался денежный заработок, на радость родителям и их семьям.
…Великим благодетелем и просветителем, даже ничего об этом не подозревая, оказался для юных футболистов киномеханик Митрофан – фигура, как пишут современные прозаики, «неподражаемая», потому что ее трудно было спутать с какой-либо другой.
Во-первых, Митрофан отличался саженным ростом. Как бы ни сутулился, подпирал плечами любой косяк. Во-вторых, Митрофан раскатывал по хутору и окружающим его проселкам на трофейном мотоцикле «Виктория» с умопомрачительной лампой-фарой и каким-то сверхсекретным замком, сковывавшим цепную передачу на заднем колесе, чтоб угона не было.
О, это еще не все. В-третьих, Митрофан с ног до головы, словно средневековый рыцарь, был «закован» во все кожаное: широченные штаны-галифе, высокие, в гармошку, хромовые сапоги, просторная куртка с уймой карманов, на голове слегка потрескавшаяся фуражка с прямым козырьком. И в завершение – огромные перчатки-краги.
Кожаный наряд неимоверно скрипел во всех сочленениях. Его скрип можно было уловить за добрые полсотни метров, если не дальше. Где этот характерный скрип, там, значит, и Митрофан.
Энергичный киномеханик с полевой кожаной сумкой через плечо подрядился от районного кинопроката «прокручивать» фильмы в красном уголке правления колхоза. Мальчишки уже посмотрели такие картины, как «Тринадцать», «Великий воин Албании Скандербег», «Трактористы», «Волга-Волга». А тут – сенсация, на афише рукой Митрофана написано – «Вратарь».
В долгожданный для ребят вечер народу в красном уголке набралось, как говорят, «из пушки не прошибить». Митрофан, сдвинув фуражку козырьком назад, насаживал на киноаппарат большущие черные бобины. Не спуская глаз с многочисленных блестящих роликов, заправлял хитрой змейкой в их промежутки киноленту.
В зале, если можно было так назвать небольшое помещение, не было постоянного электрического света – под потолком висела на крюке семилинейная лампа, озаряя бумажные портреты военных и политических деятелей пятидесятых годов на стенах. Митрофан выбегал на улицу и запускал бензиновый мотор, гонявший динамо-машину. А когда тот начинал непрерывно стрекотать, возвращался и ввинчивал ослепительную лампу, похожую на кукурузный початок. От ее света по стенам и потолку скользили причудливые черные тени.
И поскольку взрослые плотно усаживались на скамейках, мальчишкам доставались «сидячие» и даже «лежачие» места на полу, прямо около экрана. Это даже ничего, что так. В пальто ли, в телогрейке, в неотапливаемом помещении было вполне сносно. Усесться поудобнее можно было, например, подвернув под себя валенок. Устала нога, затекла до ноющих колючек в пятках – меняй ее. Все равно на валенке сидеть и теплее, и мягче.
А чтобы видеть все происходящее на экране получше, надо было в любом случае высоко задирать подбородок – сидишь ли ты, подтянув к нему коленки, или лежишь на животе, подперев его обеими руками.
Что сказать о фильме «Вратарь», о чудо-богатыре, непробиваемом Кандидове? Мальчишеский восторг неизмерим. Классный фильм! Весь остаток зимы ребята только и вспоминали его. Если требовалось, у них хватало таланта восстанавливать до тонкостей отдельные эпизоды и очень близко к оригиналу озвучивать их. Припоминали яростные схватки игроков в центре поля, на штрафных площадках. Не могли поверить, что вратарь вратарю может забивать голы. В криках и спорах рождалась нужная всем истина.
Может, это было и примитивнейшее самообразование относительно футбола, но оно объединяло ребят, делало их сторонниками интереснейшей, ни разу не дававшей повода для разочарований игры.
Терпеливо дожидались весны, когда можно будет осуществить неуемное желание – построить собственную футбольную площадку, чтобы можно было заняться футболом по-настоящему, а не вприглядку.
Глава 5
Вот они, друзья!
И пришла в хутор Дёминский весна. На склонах уплотнялся и оседал почерневший снег. Густые молочные туманы подъедали его со всех сторон. Прилетевшие грачи давно успели подновить гнезда. Зашумело, забурлило половодье. Талая вода, находя уклоны, устремлялась к балкам. Усиливая потоки, она прорезала канавы до глубоких обрывов, где получались настоящие водопады высотой до пяти метров. Бело-рыжие шапки пены стремительно уплывали от них все дальше и дальше. Непрерывный шум беспокойной воды был слышен издалека.
Закурились легким парком солнечные склоны балок. Земля на них подсыхала особенно быстро, покрываясь пронзительно-зеленым ковром первой травы.
Можно сбросить теперь надоевшую за зиму одежду – пальто, валенки, шапки-ушанки и даже сапоги. Ведь в них далеко не разбежишься. Как легко, как хорошо во всем летнем! Если кто-то из ребят рядился по-старому, ему говорили: «У-у-у! Зиму нагоняешь!» – и тут же сбивали с головы шапку-треух.
Для ребят весна всегда была самым любимым временем года. Сколько удивительных превращений приносила она! с наступлением весенних каникул все бежали смотреть на половодье, чему не мешала тяжелая, липнущая к ногам грязища. Солнце щедро источало подзабытое тепло, без которого лету никогда не приблизиться. А в вечерних сумерках выкатывалась на небосклон полноликая луна, и тогда приходили заморозки в виде хрупких корочек льда на лужах. Остатки снега, казалось, уползали в глухие, не освещенные солнцем места и лежали там бело-серыми клочками, усыпанными жухлой прошлогодней листвой, держась, в надежде уцелеть, на месте былых сугробов.
Бегай вволю, играй во что нравится! Хочешь – в «чижика» или в «палочку-выручалочку». А то можно поиграть в «лунки» с резиновым мячиком и даже в лапту!
Так же стремительно, как нарастали световые дни, пролетала последняя учебная четверть. Предвестником долгожданного лета зацвела белая и красная сирень. Не отставала от нее, дождавшись усиления тепла, желтая акация.
По вечерам, собираясь на околице, а точнее – на выгоне для скота, ребята начали потихоньку гонять мяч. Сюда они приходили для того, чтобы встретить стадо коров или овец с козами, которых пастухи пригоняли почти одновременно. Надо было умудриться, чтобы и ту, и другую живность вовремя загнать в закуты.
Пока тянулось ожидание, начинались развлечения. В прогретом воздухе кисейными тучками роилась мошкара, неумолимо нависая над головой. Серые мошки были такими вредными, что от их укусов зудела кожа на лице, шее и руках. Волей-неволей приходилось чесать места укусов, пока там не вздувались волдыри, а если и их раздирать ногтями, чтобы отвязаться от чесотки, могла появиться даже кровавая ранка. Чтобы спастись от мошкары, ребята собирали сухой коровяк, укладывали его тонкие лепешки в кучки и поджигали. Они начинали дымить, напоминая миниатюрные вулканы, их плотный голубоватый дымок ненадолго отпугивал «летающих вампиров».
Иногда находчивые друзья приходили пораньше, когда солнце стояло еще высоко.
В южно-русских степях на пустынных, заросших невысокой полынью местах обитает в норках паук-тарантул. Эти норки можно обнаружить по кольцу мелкой и черной, как порох, земли около них. Земляного паука считают ядовитым. Но это не совсем так. Ядовитыми к осени становятся самки. Правда, выпускаемый ими яд наносит человеку такой же вред, как и укус осы.
Если присмотреться к членистоногому существу, становится страшно – ты видишь лохматого, в коротких волосках, паучину оранжево-черной или чаще всего серой окраски, с размахом лапок от четырех до шести сантиметров. Извлечь тарантула из норки помогало довольно простое снаряжение, состоящее из продолговатого, скатанного кусочка воска или гудрона, вмятого в конец крепкой нити длиною до полуметра.
Прежде чем опустить ловчий снаряд в темный провал норки, на гудрон или воск нужно подышать изо рта, чтобы размягчить их вязкую массу, и уж тогда можно не сомневаться, тарантул обязательно вцепится двумя клычками в теплый и мягкий, дразнящий его предмет. Надо только почувствовать, как после подергивания вдруг потяжелеет опущенный конец нитки.
Плавная протяжка вверх, и… вот он, тарантул, сверкающий мизерными глазками на голове и брюшке, ощетинившийся в боевой стойке!
Обычно две-три мальчишьих головы склонялись над норкой, нередко соприкасаясь лбами. Вытащат тарантула, позабавятся с ним, затем и раздавят.
Ловцам тарантулов досаждал Гришка по фамилии Панькин, самый старший из всех, кто тут находился. Он тихонько подкрадывался к мальчишкам, неожиданно грабастал жесткими объятьями и стукал головами. После такого «трюка» кричал: «Ой, не могу! Ой, умора!». Хохотал, держа руки на животе, катался на спине и дергал ногами, словно ехал на велосипеде. А то, случалось, перехватывал нить с тарантулом на конце и ну гонять за ними, пытаясь забросить паучищу кому-нибудь на спину, а то и за шиворот. Мальчишки, зареванные от страха, заикаются, а он смеется в жестокой радости, тычет пальцем в их сторону.
Но у Панка – такую ему кличку присвоили – не все оставалось в полной власти. И его донимала мошкара! Но он не жег курушек, он запаливал папиросу или самокрутку, втягивал в себя дым и тугими потоками выпускал из глубины легких, развеивая его ладонью перед своим лицом.
– Мое курье! – говорил он с чувством превосходства.
Хоть медом не корми, Панок стравливал эту самую мелюзгу, провоцируя ее на борьбу или драку. Сначала действовал ласками и уговорами, обещая всяческие блага – конфету, например, или пряник. Если его не слушали, свирепел и приказывал:
– Ну-ка, Федя, дай в ухо Ване! А ты, Ваня, чего стоишь? Тебя же ударил Федя. Сдачу дай ему, сдачу!
И когда мальчуганы сцеплялись, сопели от натуги и рычали от ярости, катаясь по траве, он с ненасытным наслаждением наблюдал за поединком, дожидаясь, пока кто-то не заревет.
Видя все это, Андрейка и его друзья решительно вступались за обиженных. Тогда Панькин набрасывался на них, рискуя быть поколоченным.
Как друзьям удавалось это сделать? Кто-то бросался Панку под ноги, кто-то повисал у него на руках, остальные же устраивали «молотьбу», обрушивая на спину обидчику град кулаков. Панок крепился, стараясь вырваться. И если ему это удавалось, уходил, почесывая бока и страшно ругаясь. Потом водворялось относительное затишье, после которого следовало ожидать новых «фокусов» злодея, любившего во всем держать свой верх.
Здесь, на околице, ребят всегда притягивал к себе старый свинарник, где давно не держали никакой живности. Был там когда-то даже лисятник с черно-бурыми красавицами и голубыми песцами. Но источал он такое «амбрэ», которое с запахом свиного навоза никак не сравнить. Оставались в здании разбитые деревянные станки для свиноматок с их розовыми, похрюкивающими младенцами, просторная кормокухня с вмазанным в кирпичную кладку котлом, разбитые клетки с рыжими от ржавчины металлическими сетками.
Толстые саманные стены, тянувшиеся на десятки метров, с пустыми без оконных рам глазницами, напоминали старую, приземистую крепость. Где-то на этих стенах сохранились перекрытия с тяжелыми шапками перепревшей соломенной кровли, сплошь изрытой ячейками-гнездами, проделанными колонией воробьев. Только чуть потревожь жилища, и пернатые, как черные пули, с фырканьем проносились перед самым носом.
Вот тут и разворачивалась долгая и увлекательная в «казаки-разбойники»: кто-то уходил от преследования, отстреливаясь из палки игра, как из ружья, или махал ею, будто саблей, а кто-то наступал с криками: «Ура! Бей! Налетай!» Казаки должны были переловить всех разбойников, а потом роли менялись.
…Как всегда друзья бегали у свинарника, ероша густые заросли конопли, крапивы, репейника и лебеды. Они ловко перебирались от стены к стене по еще прочным слегам, а то и перепрыгивали через бреши, оставшиеся от размытых дождями и обрушившихся саманных кирпичей. Мало кто осмеливался запускать руку по плечо в воробьиные гнезда, чтобы вытащить оттуда пару-другую тепленьких, в коричневую крапинку яичек, а то и слепых птенцов-телешат.
Панькин же, наоборот, нахально лез туда, выгребая целые пригоршни. В одном из гнезд воробьиха, видимо высиживая яйца, сильно расклевала ему указательный палец. Разозлясь, Гришка ухватил ее пятерней, вытащил наружу и выдрал у нее хвост. Потом с мстительным восторгом подбросил птичку вверх.
Кувыркаясь, она порхнула в сторону, затем, громко чиликая, охваченная материнским инстинктом, стала увиваться вокруг потревоженного гнезда и мстительно сверкавших глаз мародера. А он снова запускал руку и, выгребая из гнезда все до последнего яичка, клал их в отвисшую от тяжести фуражку.
Никто ни за что не догадался бы, для чего Панок «отоварился» яйцами в таком количестве. Он уселся на стене и, болтая ногами, следил за воинственно бегавшими внизу ребятами. Кто бы понял, чего он выжидает? А выжидал он нужный момент, чтобы мимо кто-то бежал, остриженный наголо. Вот пробегает мимо Василий – хлоп! И разбилось на голове метко брошенное воробьиное яйцо. Мальчишка машинально размазывает его по затылку. Крадется в зарослях травы Валька. И снова – хлоп! И потекла за шиворот воробьиная яичница. У ребят горечь обиды, негодование. А для Панькина – радость. Тычет пальцем в сторону обиженных и орет: «Ой, умора, яичница на сковородке!», и только сверкают из-под черных, прилизанных волос широко расставленные карие глаза.
«Яичница на сковородке» до того рассердила «казаков» и «разбойников», что они тут же объединились. С криками: «Эй! Ребя! Вздуем Панка хорошенько!» дружно бросились на обидчика. Как он ни скакал от них по стенам свинарника, а все же попался. Свалив «кулинара», ребята распластали его на земле, подобрали фуражку, в которой еще оставались воробьиные яйца и с силой нахлобучили на голову Панка, не забыв при этом несколько раз пришлепнуть ладонями сверху.
– Вот тебе, Гриша, вот тебе, Панок, «яичница на сковородке»!
Поверженный обидчик мог бы наброситься на одного, другого, но где гарантия, что мальчишки не накажут его снова? Вот если бы поблизости оказались его дружки, он бы посмотрел, чей верх будет. А тут сам, соскабливая с головы «яичницу», поспешил к ближайшему колодцу, чтобы поскорее отмыться.
Фуражку свою конечно же не отмыл. В раздумье, повертев в руках, выбросил ее широким взмахом руки. Но потом еще долго мстил за нее. Как? Да как умел придумать сам. Не раз случалось, набросится на мальчишку и сорвет с него фуражку-шестиклинку с матерчатой пуговкой наверху, которую почему-то называл «брехунок». Впивается в нее зубами, откусывает с нитками и выплевывает в сторону, да еще выдерет один-два матерчатых клина. Затем до носа напяливает рваный головной убор на пострадавшего владельца.
Самыми горячими сторонниками Панькина были такие же балбесы и задиры Бабурин и Мефодьев. И им мальчишки дали такие клички, что не перепутаешь – Бабур и Мефод. С Гришкой во главе эта троица на всех давила. Казачий хутор большой, здесь водились и другие компании – с одной улицы, с одного края, и придерживались они нормальных правил поведения.
А эта всегда блистала показной лихостью. Как же, пусть все видят, как у нее, например, идет игра на деньги. Начинали с игры «в стукана». Каждый клал монеты на кон в стопку. За несколько метров из-за черты по очереди метали в нее плоскую биту – чаще всего железную шайбу. У Панка была персональная бита – тяжелый екатерининский пятак. Гордясь, он ловко попадал им в монеты на кону. После броска часть монет, перевернувшихся «орлом», перекочевывала в его карман. Но еще оставалось право бить по остальным монетам первым, и он так лупил обшарпанной медяшкой, что они тут же переворачивались с «решек» на «орлы» – «двадцатники» и «пятнашки», «пятаки», «трюльники», «двуканы». Редко доходила очередь до других игроков, чтобы вернуть с кона хотя бы свое. Нет, с Панькиным лучше не связываться…
Но игра «в стукана» казалась малоприбыльной забавой. А вот «в очко» выручка посолидней, да и шансов на нее больше! Тут не копеечная мелочь вращается, а целые рубли, трёшки, а то и пятерки бумагой. Здесь признанный лидер тоже не терялся, потому что, как он говорил, его «карманный капитал – куры не клюют» перевешивал «капитал» остальных, вместе взятых. И уж дулся «в очко», сохраняя непримиримость к проигрышу, до тех пор пока его сообщники не выворачивали карманы до последнего гроша.
Но и это для Гришки Панькина были не деньги. Кто бы оценил затеянное им «коммерческое дело», связанное с ловлей сусликов. Его, как вожака, нередко можно было увидеть в кругу преданных лиц где-нибудь в далеких полях, примыкающих к балкам. С ведрами в руках, таская воду из ближайших прудов, а то и луж, ловцы грызунов заливали норы. И лишь только оттуда высовывалась мокрая мордочка напуганного зверька, тут же хватали его «за шкирку» и били палкой по носу. Трепыхнется суслик раз, другой, и можно сдирать с него шкурку. Полученный мех распяливали гвоздями на досках, не забывая присыпать солью.
Высушенные шкурки высоко ценил регулярно приезжавший в хутора и станицы работник заготвторсырья. Мальчишки спешили к нему, как к Деду Морозу – с тряпьем, куриными яйцами, битыми грампластинками, винными пробками всех размеров, чтобы все это сменять на глиняные свистульки, лампочки и батарейки к фонарику, золотые шары, прыгающие на резиновых нитках, а то и пистоны для игрушечного пистолета.
Панькин никогда не мелочился. Бесспорно, и тут за ним верх был. Что для него всякий хлам? Он подходил к телеге по-купечески, с важным видом, со связками сусличьих шкурок и словами: «Ну чо, Филипп Данилыч, поторгуемся?». Связки шкурок укладывали на доску-сиденье, и рядом потоком ложились синие пятирублевки, зеленые трехрублевки, не говоря о рублях – «рыжиках».
Разумеется, такому размаху оставалось лишь завидовать, но такого рода «коммерция» не могла увлечь ни Андрейку, ни его друзей. Что верно, то верно, суслики наносят большой урон урожаю зерновых культур и с ними надо бороться. Но как поднимется рука на маленьких, по-своему красивых зверьков? Как можно сдирать с них шкуру? Это никак не укладывалось в голове.
С другой стороны, не хотелось пресмыкаться, как это делали Бабур и Мефод, ожидая мелкой подачки и зная, что за нею последует тумак или еще какая каверза. Да и какие тут суслики, если давным-давно пора заняться футболом, для которого ребята облюбовали просторное место на выгоне для скота. Именно здесь не терпелось развернуть футбольное поле с воротами и белыми линиями разметок.
Андрейка мог положиться на своих друзей, проверенных не в одном деле, хотя иногда ему и казалось, что познакомились совсем недавно. Сколько было у него особых случаев сближения с каждым из них!
С Женей Поликарповым сдружился около правления колхоза – встретил у коновязи крепыша с веснушками на лице, обутого в легкие кожаные тапки-чувяки под белые, связанные из овечьей шерсти носки.
– Тебя как зовут?
– Женик, Поликарпов, Сергеич! А тебя?
– Андрейка Ковалев, Андрей Петрович! Давай с тобой играть?
– Давай!
– А что ты тут делаешь?
– Папаню жду. На тарантасе должен подъехать.
– Эх, прокатиться бы. А кони у него хорошие?
– Еще бы – правленские, председателя возит!
Или увидел впервые Ваську Дроздова: худощавый, подвижный мальчик шел вечером и рыдал в три ручья.
– Ты чего плачешь?
– Телушка пропала, проклятая…
– Это не та, что с синей тряпкой на шее? За конюшней ищи, в репейнике улеглась.
– Ну, я ее!
А вот Ваня Глазков сам заинтересовался Андрюшкой:
– Эй ты! Пойдем за вишней!
– Куда пойдем?
– К Якушовым пойдем. Там ее в саду видимо-невидимо.
– А никто нас не поймает?
– Не-а…
И вот идут они тропинкой, разделяющей два картофельных огорода, по которой старшие обычно ходили на пруд за водой с ведрами на коромыслах или с тазами, чтобы простирнуть белье. Вот и сад подставляет им зеленый тенистый бок, где темными рубинами отсвечивают на солнышке вишневые ягоды.
– Слушай, Ванек, давай мы сначала в пруду искупаемся? А пойдем назад, и будет нам вишня.
– Давай!
Знали бы они, что их разговор подслушал одуревший от безделья и одиночества в саду Сашка Якушов, который, между прочим, собирался служить в армии. Здесь он сутками лежал в шалаше, карауля, скорее всего от налетавших стаями скворцов, удавшийся урожай. В других садах от них выставляли на деревьях пугала или звонили в поддужные колокольчики, какие-нибудь железки. А тут – живой сторож.
Пока друзья купались, боясь далеко заплывать, но усердно ныряя, Сашка нарочито нарвал ягод с рогульками и развесил их в качестве приманки на ветках деревьев, поближе к тропинке. Развесил много, до ряби в глазах, и затаился.
Наконец идут наши приятели обратно. Смотрят, как лучше им подступиться к лакомству. Лишь на миг Андрейке померещилось, что вишни на ветках стало побольше. Но только на миг.
Лишь только друзья сделали шаг к рдевшим на ветках ягодам и протянули руки, вдруг сторож как бабахнет из ружья! Сноп огня, куча бумажек-пыжей и едкий запах сгоревшего пороха вырвались вверх сразу из двух стволов. У ребят – душа в пятки. Как подхватились, так и побежали без оглядки к Глазковым в хату. И под кровать.
С полчаса отсиживались под ней, слушая не очень-то приятное припугивание взрослых, шептавших, что Якушов-то Сашка с ружьем под окнами ходит. Если кто из ребят выйдет на улицу, уж он-то стрельнет зарядом соли прямо в задницу, да так, что потом можно днями, сидя в кадушке с водой, эту соль из задницы вымачивать. Ну, а если даже кто и не выйдет, Сашка может в хату зайти, забрать и посадить ребят в «тюгулёвку», что на диалекте донских казаков обозначет тюрьму…
…С Валентином Ефимовым Андрейка встретился около клуба, где, не пробившись в переполненный зал, они по очереди смотрели через щелку в дверях какое-то взрослое кино, на которое детей до шестнадцати лет не допускали. А там, на экране – корабли под парусами, кавалеры со шпагами, дамы в надутых платьях, пальба, поцелуи. После, складывая эпизоды, вникали в суть запрещенной картины.
…С Вячеславом Спириным знакомство состоялось во время катания с крутых горок. Был трескучий мороз, и Андрейка, далеко ушедший от дома, к тому же без варежек, не заметил, как отморозил руки. Ну и испугался же тогда – пальцев не чувствует, стали как палки деревянные, казалось, ломай каждый и никакой боли. И Славка, спасая друга, привел его к своим родителям.
– Ну что, казачок, никак «снегурков» наловил? – смеялись они. – Сейчас мы тебя выручим.
Из чулана притащили чугунок, поставили на табурет и налили в него ледяную воду.
– Ты не бойся, паря, суй руки в энтот чугунок, – говорили они. – И держи, пока пальцы не начнут сгибаться.
Не без боязни погружал Андрюшка кисти рук в ледяную воду, думая, что станет еще хуже, и очень удивился: ему показалось, что вода и не холодная вовсе, а даже наоборот, теплая. Минут через десять пальцы совсем отошли, ими можно было шевелить, как и раньше.
Так и осталось у него на всю жизнь понятие – «наловить снегурков» с памятью о грозном морозе и его коварных шутках, о находчивости старших и чугунке с ледяной водой. В другой раз, конечно же, он катался на санках осмотрительней, не забывая о варежках.
С Витей Емельяновым подружился после того, как оба столкнулись велосипедами на высокой скорости, не зная, как разъехаться в узком переулке. Витя падал страшно, с дребезгом машины, и лежал, накрытый ею сверху. А Андрейка мчался дальше, по инерции, и радовался, что сам не упал. Но почему-то никак не мог попасть ногой на правую педаль. Посмотрел вниз и увидел, что ее под ногой совсем не было, она отскочила от удара в момент столкновения. И тут же страх за сбитого мальчишку, за пострадавший велосипед! Хоть домой не ходи – все будут ругаться, все будут правы, особенно отец, а ты, как всегда, виноват.
Вот так появлялись хорошие, надежные друзья. И их становилось все больше и больше, особенно после первого школьного звонка.
Глава 6
Как построить поле
…Что ни утро, повадился огненно-рыжий петух тетки Насти натужно кричать свое «кукареку!» И нашел же место! Как будто иного не было. Как нарочно шумно хлопал крыльями, взлетая на плетень за окном в каких-нибудь четырех метрах от Андрюшкиной койки.
После первой песни сон еще прижимал к подушке. После второй сновидения начинали улетучиваться. Ну, а после третьей одеяло улетало на пол, и мальчишка вскакивал, словно пружина.
– Как бы наказать его, горластого, чтобы не кукарекал? – бормотал он. – А… вот рогатка. Из нее я и ударю петуха.
Сдвинув горшок с геранью и пропихнув вперед оконные рамы, наш герой уперся коленом в подоконник. В руках – кленовая рогатка. В прицеле – петух. Отпущенная резина хлестко выстрелила зеленой сливой.
«Бац!» И петух, истошно кудахтая, теряя пух, пружинно подскочил над кольями плетня и тут же нырнул в рубиновые и желтые огоньки мальвы. Только пыль поднялась с ее широких листьев и закачались верхушки с цветами, обозначая бегство вестника утра. Отбежав на почтительное расстояние в окружение сочувствующих хохлаток, он остановился, раздувая зобатую грудь.
Нет, это будет не петух, если он не захлопает крыльями, не вытянет шею и еще раз не прокукарекает.
Так и получилось. Снова весь двор оглашает «кукареку!» Косясь голубоватым глазом с желтой пленкой-веком на Андреево окно, подкудахтывая, петух как бы обещал, что в следующий раз продолжит прерванную песню.
Ну и пусть! Андрюшка щурился от солнечного света. Теперь не до сна – умыться надо. Шлепая босыми ногами по доскам некрашеного пола, подскочил к рукомойнику. Тронул ладошкой стерженек – как на грех, ни капли воды.
Захватив ведро, побежал к колодцу. Зашпилил дужку на железном крюке и рванул рукоятку ворота на себя. Ведро, уменьшаясь в размерах, стремительно уплывало к черному квадрату воды. С тугим ударом глотнув воды, оно до рывка погружалось глубже. «Раз!» И цепь натянулась. Теперь Андрей крутил ручку обратно.
Холодная колодезная вода так и качается, так и серебрится на поверхности, впервые увидев солнечные лучи. Набравшись духу, парнишка поднял ведро над головой и решительно окатил себя до самых пяток.
Все тело мгновенно покрылось мелкими пупырышками-мурашками. Мокрые трусы прилипли к бедрам. Отдуваясь, Андрейка спешно выкрутил из них воду и пулей полетел в хату, где схватил с шестка полотенце. Стуча зубами, растирал посиневшую кожу: «У-у-уф!»
Чтобы причесать мокрые волосы, Андрейка подошел к зеркалу в изъеденной жуками-древоточцами раме. Прилизав торчащий хохолок, внимательно изучал свое отражение. Слегка фиолетовые губы растянулись в широкой улыбке, показывая белоснежные зубы. Один глаз серый, крупный, как сучок в доске, подмигнул, а другой – такой же серый, сплющился до узенькой щелочки. Веснушки то уменьшались, то увеличивались. С белого, выгоревшего на солнце чуба соскакивали мелкие капли.
– Ну и зеркало, – сокрушался он. – До чего же оно кривое!
– Идите есть! – послышался голос матери.
Ясно, кого он касался в это время. Конечно же Андрюшки и его младшего брата Кости. Отец, как всегда, ни свет ни заря ушел в колхозную бригаду.
На столе выпускает пар чугунок с горячей картошкой. В коричневой кринке молоко-утрешник. Рядом – полкаравая хлеба и соль в баночке. А еще – зеленые перья лука в пучке. Как старший, Андрей разливает молоко по кружкам, прижимает к груди еще теплый после печного жара хлеб и отхватывает от него ножом большие ломти. Подумав, два из них откладывает в сторону, не забыв круто посыпать солью.
– Андрей, а Андрей! Возьми меня с собой, – жалобно просит Костя. – Вот ей-богу, помогать буду. Возьми, а?
– А по шее не хочешь?
– Нет, не надо… Ну возьми меня с собой!
– Чего привязался? Сиди себе дома!
– Как же…
– А вот так же! Далеко пойдем, а ты устанешь. Не на себе же тащить тебя обратно?
– Да не устану я, вот увидишь.
– Знаем-знаем, «не устану». Как обезножишься, так хоть трактором тебя тащи.
Костя обиженно кривит рот, глаза влажнеют, горло сжимает спазма. Вот-вот заревет.
Тем временем во дворе, повисая в стойке на натянутой цепи, ярится и лает Полкан. Опасливо прижимаясь к плетню, к порогу проскользнули Валентин и Вячеслав.
– Ты готов?
– Готов.
– Тогда пошли – у свинарника ребята ждут…
В назначенном месте те, кто пришел пораньше, дожидались в холодке других, прислонившись спиной к шероховатой стене свинарника, нахохлившегося дырявой соломенной крышей. Вячеслав бросил к ногам двуручную пилу, Валентин – две лопаты, Евгений притащил с собой топор и молоток, которые удалось незаметно утащить у отца из-под верстака.
– Все в сборе?
– Кажется, все.
– Ну, тогда пошли. Только лопаты спрячем пока в конопле.
Лишний груз тащить никто и не собирался. Дружной компанией зашагали к той самой лесополосе, из которой когда-то старший брат Владимир приносил грибы и вкуснейшую краюшку, якобы забытую на дереве – «лисичкин хлеб».
За час ребята успели порядком отшагать от свинарника. Впереди зубчатой кромкой синели деревья, а сзади дымили, словно эскадра кораблей, островерхие хаты под соломенными, камышовыми и железными крышами.
Четкие квадраты полей подсолнечника и черного пара смахивали на гигантскую шахматную доску. Вдалеке одинокой фигурой, выбрасывая, словно заядлый курильщик, синеватые клубы дыма, рокотал на подкашивании однолетних трав темно-синий колесный трактор.
Каждый из мальчишек знал, что идет на дело рискованное. Подумайте только, разве можно в лесополосе без спроса рубить деревья? Но, с другой стороны, никто и не знал, у кого спрашивать разрешения. Попробуй добейся его у взрослых! Или отругают, или посмеются, но в любом случае не поймут – зачем это нужно. А ребятам хотелось покончить с задуманным делом как можно скорее.
