Читать онлайн Введение в когнитивную лингвистику бесплатно
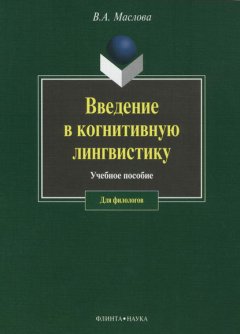
От автора
Важнейшее достижение современной лингвистики состоит в том, что язык уже не рассматривается «в самом себе и для себя»; он предстает в новой парадигме с позиции его участия в познавательной деятельности человека.
Язык – это вербальная сокровищница нации, средство передачи мысли, которую он «упаковывает» в некую языковую структуру. Знания, используемые при этом, не являются лишь знаниями о языке. Это также знания о мире, о социальном контексте, знания о принципах речевого общения, об адресате, фоновые знания и т. д. Ни один из названных типов знания нельзя считать приоритетным, только изучение их всех в совокупности и взаимодействии приблизит нас к пониманию сути языковой коммуникации.
Вышедшие в последние годы монографии, коллективные труды и отдельные статьи Н.Д. Арутюновой, А.П. Бабушкина, Н.Н. Болдырева, Г.И. Берестнева, Г.А. Волохина, Е.С. Кубряковой, З.Д. Поповой, Ю.С. Степанова, И.А. Стернина, В.Н. Телия и других исследователей содержат важные теоретические положения по вопросу о том, как хранятся наши знания о мире, как они структурированы в языке в процессе коммуникации. Этим кругом проблем занимается когнитивная лингвистика, лингвистика будущего.
Цель данного пособия – ознакомить будущих филологов с основными теоретическими и методологическими установками современной лингвистики; систематизировать основные понятия данной науки; показать, какие задачи может решать когнитивная лингвистика.
Важнейшим объектом исследования в когнитивной лингвистике является концепт. Концепты – это ментальные сущности, которые имеют имя в языке и отражают культурно-национальное представление человека о мире. Концепты – концентрат культуры и опыта народа, по словам Ю.М. Лотмана, «как бы сгустки культурной среды в сознании человека». Но, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее (Ю.С. Степанов).
Ключевыми концептами культуры называют главные единицы картины мира, константы культуры, обладающие значимостью как для отдельной языковой личности, так и для лингвокультурного сообщества в целом.
В данном пособии использованы такие, уже известные модели концептов, разработанные Ю.С. Степановым, Е.С. Кубряковой, В.Н. Телия, В.Б. Касевичем, как пространство, время и число, правда и истина, дружба и любовь; но есть и такие, которые впервые представлены автором пособия: туманное утро, зимняя ночь, будущее и др. Эти концепты, хотя и описаны с разной степенью полноты, что объясняется этапом становления самой когнитивной лингвистики, отвечают единой схеме, методике описания, представленной в разделе 1.7.
Глава 1
Когнитивная лингвистика и ее место в современной научной парадигме
1.1
Когнитивная лингвистика в системе наук
Человеческим интеллектом, закономерностями мышления издавна занимались логика, философия, физиология, психология. Так, в философии существует целый раздел – гносеология, – занимающийся теорией познания. Поэтому можно утверждать, что у когнитивизма огромная традиция, корни которой уходят в античность. Но в рамках когнитивистики старые вопросы зазвучали по-новому. Оказалось, например, что разная природа реалий (вещей, явлений, событий) обусловливает их различное отображение в сознании: одни представлены в виде наглядных образов, другие – в виде наивных понятий, третьи – в виде символов.
Когнитивизм – это направление в науке, объектом изучения которого является человеческий разум, мышление и те ментальные процессы и состояния, которые с ними связаны. Это наука о знании и познании, о восприятии мира в процессе человеческой деятельности.
Сейчас говорят о когнитивной революции. Н. Хомский, известный американский лингвист, писал: «Когнитивная революция относится к состояниям разума / мозга и тому, как они обусловливают поведение человека, особенно к когнитивным состояниям: состояниям знания, понимания, интерпретаций, верований и т. п.» [Chomsky. Цит. по: Киров, 2003: 243].
Процессы, связанные со знанием и информацией, называются когнитивными, или когнициями. Их синонимами также являются слова «интеллектуальный», «ментальный», «рассудочный». С позиций когнитивизма человек изучается как система переработки информации, а поведение человека описывается и объясняется в терминах его внутренних состояний. Эти состояния физически проявлены, наблюдаемы и интерпретируются как получение, переработка, хранение, а затем и мобилизация информации для рационального решения задач.
К числу важнейших принципов когнитивизма относится трактовка человека как субъекта действующего, активно воспринимающего и продуцирующего информацию, руководствующегося в своей мыслительной деятельности определенными схемами, программами, планами, стратегиями. А сама когнитивная наука стала рассматриваться как наука об общих принципах, управляющих ментальными процессами в человеческом мозгу.
Современные исследования указывают, что когнитивизм объединяет несколько научных направлений: когнитивную психологию, культурную антропологию, моделирование искусственного интеллекта, философию, нейронауки, лингвистику и др. В этой связи важно отметить интердисциплинарный характер когнитивистики.
«Днем рождения» когнитивистики Дж. Миллер называет симпозиум по теории информации, проходивший в середине 1950-х годов. Другой американский профессор, Дж. Бруннер, в это же время впервые начинает читать лекции о природе когнитивных процессов. Вместе с Дж. Миллером они организовывают в Гарвардском университете в 1960 г. первый центр когнитивных исследований.
Что нового приносит когнитивизм? «Когнитивизм делает заявку на метод серийного, если угодно, «промышленного» решения задач о человеческой мысли» [Демьянков, 1994: 17–33]. Термином «когнитивизм» сегодня называют:
♦ программу исследований человеческого «мыслительного механизма»;
♦ изучение переботки информации, приходящей к человеку по разным каналам;
♦ построение ментальных моделей мира;
♦ устройство систем, обеспечивающих разного рода когнитивные акты;
♦ понимание и формирование человеком и компьютерной программой мыслей, изложенных на естественном языке; создание модели компьютерной программы, способной понимать и продуцировать текст;
♦ широкий спектр психических процессов, обслуживающих мыслительные акты.
В когнитивистике главное внимание уделяется человеческой когниции, исследуются не просто наблюдаемые действия, а их ментальные репрезентации (внутренние представления, модели), символы, стратегии человека, которые и порождают действия на основе знаний; т. е. когнитивный мир человека изучается по его поведению и деятельности, протекающих при активном участии языка, который образует речемыслительную основу любой человеческой деятельности – формирует ее мотивы, установки, прогнозирует результат.
Таким образом, центральным в когнитивной лингвистике является категория знания, проблема видов знания и способов их языкового представления, так как именно язык является основным средством фиксации, хранения, переработки и передачи знания.
Именно в середине ХХ века появилась перспектива объяснить некоторые мыслительные процессы через наблюдения над усвоением языка детьми: складывалось впечатление, что дети каким-то единообразным способом приходят к овладению своим родным языком и что этот универсальный «алгоритм» овладения языком состоит во введении новых правил во внутреннюю грамматику ребёнка. Обобщая наблюдения, исследователи пришли к выводу о том, что эти правила очень похожи на всё, что управляет и неречевыми видами деятельности и выглядит иногда как непроизвольное, неконтролируемое поведение, отражаясь на структуре восприятия, памяти и даже на эмоциях. Основанная на подобных соображениях когнитивистская методика близка по духу деятельности лингвиста, интерпретирующего текст и анализирующего причины правильности и осмысленности предложений.
В результате когнитивной деятельности создается система смыслов, относящихся к тому, что индивид знает и думает о мире. Исследование оперирования символами при осмыслении человеком и мира, и себя в мире объединило лингвистику с другими дисциплинами, изучающими человека и общество, привело к созданию когнитивной лингвистики. Язык с позиций этой науки нельзя рассматривать в отрыве от других форм интеллектуальной деятельности человека, так как именно в языке закрепились результаты познавательной деятельности. Вообще же деятельность – одна из ипостасей человека и его онтологическое свойство. Еще В. Гумбольдт рассматривал язык как непрерывную творческую деятельность (energeia) и понимал ее как основу всех остальных видов человеческой деятельности.
Итак, категоризация человеческого опыта связана с его когнитивной деятельностью, поскольку содержательная информация, полученная в ходе познавательной деятельности человека и ставшая продуктом его обработки, находит свое выражение в языковых формах: «Языковое сознание вообще и значение слова как его фрагмент есть форма структурации и фиксации общественного опыта людей, знаний о мире… форма презентации и актуального удержания знания в индивидуальном сознании» (А.Н. Леонтьев). Когнитивные процессы «связаны с языком и принимают форму «оязыковленных» процессов» (Е.С. Кубрякова).
Когниция – важное понятие когнитивной лингвистики, оно охватывает знание и мышление в их языковом воплощении, а потому когниция, когнитивизм оказались тесно связанны с лингвистикой. Сейчас уже стало аксиомой, что во всём комплексе наук о человеке сталкиваются, в первую очередь, отношения между языком и другими видами человеческой деятельности. Язык даже в большей степени, чем культура и общество, даёт когнитивистам ключ к пониманию человеческого поведения. Поэтому язык оказался в центре внимания когнитивистов [Демьянков, 1994: 17–33].
Когнитивная лингвистика возникает на базе когнитивизма в рамках современной антропоцентрической парадигмы, существенно расширяющей горизонты лингвистических исследований. Во второй половине ХХ в. обозначилась необходимость посмотреть на язык с точки зрения его участия в познавательной деятельности человека. Полученная в ходе предметно-познавательной деятельности информация поступает к человеку через разные каналы, но предметом рассмотрения в когнитивной лингвистике является лишь та ее часть, которая обретает отражение и фиксацию в языковых формах.
Формирование определенных представлений о мире является результатом взаимодействия трех уровней психического отражения: чувственного восприятия, формирования представлений (элементарные обобщения и абстракции), речемыслительных процессов. Вся эта суммарная информация составляет суть системы концептов. Р. Шепард утверждает, что когнитивистика – это наука о системах представления знаний и получения информации. Или, по другим определениям, – наука об общих принципах, управляющих ментальными процессами.
Знание, извлекаемое в результате непосредственного опыта, преломляется сознанием в соответствии с уже имеющимся эмпирическим опытом. Более того, реальные онтологические фрагменты мира приобретают как бы тропеические черты в наивной картине мира, находящей отражение в языке. Например, метафоризация – основная ментальная операция, способ познания и объяснения мира – связана с процессом отражения и обозначения нового знания через старое (рукав реки). Человек не столько выражает свои мысли при помощи метафор, сколько мыслит метафорами, а потому они предполагают самоинтерпретируемость: смысловое поле, сетка значений, гибридная семантика, семантическое пространство, подключение разных теорий, центр семантического поля и т. д.
Решение мыслительных задач непосредственно связано с использованием языка, ибо язык оказался наиболее мощной в семиотическом плане из всех систем коммуникации. Это когнитивный механизм, обеспечивающий практически бесконечное производство и понимание смыслов в речевой деятельности. Язык не только опосредует передачу и прием информации, знаний, сообщений, но и обрабатывает получаемую индивидом извне информацию, т. е. строит специфические языковые фреймы. Тем самым язык создает возможности для упорядочения и систематизации в памяти множества знаний, для построения характерной для каждого данного этнокультурного коллектива языковой картины мира.
В своей базовой модели американский лингвист У. Чейф вводил язык лишь на заключительном этапе, а роль его сводилась лишь к кодированию уже готовых концептов. В.А. Звегинцев писал, что существенной чертой знаний является их дискретный характер и что уже это обстоятельство заставляет сразу обратиться к языку, который выполняет здесь три функции: «Он служит средством дискретизации знаний, их объективации и, наконец, интерпретации. Эти функции тесно взаимосвязаны» [Звегинцев, 1996: 195]. В своей совокупности они составляют те признаки, по которым устанавливается участие языка в мыслительных процессах. Вместе с тем названные функции – это формы, которым следует разум при усвоении знаний. Следовательно, без языка невозможны никакие виды интеллектуальной и духовной деятельности человека.
Некоторые исследователи характеризуют когнитивную лингвистику как новую научную парадигму[1].
Цель когнитивной лингвистики – понять, как осуществляются процессы восприятия, категоризации, классификации и осмысления мира, как происходит накопление знаний, какие системы обеспечивают различные виды деятельности с информацией.
Именно язык обеспечивает наиболее естественный доступ к сознанию и мыслительным процессам, причем вовсе не потому, что многие результаты мыслительной деятельности оказываются вербализованными, а потому что «мы знаем о структурах сознания только благодаря языку, который позволяет сообщить об этих структурах и описать их на любом естественном языке» [Кубрякова, 1997: 21].
Когнитивная лингвистика сформировалась в полемике со структурным языкознанием, но она не противоречит структурному подходу, более того, она его предполагает и в некоторой степени использует. Структурные подходы к языку, базирующиеся на имманентном представлении языка, в разных странах различались между собой в основном своей привязанностью к определенным национальным научным традициям и большей или меньшей степенью редукционизма.
Перелом в сознании многих лингвистов нашего времени наступил лишь с появлением ряда новых дисциплин, показавших неадекватность имманентного подхода к языковой системе, игнорирующего деятельностную природу языка и его включенность в процессы жизнедеятельности человека и общества. Среди этих дисциплин, возникших на стыке с лингвистикой, оказались психолингвистика, этнолингвистика, социолингвистика, когнитивная лингвистика и лингвокультурология.
Это оказало влияние и на саму лингвистику: в ней произошла смена ценностных ориентаций, наметилось стремление к изучению мыслительных процессов и социально значимых действий человека, лингвистика гуманизировалась. В центре лингвистических исследований на рубеже веков оказались процессы получения, обработки, хранения информации. Было доказано, что, получая новую информацию, человек соотносит ее с уже имеющейся в его сознании, порождая при этом новые смыслы.
Инструментом оперирования в когнитивной лингвистике становятся оперативные единицы памяти – фреймы (стереотипные ситуации, сценарии), концепты (совокупность всех смыслов, схваченных словом), гештальты (целостные допонятийные образы фрагментов мира) и т. д. Следовательно, когнитивная лингвистика нацелена на моделирование картины мира, на моделирование устройства языкового сознания.
С когнитивной лингвистикой связаны новые акценты в понимании языка, открывающие широкие перспективы его изучения во всех разнообразных и многообразных связях с человеком, его интеллектом, со всеми познавательными процессами. Когнитивная лингвистика выходит за рамки собственно лингвистики, соприкасаясь с логикой, психологией, социологией, философией, что делает чрезвычайно привлекательной работу в этой области.
Когнитивная лингвистика и традиционное структурно-семантическое языкознание являются не альтернативными течениями научной мысли, но разными сторонами познания лингвистической реальности.
Выяснить, что отличает когнитивную лингвистику от традиционной науки можно, определив следующее:
во-первых, как понимается здесь язык, какое теоретическое истолкование он получает;
во-вторых, какое место в системе человеческого знания занимает когнитивная лингвистика и какие науки породили ее;
в-третьих, какова специфика поставленных в ней проблем и каковы способы их решения.
Когнитивная лингвистика – это «лингвистическое направление, в центре внимания которого находится язык как общий когнитивный механизм, как когнитивный инструмент – система знаков, играющих роль в репрезентации (кодировании) и трансормировании информации» [Кубрякова, 1996: 53]. Следовательно, центральной проблемой когнитивной лингвистики является построение модели языковой коммуникации как основы обмена знаниями.
Еще В. Гумбольдт считал, что язык – главнейшая деятельность человеческого духа, пронизывающая собой все сферы человеческого бытия и познания. Наконец, именно в когнитивной лингвистике внимание исследователей переключается на выявление роли языка как условия и орудия познания. Всякий язык, обозначая нечто в мире, созидает, ибо формирует для говорящего на нем картину мира. Именно язык позволяет получить полное и адекватное представление о человеческом сознании и разуме.
Построенные посредством языка концептуальные структуры скорее относятся к возможному, чем к актуальному опыту индивида [Павиленис, 1983: 114]. Одним и тем же словесным выражением могут называться разные концепты одной концептуальной системы, что отражает неоднозначность языковых выражений. Мы говорим, что человек и лошадь бегут, бегут часы, бегут мысли, бежит жизнь, бежит ручей. Но языковые выражения в любом случае соотносятся с определенным концептом (или их структурой). Поэтому понимание языкового выражения рассматривается Р. Павиленисом как его интерпретация в определенной концептуальной системе, а не в терминах определенного множества семантических объектов.
Важнейшим объектом когнитивной науки является язык, но теперь к нему ученые подходят с иных позиций. Без обращения к языку нельзя надеяться понять суть таких когнитивных способностей человека, как восприятие, усвоение и обработка языковой информации, планирование, решение проблем, рассуждение, научение, а также приобретение, представление и использование знаний. Когнитивная лингвистика, по мнению Е.С. Кубряковой, исследует не только язык, но и когницию (познание, мышление, знание): на базисном уровне категоризации «…в качестве категорий выступают не фундаментальные и самые «высокие» в иерархии объединения, но объединения, в которых сконцентрированы максимально релевантные для обыденного сознания свойства» [Кубрякова, Словарь: 14].
Всю познавательную деятельность человека (когницию) можно рассматривать как развивающую умение ориентироваться в мире, а эта деятельность сопряжена с необходимостью отождествлять и различать объекты: концепты возникают для обеспечения операций этого рода. Для выделения концепта необходимы и выделимость некоторых признаков, и предметные действия с объектами, и их конечные цели, и оценка таких действий. Но, зная роль всех этих факторов, когнитологи тем не менее еще не могут ответить на вопрос о том, как возникают концепты, кроме как указав на процесс образования смыслов в самом общем виде. Отсюда неуловимость и диффузность концепта, что прекрасно выражено в пародийном стихотворении современного поэта А. Левина «За далью даль» (Левин А. Биомеханика. М., 1995):
- 1. И что смешно:
- Концепт это сила.
- 2. И что интересно:
- Концепт это интересно.
- 3. И что странно:
- концепт это
- как-то странно этак.
- 4. И что концепт?
- Это сила, это интересно, это как-то этак.
- Ну, и это Рубинштейн.
- 5. Спросим себя:
- Ну?
- 6. Спросим себя:
- И что?
- 7. Спросим себя:
- И какой из этого следует вывод?
- 8. Ответим себе:
- Концепт.
Концепты сводят разнообразие наблюдаемых и воображаемых явлений к чему-то единому, подводя их под одну рубрику [Жолковский, Мельчук, 1967: 117–120]; они позволяют хранить знания о мире и оказываются строительными элементами концептуальной системы, способствуя обработке субъективного опыта путем подведения информации под определенные, выработанные обществом категории и классы. Два и более разных объектов получают возможность их рассмотрения как экземпляров и представителей одного класса/ категории [Schwarz, 1992: 94; Ellis, Hunt, 1993: 204].
Концепты неоднородны: по В.И. Убийко, есть суперконцепты (время, пространство, число), макроконцепты (стихии), базовые концепты (родина, дом) и микроконцепты (пляска). Они отличаются мерой социального престижа и важности в культуре (Ю.С. Степанов).
Следовательно, сегодняшний подход к изучению языка настолько сложен, что может квалифицироваться в качестве междисциплинарной когнитивной науки, объединяющей усилия лингвистов, философов, психологов, нейрофизиологов, культурологов, специалистов в области искусственного интеллекта и др. Не случайно В.З. Демьянков назвал когнитивную лингвистику «федерацией дисциплин» со множеством школ и направлений. Так, в американской когнитивной лингвистике на первый план выходит компьютерная разновидность когнитивизма, исследующая предположения о работе человеческого разума с компьютером, т. е. проблемы, сходные с моделированием искусственного интеллекта. Немецкая связана с анализом языковой обработки информации в актах порождения и восприятия речи. Когнитивная лингвистика в России основное внимание уделяет пониманию того, как складывается наивная картина мира в процессах познавательной деятельности человека.
1.2
Становление когнитивной лингвистики: источники и этапы формирования науки
Когнитивная лингвистика возникла в результате взаимодействия нескольких источников.
1. Когнитивная наука (англ. cognitive science), называемая также когнитологией, или когитологией. Предметом ее изучения является устройство и функционирование человеческих знаний, а сформировалась она в результате развития инженерной дисциплины, известной как искусственный интеллект.
Аналогии человеческого мозга и компьютера видятся в способности человека и машины вести обработку информации пошаговым способом.
Когнитивная наука заимствует из теории информации понятия информации и структур знания, обработки информации и ее сохранения в памяти, извлечения из нее нужных данных, репрезентации информации в сознании человека и языковых формах. Она пытается ответить на вопрос о том, как в принципе организовано сознание человека, как человек познает мир, какие сведения о мире становятся знанием, как создаются ментальные пространства.
Когнитивная наука основана на следующей фундаментальной идее: «мышление представляет собой манипулирование внутренними (ментальными) репрезентациями типа фреймов, планов, сценариев, моделей и других структур знания» (Петров В.В. Язык и искусственный интеллект: рубеж 90-х годов // Язык и интеллект. М.: Прогресс, 1996. С. 5). Следовательно, мы мыслим концептами как глобальными квантами хорошо структурированного знания.
Сам термин когнитивная наука с середины 70-х годов стал употребляться для обозначения области, в рамках которой исследуются процессы усвоения, накопления и использования информации человеком. (Подробно об этом: Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. М., 1983; «Advances in Cognitive Science» (ed. by N.E. Sharkey.) New York, 1986). С точки зрения когнитивной психологии, важнейшей способностью человеческого мозга является умение классификации и категоризации предметов и явлений жизни. Продукты категоризации – категории – составляют часть нашего когнитивного аппарата и могут пониматься как ментальные концепты, хранящиеся в долговременной памяти.
В 70-х годах возникло понимание того, что интеллектуальные процессы человека, моделированием которых занимается искусственный интеллект, не могут быть сведены к «универсальным законам человеческого мышления»: большинство интеллектуальных задач решаются человеком не в вакууме и не с чистого листа, а с опорой на имеющиеся знания. Некоторые же интеллектуальные задачи, в частности, распознавание образов и понимание текста, без опоры на уже имеющиеся знания вообще не решаются. Например, чтобы понять фразу М. Цветаевой Всяк храм мне пуст нужно знать, что храм в русской культуре – место пребывания Бога, и потому он не может быть пустым.
Актуализировалась задача оперирования знаниями – их представления, хранения, поиска, переработки, использования в компьютерных программах. Таким образом, когнитология является не просто междисциплинарной, а синтетической наукой, объединяющей при изучении когнитивных процессов человека математику, философию, лингвистику, психологию, теорию информации и др.
2. Когнитивная психология (о «психологизме в языкознании» писали еще в XIX в. младограмматики, А.А. Потебня, Г. Штейнталь, В. Вундт) имела за собой опыт психолингвистики, хотя и была значительно шире последней по своим целям, а также по интеграции с другими науками.
Когнитивная лингвистика заимствует из когнитивной психологии понятие концептуальных и когнитивных моделей. Дело в том, что функционирование языка действительно опирается на психологические механизмы, ибо язык является важнейшим звеном в накоплении и сохранении категоризо-ванного опыта взаимодействия человека с миром, или знания. А так как основу всякого опыта составляет восприятие и память, то изучение познания и языка невозможно без учета особенностей перцептивных процессов, которые исследуются в рамках психологии.
Однако взаимодействие лингвистов и психологов наталкивалось на серьезные преграды: трудно найти две гуманитарные науки, различающиеся по своей методологии столь же сильно, как лингвистика, входящая в своего рода «семиотический» цикл дисциплин, и психология, тяготеющая к «физическому» циклу наук.
Известно, что лингвистика на протяжении своего развития трижды, сталкиваясь с психологией, обогащалась ею: в 80-е годы ХГХ века (младограмматизм), в середине ХХ века (возникновение психолингвистики) и, наконец, в 80-е годы ХХ века (появление когнитивной лингвистики). Хотя до сих пор эти гуманитарные науки различны.
Дополнительно осложнило взаимодействие лингвистики с психологией распространенное мнение о том, что любое исследование, обращающееся к ментальным категориям, относится к сфере психологии, а взаимодействие с другими науками здесь не требуется. Поэтому среди когнитивных лингвистов людей с психологическим или хотя бы психолингвистическим прошлым мало (исключение составляют Э. Рош и Д. Слобин). При этом некоторые психологические идеи (например, идеи гештальтпсихологии) сильно повлияли на когнитивную лингвистику, хотя адаптированы они были именно лингвистами (прежде всего Дж. Лакоффом).
3. Лингвистическая семантика. Когнитивную лингвистику некоторые исследователи определяют как «сверхглубинную семантику» и рассматривают ее как естественное развитие семантических идей. Они видят за категориями языковой семантики более общие понятийные категории, которые можно представить как результат освоения мира в процессе познания его человеком.
Однако такой констатации было бы недостаточно, прежде всего потому, что некоторые результаты, полученные в когнитивной лингвистике, применимы не только к семантике языка. Например, разработанное в когнитивной лингвистике понятие прототипа применимо также в фонологии, морфологии, диалектологии и т. д.
Внимание когнитивной лингвистики к семантической проблематике и методологическая близость ее к лингвистической семантике объясняют стремление ряда авторов, особенно в России, говорить именно о когнитивной семантике, а не о когнитивной лингвистике или грамматике.
Вначале было замечено, что лексическая система языка не исчерпывается внутриструктурными отношениями, более того, сами эти отношения определяются способом осмысления мира человеком. Позже диапазон интересов расширился до синтаксиса. Именно из семантики пришли в когнитивную лингвистику наиболее яркие ее представители – Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, Ю.С. Степанов, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия и др.
Кроме трех названных источников, в формировании когнитивной лингвистики свою роль сыграли также
• данные лингвистической типологии и этнолингвистики, позволявшие лучше понимать, что в структуре языка универсально;
• нейролингвистика, изучающая язык как основу познания ментальной деятельности человеческого мозга в целом;
• психолингвистика, которую объединяют с когнитивной лингвистикой общие проблемы, связанные с общечеловеческими механизмами овладения и пользования языком, с используемыми при этом универсальными стратегиями и опорными элементами. Та и другая область знаний подразумевают рассмотрение проблем языкового сознания и языковой личности, картины мира, взаимодействия ментальных процессов на разных уровнях осознаваемости;
• культурология, позволившая установить роль культуры в возникновении и функционировании концептов;
• сведения, накопленные в сравнительно-историческом языкознании о развитии значения слов. (Показательно, что такие специалисты по когнитивной лингвистике, как Е. Свитцер и Б. Хайне, активно занимались исторической лингвистикой.)
Когнитивная лингвистика базируется на положении о том, что поведение и деятельность человека определяются в значительной степени его знаниями, а языковое поведение – языковыми знаниями. И это положение с разных сторон изучается всеми перечисленными науками-источниками.
Можно вычленить следующие этапы формирования когнитивной лингвистики.
В США, где это направление зародилось, его чаще называют «когнитивной грамматикой», что объясняется расширительным пониманием термина «грамматика» в англоязычной лингвистике. В России нередко используется термин «когнитивная семантика», указывающий на один из источников данного исследовательского направления.
(1) Термин «когнитивная грамматика» впервые появился в 1975 г. в статье Дж. Лакоффа и Г. Томпсона «Представляем когнитивную грамматику». В 1987 г. были опубликованы первый том «Оснований когнитивной грамматики» Р. Лангакера (второй – в 1991 г.), а также этапные для данного направления книги «Женщины, огонь и опасные предметы» Дж. Лакоффа и «Тело в мышлении» (англ. «The Body in the Mind») М. Джонсона.
Этапными в развитии когнитивной грамматики были статьи Л. Талми 1980-х годов, Ч. Филлмора и У. Чейфа. И хотя когнитивная лингвистика зародилась и наиболее активно развивалась в США, в Европе также сложилось собственное направление исследований. Это прежде всего немецкая и австрийская школы когнитивной лингвистики, представители которых наиболее активно занимаются проблемой обработки информации во время порождения и восприятия речи. Одной из главных у них стала проблема понимания и извлечения информации из текста, а также проблемы ментального лексикона (знания о словах), когнитивная семантика, в рамках которой параллельно развивались прототипическая семантика и фреймовая семантика.
До начала 1990-х годов зарубежная когнитивная лингвистика представляла собой совокупность индивидуальных исследовательских программ, слабо связанных или вовсе не связанных между собой. Это исследовательские программы Дж. Лакоффа, Р. Лэнакера (Лангакера), Т. ван Дейка (Нидерланды), Дж. Хэймана (Канада) и др.
(2) В середине 1990-х годов в Европе уже вышли первые учебники по когнитивной лингвистике: Ф. Унгерер и Х. – Й. Шмидт «Введение в когнитивную лингвистику» (1996) и Б. Хайне «Когнитивные основания грамматики» (1997).
На русском языке впервые в 1985 г. когнитивная грамматика была представлена отечественному читателю в обзоре В.И. Герасимова [Герасимов, 1985]. Он отметил важную роль в становлении науки таких направлений и программ исследования, как психосемантика У. Чейфа, процедурная семантика Т. Винограда, когнитивная теория употребления языка Т. ван Дейка и др.
Эти исследования дали толчок развитию отечественной когнитивной лингвистики. Для ее формирования важную роль сыграли также следующие работы по моделированию понимания естественного языка: русские переводы книг Т. Винограда «Программа, понимающая естественный язык» (1976, оригинал 1972) и Р. Шенка с коллегами «Обработка концептуальной информации» [1980, оригинал 1975), а также XXIII том «Нового в зарубежной лингвистике», посвященный когнитивным аспектам языка. В 1995 г. был издан сборник переводов «Язык и интеллект».
В России предпосылки формирования когнитивной лингвистики существовали еще в 20-е годы прошлого века: прежде всего это проблемы соотношения языка и мышления, традиции в изучении психологии речи. Значительный вклад в развитие отечественной когнитивной лингвистики внесли также работы русских ученых – представителей ономасиологического направления (В.Г. Гак, Е.С. Кубрякова, А.А. Уфимцева, Г.В. Колшанский), а также работы по языковым картинам мира и проблемам категоризации мира (Б.А. Серебренников, Ю.С. Степанов, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова, В.Н. Телия, Н.Д. Арутюнова, А.А. Уфимцева, Е.С. Яковлева и др.).
Появились прекрасные обзоры: 1) Ченки А. Современные когнитивные подходы к семантике сходства и различия в теориях и целях // ВЯ. 1996. № 2; 2) Рахилина Е.В. Когнитивная семантика: История. Персоналии. Идеи. Результаты // Семиотика и информатика. М., 1998; 3) Рахилина Е.В. О тенденциях в развитии когнитивной семантики // Известия АНРАН. Сер. Литературы и языка. 2000. Т. 59. № 3.
И, наконец, вышла хрестоматия, в значительной мере облегчающая знакомство с когнитивной лингвистикой: Пищальникова В.А, Лукашевич Е.В. Когнитивизм как новая методология семантических исследований // Когнитивные исследования в языковедении и зарубежной психологии (Барнаул, 2001).
Весомый вклад в развитие отечественной когнитивистики внесли работы таких ученых, как Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, В.Н. Телия и др., которые постоянно подчеркивали значение «человеческого фактора» в языке, а также тесную связь лингвистики с философией и психологией. Но до сих пор на всем постсоветском пространстве значение термина «когнитивный» колеблется от приписывания всей современной научной парадигме названия «когнитивной» до объявления этого термина «размытым и почти пустым» [Фрумкина, 1996: 55].
(3) Особую роль для развития когнитивной лингвистики сыграла работа Ю.С. Степанова «Константы: словарь русской культуры», вышедшая в 1997 г. Это первый опыт систематизации ценностей русской культуры, которые заложены в концептах, константах культуры. Здесь описаны такие константы, как «Правда», «Закон», «Любовь», «Слово», «Душа», «Грех», «Наука», «Интеллигенция», «Огонь», «Вода», «Хлеб», «Письменность», «Число», «Время», «Родная земля», «Дом», «Язык» и др.
Обобщающим трудом в отечественной когнитивной лингвистике стал вышедший в 1996 г. под редакцией Е.С. Кубряковой «Краткий словарь когнитивных терминов», в котором собраны и систематизированы ключевые понятия общей когнитологии и когнитивной лингвистики.
С 1998 г. проводятся международные конференции по когнитивной лингвистике в г. Тамбове; в 2000 г. прошла международная конференция «Когнитивное моделирование» в МГУ; в рамках различных лингвистических конфренций и симпозиумов выделяются секции по когнитивной лингвистике, которая стала поистине «основной точкой роста современной лингвистики» [Кибрик, 1995: 100].
Тем не менее А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский считают, что к концу ХХ века ни в русской, ни в зарубежной лингвистике не оказалось работ, «которые содержали бы в эксплицитном виде комплекс методологических оснований когнитивного подхода к языку» [Баранов, Добровольский. Хрестоматия, 2001: 95].
Анализ приведенных работ позволяет разделить мнение Е.С. Кубряковой, считающей, что можно говорить о становлении в России собственной версии когнитивизма.
1.3
Проблемы, задачи и постулаты науки
В начале 90-х годов В.З. Демьянков выделил четыре варианта когнитивистики:
1) описание и объяснение механизмов, соединяющих стимул и реакцию, вход и выход человеческой «думающей машины»;
2) исследование явлений внутренней ментальной природы человека;
3) акцентирование субъекта в качестве источника, инициатора своих действий;
4) изучение специфики когнитивных процессов в сравнении с аффектами [Демьянков, 1994].
На данном этапе развития перед когнитивной лингвистикой ставятся три главные проблемы: о природе языкового знания, о его усвоении и о том, как его используют. Поэтому исследования ведутся в основном по следующим направлениям:
а) виды и типы знаний, представленных в этих знаках (гносеология = теория познания), и механизм извлечения из знаков знаний, т. е. правила интерпретации (когнитивная семантика и прагматика);
б) условия возникновения и развития знаков и законы, регулирующие их функционирование;
в) соотношение языковых знаков и культурных реалий в них отраженных.
Центральной проблемой в русской когнитивной лингвистике стала категоризация человеческого опыта. Категоризация тесно связана со всеми когнитивными способностями человека, а также с разными компонентами когнитивной деятельности – памятью, воображением, вниманием и др. Категоризация воспринятого – это важнейший способ упорядочить поступающую к человеку информацию. Концептуальный анализ направлен на выявление концептов в их двоякой функции: 1) как оперативных единиц сознания и 2) как значений языковых знаков, т. е. идеальных сущностей, «схваченных» языком. Все чаще русских когнитивистов интересует круг вопросов, связанных с установлением зависимостей и соотношений в когнитивной цепочке «разум (сознание) – язык – репрезентация – концептуализация – категоризация – восприятие» [Кравченко, 2001: 3], т. е. понимание языка как особой когнитивной способности.
Задачи. Согласно современным представлениям, основной задачей общей теории языка является объяснение механизма обработки естественного языка, построение модели его понимания. Учитывая, что в основе такой модели лежит тезис о взаимодействии различных типов знания, лингвистика уже не обладает монополией на построение общей модели языка.
Лингвистическая теория должна отвечать не только на вопрос, что такое язык, но и на вопрос, чего достигает человек посредством языка. В этой связи задачи когнитивной лингвистики следует определить как попытку понять следующее. 1. Какова роль участия языка в процессах познания и осмысления мира?
2. Выяснить соотношение концептуальных систем с языковыми. Как именно соотносятся когнитивные структуры сознания с единицами языка?
3. Установить, как участвует язык в процессах получения, переработки и передачи информации о мире.
4. Понять процессы концептуализации и категоризации знаний; описать средства и способы языковой категоризации и концептуализации констант культуры.
5. Как описать систему универсальных концептов, организующих концептосферу и являющихся основными рубрикаторами ее членения?
6. Решить проблемы языковой картины мира; соотношение научной и обыденной картин мира с языковой.
Что же на сегодняшний день является предметом изучения в русской когнитивной лингвистике?
Во-первых, это когнитивная семантика, ибо содержание знака тесно тесно связано с познавательной деятельностью человека. В структуре знаний, стоящих за языковым выражением, в определенной степени отражается способ номинации. Поэтому важное место в когнитивных исследованиях отводится языковой номинации – разделу языкознания, изучающему принципы и механизмы называния имеющихся у человека идей и представлений. Мотивация при назывании обнаруживает взгляд носителей языка на тот или иной фрагмент мира, что позволяет в итоге понять специфику мировидения конкретного народа.
Во-вторых, когнитивная лингвистика устанавливает образные схемы, в рамках которых человек познает мир. Согласно М. Джонсону, автору теории образных схем, это повторяющийся динамический образец наших процессов восприятия, на основе которых осмысляются затем более абстрактные идеи. Например, чувства воспринимаются через любую текучую жидкость.
С когнитивной точки зрения исследуются метафора и метонимия. Например, метафора – это осмысление и репрезентация одних смыслов на основе других. Так, низ негативно оценивается в русской ментальности, отсюда выражения низкие помыслы, низкие вкусы, низкий поступок, низы общества. Метафорический способ постижения мира имеет всеобщий и обязательный характер, поэтому метафора может быть рассмотрена как один из фундаментальных когнитивных механизмов человеческого сознания.
Метонимия – устойчивая ассоциация представлений. В их основе лежит идея смежности представлений – сдвиг одного наименования на другое: Я люблю Баха (= музыку Баха). Рассмотренная в системе метонимия высвечивает особые образные блоки, осознаваемые носителями языка, но в целом языком не фиксируемые.
В-третьих, исследование с когнивных позиций дискурса [Кибрик, 1994].
В-четвертых, с позиций когнитивной лингвистики ученые пытаются проникнуть в другие формы представления знаний, играющие важную роль в функционировании языка, – фреймы, скрипты, сценарии, пропозиции и т. д.
В-пятых, предметом исследования в когнитивной лингвистике также являются концепты, точнее, моделирование мира с помощью концептов. Наиболее существенными для построения всей концептуальной системы являются те, которые организуют само концептуальное пространство и выступают как главные рубрики его членения [Арутюнова, 1976; 1999].
Концепты сводят разнообразие наблюдаемых и воображаемых явлений к чему-то единому, в одну рубрику [Жолковский, Мельчук, 1967: 117–120]. Они позволяют хранить знания о мире и оказываются строительными элементами концептуальной системы, способствуя обработке субъективного опыта путем подведения информации под определенные, выработанные обществом категории и классы.
Когнитивная лингвистика дополняет анализ языка анализом речи, различных контекстов употребления соответствующих лексем, зафиксированных в текстах суждений о концепте, его определений в разных словарях и справочниках, анализом фразеологии, пословиц, поговорок, афоризмов, в которых концепт репрезентирован.
Выделенные нами задачи когнитивной лингвистики Е.С. Кубрякова сгруппировала как «изучение языковых процессов, языковых единиц и категорий и т. п. в их соотнесении с памятью, воображением, восприятием, мышлением» [Кубрякова, 2001: 32].
Постулаты. А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский (1997) выдвинули семь постулатов когнитивной лингвистики:
1. Постулат о примате когнитивного: за значениями слов, грамматических категорий, синтаксических структур, стилей и регистров речи стоят когнитивные структуры. Есть языки представления знаний, элементами которых являются фреймы, сценарии, планы, модели мира и т. д. Описания значения слова через сценарии и фреймы оказывается более точным и экономным, чем в традиционном языкознании. Например, идиома без царя в голове не может быть эксплицирована традиционной фразеологией. С когнитивной точки зрения эта идиома может быть объяснена как результат взаимодействия двух фреймов – «государство» и «человек». Глава государства (в данном случае – царь) должен осуществлять контроль, отсюда в значении идиомы без царя в голове сливаются два слота фрейма и дают «без контроля разума, глуповат».
2. Постулат о нерелевантности лингвистического и экстралингвистического знания. Например, в выражении дождь идет, дождь падает сверху вниз.
3. Постулат о тенденции к экономии усилий. С когнитивной точки зрения фразеологизмы более экономны, чем порождение этих же смыслов по уникальным правилам. Например, смысл фразеологизма в штыки может быть передан выражением принимать с крайней враждебностью; гнуть спину можно заменить выражением изнурять себя тяжелым, непосильным трудом + неодобрительное отношение. Тенденция к экономии порождает «ритуализацию» мышления человека и его языкового поведения. Отсюда следует, что использование фреймов и прототипов – способ экономии усилий.
4. Постулат о множественности воплощения когнитивных структур в языке. Когнитивная структура может объединять несколько слов, несколько значений одного слова. Так, различные значения слов государство и страна сводимы к когнитивным структурам власть и пространство.
5. Постулат о неоднородности плана содержания языкового выражения: есть ассертивная часть значения, пресуппозитивный компонент, иллокутивная составляющая, коннотация и т. д.
6. Постулат о множественности семантического описания. На сегодняшний день нет идеального метаязыка, способного исчерпывающим образом описать план содержания языковых единиц. Отсюда – необходимость использования различных методов, их компоновки в одном исследовании.
7. Постулат о значимости нестандартных употреблений: большая часть лексических единиц используется в тексте с нарушениями тех или иных норм. В традиционных лингвистических описаниях они игнорировались, считались маргинальными. Использование когнитивных методов позволяет интерпретировать их не как ошибки, а как специфические операции со знаниями.
Таким образом, когнитивная лингвистика, обращаясь к базовой категории знания, «снимает противопоставление лингвистического и экстралингвистического, позволяя исследователю использовать один и тот же метаязык для описания знаний различных типов» [Баранов, Добровольский, 1997].
1.4
Терминологическая база когнитивной лингвистики
Если говорить о становлении когнитивной лингвистики как самостоятельной научной дисциплины, то возникает потребность в формировании ее категориально-понятийного аппарата, потому что выработка метаязыка описания является первоочередной и важной задачей науки. При этом нужно отметить, что терминологическая система когнитивной лингвистики характеризуется не столько новыми терминами, сколько уточненными и унифицированными терминами, уже имеющимися в лингвистике или заимствованными из других наук.
Ключевые термины когнитивной лингвистики: разум, знания, концептуализация, концептуальная система, когниция, языковое видение мира, когнитивная база, ментальные репрезентации, когнитивная модель, категоризация, вербализация, ментальность, константы культуры, концепт, картина мира, концептосфера, национальное культурное пространство и пр. Все эти понятия связаны с когнитивной деятельностью человека, т. е. деятельностью, в результате которой человек приходит к определенному решению или знанию. Когнитивная деятельность относится к процессам, которые сопровождают обработку информации, и заключается в создании особых структур сознания. Тогда языковая (речевая) деятельность является одним из видов когнитивной деятельности.
Рассмотрим некоторые важные для когнитивной лингвистики понятия.
Разум — это способность человека к причинному познанию, а также к познанию ценностей, унивесальной связи вещей и явлений, способность к целенаправленной деятельности внутри этой связи. Это механизм порождения знаний и целенаправленной реализации их во взаимодействии данного организма со средой. При этом под средой понимается вся совокупность физических, социальных и духовных факторов, с которыми приходится иметь дело организму в процессе жизнедеятельности.
Знание — обладание опытом и пониманием, которое является правильным и в субъективном и в объективном отношениях и на основании которых можно строить суждения и выводы, обеспечивающие целенаправленное поведение. Знания – динамическое функциональное образование – продукт переработки вербального и невербального опыта, формирующие «образ мира». Питирим Сорокин считал, что есть три вида научной истины: чувственно-эмпирическая (обыденные знания), научно-рациональная (научные знания) и интуитивная. Каждая из них есть лишь частичная истина, полная же будет заключаться в их интеграции в целое. «Моя философия – интеграмум», – так называется одна из его статей, это краткая формула его философской системы.
Дифференциация знаний на научные и обыденные происходит по нескольким параметрам. Философы Д.В. Вичев и В.А. Штофф в статье, посвященной данному вопросу, пишут: «Обыденные знания отличаются от научных по природе субъекта (широкие массы людей), по источнику формирования (непосредственная трудовая деятельность, жизненный опыт), по степени проникновения в сущность явлений, по характеру и способам обобщений, по языку и другим характеристикам» [Вичев, Штофф, 1980: 51].
Концептуализация – важные процессы познавательной деятельности человека, заключающиеся в осмыслении поступающей к нему информации и приводящие к образованию концептов, концептуальных структур и всей концептуальной системы в человеческой психике. Воспринимая мир, человек выделяет актуальные для него элементы, членит его на определенные части, а затем мыслит действительность этими частями. Концептуализация интерпретируется в современной лингвистике как «некоторый «сквозной» для разных форм познания процесс структурации знаний и возникновения разных структур представления знаний из неких минимальных концептуальных единиц» [Кубрякова, 1996: 93].
Под концептуальной системой мы понимаем тот ментальный уровень или ту ментальную (психическую) организацию, где сосредоточена совокупность всех концептов, данных уму человека, их упорядоченное объединение. Тогда концептуальная система – это система мнений и знаний о мире, отражающая опыт человека.
Категоризация – это когнитивное расчленение реальности, сущность которой заключается в делении всего онтологического пространства на различные категориальные области. Это структурирование мира, акт отнесения слова / объекта к той или иной группе, способ установления иерархических отношений типа «класс – член класса». При категоризации учитываются только сущностные свойства сходных явлений.
Ментальность – совокупность мыслительных процессов, включающих построение особой картины мира.
Когниция (англоязычный термин), согласно философской энциклопедии, – это «знание, познание». Как считает Н.Н. Болдырев, в отличие от термина познание, когниция означает и сам познавательный процесс – процесс приобретения знаний, и результаты этого процесса [Болдырев, 2001: 9]. Когниция сегодня включает в себя не только составляющие человеческого духа (знание, сознание, разум, мышление, представление, творчество, разработку планов, размышление, логический вывод, решение проблем, соотнесение, фантазирование, мечты), но и такие процессы, как восприятие, мысленные образы, воспоминание, внимание и узнавание. Когниция, таким образом, разделяется на разные процессы, каждый из которых связан с определенной когнитивной способностью, одной из которых является способность говорить. Следовательно, когниция – это и восприятие мира, и наблюдение, и категоризация, и мышление, и речь, и воображение и другие психические процессы в их совокупности.
Когнитивная база — это определенным образом структурированная совокупность обязательных знаний того или иного лингвокультурного общества, которыми обладают все говорящие на данном языке. Когнитивная база формируется когнитивными структурами, которые в свою очередь формируют нашу компетенцию и образуют ее основу. Информация, кодируемая и хранимая в виде когнитивной структуры, включает в себя не только сведения о мире, но знание языка и знание о языке [Красных, 1998: 47].
Национальное культурное пространство — информационно-эмоциональное поле, виртуальное и в то же время реальное пространство, в котором человек существует и функционирует и которое становится осознаваемым при столкновении с явлениями иной культуры. Сюда входят все явные и потенциальные представления (как общенациональные, так и индивидуально-личностные) о феноменах культуры у членов данного культурно-национального сообщества.
Константы культуры — это такие концепты, которые появляются в глубокой древности и прослеживаются через взгляды мыслителей, писателей и рядовых носителей языка вплоть до наших дней. Константа культуры – это еще и «некий постоянный принцип культуры» (Ю.С. Степанов, С.Г. Проскурин): число, счет, письмо, алфавит и др.
Познание, с точки зрения когнитивной лингвистики, является процессом порождения и трансформации концептов (смыслов), поэтому важнейшим объектом исследования в когнитивной лингвистике является концепт. Выступая как компоненты нашего сознания и наших знаний о мире, концепты являются предметом изучения философии, психологии, когнитивной лингвистики, лингвокультурологии и других гуманитарных наук.
Самые важные концепты кодируются в языке. Но где именно? Некоторые лингвисты утверждают, что центральные концепты отражены в грамматике языков, что именно грамматическая категоризация создает тот каркас, который отражен в лексике. Другие полагают, что для выделения и исследования концептов более важна лексика.
Многие разделяют сегодня точку зрения Р. Джекендорффа, что основными константами концептуальной системы являются концепты, близкие «семантическим частям речи» – концепты объекта и его частей, движения, действия, места или пространства, времени, признака [Gackendorff, 1993; Levin, Pinker, 1991]. Эта точка зрения близка и тем концепциям, в которых утверждается примат релевантности грамматических категорий для организации ментального лексикона, а следовательно, и тем, в которых доказывались первостепенная значимость для устройства и функционирования языка тех концептуальных оснований, что маркируют распределение слов по частям речи и предшествуют языку, складываясь как главные концепты восприятия и членения мира в филогенезе [Кубрякова, 1992].
Итак, лучший доступ к описанию и определению природы концепта обеспечивает язык [Jackendorff, 1993: 16]. При этом одни ученые считают, что в качестве простейших следует рассматривать концепты, представленные одним словом, а в качестве более сложных – те, которые представлены в словосочетаниях и предложениях [Schiffer, Steel, 1988]. Другие усматривали простейшие концепты в семантических признаках, обнаруженных в ходе компонентного анализа лексики [Фрумкина, Звонкин, Ларичев, Касевич, 1990: 85—101; Телия, 1995: 25–36]. Третьи полагали, что анализ лексических систем языков может привести к обнаружению небольшого числа «примитивов» (типа некто, нечто, вещь, место в исследованиях А. Вежбицкой), комбинацией которых можно описать далее весь словарный состав языка [Филлмор, 1983: 74; Караулов, 1976: 15].
Известную компромиссную точку зрения разделяют те ученые, которые полагают, что часть концептуальной информации имеет языковую «привязку», т. е. способы их языкового выражения, но часть этой информации представляется в психике принципиально иным образом, т. е. ментальными репрезентациями другого типа – образами, картинками, схемами [Апресян, 1993: 34–36; Гачев, 1995: 302; Воробьев, 1997: 91—100].
Концептосфера – совокупность концептов, из которых, как из мозаичных кусочков, складывается полотно миропонимания носителя языка. Например, с точки зрения религиозного журнала «Вышенский паломник», генетический код, вошедший в сознание нашего народа, в его менталитет и духовный опыт, может быть репрезентирован концептами Слово, Творец, Истина, Добро, Благо, Мир, Свобода, Польза, Человек, каждый из которых обладает сакральными смыслами в пределах концептосферы русского православного сознания.
Богатство языка определяется не только богатством словарного запаса и грамматическими возможностями, но и богатством концептуального мира, концептосферой, в которой формируется национальная языковая личность.
В структуре концептосферы есть ядро (когнитивно-пропозициональная структура важного концепта), приядерная зона (иные лексические репрезентации важного концепта, его синонимы и т. д.) и периферия (ассоциативно-образные репрезентации). Ядро и приядерная зона преимущественно репрезентируют универсальные и общенациональные знания, а периферия – индивидуальные.
Есть различные типы структур представления знаний: схема, картина, фрейм, сценарий (скрипт), гештальт. Теоретически сходные выражения могут репрезентировать в речи разные признаки концепта: мне радостно (фрейм), я радуюсь (сценарий), радовать (схема), запрыгать от радости (картина).
Анализ концептов, осуществляемый с помощью научного аппарата лингвистики, и исследование концептуального устройства естественного языка позволяют получить достаточно достоверную, надежную информацию об универсальных и идиоэтнических чертах мировидения любого народа, т. е. сведения о таком уникальном феномене, который принято называть духом народа.
1.5
Проблема обозначения: концепт, понятие, значение
Изучению природы концепта в когнитивной лингвистике уделяется первостепенное значение. Любая попытка постичь природу концепта приводит к осознанию факта существования целого ряда смежных понятий и терминов. Прежде всего, это концепт, понятие и значение.
Проблема их дифференциации – одна из самых сложно решаемых и дискуссионных в теоретическом языкознании наших дней. Это объясняется тем, что при анализе концепта мы имеем дело с сущностями плана содержания, не данными исследователю в непосредственном восприятии, судить же об их свойствах и природе мы можем лишь на основе косвенных признаков. Кроме того, когнитивная лингвистика – наука молодая, и это болезнь роста.
В решении этой проблемы сколько исследователей – почти столько же и точек зрения. Еще в 1990 г. Ю.С. Степанов писал: «Понятие (концепт) – явление того же порядка, что и значение слова, но рассматриваемое в иной системе связей; значение – в системе языка, понятие в системе логических отношений и форм, исследуемых как в языкознании, так и в логике» [Лингвистический… 1990: 384].
За последние десять лет многое в понимании этого вопроса изменилось. Концепты – это посредники между словами и экстралингвистической действительностью, и значение слова не может быть сведено исключительно к образующим его концептам [Cruse, 1990: 395–396]. «Концепт значительно шире, чем лексическое значение» [Карасик, 1996: 6] – такова одна из точек зрения на соотношение концепт-слово, высказанная впервые С.А. Аскольдовым [Аскольдов 1997: 270, 275]; согласно еще одной точке зрения, концепт соотносится со словом в одном из его значений [Лихачёв, 1993]. Свою приверженность к данной точке зрения В.П. Москвин объясняет следующим образом: «такие характеристики, как наличие синонимов, внутренняя форма и сочетаемость, относятся не к слову в целом, а к отдельному его лексико-семантическому варианту» [Москвин, 1997: 67].
Правильнее было бы, наверное, говорить о концептах как соотносительных со значением слова понятиях [Соломоник, 1992: 46]. Значением слова становится концепт, «схваченный знаком» [Кубрякова, 1991: 4—21]. В этом смысле трудно согласиться с мнением А. Вежбицкой, что значения в определенном отношении независимы от языка [Wierzbiska, 1992: 3]. Хотя в науке существовала и более крайняя точка зрения, согласно которой значение выводилось за пределы лингвистики и трактовалось как категория неязыковая по своей природе, являющаяся одной из специфических функций мышления, т. е. сущность сугубо логическая.
Относительно независимы от языка именно концепты, идеи. Не случайно поэтому, что только часть их находит свою языковую объективацию. Отношения между концептами и значениями достаточно сложны: так, у союзов и или но вряд ли можно постулировать значение, но концепты, которые за ними стоят, достаточно ясны (соединения, противопоставления…). Точно так же можно предположить, что у всех людей есть общие представления о том, как реагирует человек на контакт с объектом, воздействующим на него своей температурой, но значения, зафиксированные в словах типа обжечься, сгореть, тепло, жар, отражают лишь определенную часть этого концепта и зависят от языка.
Разводя указанные термины (концепт, значение, понятие), нужно подчеркнуть, что термин «значение» уходит на периферию лингвистических исследований, уступая место другому – «концепт», так до конца и не выяснив отношений с ним.
По своей внутренней форме в русском языке слова концепт и понятие одинаковы: концепт является калькой с латинского conceptus «понятие» от глагола «зачинать», т. е. буквально значит «понятие, зачатие». Однако сейчас стали достаточно четко дифференцировать термины «понятие» и «концепт», ибо это хотя и однопорядковые, но не равнозначные понятия. Если понятие – это совокупность познанных существенных признаков объекта, то концепт – ментальное национально-специфическое образование, планом содержания которого является вся совокупность знаний о данном объекте, а планом выражения – совокупность языковых средств (лексических, фразеологических, паремиологических и др.). Концепты – это не любые понятия, а лишь наиболее сложные, важные из них, без которых трудно себе представить данную культуру («авось» русских, «порядок» немцев и т. д.).
Есть и другие отличия: понятие включает существенные и необходимые признаки; концепт же – и несущественные признаки [Степанов, 1993: 16–20]. В сравнении с концептами понятия имеют более простую структуру: в ней преобладает содержательная составляющая и присутствуют не все компоненты, представленные в структуре концепта. Например, в 60-е годы считалось, что интеллигент – это тот, кто любит стихи. Сема, семантический множитель «любовь к поэзии» является несущественным признаком и не включается в понятие, однако в концепт он включен, и здесь он очень важен. Концепт окружен эмоциональным, экспрессивным, оценочным ореолом [Маслова, 1997]; это тот «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который сопровождает слово и выражаемое им понятие. Концепты – предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений различных мнений.
Кроме того, число лексических единиц, являющихся концептами, органичено, потому что не всякое имя-обозначение явления есть концепт. Концептом становятся только те явления действительности, которые актуальны и ценны для данной культуры, имеют большое количество языковых единиц для своей фиксации, являются темой пословиц и поговорок, поэтических и прозаических текстов. Они являются своего рода символами, эмблемами, определенно указывающими на породивший их текст, ситуацию, знания. Они являются носителями культурной памяти народа.
Ю.С. Степанов справедливо считает концепт и понятие терминами разных наук; понятие употребляется главным образом в логике и философии, тогда как концепт является термином в математической логике, а в последнее время закрепился также в науке о культуре (культурологии) и лингвистике [Степанов, 1997: 40]. Отсюда их неизбежная и нежелательная интерференция.
А.П. Бабушкин считает термины концепт и понятие тождественными и заявляет о вытеснении из научного обихода термина «понятие»: «сегодня языковеды почти не оперируют термином «понятие» в его классическом смысле и предпочитают говорить о мыслительных конструктах, именуемых концептами» [Бабушкин, 1996: 14]. Н.Н. Болдырев, напротив, разводит их: «Если у понятия в общенаучном смысле различают его объем (совокупность вещей, которые охватываются данным понятием) и содержание (совокупность объединенных в нем признаков одного или нескольких предметов), то концепт скорее предполагает только второе – содержание понятия, а также понятийную часть значения, смысл слова» [Болдырев, 2001: 17].
Между концептами и понятиями не существует непроходимой границы: при определенных условиях понятия могут переходить в концепты. Так, у М. Цветаевой есть концепт лестница, который в сознании большинства носителей русского языка существует в виде понятия.
Обычно термином «концепт» обозначают содержание понятия, рассматривая данный термин («концепт») как синоним термина «смысл». Синоним же «понятия» – термин «значение». То есть значение слова – это тот предмет или те предметы, к которым это слово правильно, в соответствии с нормами данного языка применимо, а концепт – это смысл слова.
Ю.С. Степанов приводит следующий пример. В русском языке слово петух имеет «значение» и «смысл». Его «значение» – это все птицы определённого внешнего вида: ходячая (а не летающая птица), самец, с красным гребнем на голове и шпорами на ногах. «Смыслом» же слова петух будет не только его зоологическая характеристика, а нечто иное (хотя, разумеется, находящееся в соответствии со «значением»):
а) домашняя птица,
б) самец,
в) птица, поющая определённым образом и своим пением отмечающая время суток,
г) птица, названная по своему особенному пению: петух от глагола петь,
д) вещая птица, с которой связано много поверий и обрядов [Степанов, 1997: 41–42].
Думается, что для когнитивной лингвистики перспективным является то направление в семантике, которое защищает идеи о противоположности концептуального уровня семантическому, языковому [Фрумкина, 1998: 70–74]. Неоднократно цитируемая нами монография А. Вежбицкой служит ярким доказательством того, как некие общечеловеческие концепты по-разному группируются и по-разному вербализуются в разных языках в тесной зависимости от собственно лингвистических, прагматических и культурологических факторов, а следовательно, фиксируются в разных значениях.
Именно в когнитивной лингвистике получены парадоксальные на первый взгляд выводы о том, что значение слова в словарной статье представлено «недостаточным, узким, далеким от когнитивной реальности и даже неадекватным» [Langacker, 1987].
В современной лингвистике понятие «концепта» используется широко и при описании семантики языка, ибо значения языковых выражений приравниваются выражаемыми в них концептами к концептуальным структурам: такой взгляд на вещи считается отличительной чертой когнитивного подхода в целом [Гачев, 1992: 147].
Завершая разговор о различии данных терминов, подведем некоторые итоги. Многие лингвисты считают концепт значительно более широким, чем лексическое значение (В.И. Карасик, С.А. Аскольдов). Другие исследователи считают, что концепт соотносится со словом в одном из его значений (Д.С. Лихачев, В.П. Москвин). Мы же считаем, что значение, концепт и понятие – это разные термины. Так, концепт и понятие – два параллельных термина: они принадлежат разным наукам: понятие – термин логики и философии, а концепт – математической логики, культурологии, лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, хотя по своей внутренней форме (ВФ) они сходны. Концепт и значение также не находятся во взаимооднозначном соответствии. Концепт являет собой относительно стабильный и устойчивый когнитивный слепок с объекта действительности, так как он связан с миром более непосредственно, чем значение. Слово же своим значением всегда представляет лишь часть концепта. Однако получить доступ к концепту лучше всего через средства языка, через слово, предложение, дискурс.
1.6
Концепт как базовое понятие когнитивной лингвистики
Всю познавательную деятельность человека (когницию) можно рассматривать как развивающую умение ориентироваться в мире, а эта деятельность сопряжена с необходимостью отождествлять и различать объекты: концепты возникают для обеспечения операций этого рода. Следовательно, формирование концептов связано с познанием мира, с формированием представлений о нем.
К концу ХХ века лингвисты поняли, что носитель языка – это носитель определенных концептуальных систем. Концепты суть ментальные сущности. В каждом концепте сведены воедино принципиально важные для человека знания о мире и вместе с тем отброшены несущественные представления. Система концептов образует картину мира (мировидение, мировосприятие), в которой отражается понимание человеком реальности, ее особый концептуальный «рисунок», на основе которого человек мыслит мир. Экспликация процесса концептуализации и содержания концепта доступна только лингвисту, который сам является носителем данного языка. Таким образом, на рубеже тысячелетий на первый план в лингвистике выходит проблема ментальности, ибо концепты – ментальные сущности.
Для выявления концепта необходимы и выделимость некоторых признаков, и предметные действия с объектами, и их конечные цели, и оценка таких действий. Но зная роль всех этих факторов, когнитологи тем не менее еще не могут ответить на вопрос, как возникают концепты, кроме как указав на процесс образования смыслов в самом общем виде.
Термин концепт в лингвистике и старый и новый одновременно. С.А. Аскольдов-Алексеев еще в 1928 г. опубликовал статью «Концепт и слово», но до середины ХХ века понятие «концепт» не воспринималось как термин в научной литературе. Несмотря на ряд выступлений С.А. Аскольдова-Алексеева по данной теме, вопрос, поднятый им, так и не стали изучать.
С.А. Аскольдов в своей статье подчеркивал, что вопрос о природе концептов, или общих понятий, или по средневековой терминологии универсалий, – старый. Он, указывая на заместительную функцию концепта, определяет его следующим образом: концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода [Аскольдов, 1997: 267].
Лишь 80-е годы в связи с переводами англоязычных авторов на русский язык снова возникает понятие концепта. Концепт – термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека. Концепт – оперативная содержательная единица памяти ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике.
Понятие концепта отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и процессов познания мира в виде неких «квантов» знания [Петров, 1979: 55; Хинтикка, 1980: 90–92].
Сейчас в лингвистической науке можно обозначить три основных подхода к пониманию концепта, базирующихся на общем положении: концепт – это то, что называет содержание понятия, синоним смысла.
Первый подход, представителем которого является Ю.С. Степанов, при рассмотрении концепта большее внимание уделяет культурологическому аспекту, когда вся культура понимается как совокупность концептов и отношений между ними. Следовательно, концепт — это основная ячейка культуры в ментальном мире человека. Он представляет концепты как часть европейской культуры «в момент их ответвления от европейского культурного фонда и фона». Они занимают ядерное положение в коллективном языковом сознании, а потому их исследование становится чрезвычайно актуальным. В.Н. Телия также считает, что «концепт – это то, что мы знаем об объекте во всей его экстенсии» [Телия, 1996: 8]. При таком понимании термина «концепт» роль языка второстепенна, он является лишь вспомогательным средством – формой оязыковления сгустка культуры, концепта.
Второй подход привлечение в когнитивную лингвистику (Н.Д. Арутюнова и ее школа, Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев и др.) семантики языкового знака представляет единственным средством формирования содержания концепта. Сходной точки зрения придерживается Н.Ф. Алефиренко, который также постулирует семантический подход к концепту, понимая его как единицу когнитивной семантики [Алефиренко, 2001].
Сторонниками третьего подхода являются Д.С. Лихачев, Е.С. Кубрякова и др., которые считают, что концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения значения слова с личным и народным опытом человека, т. е. концепт является посредником между словами и действительностью.
Концепт, согласно Е.С. Кубряковой, – это оперативная содержательная единица памяти ментального лексикона, концептуальной системы мозга (lingva mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике [Кубрякова и др., 1996: 90]. При анализе концепта она считает оправданным использование в когнитивной лингвистике понятий фона и фигуры, которые применяются в психологии при описании сенсорно-перцептивных процессов. Противопоставление фона и фигуры связано с осознанием человеком себя как части целого, себя (фигуры) на каком-то фоне (среды, пространства) и такое же понимание и всех других тел / вещей в мире. Это значит, что в основе языка и его категорий лежит наглядный, телесный опыт человека и что только через использование этого опыта человек выходит в более абстрактные сферы и строит свои представления о ненаблюдаемом непосредственно.
Е.С. Кубрякова моделирует один из главных принципов человеческого познания – принцип контейнера, который одновременно является главным принципом как семиотического, так и когнитивного подходов к языку. Она предлагает назвать его принципом обратимости позиции наблюдателя [32, 8]. Его суть состоит в том, что при рассмотрении любого объекта в мире и вселенной выбор перспективы его рассмотрения может быть изменен, причем позиция наблюдателя может смениться на обратную. «Пространством Вселенная… охватывает меня и поглощает как точку; мыслью же я охватываю ее», – этой фразой Б. Паскаля можно проиллюстрировать утверждение Е.С. Кубряковой.
По ее мнению, если язык отражает особое видение мира, то и отражение в нем позиции наблюдателя (или сознательное абстрагирование от нее) соответствует общей субъективности запечатленных и закрепленных в языке концептов. Нельзя не согласиться с этим утверждением, так как одно и то же явление / действие / объект может быть описано по-разному, с использованием разных языковых средств. Отсюда появляется возможность отразить в описании разные детали, свойства, признаки. Вместе с тем синонимия – явление кажущееся, ибо за каждой альтернативной лексемой стоит индивидуальная концептуальная структура.
Определение значения через концептуальные структуры является, по мнению Е.С. Кубряковой, новым подходом к связыванию значения и знания.
Интересная теория концепта предложена Ю.Д. Апресяном, она основывается на следующих положениях: 1) каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации мира; выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается языком всем носителям; 2) свойственный языку способ концептуализации мира отчасти универсален, отчасти национально специфичен; 3) взгляд на мир (способ концептуализации) «наивен» в том смысле, что он отличается от научной картины мира, но это не примитивные представления [Апресян, 1995: 39].
Многие ученые, понимающие концепт в широком смысле, разделяют сегодня точку зрения Р. Джекендорффа на то, что основными конституентами концептуальной системы являются концепты, близкие «семантическим частям речи», – концепты объекта и его частей, движения, действия, места или пространства, времени, признака [Gackendorff, 1993; Кубрякова Е.С., 1992].
Общим для этих подходов является утверждение неоспоримой связи языка и культуры; расхождение обусловлено разным видением роли языка в формировании концепта. Объекты мира становятся «культурными объектами» лишь тогда, когда представления о них структурируются этноязыковым мышлением в виде определенных «квантов» знания, КОНЦЕПТОВ.
Этот термин до сих пор не имеет единого определения, хотя он прочно утвердился в современной лингвистике, исследованием его плодотворно занимаются Н.Д. Арутюнова, А.П. Бабушкин, А. Вежбицкая, Е.С. Кубрякова, С.Е. Никитина, В.Н. Телия, Р.М. Фрумкина и др.
Период утверждения термина концепт в науке связан с определенной произвольностью его употребления, размытостью границ, смешением с близкими по значению и/или по языковой форме терминами. В связи с этим необходимо уточнить определение термина. Большой энциклопидеческий словарь дает следующее определение: «Концепт (от лат. Conceptus – мысль, понятие) – смысловое значение имени (знака), т. е. содержание понятия, объект которого есть предмет (денотат) этого имени (например, смысловое значение имени Луна – естественный спутник Земли)» [БСЭ, 1997: 339].
На первый взгляд, лексическое значение слова можно назвать концептом. Однако сейчас считается уже доказанным, что значение слова в словарной статье представлено «недостаточным, узким, далеким от когнитивной реальности и даже неадекватным» [Langacker, 1987]. Приведем другие наиболее известные и интересные определения концепта.
По мнению Р.М. Фрумкиной, наиболее удачное определение дает А. Вежбицкая, которая понимает под концептом объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отражающий культурно-обусловленное представление человека о мире «Действительность» [Вежбицкая, 1996: 11].
Д.С. Лихачев под концептом понимал «своего рода алгебраическое выражение значения, которым человек оперирует в своей письменной речи» [Лихачев, 6].
Р.М. Фрумкина определяет концепт как вербализованное понятие, отрефлектированное в категориях культуры [Фрумкина, 1995].
С точки зрения В.Н. Телия, концепт – это продукт человеческой мысли и явление идеальное, а следовательно, присущее человеческому сознанию вообще, а не только языковому. Концепт – это конструкт, он не воссоздается, а «реконструируется» через свое языковое выражение и внеязыковое знание [Телия, 1996].
Вот еще несколько определений:
концепт – термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека;
концепт – оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике;
концепт – культурно отмеченный вербализованный смысл, представленный в плане выражения целым рядом своих языковых реализаций, образующих соответствующую лексико-семантическую парадигму, единица коллективного знания, имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой [Воркачев 2001: 47–48].
Таким образом, понятие концепта пришло из философии и логики, но в последние 15 лет оно переживает период актуализации и переосмысления. Разные определения концепта позволяют выделить его следующие инвариантные признаки:
1) это минимальная единица человеческого опыта в его идеальном представлении, вербализующаяся с помощью слова и имеющая полевую структуру;
2) это основные единицы обработки, хранения и передачи знаний;
3) концепт имеет подвижные границы и конкретные функции;
4) концепт социален, его ассоциативное поле обусловливает его прагматику;
5) это основная ячейка культуры.
Следовательно, концепты представляют мир в сознании человека, образуя концептуальную систему, а знаки человеческого языка кодируют в слове содержание этой системы.
Отсутствие единого определения связано с тем, что концепт обладает сложной, многомерной структурой, включающей помимо понятийной основы социо-психо-культурную часть, которая не столько мыслится носителем языка, сколько переживается им, она включает ассоциации, эмоции, оценки, национальные образы и коннотации, присущие данной культуре.
Не вдаваясь в пространные комментарии приведенных пониманий, примем рабочее определение концепта.
Концепт – это семантическое образование, отмеченное лингвокультурной спецификой и тем или иным образом характеризующее носителей определенной этнокультуры. Концепт, отражая этническое мировидение, маркирует этническую языковую картину мира и является кирпичиком для строительства «дома бытия» (по М. Хайдеггеру). Но в то же время это некий квант знания, отражающий содержание всей человеческой деятельности. Концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека [Лихачев, 1993: 4]. Он окружен эмоциональным, экспрессивным, оценочным ореолом.
Следовательно, концепт многомерен, в нем можно выделить как рациональное, так и эмоциональное, как абстрактное, так и конкретное, как универсальное, так этническое, как общенациональное, так и индивидуально-личностное.
Часто концепт – это «свернутый» текст: Баба-Яга – живет в избушке на курьих ножках, летает в ступе или на метле, имеет костяную ногу, иногда ест людей, а иногда им помогает. Отсюда следует, что многие концепты свернуты во фрейм. Фрейм – это обобщенная модель организации культурного знания вокруг некоторого концепта. Как утверждает В.Н. Телия, фреймы могут быть структурированы в форме эпизода, сцены, фрагмента сценария или даже всего сценария целиком. Следовательно, фрейм – это структуры знания о мире, ассоциирующиеся с конкретной языковой единицей. Е.Г. Беляевская рассматривает лексические значения слова как особым образом организованный миркофрейм.
Сам концепт при таком понимании – элемент картины мира.
Концепты в сознании человека возникают в результате деятельности, опытного постижения мира, социализации, а точнее, складываются из а) его непосредственного чувственного опыта – восприятия мира органами чувств; б) предметной деятельности человека; в) мыслительных операций с уже существующими в его сознании концептами; г) из языкового знания (концепт может быть сообщен, разъяснен человеку в языковой форме); д) путем сознательного познания языковых единиц [Попова, Стернин, 1999].
Любой концепт вбирает в себя обобщенное содержание множества форм выражения в естественном языке, а также в тех сферах человеческой жизни, которые предопределены языком и немыслимы без него, это результат соединения словарного значения слова с личным и этническим опытом человека. Концепты, по мнению Д.С. Лихачева, возникают в сознании как отклик на языковой опыт в целом. Совокупность потенций (возможности домысливания, «дофантазирования») в словарном запасе как отдельного человека, так и языка в целом Д.С. Лихачев определяет как концептосферу.
Такая трактовка термина «концепт» основывается по существу на семантике латинского (conceptus): 1) «собирать, вбирать в себя»; 2) «представлять себе, воображать»; 3) «написать, сформулировать»; 4) «образовывать»; 5) «происходить, появляться, возникнуть» (Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 1976, с. 222–224). Приведенные значения можно свести к следующему обобщенному: «сформулированный (воображаемый) как собирающий, вбирающий в себя и являющийся их началом».
Концепты как результаты мыслительной деятельности должны быть вербализованы. Но полностью ли они могут быть описаны? Мы считаем, что нет, ибо разделяем позицию Ю.С. Степанова, утверждающего, что «во всех духовных концептах мы можем довести свое описание лишь до определенной черты, за которой лежит некая духовная реальность, которая не описывается, а лишь переживается» [Степанов, 1997: 13].
В последнее время дискутируется вопрос о количестве концептов. Если А. Вежбицкая фундаментальными для русской культуры считала всего три концепта («Судьба», «Тоска» и «Воля»), то Ю.С. Степанов полагает, что их число достигает четырех-пяти десятков. Это «Вечность», «Закон», «Беззаконие», «Слово», «Любовь», «Вера» и др. Концептуальная система опирается на существование этих первичных концептов, из которых развиваются все остальные [Кубрякова, Словарь]. Духовная культура народа также складывается из операций с этими концептами. Наши наблюдения показывают, что число концептов превышает несколько сот. А З.И. Кирнозе утверждает, что определение точного круга национальных концептов – задача неразрешимая.
Национальный концепт – «самая общая, максимально абстрагированная, но конкретно репрезентируемая идея «предмета» в совокупности всех валентных связей, отмеченных национально-культурной маркированностью» [Красных, 1998: 130].
Пантеон национальных «героев» и «негероев» (Обломов, дядя Степа, Баба-Яга), воплощенных в национальных концептах, задают определенную ценностную парадигму и те модели поведения, которым рекомендуется или запрещается следовать. Каждый такой герой – ядро фрейма-структуры.
Следовательно, язык связывает людей в нацию/этнос через концепты.
Концепты могут классифицироваться по различным основаниям. С точки зрения тематики они образуют, например, эмоциональную, образовательную, текстовую и др. концептосферы. Классифицированные по своим носителям концепты образуют индивидуальные, микрогрупповые, макрогрупповые, национальные, цивилизационные, общечеловеческие концептосферы. Могут выделяться концепты, функционирующие в том или ином виде дискурса: например, педагогическом, религиозном, политическом, медицинском и др. Сам дискурс может рассматриваться одновременно как совокупность апелляций к концептам и как концепт, существующий в сознании носителей языка.
Считается, что лучший доступ к описанию и определению природы концепта обеспечивает язык [Jackendorff, 1993: 16]. При этом одни ученые считают, что в качестве простейших следует рассматривать концепты, представленные одним словом, а в качестве более сложных – те, которые представлены в словосочетаниях и предложениях [Schiffer, Steel, 1988). Другие усматривали простейшие концепты в семантических признаках, обнаруженных в ходе компонентного анализа лексики [Фрумкина, Звонкин, Ларичев, Касевич, 1990: 85—101; Телия, 1995: 25–36]. Третьи полагали, что анализ лексических систем языков может привести к обнаружению небольшого числа «примитивов» (типа некто, нечто, вещь, место в исследованиях А. Вежбицкой), комбинацией которых можно описать далее весь словарный состав языка [Филлмор, 1983: 74; Караулов, 1976: 15]. Известную компромиссную точку зрения разделяют те ученые, которые полагают, что часть концептуальной информации имеет языковую «привязку», т. е. способы их языкового выражения, но часть этой информации представляется в психике принципиально иным образом, т. е. ментальными репрезентациями другого типа – образами, картинками, схемами [Апресян, 1993: 34–36; Гачев, 1995: 302; Воробьев, 1997: 91—100].
Для образования концептуальной системы необходимо предположить существование некоторых исходных, или первичных, концептов, из которых затем развиваются все остальные [Павиленис, 1981: 143, 1976: 32]. Концепты как интерпретаторы смыслов все время поддаются дальнейшему уточнению и модификациям. Они представляют собой реализируемые сущности только в начале своего появления, но затем, оказываясь частью системы, попадают под влияние других концептов и сами видоизменяются. Возьмем, например, такой признак, как «красный», который, с одной стороны, интерпретируется как признак цвета, а с другой стороны, дробится путем указания на его интенсивность (алый, пурпурный, багряный, транспарантный, темно-красный…) и обогащается другими характеристиками. Да и сама возможность интерпретировать разные концепты в разных отношениях свидетельствует о том, что и число концептов и объем содержания многих концептов беспрестанно подвергаются изменениям. «Так как люди постоянно познают новые вещи в этом мире и поскольку мир постоянно меняется, – пишет Л.В. Барсалоу, – человеческое знание должно иметь форму, быстро приспосабливаемую к этим изменениям» [Barsalou, 1992: 67]; поэтому основная единица передачи и хранения такого знания должна быть тоже достаточно гибкой и подвижной.
Итак, концепт – это «понятие, погруженное в культуру» (по Н.Д. Арутюновой и В.Н. Телия). Он обладает эмотивностью, коннотациями, аксиологичен по своей природе, имеет «имя»/«имена» в языке. Предметом поисков в когнитивной лингвистике являются наиболее существенные для построения всей концептуальной системы концепты – те, которые организуют само концептуальное пространство и выступают как главные рубрики его членения [Арутюнова, 1976; 1991]. К таким концептам относятся ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО, ЧИСЛО, ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ, СВОБОДА, ВОЛЯ, ИСТИНА, ЗНАНИЯ и под.
1.7
Структура концепта и методика его описания
У концепта сложная структура. С одной стороны, к ней относится все, что принадлежит строению понятия; с другой стороны, в структуру концепта входит то, что делает его фактом культуры: исходная форма (этимология); история, сжатая до основных признаков содержания; современные ассоциации; оценки, коннотации.
Р.И. Павиленис считает, что усвоить некоторый смысл (концепт) – значит построить некоторую структуру, состоящую из имеющихся концептов в качестве интерпретаторов, или анализаторов рассматриваемого концепта, «вводимого» – с внешней точки зрения, т. е. с точки зрения некоторого наблюдателя, находящегося вне системы, – в таким образом конструируемую систему концептов [Павиленис, 1983: 102].
З.Д. Попова и И.А. Стернин, проанализировав множество определений концепта, пришли к выводу, что когнитивный концепт формируется в сознании человека из:
а) его непосредственного чувственного опыта – восприятия мира органами чувств;
б) предметной деятельности;
в) мыслительных операций с уже существующими в его сознании концептами;
г) из языкового общения (концепт может быть сообщен, разъяснен человеку в языковой форме);
д) путем сознательного познания языковых единиц [Попова, Стернин, 2001: 40].
Концепты идеальны и кодируются в сознании единицами универсального предметного кода (УПК, по Н.И. Жинкину).
Единицы УПК – индивидуальные чувственные образы, формирующиеся на базе личного чувственного опыта. Концепт рождается как образ, но он способен, продвигаясь по ступеням абстракции, постепенно превращаться из чувственного образа в собственно мыслительный. Образ холода лежит в основе концепта «страх», поэтому и существуют для выражения страха формы дрожать от. страха, зуб на зуб не попадает, мороз по коже продирает, дрожь пробегает по спине, кровь стынет и др.
Концепт состоит из компонентов (концептуальных признаков), т. е. отдельных признаков объективного или субъективного мира, дифференцированно отраженных в его сознании и различающихся по степени абстрактности. В результате когнитивно-лингвистических исследований как прикладной результат исследования может быть предложено описание соответствующего концепта в качестве элемента национальной концептосферы. Концепты могут быть личными (каляка-маляка – о чем-либо страшном), возрастными (счастье, радость) и общенациональными – душа, тоска, кручина, родина (см. также другие классификации на с. 50).
Концепт имеет «слоистое» строение, его слои являются результатом, «осадком» культурной жизни разных эпох. Он складывается из исторически разных слоев, отличных и по времени образования, и по происхождению, и по семантике. Особая структура концепта включает в себя:
• основной (актуальный) признак;
• дополнительный (пассивный, исторический) признак;
• внутреннюю форму (обычно не осознаваемую) [Степанов, 997: 21].
Внутренняя форма, этимологический признак, или этимология открываются лишь исследователям, для остальных они существуют опосредованно, как основа, на которой возникли и держатся остальные слои значений.
Принимая за основу строение концепта по Степанову, следует учесть и точку зрения В.И. Карасика на выделяемые Ю.С. Степановым слои концепта. Он предлагает рассматривать их как отдельные концепты различного объема, а не как компоненты единого концепта. Активный слой («основной актуальный признак, известный каждому носителю культуры и значимый для него») входит в общенациональный концепт; пассивные слои («дополнительные признаки, актуальные для отдельных групп носителей культуры») принадлежат концептосферам отдельных субкультур; внутренняя форма концепта («не осознаваемая в повседневной жизни, известная лишь специалистам, но определяющая внешнюю, знаковую форму выражения концептов») для большинства носителей культуры является не частью концепта, а одним из детерминирующих его культурных элементов [Карасик, 1996: 3].
Существуют и другие точки зрения на структуру концепта. Центром концепта всегда является ценность, поскольку концепт тесно связан с культурой, а в основе культуры лежит именно ценностный принцип. Показателем наличия ценностного отношения является применимость оценочных предикатов. Если о каком-либо феномене носители культуры могут сказать «это хорошо» (плохо, интересно, утомительно и т. д.), этот феномен формирует в данной культуре концепт. Помимо уже названного ценностного элемента в его составе выделяются фактуальный и образный элементы.
Таким образом, лингвокультурный концепт многомерен, что обусловливает возможность различных подходов к определению его структуры. Каждый концепт, как сложный ментальный комплекс, включает помимо смыслового содержания еще и оценку, отношение человека к тому или иному отражаемому объекту и другие компоненты:
• общечеловеческий, или универсальный;
• национально-культурный, обусловленный жизнью человека в определенной культурной среде;
• социальный, обусловленный принадлежностью человека к определенному социальному слою;
• групповой, обусловленный принадлежностью языковой личности к некоторой возрастной и половой группе;
• индивидуально-личностный, формируемый под влиянием личностных особенностей – образования, воспитания, индивидуального опыта, психофизиологических особенностей.
Традиционные единицы когнитивистики (фрейм, сценарий, скрипт и т. д.), обладая более четкой, нежели концепт, структурой, могут использоваться исследователями для моделирования концепта.
В более широком смысле структуру концепта можно представить в виде круга, в центре которого лежит основное понятие – ядро концепта, а на периферии находится все то, что привнесено культурой, традициями, народным и личным опытом.
Построенные посредством языка концептуальные структуры скорее относятся к возможному, чем к актуальному опыту индивида [Павиленис, 1983: 114]. Одним и тем же словесным выражением могут обозначаться разные концепты одной и той же концептуальной системы, что отражает неоднозначность языковых выражений. Если, как упоминалось, человек и лошадь бегут, бегут часы, бегут мысли, бежит жизнь, бежит ручей, то это значит, что языковые выражения в любом случае соотносятся с определенным концептом/концептами (или их структурой). Поэтому понимание языкового выражения рассматривается Р. Павиленисом как его интерпретация в определенной концептуальной системе, а не в терминах определенного множества семантических объектов.
Методика описания концепта
Под методом здесь понимаются процедуры интерпретации, включающие выводное знание.
Впервые вопрос о методе как вопрос о содержании концептов (хотя сам термин «концепт» ещё не употреблялся) возник в 40-е годы XIX в. в связи с изучением быта и древностей русского народа по памятникам древней словесности и права. Этот вопрос был поставлен К.Д. Кавелиным (1818–1885), он сформулировал требование к методу: при изучении народных обрядов, поверий, обычаев искать их непосредственный, прямой, буквальный смысл. Это то самое, что позднее лингвисты назвали внутренней формой (слова, обычая, обряда). Ученый поясняет своё положение примером: «Приходят ли, по нашим свадебным обрядам, сваты с посохом и ведут речь с родителями невесты как будто чужие, никогда не слыхавшие о них, хотя и живут двор-о-двор, – верьте, что эти теперь символические действия были когда-то живыми фактами ежедневной жизни; плачет ли невеста по воле, выражает ли свадебная песнь её страх ехать в чужую незнакомую старину – эти символы были тоже в старину живой действительностью» [цит. по: Степанов, 1997: 47].
Суть метода – определение внутренней формы концепта, может быть, несколько упрощённо сводится к следующему: делать заключение о духовном значении чего-то, например, слова, следует по проявлениям материальным.
Новые задачи, стоящие перед когнитивной лингвистикой, стимулируют поиски новых методов и методик исследования. Ю.С. Степанов писал, что вопрос о методе – это фактически вопрос о содержании и реальности концептов. К этому Е.С. Кубрякова добавляет: «…если не требовать чересчур жёсткого определения самого понятия «метод», мы бы сказали, что он заключается в постоянном соотнесении языковых данных с другими опытными сенсомоторными данными, ибо способом теоретического исследования… здесь становится его рассмотрение на широком фоне культурологического, социологического, биологического и – особенно – психологического порядка… Лингвистика должна, на наш взгляд, всё больше приобретать объяснительный характер. Когнитивная наука и предоставляет ей эти возможности, то есть расширяет рамки возможных в лингвистике и так необходимых для неё объяснений» [Кубрякова, 1999: 5–6].
Метод когнитивной науки заключается, прежде всего, в попытке совместить данные разных наук, гармонизировать эти данные и найти смысл семантической непрерывности. По мнению Ю.Н. Караулова, свойство семантической непрерывности словаря обусловлено «тем самоочевидным фактом, что в языке нет и не может быть слов, изолированных в семантическом отношении. Каждое слово десятками и сотнями нитей связано со значениями многих других» [Караулов, 1976: 75].
Можно ли говорить о совершенно новых методах исследования в когнитивной лингвистике? Пожалуй, это только метафорический анализ, предложенный Дж. Лакоффом и М. Джонсоном [Лакофф и Джонсон, 1985]. Они постулируют метафору в роли фундаментальной когнитивной операции, обеспечивающей перенос образных схем из одной концептуальной сферы в другую. Среди других «новых» методов – некоторые методы психологии и нейролингвистики.
Чрезвычайно важно для концепта ассоциативное поле, с которым он связан, поэтому выявление ассоциативных комплексов является основной задачей описания концепта (русское горе давит, а совесть гложет и т. д.).
Поскольку концепт имеет «слоистое» (по определению Ю.С. Степанова) строение и разные слои являются результатом культурной жизни разных эпох, то и метод изучения концепта должен быть совокупностью нескольких методов, точнее, методик. К настоящему времени исследователями разработано несколько методик описания и изучения концептов: это и теория профилирования, предложенная Е. Бартминским, и теория вертикальных синтаксических полей, разработанная С.М. Прохоровой, и теория концептуального анализа для выявления глубинных, эксплицитно не выраженных характеристик имени (гештальтов), предложенная Л.О. Чернейко и В.А. Долинским, и теория вертикального контекста О.С. Ахмановой и И.В. Гюббенет.
Описанию когнитивных структур посвящены фреймовая семантика Ч. Филлмора, теория метафоры и метонимии Дж. Лакоффа и М. Джонсона, сценарии Р. Шенка и Р. Абельсона, фреймы М. Мински, когнитивные прототипы Э. Рош и Дж. Лакоффа, которые лежат в основе языковой категоризации и концептуализации мира. Эти когнитивные модели как раз и можно рассматривать как основной механизм, обеспечивающий обработку и хранение информации о мире в сознании человека.
Таким образом, в когнитивной лигвистике совмещаются данные разных наук, происходит гармонизация этих данных, используются их методы исследования.
Использование тех или иных методов, а также методик, приемов и способов исследования в каждом конкретном случае зависит не только от сложности концепта, но и от целей и задач, которые ставит перед собой исследователь, а также от характера лингвистических источников, являющихся материалом для рассмотрения (печатные СМИ, электронные, классическая литература, паремиологический фонд и т. п.).
Описывая концепты, мы, вслед за Р.М. Фрумкиной, различали ядро и периферию концепта. Ядро – это словарные значения той или иной лексемы. Именно материалы толковых словарей предлагают исследователю большие возможности в плане раскрытия содержания концепта, в выявлении специфики его языкового выражения. Периферия же – субъективный опыт, различные прагматические составляющие лексемы, коннотации и ассоциации.
Для установления смыслового объема концепта нужно сделать следующее:
1) определить референтную ситуацию, к которой принадлежит данный концепт; при исследовании художественного текста эта операция производится на его основе;
2) установить место данного концепта в языковой картине мира и языковом сознании нации, используя энциклопедические и лингвистические словари; при этом словарную дефиницию мы считаем ядром концепта;
3) учесть особенности этимологии;
4) поскольку словарные толкования дают лишь самое общее представление о значении слова, а энциклопедические словари – о понятии, нужно привлечь к анализу самые разнообразные контексты: поэтические, научные, философские, публицистические, пословицы и поговорки и т. д.;
5) полученные результаты нужно сопоставить с анализом ассоциативных связей ключевой лексемы (ядра концепта), например, анализируя концепт «Время», устанавливаем его тесную связь с концептом «Будущее»;
6) если для анализа выбран важный концепт культуры, то он должен быть многократно повторен и проинтерпретирован в живописи, музыке, скульптуре и т. д. Последний шаг в данном пособии проделывался не всегда,
так как это значительно утяжелило бы работу. Но он совершенно необходим при выявлении культурных концептов и составлении словаря концептов русской культуры.
Итак, концепт – многомерное образование, включающее в себя не только понятийно-дефиниционные, но и коннотативные, образные, оценочные, ассоциативные характеристики, которые должны быть учтены при описании концепта.
В зависимости от типа концепта будет отчасти меняться и методика его описания. Известны различные типы структур представления знаний – схема, фрейм или сценарий, картинка или мыслительный образ, скрипт и т. д. Их объединяет то, что все они есть совокупность информации, хранимой в памяти, которая обеспечивает адекватную когнитивную обработку стандартных ситуаций. Многое при описании зависит от типа концепта. Так, если словарные толкования содержат указания на контуры, линии, формирующие предмет, его очертания, то значит они указывают на схему. Пример такого толкования: «рогатка» – деревянная развилка в форме буквы Y.
Перечисление деталей, из которых складывается содержание, дающее как бы кадр фильма, – это фрейм. Фрейм в его базовом определении (по М. Минскому) – это структура данных для представления визуальной стереотипной ситуации, особенно при организации больших объемов памяти. Это организация представлений, хранимых в памяти, структура знаний, информация об определенном фрагменте человеческого опыта (например, празднование дня рождения). Данное знание включает: а) лексическое значение, б) энциклопедическое знание предмета, в) экстралингвистическое знание. Фрейм организуется вокруг некоторого ядра и поэтому содержит информацию, ассоциирующуюся с данным ядром.
Описание процесса, действия, с его важнейшими этапами – это сценарий. Он вырабатывается в результате интерпретации текста. Например, описание облавы на волков в стихотворении В. Высоцкого «Идет облава на волков…» позволяет установить следующий сценарий: «облава» – это охота, при которой окружают место, где находится зверь, а затем его гонят на стрелков.
Широко используется в когнитивной лингвистике также термин скрипты, который определяется как «набор ожиданий о том, что в воспринимаемой ситуации должно произойти дальше» и который «позволяет понимать не только реальную или описываемую ситуацию, но и детальный план поведения, предписываемого в этой ситуации» [Демьянков, 1994: 70, 72].
Следовательно, разные концепты способны передавать концептуальную информацию разного типа – от элементарных до сложнейших концептуальных структур высшей степени абстракции. В настоящем пособии тип концепта определялся в соответствии с пунктом 1 нашей методики. Остальные пункты (со второго по шестой) раскрываются в том порядке, который будет показан в главе 2.
Блестящим образцом описания концепта можно считать модель, предложенную Е.С. Кубряковой в ее статье «Семантика в когнитивной лингвистике» (Известия АН. Сер. Язык и лит., 1999, т. 58, № 5–6).
1.8. Концепт как основа языковой картины мира
В результате взаимодействия человека с миром складываются его представления о нём, формируется некоторая модель, которая в философско-лингвистической литературе именуется картиной мира. Это одно из фундаментальных понятий, описывающих человеческое бытие.
Поскольку язык служит основным способом формирования и существования знаний человека о мире, то именно язык – важнейший объект исследования когнитивистов. Совокупность этих знаний, запечатленных в языковой форме, представляет собой то, что в различных концепциях называется то как «языковой промежуточный мир», то как «языковая репрезентация мира», то как «языковая модель мира», то как «языковая картина мира». В силу большей распространенности мы выбираем последний термин.
В последние десятилетия проблема отображения в сознании человека целостной картины мира, фиксируемой языком, стала одной из важнейших проблем когнитивной лингвистики. Картина мира «запечатлевает в себе определенный образ мира, который никогда не является зеркальным отражением мира» [Серебренников, 1988: 60]; она есть определенное видение и конструирование мира в соответствии с логикой миропонимания.
Человек, приобретая опыт, трансформирует его в определенные концепты, которые, логически связываясь между собой, образуют концептуальную систему; она конструируется, модифицируется и уточняется человеком непрерывно. Это объясняется свойством концепта изменяться в сознании. Концепты, оказываясь частью системы, попадают под влияние других концептов и сами видоизменяются. Изменяется со временем и число концептов, и объем их содержания [Павиленис, 1983: 102–120].
Последовательность построения концептуальной системы в сознании отвечает принципам логики, и этим обусловлено такое свойство системы, как ее логичность. Она определяет возможность логического перехода от одного концепта к другому, определение одних концептов через другие, построение новых концептов на базе имеющихся.
Логичность системы дает возможность построения внутри ее новых концептов, не усваиваемых из актуального опыта, а перешедших в сознание посредством языка. Этим объясняется возможность введения в концептуальную систему человека абстрактных понятий. Такую информацию невозможно ввести в систему без языка.
Говоря о концептуальных системах, мы можем выделить следующие этапы их формирования в сознании человека: невербальный (доязыковой) и вербальный (языковой); и такие их свойства, как изменчивость (связано с накоплением опыта и приобретением новых знаний) и логичность (это свойство связано с особенностями процесса построения концептуальной системы в сознании).
Термин «картина мира» возник в рамках физики на рубеже XIX–XX веков. С 60-х годов ХХ века проблема картины мира стала рассматриваться в рамках семиотики при изучении первичных моделирующих систем (языка) и вторичных систем (мифа, религии, фольклора, поэзии, кино, живописи, архитектуры).
Картина мира – реальность человеческого сознания. «Человек стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира для того, чтобы в известной степени попытаться заменить этот мир созданной таким образом картиной. Этим занимается художник, поэт, теоретизирующий философ и естествоиспытатель, каждый по-своему. На эту картину и ее оформление человек переносит центр тяжести своей духовной жизни…» [Эйнштейн, 1976: 136].
Мировидение каждого народа складывается в картину мира: «Каждая цивилизация, социальная система характеризуется своим особым способом восприятия мира» [Гуревич, 1972: 17]. Отсюда следует, что менталитет любого лингвокультурного сообщества обусловлен в значительной степени его картиной мира, в которой репрезентированы мировидение и миропонимание ее членов.
Понятие картины мира (в том числе и языковой) строится на изучении представлений человека о мире. Если мир – это человек и среда в их взаимодействии, то картина мира – «результат переработки информации о среде и человеке» [Цивьян, 1990: 5]. Человек склонен не замечать те явления и вещи, которые находятся вне его представлений о мире.
Явления и предметы внешнего мира явлены в человеческом сознании в форме внутреннего образа. По мнению А.Н. Леонтьева, существует особое «пятое квазиизмерение», в котором представлена человеку окружающая его действительность: «Это – «смысловое поле», система значений» [Леонтьев, 1979: 5]. Образ мира, по А.Н. Леонтьеву, – не перцептивная картинка, а некоторое относительно стабильное образование, являющееся результатом обработки данных восприятия. Вся новая информация встраивается в некоторую имеющуюся у субъекта структуру. Образ мира регулирует деятельность субъекта. Идеи А.Н. Леонтьева развивали С.Д. Смирнов и В.В. Петухов. Образ мира, как они установили, является ядерной структурой по отношению к картине мира – своему модальному оформлению. Образ мира – иерархическая структура когнитивных репрезентаций; гипотеза о типичном состоянии реальности. Это структура, в которой закрепляются все когнитивные приобретения субъекта. Итак, образ мира – иерархическая система когнитивных репрезентаций. А картина мира – это система образов.
М. Хайдеггер писал, что при слове «картина» мы думаем прежде всего об отображении чего-либо, «картина мира, сущностно понятая, означает не картину, изображающую мир, а мир, понятый как картина» [Хайдеггер, 1986: 103].
Картина мира, которую можно назвать знанием о мире, лежит в основе индивидуального и общественного сознания. Язык же выполняет требования познавательного процесса. Концептуальные картины мира у разных людей могут быть различными, например, у представителей разных эпох, разных социальных, возрастных групп, разных областей научного знания и т. д. Люди, говорящие на разных языках, могут иметь при определенных условиях близкие концептуальные картины мира, а люди, говорящие на одном языке – разные. Следовательно, в концептуальной картине мира взаимодействует общечеловеческое, национальное и личностное.
Картина мира есть не просто набор «фотографий» предметов, процессов, свойств и т. д., ибо включает не только отраженные объекты, но и позицию отражающего субъекта, его отношение к этим объектам, причем позиция субъекта является такой же реальностью, как и сами объекты. Более того, поскольку отражение мира человеком не пассивное, а деятельностное, отношение к объектам не только порождается этими объектами, но и способно изменить их (через деятельность). Отсюда следует естественность того, что система социально-типичных позиций, отношений, оценок находит знаковое отображение в системе национального языка и принимает участие в конструировании языковой картины мира.
Следовательно, картина мира – целостный, глобальный образ мира, который является результатом всей духовной активности человека, она возникает у человека в ходе всех его контактов с миром. Познавая мир, человек составляет свое представление о мире, т. е. в его сознании возникает определенная «картина мира», или «языковая модель мира» (Г.А. Брутян). Поскольку возникновение картины мира тесно связано с языком и во многом им определяется, ее называют «языковой картиной мира». Вейсгербер, образуя от Wort новый глагол worten, говорил, что родной язык есть ein Worten der Welt – «осмысливание мира, постижение мира в слове» (Ю.Н. Караулов).
Отечественные философы (Г.А. Брутян, Р.И. Павиленис) и лингвисты (Ю.Н. Караулов, Г.В. Колшанский, В.И. Постовалова, Г.В. Рамишвили, Б.А. Серебренников, В.Н. Телия и др.) различают концептуальную и языковую картины мира.
Концептуальная картина мира гораздо богаче, чем языковая картина мира: «Картина мира – то, каким себе рисует мир человек в своем воображении, – феномен более сложный, чем языковая картина мира, т. е. та часть концептуального мира человека, которая имеет «привязку» к языку и преломлена через языковые формы» [Кубрякова, 1988: 142].
Картина мира может быть представлена с помощью пространственных (верх – низ, правый – левый, восток – запад, далекий – близкий), временных (день – ночь, зима – лето), количественных, этических и других параметров. На ее формирование влияют язык, традиции, природа и ландшафт, воспитание, обучение и другие социальные факторы. Картина мира может быть целостной – таковы мифологическая, религиозная, философская, физическая картины мира, но она может отражать и какой-то фрагмент мира, т. е. быть локальной.
Концептуальные картины мира у разных людей одинаковы, ибо человеческое мышление едино. Национальные языковые картины мира – это просто иное их «расцвечивание». Языковая картина мира отражает национальную картину мира и может быть выявлена в языковых единицах разных уровней.
Между картиной мира как отражением реального мира и языковой картиной мира как фиксацией этого отражения существуют сложные отношения: границы между ними «кажутся зыбкими, неопределенными» [Караулов, 1976: 271].
Поскольку познание мира человеком не свободно от ошибок и заблуждений, его концептуальная картина мира постоянно меняется, перерисовывается», тогда как языковая картина мира еще долгое время хранит следы этих ошибок и заблуждений. Картина мира, закодированная средствами языковой семантики, со временем может оказываться в той или иной степени пережиточной, реликтовой, устаревшей: солнце садится, дождь идет. Или еще пример: довольно часто для обозначения и передачи состояния эмоционального подъема говорящий использует фразеологизм воспарить душой, не осознавая, что это средство языка связано с архаическими представлениями о наличии внутри человека животворящей субстанции – души, которая мыслилась в мифологической картине мира в виде пара и могла покидать тело, поднимаясь к небу.
Таким образом, роль языка состоит не только в передаче сообщения, но, «в первую очередь, во внутренней организации того, что подлежит сообщению» [Авоян, 1985: 76]. Возникает как бы «пространство значений» (в терминологии А.Н. Леонтьева), т. е. закрепленные в языке знания о мире, куда непременно вплетается национально-культурный опыт. Формируется мир говорящих на данном языке, или языковая картина мира как совокупность знаний о мире, запечатленных в лексике, фразеологии, грамматике.
Решая проблему соотношения концептуальной и языковой картин мира, лингвисты пытаются установить, как происходит формирование тех или иных концептов. Они выделяют целый ряд базисных когнитивных категорий (концептов), которые являются универсальными, ибо отражают единый для всех когнитивный процесс. К таким универсальным концептам относятся пространство, время, число, дружба и др.
В процессе жизни конкретного современного человека языковая картина мира предшествует концептуальной и формирует ее, потому что человек способен понимать мир и самого себя благодаря языку. Именно в языке закрепляется общественно-исторический опыт – как общечеловеческий, так и национальный. С одной стороны, условия жизни людей, окружающий их материальный мир определяют их сознание и поведение, что находит отражение в языке, прежде всего, в семантике и грамматических формах. С другой – человек воспринимает мир преимущественно через формы родного языка, который детерминирует человеческие структуры мышления и поведения.
Термин «языковая картина мира» – не более чем метафора, ибо в реальности специфические особенности национального языка, в которых зафиксирован уникальный общественно-исторический опыт определенной национальной общности людей, создают для носителей этого языка не какую-то иную, неповторимую картину мира, отличную от объективно существующей, а лишь специфическую «окраску» этого мира, обусловленную национальной значимостью предметов, явлений, процессов, избирательным отношением к ним, которое порождается спецификой деятельности, образа жизни и национальной культуры данного народа.
Интерес к языковой картине мира обнаруживается еще в работах В. Гумбольдта, который писал, что «различные языки являются для нации органами их оригинального мышления и восприятия» [Гумбольдт, 1984: 324]. Одним из основоположников сегодняшнего учения о языковой картине мира является также немецкий ученый И. Гердер. В России разработка этой проблемы началась с тезаурусным изучением лексики (работы Ю.Н. Караулова). К концу ХХ в. появилось много исследований, посвященных данной проблеме – работы С.А. Васильева, Г.В. Колшанского, Н.И. Сукаленко, Е.С. Яковлевой, М. Блэка, Д. Хаймса, коллективная монография «Человеческий фактор в языке. Язык и картина мира» (1988) и др. Сейчас эта проблема разрабатывается также в фундаментальных трудах Н.Д. Арутюновой, Ю.Д. Апресяна, А. Вежбицкой, Ю.С. Степанова, В.Н. Телия, В.Г. Гака и др.
Для нас наиболее существенно в этих работах теоретическое положение о том, что картина мира является базисной частью мировидения человека.
Язык – факт культуры, составная часть культуры, которую мы наследуем, и одновременно ее орудие. Культура народа вербализуется в языке, именно язык аккумулирует ключевые концепты культуры, транслируя их в знаковом воплощении – словах. Создаваемая языком модель мира есть субъективный образ объективного мира, она несет в себе черты человеческого способа миропостижения [Сукаленко, 1992], т. е. антропоцентризма, который пронизывает весь язык. Тогда концепты – это как бы сгустки национально-культурных смыслов, «ячейки культуры», по словам Ю.С. Степанова. Изучение их помогает выявить особенности мировосприятия народа, представить концептуальную и национальную картины мира.
«Языковая картина мира» – это «взятое во всей совокупости, все концептуальное содержание данного языка» [Караулов, 1976: 246]. Понятие наивной языковой картины мира, как считает Ю.Д. Апресян, «представляет отраженные в естественном языке способы восприятия и концептуализации мира, когда основные концепты языка складываются в единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка» [Апресян, 1995: 39].
Сейчас существует несколько направлений в изучении языковой картины мира. По мнению Е.С. Яковлевой, это 1) типологические исследования: славянская языковая картина мира, балканская модель мира и т. д.; 2) изучение языковой картины мира в аспекте реконструкции духовной культуры народа; 3) исследование отдельных сторон языка: отражение языковой картины мира в русской лексике, словообразовании, в зеркале метафор и т. д. [Яковлева, 1994: 9]. Другими словами, способ концептуализации мира, свойственный языку, отчасти универсален, отчасти национально специфичен. Поэтому возможна такая последовательность в изучении языковой картины мира: 1) изучаются характерные для данного языка концепты (душа, тоска, судьба, воля, совесть, авось и др., характерные для русских); 2) исследуются специфические коннотации для универсальных концептов; 3) исследуется цельный «наивный» взгляд на мир, ибо каждый язык отражает определенный способ восприятия мира, его концептуализации. Выражаемые в нем значения складываются в единую систему мировидения, исходя из которой можно выделить наивную физику пространства и времени, наивную физиологию, наивную этику.
Например, в языке существуют пары слов, значение которых отличается негативной оценкой последних слов в паре: слушать – подслушивать, смеяться – глумиться, повиноваться – пресмыкаться, хвалить – льстить, рассказывать – хвастаться, кичиться; жаловаться – ябедничать, разведчик – шпион и др. Отсюда можно извлечь следующие положения наивной этики: 1) нельзя вторгаться в частную жизнь (подслушивать); 2) нехорошо унижать достоинство других (глумиться); 3) плохо забывать о собственной чести и достоинстве (пресмыкаться); 4) нехорошо преувеличивать собственные достоинства (кичиться, хвастаться); 5) нехорошо рассказывать третьим лицам о поступках людей (ябедничать, шпионить). Это прописные истины, и они закреплены в языке, а потому должны быть исследованы лингвистом.
Для наивной этики, социально ориентированной сферы, характерна установка на разрешение – запрещение чего-либо, на то, достойно или недостойно это человека. По В.Н. Телия, «языковая наивная картина мира – это такое оязыковленное сочленение знаний «обычного» человека о мире, в котором он живет и действует, которое порождает зачастую наплывающие друг на друга части этих знаний» [Телия, 2002: 91]. Она считает, что в отличие от наивных моделей мира, навязывающих всем носителям языка антропоцентрический взгляд на мир, окультуренный образ мира антропометричен: прескрипции культуры не исключают преференций (предпочтений) личности в выборе ценностных для нее ориентиров.
Единицы естественного языка приобретают в языке культуры дополнительную, культурную семантику. Так, в языковом сознании представителей славянской культуры слово голова является не только выразителем семантики «верхняя часть тела», но и вербальным символом центра разума, интеллекта, высшей ценности. Эта культурная семантика строится на магическом и мифологическом осмыслении таких признаков обозначаемой словом части тела, как «расположение вверху в области небес, противоположно низу, области перерождения», «руководство действиями, поступками», «хранение и воспроизведение нужной информации» и т. п., которые входят в ядерную дефиницию лексемы голова. Так, признак «расположение вверху», мифологически переосмысляется при описании ситуаций, названных идиомами голова горит, голова идет кругом, ходить на голове. В этих идиомах восстанавливается связь с символикой микрокосма славян, в которой все, что относится к верхней части тела, связывается с небом и его главными объектами – солнцем, луной и звездами. Другой релевантный признак «руководство действиями, поступками» позволяет связывать соматизм голова с целым рядом контекстов традиционной обрядности, верований и ритуалов, следы которых сохранились в идиомах посыпать голову пеплом, с повинной головой и др.
Живя в языковом обществе, человек обогащает свою концептуальную систему не только благодаря личному опыту, но и благодаря языку, в котором закрепляется общественно-исторический опыт – как общечеловеческий, так и национальный. Последний и определяет специфические особенности языка на всех его уровнях. Это приводит к появлению специфики разных языков, что, в свою очередь, ведет к возникновению специфических языковых картин мира у представителей разных народов. Но существуют также и индивидуальные картины мира, которые несколько отличаются у разных людей.
Картина мира отражается в содержательной стороне языка этноса. Ее анализ помогает понять, чем отличаются национальные культуры, как они дополняют друг друга на уровне мировой культуры.
Э. Сепиром и Б. Уорфом была выдвинута гипотеза, что люди видят мир сквозь призму своего родного языка. Они предположили также, что языки различаются своими «языковыми картинами мира». Из этих рассуждений следовало, что люди, говорящие на разных языках, имеют разные типы мышления, и все это не просто связано с языком, а обусловлено им.
Б.А. Серебренников, критикуя эту гипотезу Сепира – Уорфа, утверждал, что язык не обладает самодовлеющей силой при образовании языковой картины мира. Нельзя говорить, что разные языки выстраивают разные языковые картины мира в сознании своих носителей, они придают лишь специфическую «окраску», обусловленную значимостью предметов, явлений, процессов, что определяется спецификой деятельности, образа жизни и национальной культурой народа.
Таким образом, языковая картина мира тесно связана с концептуальной системой, а также с языком. Формирующаяся картина мира, отображенная в сознании человека, – это вторичное существование мира, закрепленное и реализованное в особой материальной форме, языке. Один и тот же язык, один и тот же общественно-исторический опыт формирует у членов определенного общества сходные языковые картины мира, что позволяет говорить о некоей обобщенной национальной языковой картине мира. Разные языки придают картинам мира лишь некоторую специфику, некоторый национальный колорит, что объясняется различиями в культуре и традициях народов.
Сама языковая картина мира – это общекультурное достояние нации, она четко структурирована, многоуровнева. Именно языковая картина мира обусловливает коммуникативное поведение, понимание внешнего мира и внутреннего мира человека.
Вывода
1. Мышление представляет собой манипулирование ментальными репрезентациями типа фреймов, сценариев, планов, моделей и других структур знаний.
2. Язык, являясь ментальным феноменом, становится одним из способов кодирования разнообразных форм познания: чувственного (ощущение, восприятие, представление) и рационального (понятие, суждение, умозаключение).
3. Понять и исследовать способы концептуализации мира можно, лишь овладев определенным набором знаний из новой научной парадигмы, в число объектов которой вошли такие категории, как концептуализация, категоризация, вербализация, ментальность, концепт, картина мира, концептосфера и пр.
4. Языковая картина мира отражает способ речемыслительной деятельности, характерный для той или иной эпохи, с ее духовными, культурными и национальными ценностями.
5. Концепт включает понятие, но не исчерпывается только им, а охватывает все содержание слова: и денотативное, и коннотативное, отражающее представления носителей данной культуры о явлении, стоящем за словом во всем многообразии его ассоциативных связей. Он вбирает в себя значения многих лексических единиц. В концептах аккумулируется культурный уровень каждой языковой личности, а сам концепт реализуется не только в слове, но и в словосочетании, высказывании, дискурсе, тексте.
Вопросы и задания
1. В чем сущность антропоцентрического подхода к языку?
2. Какова роль языка в процессе познания и понимания мира?
3. Какие Вы можете назвать основания для возникновения когнитивной лингвистики? Как соотносится она с когнитологией?
4. Каковы задачи когнитивной лингвистики?
5. Назовите основные понятия когнитивной лингвистики.
6. Какие точки зрения на понимание концепта можно считать наиболее соответствующими истине? Почему?
7. Пользуясь следующими определениями понятия «концепт», дайте его обобщенное рабочее определение.
Д.С. Лихачев: концепт – это «своего рода алгебраическое выражение значения, которым человек оперирует в своей письменной речи».
Р.М. Фрумкина определяет концепт как вербализованное понятие, отрефлектированное в категориях культуры.
С точки зрения В.Н. Телия, концепт – это продукт человеческой мысли и явление идеальное, это конструкт, он не воссоздается, а «реконструируется» через свое языковое выражение и внеязыковое знание.
Концепт – культурно отмеченный вербализованный смысл, представленный в плане выражения целым рядом своих языковых реализаций, образующих соответствующую лексико-семантическую парадигму, единица коллективного знания, имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой (Воркачев).
8. Какова структура концепта? Дайте понимание полевой структуры. Приведите примеры.
9. Что должно быть учтено в методике вычленения концепта?
10. Что такое концептуализация и что является ее результатом?
11. В чем смысл картины мира?
12. Картины мира: научная, наивная, языковая и поэтическая. Как они дифференцируются?
13. Приведите фрагмент религиозной картины мира. Какие концепты составляют ядро этой картины мира?
14. Охарактеризуйте основные элементы, формирующие языковую картину мира.
15. Какова роль стереотипов в создании языковой картины мира?
Глава 2
Концептосфера русской культуры
Совокупность концептов и образует концептосферу (термин Д.С. Лихачева) как некоторое целостное и структурированное пространство, хотя Ю.С. Степанов и В.П. Нерознак считают, что это лишь концептуальная область, но не концептосфера. Некоторые ученые используют также термин концептуальная система (Р. Павиленис). Фактически это система мнений и знаний человека о мире, отражающих его познавательный опыт на доязыковом и языковом уровнях.
Модель мира в каждой культуре строится из целого ряда универсальных концептов и констант культуры – пространства, времени, количества (измерение), причины, судьбы, числа, отношения частей к целому [Гуревич, 1972: 15], а также – сущности, огня, воды, правды, закона, любви и др. [Степанов, 1997]. Американский психолог Дж. Миллер сказал: «У каждой культуры есть свои мифы. Один из стойких в нашей культуре мифов состоит в том, что у неграмотных людей в менее развитых странах существует особое «примитивное мышление», отличающееся от нашего и уступающее ему» [Цит. по: Вежбицкая, 1997: 291]. Отсюда следует, что можно говорить об универсальных для большинства народов (в том числе и «примитивных») и культур концептах.
При одинаковом наборе универсальных концептов у каждого народа существуют особые, только ему присущие соотношения между этими концептами, что и создает основу национального мировидения и оценки мира. Но есть и специфические, этноцентрические концепты, ориентированные на данный этнос. Нельзя на естественном языке описать мир «как он есть», потому что язык изначально задает своим носителям определенную картину мира. М. Цветаева писала, что «иные вещи на ином языке не думаются». А. Вежбицкая утверждает аналогичное и в отношении чувств: «не только мысли могут быть «продуманы» на одном языке, но и чувства могут быть испытаны в рамках одного языкового сознания, но не другого» [Вежбицкая, 1997].
В данном пособии рассмотрены универсальные и национальные концепты, присущие русской культуре.
Человеческие универсалии – это время, пространство, место, подобие, причина, видеть, долг, истина, правда, искренность, правильность, ложь, милосердие, свобода, судьба, память, язык, человек и др.
Язык отражает то, что есть в сознании, а сознание формируется под воздействием родной культуры. Отсюда специфически русские национальные концепты – подвиг (Н. Рерих), воля, удаль, тоска (Д.С. Лихачев), душа, дом, поле, даль, авось (А.Д. Шмелев), интеллигенция, зимняя ночь, туманное утро, беспредел, новые русские, утечка мозгов и т. п. Относительно одного типично русского слова В. Сосинский писал: «Следовало бы вычеркнуть из словаря русского языка это губительное слово «успеется», как надо вычеркнуть из этого же словаря «авось», «небось» и «как-нибудь» – этих трех китов, на которых держится Россия» [Сосинский, 2002: 79].
Все концепты можно разделить на следующие группы: 1) мир – пространство, время, число, родина, туманное утро, зимний вечер; 2) стихии и природа – вода, огонь, дерево, цветы; 3) представления о человеке – новый русский, интеллигент, гений, дурак, юродивый, странник; 4) нравственные концепты – совесть, стыд, грех, правда, истина, искренность; 5) социальные понятия и отношения – свобода, воля, дружба, война и т. д.; 6) эмоциональные концепты – счастье, радость; 7) мир артефактов – храм, дом, геральдика, сакральные предметы (колокол, свеча и др.); 8) концептосфера научного знания – философия, филология, математика и т. д.; 9) концептосфера искусства – архитектура, живопись, музыка, танец и т. д.
Последние две группы здесь не рассматриваются, поскольку это не просто увеличило бы объем, а превратило бы книгу в Словарь концептов культуры.
В данном учебном пособии анализируются различные способы описания концептов. Объясняется это не только отсутствием единых схем описания, но и тем, что концепт для человека не может быть ни дефиницией, ни набором некоторых признаков, он представляет живое знание, т. е. динамическое функциональное образование, являясь продуктом переработки вербального и невербального опыта – изменчивым, текучим, подчас неуловимым, как всякое знание.
2.1
Мир – концепты пространства, времени и числа; концепт будущего
ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО и ЧИСЛО являются важнейшими концептами культуры. Это фундаментальные категории философии, естествознания, социологии, физики и других гуманитарных и точных наук. А.Я. Гуревич называет эти категории «системой координат», при помощи которых люди, принадлежащие к той или иной культуре, воспринимают мир и создают его [Гуревич, 1969].
Существуют субстанциональная (от лат. substantia – сущность) и реляционная (от лат. relativus – относительный) концепции пространства и времени. Первая предложена Демокритом, Ньютоном, которые трактовали эти категории как самостоятельные сущности. Вторая концепция сформулирована Платоном, Аристотелем, Лейбницем, в начале ХХ в. подтверждена В.И. Вернадским, которые считают время и пространство объективными, не зависящими от человека формами бытия материи, но тесно связанными с самой материей.
Современные философы чаще всего определяют пространство и время иначе: «Оно (пространство) есть форма бытия материи, характеризуемая такими свойствами, как протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие. Время тоже форма бытия материи, характеризуемая такими свойствами изменения и развития систем, как длительность, последовательность смены состояний» [Спиркин, 1988: 120].
Н.И. Лобачевский, а вслед за ним А. Эйнштейн доказали, что и время и пространство – движущаяся материя. Таким образом, в исследовании этих концептов можно выделить несколько подходов: философский, математический, физический, культурологический, лингвистический и др. Для нас важно прежде всего, как эти категории отражаются в языке, фиксируются в письменной речи и в произведениях искусства.
Концепт ВРЕМЯ – самый интересный, сложный и важный из названных, ибо сквозь его призму воспринимается нами все сущее в мире, все доступное нашему уму и нашему истолкованию. Аврелий Августин в своей «Исповеди» отмечал: «Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время: если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю» [Августин, 1991: 292]. Он утверждал также, что время – сложная категория, и выделял три времени настоящего: настоящее прошедшего (память), настоящее настоящего (созерцание) и настоящее будущего (ожидание). Не случайно категория времени исследуется многими науками, формируя объект анализа как для философии и культурологии, так для математики и физики, для психологии и лингвистики [Арутюнова, 1998; Логический анализ… 1997; Бахтин, 1975; Иванов, 1974].
В процессе постижения времени в сознании человека складывается концептуальная модель времени, представляющая собой базовую когнитивную структуру, нашедшую отображение в языке.
Древние соотносили время с большим количеством объектов действительности: с числом, кругом, с мировым деревом, горой, с земноводными, с водой, с огнем [Маковский, 1996: 103]. Например, древние вавилоняне воспринимали время в связи с потоком событий и цепью поколений [Клочков, 1983].
В мифах индоевропейских народов время мыслится бесконечным и изначальным; оно предписывается только земному, срединному миру, в верхнем мире его нет, но творится оно там и оттуда отправляется на землю.
В научной литературе существуют даже попытки классифицировать народы по «отношению этнического сознания (каждого данного народа) к категории времени» [Гумилев, 1970].
Современные представления о времени сложны и многообразны. Время – мера движения и изменения, что соответствует пониманию времени как всепорождающей и всеуничтожающей сущности в мире. В соответствии с разными формами движения выделяют физическое, геологическое, механическое, астрономическое, биологическое, социально-историческое, психологическое время. Различают время объективное (физическое) и субъективное (психологическое); художественное, библейское, декретное и др. Также выделяется космическое время, определяемое природными циклами – солнечными и лунными, и время историческое, профанное, определяемое течением событий. Оно может быть также концептуальным и перцептивным [Панасенко, 2002: 152]. Человек живет в разных временах – астрономическом, историческом, возрастном, сакральном, профанном (обыденном, несвященном) и др.
Согласно данным физики, философии и других наук, выделяют время циклическое (последовательность повторяющихся однотипных событий) и время линейное (однонаправленное поступательное движение). Традиционно считается, что циклическое – это наивное представление о времени, а линейное – научное. Однако Б.А. Успенский пишет, что циклическое время соответствует космологическому сознанию, а линейное – историческому: «Космологическое сознание предполагает, что в процессе времени повторяется один и тот же онтологически заданный текст… Между тем, историческое сознание, в принципе, предполагает линейное и необратимое…» [Успенский, 1989: 32]. Эта дихотомия находит отражение в языке: например, существительные пора – время, прилагательные прошлый – минувший, наречия впредь – в будущем и др. [Яковлева, 1992]. Такие лексические средства выражения темпоральности называются темпоральными номинаторами.
Благодаря тесной связи структур сознания с языком, результаты постижения времени человеком находят отображение в языковой модели времени, представленной совокупностью языковых категорий: формами глагольного времени, в значениях слов с темпоральной окраской (день, ночь, год и др.), прилагательными и наречиями с темпоральным значением (бывший, будущий, тогдашний, нынешний, теперешний, прежний и др.).
Самый многочисленный класс темпоральной лексики – имена существительные – насчитывает несколько сотен (см. работы А.П. Клименко). Каждое такое имя отображает либо фрагмент, либо отдельный аспект общего концепта времени.
Универсальными способами восприятия времени во многих культурах служат смена светлой и темной частей суток, а также периодичность повторения природных явлений: день, ночь, утро, полдень, полночь, вечер, сумерки, весна, лето, зима и под.
Пора называет фазу космологического цикла, который много раз реализуется в природе и жизни человека: пора отлета птиц, осенняя пора, пора цветения садов, пора надежд и грусти нежной (А. Пушкин), т. е. лексема пора объемлет именно те случаи, когда «время повторяется в виде формы, в которую облекаются индивидуальные судьбы и образы» [Успенский, 1989: 32]. «Космологичность» поры проявляется в том, что она приходит независимо от чьих-либо желаний: можно приблизить время, но не пору.
Лексема время ассоциируется с линейной моделью времени, оно является необратимым, неповторимым: хрущевское время, екатерининское время. Оно может быть недавним, далеким, прошедшим, ближайшим и т. д. Темпоральные номинаторы – это также прошлый, прежний, нынче, ныне, нынешний, впредь, сегодня, завтра, послезавтра, минувший, будущее, в дальнейшем и др.
Время – неотъемлемая часть содержательной стороны языка, что находит выражение в единицах различных языковых уровней: морфологических – в виде глагольной категории времени, лексических – в качестве слов с временным значением, синтаксических – виде темпоральных синтаксических конструкций. К грамматическим средствам также относятся некоторые падежи – аблатив, предлоги (до, после, над, под) и т. д. Например, употребление в языке лексем минута, мгновенье, момент, время, час и др. специфично: так, час выступает в двух значениях: 1) единица измерения времени более крупная в соотношении с минутой и 2) время вообще (час отрезвленья; Есть час Души, как Час Луны — М. Цветаева; Есть некий час, в ночи всемирного молчанья — Ф. Тютчев; «Зимний час» – стихотворние К. Бальмонта). В истории языка час конкурировал со словом година. Миг – это эмоционально напряженное время (Есть только миг в этой жизни бушующей, именно он называется жизнь). Е.С. Яковлева справедливо заметила, что час в русском языковом сознании является носителем модели судьбозначного времени, он часто мыслится в перспективе «пути» [Яковлева, 1994].
Отличительной чертой любой языковой модели является ее ориентированность на человека, поэтому признаки антропоцентричности также нашли отражение в языковой модели времени: детство, юность, зрелость, старость. Выделение периодов, характеризующих возрастные особенности человека, накладывают на объективное время определенные рамки. Жизнь человеческая просматривается сквозь призму модели времени: утро жизни (о юности), закат жизни (о старости) и под.
Философы утверждают, что время – другое название для жизни. И язык подтверждает это, называя с помощью единиц времени духовные сущности: час раскаяния, минута покаяния, час смирения, минуты беспамятства, секунды малодушия и др. В Библии мы встречаем выражения година искушения, пробил час, смертный час, час Истины.
В текстах время – это типы сюжетного развития (вилка, кольцо, цепочка, веер), а также концепция позиции повествователя на оси времени, разработанная Н.Д. Арутюновой [1999: 689]. Она предлагает модель Пути человека и модель Потока времени. Эти модели отражают представления человека о прошлом и будущем.
Т.М. Николаева связывает время с событием, предлагая говорить не о цикличности времени, а о циклических-во-времени-событиях [Т.М. Николаева, 2000]. И действительно, в языке есть много слов для наименования периодов протекания различных событий: завтрак, обед, ужин, пост, Пасха, Рождество и др. Во многих языках мира есть слова, называющие единицы измерения времени. Если имеются в виду отрезки времени неопределенной длительности, то они называются словами типа момент, миг, мгновение, вечность и под., если же речь идет об отрезках времени определенной длительности, то называются такие единицы, которые служат для счета времени – месяц, неделя, год, первое число месяца и т. д. Сам факт присутствия в языке наименований единиц для измерения времени свидетельствует о том, что оно дискретно и измеримо.
Время в наивной картине мира мыслится как жидкость, причем часто густая (течет время, тянется), как ценная вещь (его можно тратить), как человек (оно не ждет, торопит) и т. д.
«Время» в русском языке произошло от «веремя», которое родственно словам «вертеть», «веретено». В русской картине мира, таким образом, идея времени связана с идеей повторяемости, регулярности, цикличности. Эта же идея регулярности проходит в некоторых германских языках, где время – это «прилив», в немецком же «Zeit» – иная идея времени, линейный образ: глагол «ziehen» (тянуть).
Таким образом, язык отражает время, которое движется двумя способами: либо по кругу, циклично, либо линейно. Циклично – это «на майские», «к октябрьским», «на Крещение». Поэтому Н.И. Толстой говорит о «времени магическом круге».
Согласно второму подходу, время линейно, одномерно, однонаправленно и необратимо. Время движется, и его движение непрерывно. Каждое его мгновение уникально. Время нельзя остановить, повернуть вспять (только поэты пытаются это сделать, они покоряют время, превращая день в ночь и наоборот). Н.Д. Арутюнова считает, что время подобно числовому ряду: оно линейно и необратимо, и использует для него метафору пути, потока. Абстрактная модель времени – это прямая линия, ориентированная в обе стороны от точки отсчета.
У человека нет специального органа для восприятия времени, но у него есть чувство времени, порожденное восприятием изменений в мире – сменой времен дня, сезонов и т. д. Именно время организует психический склад: «Если чувство времени основано на восприятии природных циклов, то психические структуры связали себя с линейным временем, расчлененным «точкою присутствия» на прошлое, будущее и соединяющее их в единый поток настоящее» [Арутюнова, 1998: 688]. Человека привлекает новое, он убыстряет время – «Время вперед!».
Наиболее интересно прошлое, в котором можно выделить три вида времени: историческое, периферийное (термин М.И. Стеблин-Каменского) и мифическое. Историческое время – это прошлое, о котором народ сохранил относительно достоверные сведения; периферийное время – это прошлое на краю общественной памяти, воспоминания о нем смутны, последовательность и связь событий люди уже плохо представляют. Мифическое время – это время, лежащее за пределами народной памяти, здесь трудно сказать, какое событие произошло раньше другого; события плавают как в плазме, т. е. вне всякого времени.
Современные исследователи выделяют две модели пути человека [Логический… 1997]: традиционную – время и поколения людей появляются из будущего и уходят в прошлое, старея; и новую, согласно которой время как бы движется вместе с человеком в будущее. Здесь возникает противоречие: старое время находится в стороне прошлого, а старость ждет человека в будущем. Эти противоречия отражены в языке: пред-стоящий (= будущий), а пред-ыдущий (= прошедший).
Для менталитета русских характерна низкая оценка обозримого прошлого (исторического времени). «Начнем с чистой страницы», – говорим мы, и это есть зачеркивание прошлого опыта. Однако наше настоящее – «результат уникальной последовательности событий в прошлом, над которыми мы не властны» [Арапов, 1997: 47].
Опыт «до» теряет смысл, как только наступает «после». И это типично для русского представления о времени: ср.: Россия постперестроечная, послевоенная, послереволюционная. В этих выражениях акцентируется внимание на событиях, обозначенных словами с приставкой «после-».
Интересно отношение языка к настоящему времени, которое русскими философами рассматривается как условность, ибо оно моментально: начало события уже отошло в прошлое, а его конец – в будущем; настоящее время – столь краткий миг, что его как бы нет вовсе, но, оказывается, что, кроме него, ничего нет. Н. Бердяев эту мысль формулировал так: «Время распадается на прошлое, настоящее, будущее. Но прошлого уже нет, будущего еще нет, а настоящее распадается на прошлое и будущее и неуловимо… Человеческая Судьба осуществляется в этой распавшейся вечности, в этой страшной реальности времени и вместе с тем призрачности прошлого, настоящего и будущего» [Бердяев, 1991: 235].
Это типично русское отношение к настоящему, у других же народов оно иное. Так, В.Г. Гак указывал на склонность французов к употреблению формы настящего времени и связывал этот факт с психологией народа. И. Эренбург в статье «О свойствах умеренного климата» писал: «Я преклоняюсь перед французской …преданностью каждому часу, каждой минуте…». Русские же люди больше думают о прошлом или о будущем. Поэтому из двух главных «русских вопросов» – Кто виноват? и Что делать? – один относится к прошлому, другой – к будущему. Даже язык среагировал на эту особенность психики: глаголы совершенного вида не имеют формы для настоящего времени, оно заменяется будущим. Постепенно вырабатывается привычка избегать настоящего времени даже там, где это неоходимо: Два и три будет четыре.
Наибольший интерес представляет будущее время, которое в русском языковом сознании становится концептом.
По мнению французского ученого Ж. Нива, смысл этого концепта лучше всего проявляется в слове «ухрония» (созданном по образцу слова «утопия». Его основные черты: 1) оно помещается где-то в неопределенном futurum; 2) его ждут; 3) оно не соприкасается с настоящим. Это или Апокалипсис (в религиозной картине мира), или идеально устроенный мир (светлое будущее, коммунизм – в советской, корейской). Светлое будущее как прямое следствие «бессмертного учения» должно было наступить в 1917-м, 1937-м, 1980-м годах и т. д. Как показывает русская классическая литература (Обломов, Манилов), о будущем лучше мечтать.
Историки обращали внимание на то, что нет другого такого народа, который был бы настолько озабочен завтрашним днем, как русский. Россия думает не просто о будущем, но о будущем вселенском. Отсюда философия русского космизма, который обосновывает всечеловеческую перспективу. Валериан Николаевич Муравьев (1885–1932), создатель футурологического проекта «овладение временем» (1924) посредством творческой деятельности, утверждал, что люди будут владеть не только землей, но и всей солнечной системой. История перерастет в астрономию.
В сознании русских особо ценится сказочный путь: печь, сани-самокаты, ковер-самолет, веление-хотение. Будущее русские назначают, манипулируя со временем, пытаясь им управлять. Например, меняют календарь в 20—30-е годы, обещают хрущевский коммунизм в 80-м году, горбачевские квартиры в 2000-м, достойную жизнь в ХХ! веке и т. д. Особенно характерно было такое отношение к будущему в советское время.
Христианская модель будущего – второе пришествие Господа Иисуса Христа.
Будущее – область чистой игры ума. Его нет. Тогда выражение «Долгперед будущим» становится алогизмом: если будущего нет, то как у него можно взять в долг? Русская литература запечатлела извечное стремление русского человека к светлому будущему. А. Чехов «Там», В. Ажаев «Далеко от Москвы», мифологизация строек-гигантов в советской литературе – это будущее. В. Войнович в романе «Москва – 2042» писал: «При коммунизме все люди будут молодыми, красивыми, здоровыми и влюбленными друг в друга. Они будут гулять под пальмами, вести философские беседы и слушать тихую музыку». Здесь же: «Люди будущего будут жить в небольших, но уютных городах, каждый из которых будет размещаться под огромным стеклянным шатром. В этом городе круглый год будет светить солнце…»
Будущее утопично. Град Китеж символизирует идею мудрого устроения земли, веры народа в свое будущее. Он исчез под водой (по другой версии – под землей), ушел в иное измерение, в будущее, где мы с ним надеемся встретиться. Об этом писали поэты А. Майков, Н. Клюев, М. Волошин, М. Городецкий; его изображали художники – В. Васнецов, Н. Рерих, сочиняли музыку – опера Н. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».
Существует обширная научная литература о будущем. В качестве примера можно указать следующие издания: Дугин А. Основы геополитики: геополитическое будущее России. М., 1997; Капустин М. Конец утопии? Прошлое и будущее социализма. М., 1990; Карпенко А. Фатализм и случайность будущего: логический анализ. М., 1990; Комаров В. Загадка будущего. М., 1971; Нива Ж. Модели будущего в русской культуре // Звезда, 1995, № 10; Паперный В. Культура Два. М., 1996; Агафонов В., Рокитянский В. Россия в поисках будущего. М., 1993; Солженицын А. Как нам обустроить Россию. М., 1990; Степин В. Эпоха перемен и сценарии будущего. М., 1996; Шафаревич И. Есть ли у России будущее? Публицистика. М., 1991; Эдельман Н. Образ будущего в русской литературе. Женева, 1988.
Категория времени представлена в русском языке большой группой устойчивых сочетаний, пословиц и поговорок. О кратковременных событиях русские скажут: без году неделя (с неодобрением), в два счета, во мгновение ока, в один присест; о долго длящихся событиях: битый час (с неодобрением), в долгий ящик откладывать, в час по чайной ложке, долгая песня, слово из молодежного жаргона тормозить (все с неодобрением); о событиях, которые скоро наступят: на носу; о неожиданных событиях — точно снег на голову; о событиях, которые никогда не наступят — когда рак на горе свистнет, не видать как своих ушей, после дождичка в четверг. Нужно подчеркнуть, что для русского менталитета характерно неодобрительное отношение к событиям, долго длящимся во времени.
Все эти и сходные фразеологизмы функционируют в рамках категории времени. Восприятие времени у разных народов различно. По мнению Ю.С. Степанова, для древних греков время текло «сзади», из-за спины, через человека и как бы над его головой, «вперед» – от глаз в бесконечность. Это представление хорошо (во всяком случае, лучше, чем наше) соответствует убеждению, что «неизвестным» является как раз будущее, а «известным» прошлое. Следовательно, именно будущее должно располагаться за нашей спиной, там, где у нас нет глаз и куда не проникает наш взор [Степанов, 1989: 21].
Стремление дать художественно-философское истолкование времени характерно для всей русской культуры ХХ века, в первую очередь для творчества поэтов и писателей, которые представляют время по-разному. Так, И. Бродский писал, что «время больше пространства. Пространство – вещь. Время же, в сущности, мысль о вещи. Жизнь – форма времени». Существуют и более экзотические представления о время-пространстве.
В.П. Григорьев обратил внимание на разное отношение к слову «время» у поэтов: например, у И. Анненского, А. Блока, А. Белого это слово встречается единично, а В. Хлебников широко использует его в самых различных контекстах. Поэты не просто употребляют слово, но философски осмысливают эту категорию, наделяя ее определенными смыслами и коннотациями. Так, у А. Белого между строками проходят столетия и даже тысячелетия, но поэт этим не смущен, ибо он – хозяин времени:
- Мгновеньями текут века.
- Мгновеньями утонут в Летею.
- И вызвездилась в ночь тоска
- Мятущихся тысячелетий
Но иногда, наоборот, поэт – слуга и пленник времени, как у Б. Пастернака:
- Не спи, не спи, художник,
- Не предавайся сну.
- Ты – вечности заложник
- У времени в плену
Данной метафорой поэт выражает свою жизненную и философскую концепцию.
ПРОСТРАНСТВО. Категория пространства характеризует протяженность мира, его связность, непрерывность, структурность, трехмерность (многомерность) и т. д. Как важнейшая форма мира и жизни в нем человека, пространство многообразно представлено в языке, сознании, культуре, мифологии языковой личности.
В математике, например, различают такие свойства пространства, как протяженность, однородность, изотропность, трехмерность. В работе «Пространство и текст» В.Н. Топоров пишет о двух пониманиях пространства – по Ньютону и Лейбницу. В первом случае пространство – «нечто первичное, самодостаточное, независимое от материи и не определяемое материальными объектами, в нем находящимися»; во втором пространство – «нечто относительное, зависящее от находящихся в нем объектов, определяемое порядком сосуществования» [Топоров, 1983: 228].
Искусство, по мнению Е.С. Яковлевой [1993: 49], основывается на лейбницевском представлении пространства (упорядоченного, структурированного). Это пространство «одушевляется» человеком, оно «прочитывается» им, поэтому являет собой область человеческих представлений о мире. Ньютоновское же пространство принадлежит физике и геометрии.
По мнению Г. Гачева, русский образ пространства представляет собой горизонтальное движение, однонаправленную бесконечность (вширь, вдаль, «ровнем-гладнем», по Н. Гоголю), а болгарский образ пространства – это круглый, замкнутый космос.
Есть пространство, которое окружает человека как защитная аура, размеры этого пространства специфичны для каждого народа.
Т.В. Топорова, исследовавшая древнеисландскую модель мира, писала: «Категории пространства и времени благодаря свойственным им универсальности и всеобъемлющему характеру формируют пределы, в которых развертывается человеческая жизнь, тем самым они определяют все остальные категории, связанные с антропоцентрической сферой: судьбу, право, социальное устройство… Эти категории не только образуют пассивную рамку происходящего, но и констатируют природу самих событий, активно воздействуя на них» [Топорова, 1986: 12].
Именно эти категории сплошь мифологизированы. Мифологическое пространство мыслилось многослойным и сакрально неоднородным. В мифологическом мире бытие – концентрические круги, пронизанные мотивом Единого устройства: здесь различались территории наибольшей «мистической энергии», благотворной для человека (тотемные центры), энергетически нейтральные территории и «зловредное», хаотическое пространство, наделенное отрицательными качествами.
Согласно этой модели мира, границы вселенной расходятся «от человека» концентрически все большими и большими кругами. Самый ближний круг, микрокосм, – это сам человек. Его граница – тело и одежда, прикосновение к которым расценивается в разных культурах как нарушение этических и прочих норм. В русском языке существует выражение это меня не касается, т. е. фактически является «чужим». Ср. белорусское гэта мяне не датычыць, внутренняя форма глагола – «тыкаць». Это позволяет предположить, что в менталитете белорусов заложено более грубое нарушение микрокосма человека. Одежда у славян издревле выполняла функцию магического оберега. Отсюда ритуальность и особая значимость изготовления одежды (прядения, ткачества, вышивания), а также одевания-раздевания (снятие женихом пояса-оберега с невесты, разувание новобрачного молодой женой и т. д.).
Следующий круг – дом человека, его ближайшее окружение. Наиболее тонко разработан данный концепт у Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова в книге «Дом бытия языка. В поисках новых путей развития лингвострановедения: концепция логоэпистемы». (М.: Икар, 2000). Дом у них = бытие, обитание, а жилище = жизнь, существование. Основная функция дома – защита, но и ограничение. В качестве синонимов дома в разных ситуациях высупают землянка, небоскреб, хрущевка, пятиэтажка и др.
Окно – граница дома (ср. мифологию окна). Круг дома у кочевых народов, например, у казахов, – это степь, по которой племя проходит за световой день. Поэтому уход из дома в мифологии, фольклоре означает начало приключений и испытаний (мифология порога). Итак, дом – разновидность пространства, причем он ассоциируется сугубо со «своим» пространством, как-то отгороженным от внешнего мира. Дом служит связующим звеном в общей картине мира: с одной стороны, принадлежит человеку, с другой, связывает человека с внешним миром. Это как бы внешний мир, уменьшенный до размеров человека, т. е. здесь реализована триада: дом – человек – мир. Структура дома повторяет структуру внешнего мира. Дом – это мир, приспособленный к масштабам человека и созданный им самим. Загадка: Пять братьев строят дом, а жить в нем не собираются (чулок и спицы). Принадлежность человеку – основной функциональный признак дома. Дом противоположен гробу: его делают не для себя, а для другого.
Виды дома: церковь, башня, дворец, землянка, изба, крепость, хата, хижина, строение… Элементы дома – крыша, печь, дверь, окно, пол, порог… Верхняя граница – крыша, защита сверху (покров) – отсюда русское выражение дать приют под крышей и современное «крыша» – в значении «бандитская защита». Дверь – важнейший элемент в модели дома (мира), это средство связи с миром. В фольклоре закрытую изнутри дверь нельзя без разрешения открывать снаружи.
Все пространство человека – от интерьера его дома и до великого Космоса – исчерчено видимыми и невидимыми границами. Границы, проходящие в пространстве, занимают важное место в культуре. Это самый напряженный, конфликтный участок символического пространства, где человека часто подстерегают повороты судьбы. (См. межник в мифологии.) Во-первых, потому, что граница – место наибольшего удаления от центра «своего» мира, а значит, это место, где максимально ослаблены защитные силы «своего». Во-вторых, потому, что это место, где начинают действовать законы «чужого» пространства.
Граница дома – порог, в мифологической модели мира место жительства духов, домового. В древности под порогом погребали новорожденных, некоторых предков, души которых якобы охраняли жилище. До сих пор о пороге живет много суеверий: нужно оказывать почтение порогу, поэтому нельзя становиться на порог, садиться на него, прыгать через него; все это грех. Особенно грешно наступать на порог не живущему здесь человеку, с этим связан обычай у многих народов переносить невесту через порог [Фрэзер, 1993: 344–353].
В представлениях русских и белорусов порог – граница жилища, «одомашненная» часть пространства, защита для человека. Со словом порог существуют следующие фразеологизмы: споткнуться на пороге (сплоховать в самом начале), порог памяти (препятствие), обивать пороги (надоедливо просить о чем-либо), только за порог (только вышел), чуть за порог (только вошел), до порога (о чем-то непродолжительном, неглубоком – девичий стыд до порога), с порога (сразу же после прихода); вось табе бог, а вось парог (предложение выйти вон), паказваць парог (предложение выйти) и др.
Все люди, имеющие контакт с иными мирами, располагаются и в мифологии, и в фольклоре, и в литературе на границе своего пространства: на окраине села, города, на опушке леса, на берегу моря и т. д. Самая сильная граница своего и чужого – кладбища: мертвые как бы охраняли «свое» пространство (ср. также языческий славянский обычай хоронить младенца или послед под порогом дома). У архаичного человека переход через эти границы требовал смены костюма, а часто и внешности, изменения норм поведения, деятельности.
Последняя граница вокруг человека – это граница «своей» земли, родины. Первоначально это была граница «малой» родины, заданная самой природой. Всякое массовое переселение, смещение с нее воспринималось как трагедия. Лишь после того, как возникли первые государства, граница стала государственной, а присоединение чужих земель начало интерпретироваться как «освоение», «окультуривание» чужого пространства, дикого и еще как бы «не человеческого».
Следующим древнейшим вариантом структурирования мифологического пространства была «горизонтальная, линейная» модель, где верхним миром (миром богов) являлось верховье реки, нижним (миром мертвых) – ее устье, среднее течение реки соответствовало миру живых людей [Роль человеческого фактора, 1988: 62]. Лишь впоследствии многоуровневая модель мира получила три измерения и упорядочивалась уже по вертикали. В других мифологиях, испытавших влияние буддизма и ламаизма, число уровней резко возрастает. Например, в мифологической модели мира алтайцев и тувинцев речь идет о 99 мирах и 33 слоях небес.
Пространство реализуется в виде нескольких сущностей: верх – низ, небо – земля, земля – подземное царство, правый – левый, восток – запад – север – юг и т. д. Важнейшая оппозиция в пространстве – верх – низ. В основе этой оппозиции лежит представление о верхнем и нижнем мирах в мифологической модели, сюда относятся все мифы о верхней и нижней сторонах вещи, явления, поступка. У славян оппозиция «верх – низ» была связана с мифом, повествующим о борьбе Перуна (живущего вверху – на небе, на вершине Мирового дерева) и Велеса (божества нижнего мира, «скотьего бога», стада которого – души умерших). Победа верха над низом заканчивается дождем, несущим плодородие. Оппозиция «верх – низ» нашла отражение в целом ряде фразеологизмов: по верхам (легко и поверхностно), на верху блаженства (испытывать крайнее удовольствие), с верхом (больше обещанного); ниже всякой критики (не удовлетворяет элементарным требованиям), ниже своего достоинства (унизительно), низвергнуть в прах (развенчать), низринуть в прах (убить, уничтожить).
С положением низа связаны такие фразеологизмы, как снимать шапку, гнуть спину, ползать на коленях, гнуться в три погибели – в русском языке; ламаць шапку (угодничать), здымаць шапку (относиться с уважением) – в белорусском языке, значение которых сформировано мифологемой «становиться ниже, сознательно занимать положение внизу». Таким образом, все эти фразеологические единицы (ФЕ) при различных значениях имеют общий компонент: «стать ниже ростом». Ср.: унижаться.
В основе оппозиции левый – правый лежит миф о том, что каждый человек имеет и доброго, и злого духов рядом с собой: добрый ангел-хранитель располагается справа, а бес-искуситель – слева: Бес слева ходит, да на грех наводит [Шахнович, 1971: 53].
Противопоставление правого и левого приобрело глобальный смысл: оно вошло в систему правовых отношений, и слово «правый» получило значение хорошего, справедливого, способного к власти, оно связано со словами «право», «правда», «справедливость»: правая рука (первый помощник), правое дело (справедливое дело). С мифом связан обычай подавать правую руку при приветствии. Под левым понимается все ненормальное, несправедливое, женское, отчасти чужое.
Этот миф объясняет семантику целого ряда фразеологизмов, например: встать с левой ноги (начать день под властью злого духа, а его современное значение «быть в плохом, мрачном настроении, в раздраженном состоянии»); споткнуться на левую ногу, левые деньги, левый заработок и т. д.
С семантикой левого и правого связаны гадания, ритуалы, приметы, а также понятие о смерти, которая входит через левое ухо, т. е. мы слышим дыхание смерти. С «правым» связано понятие жизни. На этом основан славянский обычай пить на тризне по кругу слева направо. В Индии до сих пор считается, что дрожание правого глаза – доброе предзнаменование, а левого – дурное. Такова семантика левого (смерти) и правого (жизни), которая объясняет не только языковые факты, но и обычаи, предрассудки, приметы, связанные с оппозицией левый – правый. Активность ее в языке и сознании славян объясняется еще и физиологическими причинами: В.П. Алексеев, исследовавший право-левостороннюю симметрию живых организмов, доказал, что эта симметрия начинается на уровне белковых молекул и пронизывает все живое [Алексеев, 1976: 43].
Пространственная картина мира, реализованная с помощью русских фразеологизмов, складывается следующим образом: на волосок (близко), под носом (рядом), под боком (рядом), рукой подать (близко), нос к носу (близко), в двух шагах (близко), во всю ширь (безгранично), насколько глаз хватает (громадное пространство), на каждом шагу (везде) и т. д. Приведенные фразеологизмы свидетельствуют о том, что чаще всего русский человек имеет дело с пространством, которое непосредственно прилегает к нему, к его телу, лицу, глазам, ибо человек – центр субъективного пространства, но при этом он как бы формирует вокруг себя кокон, внутри которого ощущает себя независимым и вне опасности (ср. выражение: это меня не касается).
Есть архаическая модель пространства, которое осваивается человеком, обживается им. Архаическое представление о пространстве сводилось к тому, что оно не предшествовало вещам, а наоборот, конструировалось ими. Язык как раз и описывает это обжитое пространство, которое описывается с позиции наблюдателя: вдалеке, невдалеке, вблизи, вдали – от наблюдателя. В словах далеко, недалеко, близко, рядом, неподалеку, поблизости – наблюдателя нет, они информативны, а не изобразительны, но тоже определяются через говорящего, который и есть та самая «вещь», конструирующая это пространство. Сходные координаты имеют слова сзади, спереди, слева, справа, вверху, внизу.
Отсюда абсолютная и относительная модели пространства. Абсолютная модель – это конкретное физическое пространство (трехмерное, гомогенное, протяженное). В результате вторичного использования пространственных показателей создается квазипространство: Я чувствую твое присутствие рядом (о близости душ).
Е.С. Яковлева говорит о четырех моделях пространства, которые задают наречия с семантикой «близко/далеко»: 1) относительная динамическая модель: Европа рядом (говорящий и описываемый объект – физические сущности, оба находятся в физическом пространстве, оценивается расстояние до объекта); 2) абсолютная статическая модель; 3) квазипространство: Когда ты рядом, хочется жить; 4) пространство инобытия: Я чувствую, что ты здесь, рядом. Дистанционной точкой отсчета в этих пространствах является говорящий.
Вместе с тем когнитологи указывают, что люди осознают пространство не через систему координат, а скорее через отношения, существующие между объектами в пространстве. В связи с этим представляется интересной точка зрения Е. Кубряковой на понятие контейнера как особого принципа научных исследований – принципа обратимости позиций наблюдателя в пространстве, в котором находятся все выделенные человеком объекты – как материальные, так и идеальные. Мы попытались к описанию некоторых концептов применить контейнер, например, к концепту зимняя ночь – идею «пустого пространства».
В восприятии пространства носителями русского языка эталоны расположения в пространстве зачастую устанавливаются при активном участии лексемсоматизмов. В системе соматических идиом отображена определенная закономерность, например, в выборе эталонов пространственных координат. Фразеологизмы этой группы малопродуктивны и обозначают место или месторасположение относительно субъекта речи. Большинство этих ФЕ репрезентируют локацию по вертикали «верх / низ» или по горизонтали «вперед / назад», «слева / справа».
Эталоны координат по вертикали заложены во фразеологизмах: под ногами (совсем близко), из-под <самого> носа (совсем близко), под рукой (близко внизу на доступном расстоянии).
Еще одна группа идиом отображает пространственную эталонизированность частей тела в несколько ином аспекте – как эталоны нормы расположения в пространстве по вертикали. Эта группа объединяет фразеологизмы гнуть спину, повесить нос, опустить плечи, т. е. находиться ниже нормального уровня настроения.
В эмпирическом обыденном сознании эталонизируются и объединяются в одну группу такие части тела, как спина, нос и плечи. Это объединение базируется на общности выполняемой ими функции – способности перемещаться в пространстве относительно вертикальной и горизонтальной осей координат. В норме для этих частей тела необходимо занимать строго определенное положение: спина (спинной хребет) является основной вертикалью в теле человека, плечи – это верхняя горизонтальная граница тела; нос – верхняя малая вертикаль.
Изменение положения этих частей тела как точек координат влечет за собой нарушение нормы, нормального порядка вещей. Номинативное основание этих идиом может быть сведено к смыслам: «вести себя, нарушая принятую норму» (гнуть спину, задирать нос) и «чувствовать себя хуже нормы» (повесить нос, опустить плечи). Образное основание идиомы гнуть спину может быть определено как «изменение положения человека в системе координат существующего миропорядка»: спинной столб из вертикали становится горизонталью. Эмпирический образ этой идиомы, редуцированный в гештальт-структуре, вызывает психическое напряжение, реализующееся в эмотивной оценке осуждение такого поведения и в рациональной оценке – «это плохо». Во фразеологизмах задирать нос, повесить нос и опустить плечи образ идиомы актуализированно включает черту «стремление линий горизонтали к вертикали», подобное нарушение миропорядка вызывает эмотивную оценку – неодобрение. Итак, соматические идиомы выполняют роль эталонов в пространстве, в одном случае идентифицируя или квалифицируя локацию по вертикали, в другом – устанавливают эталон нормы расположения в системе координат относительно вертикальной и горизонтальной осей.
Пространственные координаты по горизонтали закодированы в следующих группах фразеологизмов: 1) куда глаза глядят (определяется неизвестное направление вперед), куда ноги несут (неопределенное направление движения), <туда>, где не ступала нога человека (неизвестное местонахождение), <насколько> глаз (хватает) (далеко впереди,) рукой подать (довольно близко), рукой не достанешь (далеко, но на доступном расстоянии); 2) под боком <жить> (совсем недалеко), нос к носу (столкнуться) (очень близко, спереди), нос в нос (слишком близко), ухо к уху <стоять> (рядом, сбоку), ухо в ухо (совсем рядом, сбоку на одной высоте), плечом к плечу <стоять> (рядом, сбоку), бок о бок (совсем рядом, сбоку).
Восприятие пространства в картине мира никогда не ограничено утилитарно-прагматическими аспектами, но, по утверждению В.Б. Касевича, «…всегда трактуется в системе мировоззренческих оппозиций, релевантных для данного культурно-исторического сообщества: специфические черты того или иного конкретного пространства определяются отношениями не между объектами, а оценочным отношением к пространству субъекта, обычно коллективного» [Касевич, 1996: 137]. Так, членение пространства в мифологическом мировосприятии осуществляется по признаку «сакральное/профаническое» (в психологии эта оппозиция представлена как «проксимальное/дистальное» пространство). Проксимальное пространство характеризуется применительно к самому человеку как определенным образом устроенному организму, в отличие от дистального, в котором человек рассматривается как социальный тип. В проксимальном пространстве оппозиции-примитивы «верх/низ», «левый/правый», «передний/задний» отражают представления о том, что непосредственно прилежит к человеку, к его телу. В культуре гротеска это пространство выхода тела за собственные пределы. Поэтому в гротеске всяческие ответвления человеческого тела приобретают особое значение. Эти части тела продолжают собственно тело, связывают его с другими телами или внетелесным миром. Например, «Нос» Гоголя.
ВРЕМЯПРОСТРАНСТВО. Существуют модели времени в терминах пространства, но они, как справедливо заметил О. Шпенглер в своей знаменитой работе «Закат Европы», противоречивы: «Время рождает пространство, пространство же убивает время» [Шпенглер, 1993: 335]. Однако наблюдения над языком показывают, что в русском языке возможна взаимозамена пространственных и временных понятий: фразеологизмы не за горами, на носу означают и «скоро» и «близко»: зима не за горами (скоро) и Москва не за горами (близко); выборы на носу (скоро) и Француз на носу, войско без сапог, а им и горя мало [Салтыков-Щедрин. Пошехонская сторона] (близко). Таким образом, слово – это локус, в котором пространство и время объединяются, т. е. понятие хронотопа («хронотоп» – греч. «времяпространство») является языковой реальностью. Можно даже говорить, что это реальность историческая: «Пространственное понимание времени нашло свое выражение в древних пластах многих языков, и большинство временных понятий первоначально были пространственными» [Гуревич, 1984: 110].
Термин «хронотоп» широко использовал М.М. Бахтин, указавший на его сюжетообразующую роль и назвавший его формально-содержательной категорией, ибо «вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопов» [Бахтин, 1975: 399].
Всякий художественный текст обладает своим особым хронотопом, т. е. имеет свои временные и локальные параметры, представляет собой упорядоченный мир, в котором живут персонажи текста. Сущность хронотопа, по М.М. Бахтину, состоит в выражении неразрывности времени и пространства, но все же более важную роль в хронотопе он отводил времени: «Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым, пространство же «втягивается» в движение времени, сюжета, истории» [Бахтин, 1975: 235]. Для Ю.М. Лотмана, наоборот, важнее пространство.
Реальность хронотопа доказывается способностью текста заполнять собой время: известен обычай – в монастырях во время трапезы читать священные книги. Произносимый текст приобретает магическую власть над слушателями: как бы отсчитывается сакральное время, в которое нельзя вторгнуться.
ЧИСЛО. Ян Шичжан, китаец-русист, утверждает, что ЧИСЛО – важнейший концепт в русской языковой картине мира [Шичжан, 2001]. Число – сущность всех вещей и их отношений. См. у Пифагора: «…Самое мудрое – число» и «Все расположено в соответствии с числами» [Кэрлот, 575].
Число как понятие сформировалось не сразу. Вначале оно мыслилось как определенное количество каких-либо предметов (дай пять = руку), по рукам (согласие как воспоминание о ручном счете).
Существуют разные гипотезы возникновения числа: 1) прагматическая, по которой числа возникли в результате коммуникативной необходимости; 2) концептуальная, или вербальная: человек имеет врожденный концепт числа ОДИН как точки отсчета и концептуальный аппарат для конструирования следующих за ним чисел; 3) ритуальная – это как бы перевернутая концептуальная гипотеза: человек может воссоздать число.
Числа – это элементы особого кода, с помощью которого описывается мир: в основе музыки, поэзии, архитектуры и искусства вообще лежат числа. Число знаменует божественный порядок, является магическим ключом к пониманию космической гармонии. В мифологической картине мира с помощью чисел передавалась качественно-количественная сторона явлений. Суеверия, связанные с числами, часто основываются на традиционной символике чисел (например, «священная» семерка, «несчастливое» число 13).
Древние народы придавали цифрам сакральную силу, приписывали им скрытый смысл и магическую возможность влияния на все окружающее, потому как считалось, что числа использовались богами для управления миром. Согласно учению пифагорейцев, числа первого десятка наделялись особыми свойствами. А сам Пифагор говорил: «Все в мире есть числа».
Что касается подгруппы количество, входящей в группу «Устройство мира», то она хорошо представлена в русской и белорусской фразеологиях.
Особого внимания заслуживает «мистика» чисел.
Один – «единица» символизирует первичную целостность, Бога, имя которого у северных народов – Один, а также свет или солнце, источник жизни. По Пифагору, число один называется монадой и считается символом мудрости.
Единица символизирует также мужское начало, знак человеческого «я» и одиночества. Например, существует русская пословица «Один в поле не воин», в которой один – одинок и слаб.
Два – символ двойничества. Человеческие двойники считались плохим предзнаменованием, предвещающим смерть. Данное число сопряжено в русской картине мира с негативными коннотациями. Двойка – символ второго (женского) начала, она содержится в слове диавол. Черта с два («два» – число бесовское, нечистое).
Принцип бинарности социальных систем был открыт Э. Дюркгеймом. Известный историк А.М. Золотарев обнаружил бинарность в социальной организации первобытного общества. Как принцип научного устройства мира два не имеет негативных коннотаций.
Четыре – символ универсальности, целостности, всемогущества, твердости, власти, интеллекта, справедливости. Символизм данного числа связан с символикой квадрата и четырехконечного креста. Квадрат – эмблема земли у многих народов, а крест, кроме прочего, – символ целостности. У пифагорейцев четыре было первым числом, которому было приписано геометрическое тело, тетраэдер – четырехгранник с основой и тремя сторонами. Четыре первоэлемента и четыре стихии – земля, воздух, вода и огонь, почетный караул у гроба умершего также состоит из четырех человек. Все это свидетельствует о важности данного числа в русской картине мира.
Пять. Лучи пятиконечной звезды олицетворяют четыре стихии: землю, воду, воздух, огонь + человеческое сознание. В имени Сына Божьего – Иисус – пять букв.
Шесть. Три шестерки – число дьявола в христианстве; в мировой культуре шесть – символ союза и равновесия. В пифагорейской системе – знак удачи, счастья. Куб – геометрический символ устойчивости и истины. В русской традиции с этим числом связаны негативные коннотации: слово шестерка означает «подхалим и стукач, холуй».
Семь – священное число, символ божественности, именно семерка характеризует солнечных богов и общую идею Вселенной. Древние греки признавали за этим числом высочайшее совершенство. Семерку считали девственным числом на том основании, что только семь (среди чисел первой десятки) не является ни частью, ни произведением любого из них. Это число считалось атрибутом девственной Афины.
В географических названиях: Семилуки, Семипалатинск, Семиречье; в названиях фильмов – «Семеро смелых», «Великолепная семерка», «Седьмое небо». Число семь, будучи выражением идеи Вселенной, закрепилось в культуре в таких своих вариантах, как семь нот, семь цветов спектра, семь звезд Большой Медведицы, семь ветвей Мирового Дерева, семь координат Вселенной, семь планет, седмица (славянское название недели), число Миллера (объем оперативной памяти человека).
На одной из христианских икон Божией Матери изображено семь стрел и сама икона называется «Семистрельная».
Восемь — в оккультизме символ равновесия. Геометрическое выражение этого числа – восьмигранник – считается промежуточной фигурой между квадратом и кругом, сочетающим в себе устойчивость, постоянство первого и целостность второго. Число 8 представлялось математическим символом четырех сторон света, включая промежуточные направления – юго-восток, юго-запад и т. д. У пифагорейцев, особенно чтивших это число и основавших на нем целую философию, – это символ смерти. Срок правления древнегреческих царей ограничивался восемью годами.
Девять – это три в усиленной форме, т. е. утроенная триада. В мистицизме 9 считается тройственным синтезом мысли, тела и духа или загробного мира, земли и неба. У русских – символ опасности, могущества (Айвазовский «Девятый вал»). Это число венчает какой-либо процесс и кладет начало переходу в новое качество: поминки на 9-й день, «у кошки 9 жизней», в мифологии упоминается о 9 подземных мирах, 9 месяцев беременности у человека и некоторых видов животных (коров) и т. д.
Десять — символ гармонии, полноты, совершенства. В пифагорейской символической системе это число мироздания, представленное десятиконечной звездой. Оно было единицей нового счета у народов, считающих десятками. Десятая часть (десятина) практически повсеместно являлась мерой дани или жертвы Богу. Десятилетие символизирует веху в истории или полный цикл в мифологии.
Двенадцать в древней астрономии, астрологии и хронологии – основное число, символизирующее пространство и время, поэтому существует 12 знаков Зодиака, 12 созвездий, 12 месяцев, в восточном календаре цикл из 12 животных, 12 апостолов у Иисуса Христа, 12 сыновей Иакова, 12 колен Израилевых, 12 олимпийских богов составляли древнегреческий Пантеон, 12 могучих титанов родила Гея от Урана и т. д. Это число избранных.
Тринадцать — так называемая чертова дюжина, несчастливое число. Возможно, его негативная символика связана с тем, что ранние лунные календари нуждались в добавлении «лишнего» 13-го месяца, который, по наблюдениям древних, не сулил ничего хорошего. Это число связывалось с таинственной силой, с космическими циклами Земли.
Двадцать – священное счастливое число, его связывали с богом Солнца. У индейцев майя оно считалось числом человека (по количеству пальцев на руках и ногах). В русской картине мира это число активно используется во фразеологии и паремиях: руб двадцать, не возьмешь за руб двадцать и др.
Сорок — число скорее символическое, чем точное, активно используемое в ритуальных целях в христианской, иудейской и мусульманской традициях для определения важных перидов времени: периодов духовной подготовки и очищения (например, сорокадневный пост), испытания (мертвым необходимо именно сорок дней, чтобы уйти из мира живых). Всемирный Потоп, по Библии, длился сорок дней и ночей. Это число нашло широкое отражение в русской фразеологии, а следовательно, и в картине мира: наговорить 40 бочек арестантов; пуд содержал 40 фунтов. Это было предельное у русских число: сороконожка = многоножка, сорок сороков – предельное число.
Шестьдесят – тоже важное число в русской концептосфере, но в отличие от предыдущего, это точное число: час – 60 минут, 1 минута – 60 секунд.
Итак, в русском языке наиболее активен первый десяток чисел (кроме числа шесть), а также 20, 30, 40, 100, 1 000 000 (миллион).
Число неразрывно связано с мерой. С понятием множественности в русском менталитете связана следующая мифологема: «черту необходимо отдавать все малоценное, имеющееся в большом количестве», отсюда: черт не схватит (очень много), до черта (много), с хвостиком (с небольшой прибавкой), с лихвой (с избытком); белорусский фразеологизм да ката (кат – «враг», «дьявол»).
Русские ФЕ как собак нерезаннъх (много), кот наплакал (слишком мало) также содержат отзвук мифа в своей семантике.
2.2
Явления природы – туманное утро, зимняя ночь; концепт дерева
Группа концептов, представленных в данном параграфе, являет собой концепты культуры, а потому их исследование идет в большей степени на материале текстов, чем на материале словарей. Текст понимается нами в широком семиотическом смысле, совокупность таких текстов создает культуру. Всякий художественный текст неизбежно будит в сознании как отголоски конкретных знаний (о разных школах, направлениях, традициях), так и трактовки этой же темы в смежных видах искусства. Например, для читающего «Осень» А.С. Пушкина культурного человека естественны ассоциации с «Временами года» П.И. Чайковского, картинами И.Л. Левитана и т. д.
ТУМАННОЕ УТРО. Академик Ю.С. Степанов, один из основоположников русской когнитивной лингвистики, в качестве важнейшего концепта в русской культуре рассматривает осенние сумерки, что натолкнуло нас на мысль поискать другие аналогичные концепты. Достаточно частое обращение русских поэтов и писателей, художников и композиторов к понятию «утро туманное» свидетельствует о том, что оно занимает важное место в языковом сознании русских и, следовательно, может претендовать на роль концепта русской культуры. Материалом для исследования стали произведения И. Тургенева, Н. Языкова, Ф. Тютчева, Я. Полонского, А. Майкова, А. Фета, А. Блока, И. Бродского, Л. Толстого, К. Паустовского, Ф. Абрамова, П. Чайковского, А. Глазунова, И. Шишкина, И. Левитана, А. Куинджи и др.
Для выяснения основного значения концепта «утро туманное» обратимся к «Словарю русского языка» под редакцией С.И. Ожегова Лексическое значение составляющих концепт языковых единиц таково:
Утро… 1) Начало дня. На следующее утро. С самого утра. Утро жизни (перен.). 2) Зрелище, представление и т. п. в первую половину дня (устар.). Литературное утро…//прил. утренний (к 1 значению). Утренний час. Утренний свет.
Туманный… 1) Представляющий собою туман, похожий на туман. Туманная полоса. 2) Окутанный туманом, мрачный из-за тумана. Туманная даль. Туманное утро… 3) (перен.). Невыразительный, тусклый. Тусклый взгляд. 4) (перен.) Неясный, непонятный, неопределённый. Туманный смысл. Туманное объяснение… [Ожегов С.И., 1987].
Таким образом, основное значение концепта «утро туманное», зафиксированное в словаре, – утро, окутанное туманом. При употреблении его в разных произведениях концепт приобретает дополнительные семантические признаки. Прежде всего он ассоциируется с известным стихотворением И.С. Тургенева, ставшим затем романсом. Музыку к нему писали Г. Катуар, Я. Пригожий, В. Абаза и другие композиторы.
Утро туманное, утро седое…
(«В дороге»).
- Утро туманное, утро седое,
- Нивы печальные, снегом покрытые,
- Нехотя вспомнишь и время былое,
- Вспомнишь и лица, давно позабытые.
- Вспомнишь обильные страстные речи,
- Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
- Первые встречи, последние встречи,
- Тихого голоса звуки любимые.
- Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
- Многое вспомнишь родное, далёкое,
- Слушая ропот колёс непрестанный,
- Глядя задумчиво в небо широкое.
1843 г.
Ключевыми словами и словосочетаниями стихотворения следует считать: утро туманное, нивы печальные, страстные речи, первые встречи, последние встречи, тихого голоса звуки любимые, разлука, родное, далёкое. Они позволяют увидеть в стихотворении два тематических пласта тургеневской поэзии – тему природы и тему любви.
Смысл стихотворения прозрачен: это воспоминания о былом. Роль скрепляющего весь текст элемента играет глагол вспомнишь. Семантически этот глагол поддерживается словами других частей речи (время былое; лица, давно позабытые; далёкое).
Заголовок («В дороге») вместе с заключительной строфой образуют в стихотворении композиционное кольцо. Герой находится в дороге, его не отвлекают будничные дела, мысли и воспоминания приходят сами собой. Этому способствует окружающий мир, словно замерший осенним утром. Картины природы создают атмосферу философской созерцательности, погружённости в себя, когда в памяти всплывают, высвечиваются разные моменты прожитой жизни.
«Утро туманное» – доминантное словосочетание, начинающее стихотворение. Это как бы цельная языковая единица, отражающая в сознании поэта, его психике картину окружающего мира.
Ощущение замедленности, протяжённости окружающего в пространстве и времени, приглушённости ярких и активных проявлений жизни создаётся в стихотворении особой огласовкой: в первой строке, единственной в стихотворении начинающейся с гласного звука, гласные же и преобладают. Наиболее заметно звучание протяжённого [у], ударного [а], который как бы продлевается в сочетании с последующим долгим [н] – туманное (это ещё дважды повторяется в третьей строфе – странной, непрестанной).
Картина сосредоточенно-сдержанного состояния героя усиливается серо-белой цветовой гаммой: утро туманное, утро седое, т. е. тускло-серое, белёсое; нивы, снегом покрытые.
Наконец, настроению героя отвечает и утреннее время, когда притупляется острота ощущений, рассудок преобладает над чувствами, когда человек способен верно оценить многое. Именно «утро туманное» вызвало к жизни далёкие воспоминания: лица, любимый взгляд, любимый голос. Неясность, неполнота воспоминаний ассоциируются с неясностью, неполнотой очертаний предметов туманным утром.
Стихотворение отличает смысловое сближение отдельных слов и целых фраз. В частности, первые его слова «утро туманное» связаны с последними – «небо широкое»; плотный туман стирает грань между небом и землёй. Но в этом есть и особая экспрессия: от печальной отстранённости герой стихотворения переходит в состояние просветлённости, духовного очищения от пережитых мгновений прошлого.
С концептом «утро туманное» в стихотворении И.С. Тургенева связаны особая музыкальность, пространственные и временные ощущения, метафоричность образов, философский подтекст и даже цветовая гамма стихотворения.
А.А. Фетом этот концепт вынесен уже в название стихотворения 1857 г. —
Туманное утро
- Как первый золотистый луч
- Меж белых гор и сизых туч
- Скользит уступами вершин
- На темя башен и руин,
- Когда в долинах, полных мглой,
- Туман недвижим голубой, —
- Пусть твой восторг во мглу сердец
- Такой кидает свет, певец!
- И как у розы молодой,
- Рождённой раннею зарёй,
- Когда ещё палящих крыл
- Полудня ветер не раскрыл
- И влажный вздох туман ночной
- Меж небом делит и землёй,
- Росинка катится с листа —
- Пусть будет песнь твоя чиста.
А.А. Фет излагает свою точку зрения на значение поэзии, демонстрируя своё видение мира, свои ассоциации, связанные с природой и призванием поэта. Если Тургенев использует простые, однотипные номинативные предложения, то стихотворение А. Фета – это конструкция структурного параллелизма, состоящая из двух сложноподчиненных предложений.
Каждую строфу стихотворения, кроме того, следует считать развернутым сравнением света поэзии: во-первых, с первым утренним лучом, а во-вторых, c росинкой на листе молодой розы.
Придаточные предложения перед главным готовят читателя к восприятию высоких, торжественных призывов, обращенных Фетом к поэту и находящихся в сильной позиции конца.
Для Фета поэзия – явление, очищающее сердца. Отсюда особый подбор лексики, придающей всему стихотворению ощущение полета, восторга, света: золотистый луг, белые горы, «влажный вздох» тумана. Свою убежденность в высоком назначении поэта и поэзии А. Фет выражает употреблением сказуемого в форме повелительного наклонения (пусть кидает, пусть будет чиста).
Роль концепта «туманное утро» здесь иная, чем в стихотворении И. Тургенева. Задача А. Фета – убедить читателя в жизненной необходимости поэзии, несущей свет и чистоту. Поэтому концепт «утро туманное» служит созданию иной цветовой гаммы (не серо-белой, а золотисто-бело-голубой); поэтому туман – олицетворение некой силы, способной противостоять палящему полуденному ветру (как способна противостоять поэзия «мгле сердец»).
Но для Фета, как и для Тургенева, концепт «туманное утро» связан со свежестью, очищением; вынося его в название стихотворения, Фет подчеркивает основную мысль: поэзия есть свет, чистота, как «как первый золотистый луч», как «утро туманное».
Концепт «утро туманное» присутствует и в стихотворении Я. Полонского.
Утро
- Вверх, по недоступным
- Крутизнам встающих
- Гор, туман восходит
- Из долин цветущих.
- Он, как дым, уходит
- В небеса родные,
- В облака свиваясь
- Ярко-золотые —
- И рассеиваясь…
1845 г.
В первых трех строфах стихотворения «Утро» даны вполне реальные приметы начала дня. Это туман, сравнивающийся с дымом, потом – образованные им ярко-золотистые облака, лазурь неба, блещущие на восходе солнца. Но это не пейзажная лирика: в концовках стихотворных строк у Я. Полонского нет замыкания, нет исчерпанности темы утра как начала дня. Многоточие… И излюбленные поэтом риторические вопросы, восклицания, обращения:
- Ты ли это, небо
- Хмурое ночное?..
- Улыбнись, от века
- Обреченный скорби гений человека!
Туман, ползущий по недоступным крутизнам гор, переходящий в небо, рождает любимый Я. Полонским образ «простора», но не отвлеченного, неземного, а простора, связанного с землей. Будничную деталь поэт умеет высветить, продлить до бесконечности. Короткие стихотворные строки, постоянные переносы создают в стихотворении особый ритм, несущий ощущение внутреннего напряжения.
Если говорить о фонетическом строе стихотворения, следует отметить преобладание сонорных, свистящих и шипящих звуков: в первой строфе, например, из 42 согласных их 18. Подобная аллитерация оправдана: она передает не только звучание утренней природы, но и прекрасно сочетается с ритмом напряжения, подчеркивая и усиливая его. Паузы играют ту же роль, что и риторические вопросы, и незавершенность концовок, и излюбленные дали. Можно даже сказать, что это как бы наглядное, графическое выражение той самой «линии», с которой Полонский сравнивает свой талант и в начале которой находится концепт «утро туманное».
Тот же концепт стал принадлежностью пейзажно-философской лирики Ф.И. Тютчева. Картины природы у Ф. Тютчева воплощают глубокие, напряженные раздумья о жизни, смерти, человеке, мироздании. Изображения природы и мысли о ней сплавлены воедино.
Утро в горах
- Лазурь небесная смеется,
- Ночной омытая грозою,
- И между гор росисто вьется
- Долина светлой полосою.
- Лишь высших гор до половины
- Туманы покрывают скат,
- Как бы воздушные руины
- Волшебством созданных палат.
1852 г.
Природа у Ф. Тютчева насыщена звуками, красками (лазурь, светлая); она беспредельно богата, изменчива, она даже в этом небольшом стихотворении представляет огромное целое, единый организм. В этом пейзаже мало будничных подробностей: пейзаж устремлен к величественному, бесконечному. Впечатление приподнятости, радостной торжественности достигается метафорой (лазурь небесная смеется), наличием «удлиненных» слов (волшебством) и другими языковыми средствами.
В общую образную и семантико-грамматическую концепцию стихотворения органично вписана лексема «туманы». Употребление формы множественного числа усиливает значительность, масштабность описываемого, что соответствует оценке поэтом природы как явления, исполненного величия. В этой же связи Тютчев включает «туманы» в распространенный сравнительный оборот (туманы – «воздушные руины волшебством созданных палат»), имея в виду форму клубов тумана, причудливую и волшебную. Сравнение со сказочными развалинами лишний раз подчеркивает загадочность природы в восприятии поэта. Этой же цели служит неожиданное соединение слов («волшебные руины»).
В стихотворении Н. Языкова «Тригорское» концепт «утро туманное» несет большую экспрессивную нагрузку.
- …Бывало, в царственном покое
- Великое светило дня,
- Вослед за раннею денницей,
- Шаром восходит огневым
- И небеса, как багряницей,
- Окинет заревом своим.
- Его лучами заиграют
- Озер живые зеркала;
- Поля, холмы благоухают;
- С них белой скатертью слетают
- И сон, и утренняя мгла…
Стихотворение было написано Н. Языковым в 1826 г. Его считают образцом пейзажной лирики, получившим высокую оценку А.С. Пушкина. В «Тригорском» легко различимы некоторые распространенные в лирике Языкова приемы. Один из них – контрастное соединение поэтизмов и прозаизмов. Высокое звучание стиху придают такие слова и выражения, как багряница, благоухают в сочетании с перловая и зернистая роса. С одной стороны, брег зеленый, гостеприимные струи, с другой – слова разговорного характера: и бух! студеная. Вместе с тем Н. Языков широко использует традиционную поэтическую символику, лексику, фразеологию. Это, например, описательно-метафорические сочетания (великое светило дня… шаром восходит огневым).
Концепт «утро туманное» (в стихотворении «утренняя мгла») связан с языковскими, полными экспрессивной окраски сравнениями. Экспрессивность достигается поэтом, как правило, тщательным отбором уподобляемых объектов, среди которых традиционные поэтические образы (сон и утренняя мгла) и конкретно-бытовые детали (слетают белой скатертью). Сравнение утреннего тумана с белой скатертью объясняет употребление слова «мгла»: именно мгла, плотная, тяжёлая, белого, «молочного» цвета.
Словарь С.И. Ожегова толкует значение слова «мгла» следующим образом: «Непрозрачный воздух (от тумана, пыли, сумерек)». Поэт Н. Языков демонстрирует удивительное понимание семантики слова: мгла у него – это туман вместе с «сумерками» очень раннего утра.
В языковском стиле ощущается сила, власть поэта над словом. «Имя Языкова пришлось ему недаром. Владеет он языком, как араб диким конём своим, и ещё как бы хвастается своей властью», – писал Н.В. Гоголь.
У А. Блока была книга «Седое утро» (одна из его последних), а в его цикле «Кармен» (1914) в третьем стихотворении также изображается утро:
- Есть демон утра. Дымно-светел он,
- Золотокудрый и счастливый,
- Как небо, синь струящийся хитон,
- Весь – перламутра переливы.
В стихотворении «Над озером» есть такая строка: Туманится, и даль поит туманом. Туман у А. Блока не только лейтмотив петербургской природы (сумрак дымно-сизый), но и внутренее состояние лирического героя: И задумчиво глядит в клубящийся туман, / Лишь озеро молчит, влача туманы.
У И. Бродского туманое утро – символ освобождения от вчерашнего беспокойного и опасного времени:
- Это трудное время.
- Мы должны переждать,
- пережить эти годы,
- С каждым новым страданьем
- забывая былые невзгоды,
- И встречая как новость
- Эти раны и боль поминутно,
- Беспокойно вступая
- В туманное
- новое утро.
Своеобразной неожиданностью можно считать встречу с концептом «утро туманное» в сборнике «Жемчуга» Н. Гумилёва, неожиданностью после экзотических, ярких образов в более ранних стихах.
- И новое солнце заблещет в тумане,
- И будут стрекозами тени,
- И гордые лебеди древних преданий
- На белые выйдут ступени.
Это стихотворение отличается сложностью символики, образного строя, несмотря на преобладание стилистически нейтральной лексики. В лексическом плане в стихотворении можно выделить две основные группы слов, связанные с главными образами: лирического героя (святотатец, разбил, тоска, укор, тревога, сумрачный, скука…) и озера (туман, тени, гордые лебеди, роковой укор…).
Слово «озеро» приобретает в стихотворении значение символа, образует синонимический ряд со словом «сон». Озеро-сон ассоциируется с внутренним миром поэта, его вторым «я», его худшим «я», слабым, бескрылым. Строфа о Солнце, встающем в тумане, содержит две метафоры: Солнце – начало нового дня и Солнце – возродившаяся душа. Обе возникают на основании традиционного концепта русской классической литературы – «утро туманное».
Данная строфа выделяется в стихотворении идейной нагрузкой: в ней звучит надежда поэта на возрождение. Особая роль принадлежит глаголам в форме будущего времени, словно утверждающим эту мысль (заблещет, будут, выйдут).
Не следует исключать иное прочтение этих символов: автор видит озеро в тумане, пробуждающее в его душе укор самому себе и тревогу. Но в этом усматривается традиция русской классической литературы: солнце, вода, туман – символы очищения.
Концепт тумана предстает в поэзии как высшая земная ценность:
- Неужели и ты за туманы
- Соловьиное сердце отдашь?
Различные картины туманного утра обусловлены разными представлениями поэтов о мире, принадлежностью их к той или иной литературной школе, направлению, идеологическими воззрениями, конкретными условиями появления каждого произведения.
Не только в поэзии, но и в прозе мы встречаем этот концепт в разных его реализациях. Для построения модели концепта «туманное утро» мы брали русскую поэзию и прозу XIX–XX веков, хотя очевидно, что концепт «утро туманное» – принадлежность значительно более ранних произведений. Истоки его следует искать в устном творчестве. Автор «Слова о полку Игореве» уже использует его. В небольшом произведении исследуемый концепт употреблен трижды:
«Долго ночь меркнет. Но вот заря свет запалила, туман поля покрыл, уснул щекот соловьиный, говор галок пробудился. Русичи широкие поля червлеными щитами перегородили, себе ища чести, а князю славы.
…А Игорь князь поскакал горностаем к камышу, пал белым гоголем на воду. Кинулся на борзого коня и соскочил с него серым волком. И побежал к лугу Донца, и полетел соколом над туманами, избивая гусей и лебедей к обеду, и полднику и ужину.
…Игорь сказал: «О Донец! Не мало тебе славы, что лелеял князя на волнах, стлал ему зеленую траву на своих серебряных берегах, одевая его теплыми туманами под сенью зеленого дерева».
Содержание концепта в «Слове» очень своеобразно: вместе с ветром, солнцем, грозовыми тучами, дождевыми облаками, вечерними зорями и утренними восходами, морем, оврагами, реками утренний туман составляет огромный, необычайно широкий фон, на котором развёртывается действие, передаёт ощущение бескрайних просторов родины; вероятно, поэтому в одном из эпизодов употреблена форма множественного числа: «туманы» (мглы в тексте).
Автор «Слова» очень скуп на эпитеты, но зато употреблённые им эпитеты точны и метки. Среди них эпитет «тёплый» (о тумане). Он передаёт существенную деталь в бегстве Игоря из плена: туманные ночи и теплое утро, а Донец во время ночлегов князя Игоря как бы одевал его тёплыми туманами, берёг его.
Далее мы обратимся к прозе И.С. Тургенева, в частности, к рассказу «Бежин луг», язык которого отличается гармоничностью в тщательно продуманным и согласованным многообразием грамматических форм и значений. Особенностью композиции рассказа является приём обрамления: произведение начинается картиной прекрасного раннего июльского утра и завершается образом утреннего «молодого, горячего света».
«С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце – не огнистое, не раскалённое, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый её туман…».
В рассказе «Бежин луг» образ света сквозной. В семантической композиции ему противопоставлены «мрак», «темнота». Именно ночной пейзаж играет особую роль в создании образно-символического плана произведения. Зарисовок утра всего две – может быть, поэтому они так ярки. Достаточно отметить богатейшую цветовую гамму тургеневского утреннего пейзажа (светлый, зазеленевшиеся, обагрённые, синевшая, алые, красные, золотые – вот основные её цвета) и приём отрицательного параллелизма в первом описании (не огнистое, не раскалённое, не тускло-багровое, но светлое и приветно лучезарное солнце).
И в обеих зарисовках утренний туман (лиловый, и редеющий, сквозь который стыдливо синеет река) – необходимая принадлежность природы, одна из её красок, символ свежести.
Таким образом, в поэтике стихов и прозы И.С. Тургенева концепт «утро туманное» следует считать одним из её признаков.
Л.Н. Толстой в романе «Война и мир» наполняет исследуемый концепт новым значением, объём содержания его очевидно изменяется.
«В пять часов утра ещё было совсем темно… Колонны двигались, не зная куда и не видя от окружавших людей, от дыма и от усиливающегося тумана ни той местности, из которой они выходили, ни той, в которую они вступали… Туман стал так силён, что, несмотря на то, что рассвело, не видно было в десяти шагах перед собою. Кусты казались громадными деревьями, ровные места – обрывами и скатами….
Было девять часов утра. Туман сплошным морем расстилался понизу».
Таким представляется Л.Н. Толстому начало Аустерлицкого сражения. Концепт «утро туманное» занял в этом описании главенствующее место. Под Аустерлицем не проявился «дух войска» (чувства патриотизма, единства, скрытого душевного огня) – и не было победы. По мысли писателя, не начальники, которым вздумалось переформировать солдатские ряды, подавили «дух войска», не бездарное немецкое командование создало обстановку путаницы и неразберихи, но не в меньшей степени туманное утро. Отсюда такое подробное описание; отсюда обращение к сложным предложениям с несколькими придаточными, осложнение предложений однородными членами. Это позволяет ощутить тяжесть атмосферы того далёкого утра, плотность, тягучесть тумана. Той же цели служит употребление слов со значением высокой степени проявления признака (совсем темно, так силён) и эмоционально окрашенного на фоне очень сдержанного описания сравнения (туман сплошным морем расстилался). Перед нами убедительнейший пример того, как языковой концепт приобретает дополнительные значения, порожденные авторской идеей.
Если говорить о картинах природы в романе «Война и мир», то следует отметить их связь с внутренней и внешней жизнью человека. Ясная осень рисуется в сцене охоты в Отрадном:
«15 сентября, когда молодой Ростов утром в халате выглянул в окно, он увидел такое утро, лучше которого ничего не могло быть для охоты: как будто небо таяло и без ветра спускалось на землю… Земля на огороде, как мак, глянцевито-мокро чернела и в недалёком расстоянии сливалась с тусклым и влажным покровом тумана».
Как и другие пейзажи Толстого, описание начала этого осеннего дня лишено метафорических украшений, зато пейзаж динамичен. Динамика передаётся глаголами и причастиями (выглянул, спускалось, оголившиеся, падали, свалившиеся, сливалась) и в большей степени связана с описанием тумана (мги, как называет его ещё Толстой). В природе так тихо, что опускающийся на землю туман создаёт ощущение движения. Эпитеты Толстого конкретны, точны. В приведенной пейзажной зарисовке туман характеризуется двумя эпитетами (тусклый, влажный) в сочетании со сравнением (туман – покров).
Туманное осеннее утро пробуждает в человеке энергию, бодрость, жажду деятельности. Поэтому в сцене самой охоты старый граф Ростов похож на ребёнка, мы слышим крики охотников, восторженный, пронзительный и дикий визг Наташи, неуместный в другое время.
В произведениях К.Г. Паустовского объединены два феномена русской национальной культуры: волшебство природы и красота языка. Например:
«В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталём загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Ещё всё спит. Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят птицы…
…Туман начинает клубиться над водой. Мы наваливаем в костёр горы сучьев и смотрим, как поднимается огромное белое солнце – солнце бесконечного белого дня.
…Над Протвой часто стоит легкая дымка. Цвет ее меняется от времени дня. Утром – это голубой туман, днем – белесая мгла, и лишь в сумерках воздух… делается прозрачным, как ключевая вода.
…На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листья. Я вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха – он поет еще далеко, у самой околицы».
Применительно к стилю употребляют такое понятие, как ключевые слова. Одним из ключевых слов у К. Паустовского в очерках можно считать существительное «туман». Для писателя туман – необходимый признак утра. Поэтому в разных фрагментах текста очерков существительное «туман» сочетается с разными прилагательными (в данном фрагменте – голубой туман), включено в состав метафор (туман шуршит). Туманное утро в «Мещерской стороне» – значительная часть богатства, красоты русской природы.
Для А.И. Куприна характерна конкретность видения мира. Острым глазом писателя точно схвачены и перенесены на страницы книг многие характерные черты человеческого быта, жизни природы.
И, кроме того, всё окружающее служило для писателя вернейшим показателем внутренней человеческой жизни и её сложнейших психических состояний. Описание летнего утра в рассказе «Болото» позволяет увидеть и необыкновенную конкретность пейзажных описаний Куприна, и зависимость человека от природы, и их единство.
«Сердюкову вдруг жадно, до страдания, захотелось увидеть солнце и вздохнуть ясным, чистым воздухом летнего утра. Он быстро оделся и вышел на крыльцо. Влажная волна густого едкого тумана, хлынув ему в рот, заставила его раскашляться. Низко нагибаясь, чтобы различить дорогу, Сердюков перебежал на плотину и быстрыми шагами пошёл вверх. Туман садился ему на лицо, смачивал усы и ресницы, чувствовался на губах, но с каждым шагом дышать становилось всё легче и легче. Точно карабкаясь из глубокой и сырой пропасти, взбежал, наконец, Сердюков на высокий песчаный бугор и задохнулся от прилива невыразимой радости. Туман лежал белой колыхающейся, бесконечною гладью у его ног, но над ним сияло голубое небо, шептались душистые зелёные ветви, а золотые лучи солнца звенели ликующим торжеством победы».
Пейзажная зарисовка построена на контрасте: подробнейшее описание тумана в первой её части и светлого летнего утра на песчаном высоком бугре выше владений тумана – во второй. Здесь туман для человека – субстанция враждебная, мешающая двигаться, дышать, закрывающая солнце. Читатель понимает это благодаря эпитетам (густой, едкий), сравнениям тумана с влажной волной, колыхающейся бесконечною гладью.
В первой части глаголы и деепричастия передают своеобразную борьбу человека с природным явлением (человек нагибался, перебегал, старался увидеть дорогу, шёл вверх, карабкался, взбегал; туман хлынул, заставил раскашляться, садился, смачивал, чувствовался). Эту борьбу выражает и форма составного глагольного сказуемого (метафора заставила раскашляться), передающая враждебность человека и «влажной волны» тумана.
Плотность, необыкновенная густота, вязкость болотного тумана усиливается фонетическим строем описания, в первой части которого множество слов с сонорным, свистящими и шипящими звуками (только в четвёртом предложении таких звуков более двадцати).
Контрастное описание золотого солнечного утра, хотя и выражает ликующее торжество победы, по объёму и конкретности, детальности уступает описанию тумана. Это, вероятно, связано с общим идейным планом произведения. Рассказ «Болото» о тупой, рабски покорной жизни мещёрской деревни начала ХХ века, своеобразными символами которой следует считать и его название, и такое подробное описание едкого болотного тумана.
«Мещёрская сторона» К. Паустовского и рассказ «Болото» А. Куприна демонстрируют совершенно разное миропонимание, мироощущение, многообразие дополнительных признаков одного и того же концепта, его этимологию, запечатлённую в разной словесной форме.
Изобразительность И.А. Бунина не простое следование традициям русской литературы. Это особый мир тончайших подробностей, деталей, оттенков. Зарисовки утра в прозе писателя не столь часты, как вечерний и ночной пейзажи, что вполне объяснимо преобладающей тональностью повестей и рассказов, главными темами творчества Бунина – темами смерти, увядания, вечности. Но в утренних пейзажах настроение и содержание концепта «утро туманное» во многом отражает своеобразие, индивидуальность стиля писателя.
«На ранней заре, когда ещё кричат петухи и по-чёрному дымятся избы, распахнёшь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь – велишь побыстрее засёдлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжёлая» (Антоновские яблоки); «Было ещё рано. Шёл туманный, предосенний дождь над опустевшими полями» (Веселый двор); «Луна садилась. Белый рыхлый туман стоял под скатом полей, мгновенно синея. Далеко, в холодном потемневшем лесу, пел петух в сенях караульщика» (Последнее свидание).
«Я просыпался рано и шел по холмам в лесные чащи. Горячее солнце было уже сильно, чисто и радостно. В лесах лазурно светился, расходился и таял душистый туман, за дальними лесистыми вершинами сияла предвечная белизна снежных гор…» (Кавказ).
В чем же специфика бунинского концепта «утро туманное»?
В прозе Бунина фиксируется многообразие оттенков цвета; с этой целью используются именные сочетания со значением цветового признака (в приведенных выше фрагментах это лиловатый туман, белый туман). Другой признак прозы Бунина – обозначение разнообразных запахов посредством сравнений и метафор, основанных на ощущении (таял душистый туман).
Писатель стремился запечатлеть реалию или ситуацию в восприятии конкретного лица. Отсюда употребление в приведённых выше эпизодах местоимения «я» и глагола 2-го лица с обобщающим значением (я просыпался рано, велишь побыстрее засёдлывать лошадь). В центре внимания оказывается внутренняя жизнь личности, богатство переживаний которой раскрывается в многообразии воспринимаемых ею деталей и признаков. В концепте «утро туманное» это признак, заключённый в наречии «мертвенно» (туман стоял, мертвенно синея).
Изображаемый предметный и природный мир в прозе Бунина динамичен. Его изменения фиксируются при помощи глаголов со значением цветового и светового признака или глаголов со значением изменения. В исследуемом концепте это глаголы «светился», «расходился» и «таял» (светился, расходился и таял душистый туман; В лесах лазурно светился… душистый туман).
У Бунина в пределах одного текста повторяются тропы, связывающие изображение предметного мира и душевного мира человека. В рассказе «Последнее свидание» признак, выраженный прилагательными «мёртвый», «мертвенный» и наречием «мертвенно», используется в портрете главного героя и описаниях природы (тумана). Туман у него воплощает один из важнейших мотивов произведения – мотив гибели любви, прощание с молодостью, жизнью.
Описание утреннего тумана встречаем и в романе «Поднятая целина» М.А. Шолохова:
«По колеям дороги ещё стояла не впитанная почвой дождевая влага, но над Гремячим Логом уже поднимались выше тополей розовые утренние туманы, и на матовой синеве небес, словно начисто вымытый ливнем, тускнел застигнутый рассветом серебряный месяц».
«Земля набухала от дождевой влаги и, когда ветер раздвигал облака, млела под ярким солнцем и курилась голубоватым паром.
По утрам из речки, из топких болотистых низин вставали туманы. Они клубящимися волнами перекатывались через Гремячий Лог, – устремляясь к степным буграм, и там таяли, невидимо растворялись в нежнейшей бирюзовой дымке, а на листьях деревьев, на камышовых крышах домов и сараев, всюду, как рассыпанная калёная дробь, приминая траву, до полудня лежала свинцово-тяжёлая, обильная роса». Природа у Шолохова одушевлена, полна жизни, движения. Потому так часты в пейзажных зарисовках глаголы и глагольные формы со значением движения, например «поднимались» и «вставали», характеризующие утренние туманы.
Природа в романе наполнена звуками и запахами (пахнущая дождём земля), многоцветна (радужно посверкивающие капельки росы, розовые утренние туманы, матовая синева небес, голубоватый пар). Через все произведение проходит образ любимой писателем степи, безграничного пространства с древними курганами в голубой дымке, с чёрным орлом в небе, с шелестом трав, с утренними туманами. Передавая величие степи, её безграничность, писатель использует форму множественного числа лексемы «туманы» как символ простора и шири.
Изобразительные средства авторской речи у Шолохова конкретны, глубоко реалистичны. Эпитеты, метафоры связаны с жизнью донских казаков, но в то же время очень выразительны и эмоциональны (раскрылатившиеся под солнцем травы, возмужалые хлеба, желанная ласковая земля, вымытый ливнем… серебряный месяц, земля млела, туманы таяли и растворялись).
Таким образом, концепт у Шолохова – одно из средств передачи величия степного простора, возможность рассказать читателю об особом мире, перед которым человек (в романе это Семён Давыдов) испытывает чувство потерянности, оторванности от мира людей.
Ряд произведений авторов, по-своему раскрывающих данный концепт, можно продолжить. Это и повесть И.С. Шмелёва «Лето Господне» и повести Ф. Абрамова, и романтические фантазии Александра Грина, в которых много индивидуальных стилистических черт. Так, особое мастерство И. Шмелева проявилось в использовании ассоциативных сближений (…воздух мёрзнет. Инеем стоит, туманно, дымно). В подобные объединения включены слова разных частей речи и различной семантики.
Концепт «утро туманное» у А. Грина – одна из деталей, совершенно органично вплетающаяся в его пейзажи. Это реальная, русская деталь в пейзажах, наполненных романтикой, ощущением необычного, чувством ожидания:
«Был белый утренний час; в огромном лесу стоял тонкий пар, полный странных видений… Туман еще не рассеялся; в нем гасли очертания огромного корабля, медленно повертывающегося к устью реки. Береговой ветер… лениво теребил паруса; наконец тепло солнца произвело нужный эффект; воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился по реям в легкие алые формы, полные роз». («Алые паруса»)
Этот пейзаж рождает противоречивые ощущения узнаваемости и тайны, необычности.
Особо следует остановиться на творчестве В.П. Астафьева, в произведениях которого создан убедительный образ земли; писатель показал, что «почва бедной повседневности» вовсе не бедна, что именно в простоте природы и в простоте человека заключены истина и гармония. Широкое, многоголосое «повествование в рассказах» «Царь-рыба» богато сибирскими пейзажами:
«Ближе к утру на речке появился туман. Его подхватывало токами воздуха, тащило над водой, рвало о подмытые деревья, свёртывало в валки, катило над короткими плёсами… Нет, нельзя, пожалуй, назвать туманами лёгкие, кисеей колышущиеся полосы. Это облегчённое дыхание земли после парного дня, освобождение от давящей духоты, успокоение прохладой всего живого… Речка текла, ровно бы мохом укрытая, мокро всюду сделалось, заблестели листья, хвоя, комки цветов, гибкие тальники сдавило сыростью…
Начищенное до белизны лоскутьём летних туманов, солнце полорото пялилось с высоты…»
Туман таёжным утром для В. Астафьева – «облегчённое дыхание земли… освобождение от давящей духоты, успокоение прохладой». Сибирская земля, тайга дышат туманами. Поэтому астафьевский туман – лёгкие полосы, образующиеся при каждом земном выдохе. Его пейзаж создаёт традиционный для русской литературы облик природы как явления великого, полного тайны, прекрасного. Этой же цели служит развёрнутая метафора, которая объясняет суть концепта «утро туманное» у В. Астафьева. Писатель выстраивает синонимичный ряд: туман – дъ\хание – освобождение – успокоение. Три последних отвлечённых существительных со значением действия, с мягким, протяжённым звучанием (дактилическое ударение) наполняют привычное слово «туман» новым содержанием: в его кажущейся простоте – врачующая душу сила и гармония.
Данный концепт встречается и в более поздних произведениях конца ХХ века, например, в «Московской саге» В. Аксенова, в описаниях туманного утра у которого часто встречаются текстовые реминисценции: «Сад в тумане, а сверху уже наступает солнце. «Встану я в утро туманное, солнце ударит в лицо» – вот именно о таком утре было сказано».
Таким образом, в русской литературе (поэзии и прозе) туман многолик: во-первых, он наделяется многочисленными цветовыми эффектами (алый, белесый, белый, голубой, дымно-синий, дымный, желто-синий, жемчужный, золотистый, лазурный, лиловый, молочно-белый, молочно-синий, серо-сизый, серый, седой, серебристый и др.); во-вторых, различны очертания тумана, его плотность (вязкий, мглистый, глухой, мохнатый, непроглядный, тяжелый); в-третьих, различен характер его воздействия на человека (неуютный, душный, едкий, зябкий, мокрый, теплый, угрюмый); в-четвертых, он прекрасно передает психологическое состояние человека, неотчетливость его мыслей (беспорядочный, безумный, пьяный, тяжелый, хмельной).
Поскольку описываемый нами концепт есть концепт культуры, он отражен и в других видах русского искусства, таких, например, как живопись. Достаточно обратиться к творчеству И. Шишкина, И. Левитана, А. Куинджи.
На холсте «Утро в сосновом лесу» (1889) И. Шишкина могучие замшелые стволы и разлапистые ветви сосен, поваленное бурей дерево. Первые лучи солнца, пробиваясь сквозь сплетение сучьев, тронули золотом шероховатые стволы сосны, зелень хвои, сверкающую древесину свежего слома. Но загадочность рассветному сумраку придаёт туман, клубящийся, делающий бесплотными и призрачными стволы могучих деревьев. Под ранними солнечными лучами он редеет, медленно тает, плотной серо-голубой дымкой задерживаясь в глубине чащи, густея в пади. В глухом этом урочище, кажется, совершается что-то заповедное и важное, какие-то чудеса, бьётся сердце самой природы. Тема пробуждения природы, её таинственности, загадочности задаётся художником не столько животными на первом плане, сколько, может быть, даже в большей степени прекрасно выписанной туманной дымкой, мглой.
Концепт «утро туманное» И. Левитаном дважды выносится в название полотен: «Осеннее утро. Туман» (1887) и «Туман. Осень» (1899). Первое рождает щемящее душу ощущение тоски, художнику удалось выразить тихую безнадёжную печаль и глухую скорбь осени. Это подлинный «пейзаж настроения», в котором переживание выступает как объективная жизнь природы и, напротив, сама природа понята по аналогии с человеческими переживаниями. Настроение выражено здесь самим состоянием природы, а не сюжетом. В этой передаче настроения существенную роль играет скупая и мрачная гамма картины. Стального цвета вода, серо-зелёный лес на дальнем берегу, масса которого лишь кое-где оживляется отдельными жёлтыми пятнами осенних деревьев и оливковым цветом берега на первом плане. Эти неяркие цвета почти вещественно, чувственно передают туман, его пелену и охватывающую сырость, промозглость. Вместе с тем такой колорит усиливает ощущение особой, тихой, внедряющейся в душу, подобно туману, печали.
Вторая картина лирически очень выразительна: художник акцентирует туманный воздух, в котором словно тают и растворяются дальние деревья. Туманная влажность, сырость – своеобразная музыкальная туманность, в которой звучит мотив осени. Собственно воздух и является основным предметом изображения. Пейзаж обобщён, и эта обобщённость выступает более непосредственно и открыто в живописной манере с размывкой цветовых пятен. Они оживлены переходами цветов, рыже-розовых и зеленоватых, а не даны однородно. Нежны и грациозны тонкие искривлённые стволы деревьев. Тающие в туманном сыром воздухе, они одновременно и контрастируют с ним.
Пейзажи Левитана, восприятие им природы, в том числе и туманного утра, сравнимы с пейзажными зарисовками Тургенева богатством и тонкостью цветовой гаммы, неразделённостью состояний природы и переживаний лирического героя.
Картина А. Куинджи «Днепр утром» (1901) идейно и композиционно сближается со стихотворением «Утро» Я. Полонского, рождая ощущение безграничного простора, а вернее, трёх жизненных сфер – земли, воды, воздуха как единого целого. Это единство передаётся через лёгкую, полупрозрачную завесу тумана, в котором скрываются очертания реки, дальних её берегов. Приглушённая, даже скупая цветовая палитра отличает это полотно: коричнево-золотистый цвет, бело-розовый и несколько оттенков голубого. Но именно они помогают осознать величие, бесконечность мира, его тайну и даже святость: ведь это самые распространённые цвета древних русских фресок.
И.К. Айвазовский был художником одной темы – моря. В ряду его произведений особое место занимает картина «Девятый вал» (1850), в системе образов которой присутствует и концепт «утро туманное».
Айвазовский изобразил рассвет на море после штормовой ночи. Огромные волны, подобные горам, поднимаются и бушуют на безграничном просторе, сливающемся с небом. Солнце, едва поднявшееся над горизонтом, разрывает густую завесу туч и пронизывает золотым сиянием волны, пену и повисшую в воздухе полосу тумана. А на первом плане картины, на обломке мачты разбитого бурей корабля, спасается маленькая группа людей. И все же тема борьбы человека со слепым могуществом стихии мало интересует художника: все его внимание сосредоточено на жизни самой стихии.
«Девятый вал» поражает напряжённой яркостью и богатством цветовых сочетаний: зелёные, белые, сиреневые и синие оттенки морской воды и влажного тумана объединены золотистыми тонами отблесков солнца.
Картина ВА. Васильева «Оттепель» (1871 г.). изображает однообразный, скупой и бесприютный пустынный пейзаж средней полосы России в ту переломную пору, когда зима ещё спорит с весной. Всё кругом мокро и гнило – и почерневший талый снег, и свинцово-серые тучи, едва освещённые слабыми лучами раннего солнца, и раскисшая дорога с размытым следом санных полозьев, и растёкшийся вширь ручеёк, и скинувшие снежный убор чёрные кусты. Должно быть, очень одинокими, затерянными в этой туманной распутице чувствуют себя случайный прохожий и сопровождающая его маленькая девочка – кругом ни души. Содержание данного произведения и его цветовое решение вновь и вновь вызывает зрителя на печальные размышления о горькой неустроенности русской жизни. Мы чувствуем настроение художника, понимаем его мысли, переданные с помощью концепта «утро туманное».
Велико значение данного концепта и в произведениях других русских художников: «Мокрый луг» (1873) Ф. Васильева, в которой сочетаются мотивы утра и печали; «Утро» (1901) В.Д. Милиоти с утренним туманом в виде синеватой и лилово-бурой основы композиции; «Сухой туман» (1947), «Весенний воздух. Утро» (1955), «Зимнее утро» (1959), «На пашне. Весна» (1946), «Стадо» (1946) Н.М. Ромадина, в пейзажах которого К. Паустовский увидел выражение прекрасной сущности русского характера. Манеру письма живописца называют умением создать свето-воздушную среду, пронизанную туманом. Ему подвластен тончайший колорит. Сложный серый цвет во всём богатстве оттенков от розовато-сиреневого до серо-лимонного – индивидуальная черта Ромадина. На картине Петра Уткина «Охотники» (1930) туман также становится одним из композиционных центров картины. Он позволяет художнику воспользоваться любимой им «голубо-розовской» стилистикой, способствующей созданию неяркой, разбелённой, напоминающей фресковую, живописи.
Мир музыки – во многом условный мир, где не так важны временная и пространственная конкретность, национальные признаки; но и в этот мир русские композиторы вносят особенности своего мироощущения.
У А.К. Глазунова для нас представляет интерес струнный квартет часть № 7 «В таинственном лесу». В этом музыкальном лесу всё необычно: странной формы деревья, похожие на мрачных великанов, глухо скрипят, жалуясь на что-то, за ветви цепляются клочья предутреннего тумана. Тревожно, загадочно звучит музыка. Внимательному слушателю слышатся печальные вздохи, тихие отголоски чьих-то разговоров, всхлипов, негромкого смеха, неясные, приглушённые густым влажным туманом.
Но вот появляется едва уловимая тема нежности и света; она растёт, ширится… Тревога, ночные страхи, утренний туман улетают, растворяются в тепле и свете вместе с тяжёлыми, мрачными звуками. Лес преображается, оживает. Теперь его мелодии – это гомон птиц, спор ручьёв, гул вершин, перешёптывание трав и листьев.
Волшебный сад – один из главных персонажей знаменитого балета П.И. Чайковского «Спящая красавица». Одна из музыкальных картин балета называется «Сон». В ней сад погружен в туман. В таинственной серебристой дымке, в мертвенных лучах предутренней луны встречает принц Дезире видение-призрак, за которым он, забыв обо всем, отправляется в царство спящих. Но внезапно взрывается тишина, туман исчезает, и сад вспыхивает в ослепительном свете. В этой музыке счастья слышится торжествующий гимн верности и любви, а туман исчезает вместе с ненавистью и предательством.
Таким образом, в обоих произведениях концепт «утро туманное» усиливает музыкальную тему тревоги, мрака, тёмных, угрожающих человеку сил. А вот, например, у А.Н. Скрябина туман воспринимается как нечто загадочное, но приятное, символизирующее появление нового; в одном из писем он дал словесное описание своей четвертой сонаты: «В тумане легком и прозрачном, вдали затерянная, но ясная, – звезда мерцает…» [цит. по: Бэлза И. Александр Николаевич Скрябин. М., 1983).
В русском кинематографе исследуемый концепт мог бы стать предметом особого разговора, достаточно назвать такие, ставшие классикой российского кино фильмы, как «Андрей Рублёв» и «Солярис» А. Тарковского, «Сибириада» Н. Михалкова, «А зори здесь тихие» П. Ростоцкого.
Итак, по концепту «туманного утра» в русской культуре можно сделать следующие выводы:
1) широкое распространение концепта «утро туманное» в названных выше произведениях позволяет считать его одним из ключевых в русской культуре;
2) языковое выражение концепта «утро туманное» самым тесным образом связано с мироощущением, мировосприятием, эмоциональной стороной мышления разных художников, их взглядами и даже особенностями психики; язык лишь подтверждает то, что есть в сознании и может быть реализовано иными языками (звуками, красками);
3) данный концепт может иллюстрировать три компонента структуры концепта вообще, предложенные Ю.С. Степановым. Он имеет основной признак (утро, окутанное туманом), дополнительные признаки (утро как символ очищения, бодрости, загадочности природы, ее красоты) и внутреннюю форму (туманное утро как способ передачи пространственных и временных ощущений, как олицетворение внутреннего смятения человека, как связующее звено между тремя сферами жизни: землей, водой, воздухом);
4) проанализированный материал дает основание для построения концептуальной модели: а) с помощью этого концепта может быть передано не только явление природы, но и состояние человеческой души; б) концепт способен передать возрождающуюся жизнь, обновление и очищение; неопределенность, загадочность; прелюдию к откровенности; пробуждение, освобождение от старого, темного, тайного, непознанного.
Таким образом, достаточно распространенное явление (утро туманное) окружающей русского человека действительности, входя в его сознание и преломляясь в нем, приобретает значение сложных концептуальных метафор и символов.
ЗИМНЯЯ НОЧЬ. Сначала рассмотрим этимологию слов зима и ночь. Этимология слова зима, как отмечает М. Фасмер, проблематична. Ее можно возвести к словам «лить», «дождь», но в любом случае слово зима существует во многих индоевропейских языках: zima (польск.), somo (др. – прусск.), heman «зимой» (др. – инд.), zaima (полаб.) [Фасмер, 1986: 55].
М. Маковский соотносит этимологию слова ночь со словом «боязливый» [Маковский, 1996: 140] и приводит точку зрения Мажюлиса, также соотносящего исследуемое слово с древне-прусским «бояться».
А.А. Потебня в своей работе «О некоторых символах в славянской народной поэзии» считает, что ночь значит горе и гнев, подтверждая это примерами из фольклора [Потебня, 1989: 316].
Значение слова зима толкуется в Словаре древнерусского языка (XI–XIV вв.) как «холодное время года» и как «беда, несчастье, опасность». Современные словари русского языка также дают следующее толкование: зима – самое холодное время года, наступающее за осенью и сменяющееся весной [Словарь, 1981: 610]. Ночь – часть суток от. захода до восхода солнца, от. вечера до утра [Там же, 512].
Таким образом, можно предположить что в истории развития значений данных слов произошло наслоение, контаминация значений слов зима и ночь при их сочетании зимняя ночь. Следовательно, толковать последнее можно и как темная часть суток в холодное время года, и как беда, несчастье, опасность; страх; время, которого следует бояться. Невольно вспоминаются строки Ф.Тютчева:
- Но меркнет день – настала ночь;
- Пришла – и, с мира рокового
- Ткань благодатную покрова
- Сорвав, отбрасывает прочь…
- И бездна нам обнажена
- С своими страхами и мглами,
- И нет преград меж ей и нами —
- Вот отчего нам ночь страшна!
При описании данного концепта нельзя оставить без внимания его историческое (по Ю.С. Степанову) ядро. Народная поэзия – неотъемлемая часть национальной культуры, а концепт, по определению Ю.С. Степанова, – это сгусток культуры в сознании человека, отсюда наш интерес к народной поэзии. Языковые формы, которые определяют историческое ядро концепта, фиксируют человеческий опыт. Они являются результатом обработки информации, поступившей к человеку по всем его чувственным каналам в тот период, когда он осознавал себя частью целого.
Морозная зима, с метелями и вьюгами, когда дни постоянно убывают и ночь окутывает мир, рисовались древним концом света. Славянин считал, что в это время происходит страшная борьба добра со злом, света с тьмою; что в это время подземный царь, повелитель морозов Зюзя-Мороз воюет со светлым богом [Словарь, 1995: 54]. Бога Зимы, Зюзю-Мороза, славяне представляли седым, с длинной бородой, с босыми ногами, в белой шубе без шапки, с железной булавой, которой он ударял в пень – и наступали трескучие морозы.
Похожее представление о Морозе дано и А.А. Потебней. Опираясь на фольклорные примеры, автор утверждает, что явление, противоположное жару, – мороз, в языке сближается с огнем («на морозе корец до рук прикипае», «мороз палит»). Основываясь на этом сближении, автор считает мороз, как и огонь, – символами любви, подтверждая это примерами из фольклора. В народных песнях, замечает А.А. Потебня, часто встречаются противопоставление ненавистного свекра – мороза лютого, теплому снегу – отцу. Вместе с тем, считает А.А. Потебня, мороз и холод – это печаль и забота. В качестве примера он приводит свадебную песню, услышанную в Витебской губернии [Потебня, 1989: 305].
Таким образом, исходя из этимологии и народной поэзии, можно предположить, что в «генетической памяти» восточных славян заложен следующий код зимней ночи:
Так создалась некая «первичная, центральная модель», ставшая ядром «генетической памяти» человека определенной ментальности. Но это «историческое» ядро постоянно дополняется. Человек оперирует уже существующими в его сознании понятиями и с их помощью «сам входит в культуру», по Ю.С. Степанову.
Далее, на наш взгляд, начинает действовать принцип, названный Е.С. Кубряковой «принципом обратимости позиции наблюдателя». Позиция наблюдателя меняется: будучи частью системы, человек осознает присутствие системы в себе, и это способствует выявлению новых ее свойств.
Мотив зимней ночи встречается в произведениях многих русских поэтов и писателей. О зимней ночи писали: Н. Огарев, П. Вяземский, А.С. Пушкин, Я. Полонский, П. Соловьев,
Н.В. Гоголь, В. Брюсов, И. Анненский, К. Случевский, И. Бунин, А. Белый, И. Северянин, А. Блок, С. Есенин, С. Городецкий, Б. Пастернак и др.
Далее здесь представлен анализ произведений Н. Гоголя, А. Пушкина, А. Фета, В. Ходасевича, В. Бальмонта, И. Зайцева, И. Бродского. Выбор авторов обусловлен тем, что в их творчестве тема зимней ночи получила наиболее яркое воплощение. При анализе произведений внимание акцентировано на сенсорно-перцептивном и образном восприятии художниками явления зимняя ночь, что обусловлено привлечением к исследованию не только литературного материала.
Исследуя описание зимней ночи в русской литературе, трудно обойти программные стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога» и «Бесы».
Зимняя дорога
- Сквозь волнистые туманы
- Пробирается луна,
- На печальные поляны
- Льет печально свет она.
- По дороге зимней, скучной
- Тройка борзая бежит,
- Колокольчик однозвучный
- Утомительно гремит…
Сильная позиция стихотворения – его название. Мотив дороги часто встречается в народной поэзии, литературе, в живописи, музыке. Дорога бежит, она объединяет, благодаря ей возникает ощущение простора. Однако именно зимняя ночь придает пушкинской дороге особую окраску. Ключевыми словами и словосочетаниями стихотворения следует считать: волнистые туманы, луна, печальные поляны, льет печально, по дороге зимней, скучной, тройка, колокольчик однозвучный. Именно эти слова логически объединяют между собой чередующиеся строфы: туманы – поляны, луна – она, скучный – однозвучный, бежит – гремит. Неточная и перекрестная рифма абаб усиливает их значение, возвращает нас к предыдущей строке, заставляет вспомнить ее и держать вместе всю строфу, оформляющую одну мысль.
Проанализируем значение глаголов, употребляемых в стихотворении. Неизменная спутница морозной зимней ночи, луна, словно боится нарушить покой и дрему земли, она пробирается, т. е. тайком, незаметно совершает что-то. Колокольчик утомительно гремит, контрастируя с тишиной вокруг, с одной стороны, а с другой – его монотонный звук (колокольчик однозвучный) утомляет, навевая скуку. Все глаголы в стихотворении несовершенного вида, что подчеркивает отсутствие предела совершаемых действий. Возникает ощущение бесконечности происходящего.
Окрестности, описанные в стихотворении, однообразны:
- Ни огня, ни черной хаты,
- Глушь и снег… Навстречу мне
- Только версты полосаты
- Попадаются одне…
Отсутствие цветовой гаммы (даже столбы верстовые не черно-белые, а полосаты) делает пейзаж однообразным, скучным. Недаром в семи четверостишиях слово скука и его производные встречаются три раза и два раза усилены рифмой скучен – однозвучен. Лексика поддерживается однообразным ритмом четырехстопного хорея с пиррихием, усиливающим монотонность интонации.
Характеризуя концептуальное поле тоска, Ю. Степанов приводит слова Кирхегардта: «В тоске есть надежда, в скуке – безнадежность. Обыденность, повторяемость, подражание, однообразие, скованность вызывают чувство скуки. Страдание является спасительным в отношении к этому состоянию, в нем есть глубина. Возникновение тоски есть спасение» [Степанов, 1997: 678].
Вот и у Пушкина:
- Что-то слышится родное
- В долгих песнях ямщика:
- То разгулье удалое,
- То сердечная тоска…
Тоске здесь противопоставляется разгулье удалое, вероятно, чисто русское противопоставление и русские антонимы. У Пушкина равнина и снег, снег и ночь, будучи атрибутами зимней ночи, становятся символами русской тоски.
Следовательно, концепт зимняя ночь в пушкинском стихотворении тесно связан с тоской. Зимняя ночная дорога входит в семантическое поле пушкинской тоски и является одним из составляющих его когниции о тоске. Соглашаясь с определением тоски как концепта русской культуры, которое дал Ю.С. Степанов, мы видим, как тесно переплетаются эти концепты. В данном случае концепт зимняя ночь является одним из элементов более глобального концепта тоска. Такая особенность пушкинского восприятия не осталась незамеченной: В. Серов, иллюстрируя это стихотворение, делает акцент именно на тоске и скуке. Тема «Зимней дороги» была использована П. Чайковским в первой части симфонии № 1 «Зимние грезы».
Иное наполнение концепта мы встречаем в стихотворении А.С. Пушкина «Бесы». Заголовок, являющийся сильной позицией, определяют тему: зимняя ночь – бесовское время. Глаголы мчатся, вьются, в первой строфе вызывают ассоциации, связанные с динамикой происходящего. Отсутствие цвета подчеркивается прилагательным мутный, повторяющимся дважды:
- Мчатся тучи, вьются тучи,
- Невидимкою луна
- Освещает снег летучий;
- Мутно небо, ночь мутна.
Интересно, что лирический герой поначалу видит реальные явления природы. Ямщик первым упоминает беса: В поле бес нас водит, видно, / Да кружит по сторонам. Бушующая и кружащаяся стихия возвращает к языческим корням:
- Бесконечны, безобразны
- В мутной месяца игре
- Закружились бесы разны,
- Будто листья в ноябре…
Пушкинская вьюга плачет, злится:
- Мчатся бесы рой за роем.
- В беспредельной вышине,
- Визгом жалобным и воем
- Надрывая сердце мне.
Здесь привлекает внимание метафора мчатся бесы рой за роем. Рой – это большое скопление мелких насекомых. Метафорическое сравнение дает ощущение безграничной множественности бесов-снежинок, которые к тому же не просто летят, а мчатся. Данный глагол не требует определения скорости, а несовершенная форма, по теории видов Ф.Ф. Фортунатова, позволяет рассматривать это действие без отношения к какому-либо определению времени в его развитии [цит. по: Виноградов В.В. Русский язык. М., 1972, с. 408), т. е. постоянно, бесконечно.
Определение цвета зимней ночи как мутного (ночь, небо) – непрозрачного, нечистого – как бы закрывает зрительный канал восприятия, и обостряет слух. Основным источником информации начинает служить звук, поэтому зимняя ночь предстает в звуковых ассоциациях: визг, вой, которые превращаются в систему образов. Образы зимней ночи, характерные для «Бесов» и «Зимней дороги» А. Пушкина, встречаются также у других русских поэтов.
В основе поэтики А. Фета – утверждение зримых и незримых связей человека и природы. Сливаясь с космосом природы, фетовский лирический герой переживает состояние абсолютной свободы. Обратимся к его стихотворению «Есть ночи зимней…»
- Есть ночи зимней блеск и сила,
- Есть непорочная краса,
- Когда под снегом опочила
- Вся степь, и кровли, и леса.
- Сбежали тени ночи летней,
- Тревожный ропот их исчез,
- Но тем всевластней, тем заметней
- Огни безоблачных небес.
- Как будто волею всезрящей
- На этот миг ты посвящен
- Глядеть в лицо природы спящей
- И понимать всемирный сон.
Сильной позицией стихотворения являются первые две строки, служащие и его названием. Главенство этих строк над другими подчеркивается синтаксическим строением всего четверостишия. Оно представляет собой одно сложное предложение. Бессоюзные предикативные части в его составе есть ночи зимней блеск и сила и есть непорочная краса благодаря инверсии и повтору сказуемого есть служат одновременному восприятию блеска, силы и красоты зимней ночи. Лексическое значение глагола есть – существует, что способствует созданию некоего подобия сентенции.
Тема стихотворения – зимняя ночь, зримая и доступная красота которой дает возможность постигнуть незримый и недоступный Космос-Вечность. Проследить направление, когда взор человека от земли, укрытой снегом, обращается к небу, с огнями безоблачных небес, помогает неточная рифма четных стихов (краса – леса, исчез – небес, посвящен—сон). Так создается атмосфера философской созерцательности.
Ключевые слова здесь – есть, сила, краса, всевластней, всезрящей, природы спящей, всемирный сон. Эпитет непорочная несет в себе два значения: чистая, никем нетронутая, девственная; божественная (непорочная Дева-Мария). Последнее значение эпитета позволяет по-другому посмотреть на блеск и силу ночи. В контексте непорочной красоты как божественной они могут трактоваться как блеск нимба и сила Вышнего.
Итак, реальная, доступная взгляду красота, постигнуть которую может всякий, служит первым шагом на пути к осознанию возвышенного и ирреального. Исходя из этого, становится понятным и оправданным эпитет всевластней. Благодаря ему возникает ощущение главенства звезд-огней, подчиняясь которым, человек приближается к божественному постижению мира, проникает в Вечность. Ему позволено понимать всемирный сон. Как известно, сон зачастую ассоциируется со смертью. Земному человеку не дано постичь ее, однако приподнять завесу над таинством вечного покоя возможно. По мнению А. Фета, зимняя ночь является как раз тем временем волшебного забвения, когда человеку доступно понимание иного мира. Ассоциатами зимней ночи у поэта являются: сон, блеск, сила, краса. Обращает на себя внимание отсутствие эпитетов, обозначающих цвет и звук.
Если у А. Фета зимняя ночь ассоциируется со сном, т. е. не несет на себе отпечатка тревоги, и помогает единению человека и Космоса, то совсем другой образ возникает у К. Бальмонта.
Темы его поэзии – меланхолия и скорбь, томление по смерти, прихотливая изменчивость настроений. Поэт уделяет большое внимание звуковой стороне стиха, тяготеет к музыкальности, увлечен аллитерациями. Язык поэта состоит из загадочных намеков и расплывчатых определений. Вместе с тем творчество К. Бальмонта озарено мечтой о Солнце. Солнечное начало противопоставлено серой, будничной жизни. Обратимся к его описанию зимней ночи в стихотворении «Вызвездило»:
- Вызвездило. Месяц в дымке скрыт.
- Спрятал он во мгле свои рога.
- Сумрачно. Но бледный снег горит.
- Внутренним огнем горят снега.
- В призрачности белой я слежу,
- Сколько их, тех звездных паутин.
- Как бы сплесть из них мне мережу?
- В Вечном я. Один, один, один…
В сочетании начала стихотворения Вызвездило с последней строкой В Вечном я. Один, один, один… возникает антитеза, в которой небо со множеством звезд противопоставлено человеку, т. е. подчеркивается одиночество человека в мире. Тема усилена не только тройным повтором слова один, но и явлением парцелляции. Данный прием текстообразования акцентирует каждый парцеллят.
Стихотворение представляет собой два четверостишия. Первое интересно своим синтаксисом. Каждый стих – это законченное предложение, причем нечетные строки состоят из двух синтаксических конструкций. В первом и третьем стихах односоставные безличные предложения констатируют состояние, независимое от активного деятеля, т. е. героя (он – не деятель), возникает ощущение стихийности происходящего. Кроме того, вызвездило и сумрачно являются еще латентными антонимами (светло от звезд на небе, но темно на земле). Косвенно антонимичные отношения подчеркнуты и усилены присутствием в авторском образовании вызвездило сочетаний шумных согласных зв и зд, а в слове сумрачно присутствием сочетания сонорных мр. Таким образом, помимо лексического противопоставления существует противопоставление звуковое, а точнее, музыкальное: шумных и сонорных согласных.
Еще одно интересное явление наблюдается в первом четверостишии: оксюмороны горит снег и горят снега, которые поясняются сочетанием внутренним огнем, являющимся для них детерминантом. Таким образом, внутренний огонь становится ключевой фразой (ср.: в народной поэзии огонь и мороз не всегда противопоставлены друг другу – (мороз жжет).
Можно предположить, что внутренний огонь снегов является разрушительным огнем. Это еще один пример переплетения разных концептов, когда вместе они создают более объективное знание.
Второе четверостишие интересно присутствием довольно часто встречающегося в мировой литературе символа плетение (шитье, ткачество) кружев (мережи, паутин). Он связан, вероятно, с концептами жизнь, судьба, (нить жизни, нить судьбы). Однако человеку не дано самому плести нить жизни, за него это делает, как, например, в эллинской мифологии, одна из трех мойр, у русских – судьба человека (см. концепт судьба). Таким образом, в концептуальное поле бальмонтовской зимней ночи входят концепты огонь и жизнь /судьба.
Известно еще одно стихотворение К. Бальмонта, поражающее красками зимней ночи:
Опалово-зимний
- Легкий слой чуть выпавшего снега,
- Серп Луны в лазури бледно-синей,
- Сеть ветвей, узорная их нега,
- Кружевом на всем – воздушный иней.
- Духов серебристых замок стройный,
- Сонмы фей в сплетеньях менуэта,
- Танец блесток, матово-спокойный,
- Бал снежинок, вымышленность света.
Использование названий драгоценных камней в образовании новых «цветных» эпитетов довольно популярно, но данное образование опалово-зимний можно считать окказиональным, авторским.
Название «Опалово-зимний» подразумевает цвет, подобный цвету полудрагоценного камня: молочно-белый с голубоватым или желтоватым оттенком. Таким образом, заглавие перекликается с первой строкой: Легкий слой чуть выпавшего снега; и далее: Серп Луны в лазури бледно-синей (белый снег, желтая луна, бледно-синее небо) – это зимняя ночь.
К. Бальмонт описывает падающий снег. У него, как и у А.С. Пушкина, это танец. Но не бесовский пляс, а медленный менуэт. Оба поэта сравнивают падающий снег с потусторонними существами. Только у Пушкина – это бесы, демоны, а у Бальмонта – духи, феи, т. е. существа, менее опасные для человека.
В тексте К. Бальмонта отсутствуют глаголы. Стихотворение представляет собой два сложных синтаксических целых, состоящих из номинативных предикативных частей (кроме последней части в первом четверостишии). Это способствуют усилению семантической емкости и выразительности стихотворения: так утверждается существование вымышленного мира.
Концепт зимняя ночь у Бальмонта приобретает цвет. В его ассоциативное поле входят снег, луна, иней, мифические существа. Знание о мире заключается в том, что зимняя ночь – время покоя.
Присутствием образов, вышедших из исторического ядра концепта, интересно стихотворение В. Ходасевича «За окном гудит метелица».
- За окном гудит метелица,
- Снег взметает на крыльцо.
- Я играю – от бездельица —
- В обручальное кольцо…
- Старый кот, по стульям лазая,
- Выгнул спину и молчит.
- За стеной метель безглазая
- Льдяным посохом стучит.
- Ночи зимние! Кликуши вы,
- В очи вам боюсь взглянуть…
- Медвежонок, сын мой плюшевый,
- Свесил голову на грудь.
Стихотворение названо по первой строке «За окном гудит метелица», поэтому можно сказать, что его основная тема – ночная метель. Однозвучная перекрестная рифма (метелица – бездельица, крыльцо – кольцо) несет смысловое значение, подчеркивая зарифмованные слова. Цепью рифм образуется смысловой стержень стихотворения: метелица – безде-льица, крыльцо – кольцо, лазая – безглазая, молчит – стучит, кликуши вы – плюшевый, взглянуть-на грудь.
Ночная метелица словно играет с авторской фантазией, превращаясь из вьюги за окном в злобную старуху. Малопродуктивный суффикс субъективной оценки-иц-, усиленный рифмой, несет экспрессивное уменьшительно-ласкательное значение (водица, сестрица) – метелица не бывает страшной. Однако уже следующий рифмованный «позвонок» лазая – безглазая, очень близок по звучанию к слову злая. И, действительно, метелица превращается в метель.
Образ метели ассоциируется с Морозом, у нее посох, ее сопровождают злые демоны ночи – Кликуши. По народным поверьям, они приходят ночью в дом, где есть маленькие дети и пугают их. Вот и автор говорит: В очи вам боюсь взглянуть… Однако здесь стоит многоточие. Большая пауза – и фантазии закончились. Рифма кликуши вы – плюшевый делает ночных ведьм плюшевыми, т. е. игрушечными, ненастоящими.
У В. Ходасевича концепт зимняя ночь наполнен фантазийным переосмыслением действительности. Присутствуют и фольклорные мотивы: старуха-метель с ледяным посохом, кот, кликуши.
Своеобразна зимняя ночь у И. Бродского. В описании зимы вообще у поэта отсутствует день: основную смысловую нагрузку несут зимняя ночь или сумерки….Зимою …Днем легко ошибиться: / свет уже выключили или еще не включили? – замечает он в «Эклоге 4-й (зимней^». В качестве ассоциатов к лексеме зима у Бродского выступают тень и вечный холод: …но разве это не одно: / в пролете тень и вечный холод? / Меж ними есть союз и связь / и сходство – пусть совсем немое. / Сойдясь вдвоем, соединясь, / им очень просто стать зимою («Откуда к нам пришла зима»).
Зимняя ночь у Бродского выступает как фигура на фоне человеческой жизни. Не человеческая жизнь протекает на фоне зимы, а зима входит в человека: «Откуда к нам пришла зима, / не знаешь ты, никто не знает». Поэту необходимо понять не столько откуда, сколько – почему пришла зима. Важным образом в стихотворении является звук:
- Умолкло все. Она сама
- холодных губ не разжимает.
- Она молчит. Внезапно, вдруг
- упорства ты ее не сломишь.
- Вот оттого-то каждый звук
- зимою ты так жадно ловишь.
- Шуршанье ветра о стволы,
- шуршанье крыш под облаками,
- потом, как сгнившие полы,
- скрипящий снег под башмаками,
- а после скрип и стук лопат,
- и тусклый дым, и гул рассвета…
Все звуки зимней ночи уместились в одной сложной синтаксической конструкции. Здесь есть повторы, как бы наполняющее все пространство: шуршанье (ветра) – шуршанье (крыш); скрипящий (снег) – скрип (лопат). Но интересна еще и градация языковых единиц, обозначающих звук. От тихого шуршанье к более громким скрип и стук и наконец все сливается в неясный нарастающий гул. Аллитерация глухих [ш], [с] сменяется ассонансом звука [у], что важно для создания шумового эффекта.
Концепт зимняя ночь у И. Бродского выступает еще и как напоминание о неизбежности земного конца: В определенном возрасте время года / совпадает с судьбой. В стихотворении «Эклога 4-я (зимняя)» тема смерти носит не трагический и неожиданный, а естественный и закономерный характер:
- Жизнь моя затянулась. В речитативе вьюги,
- обострившийся слух различает невольную тему
- оледененья. Всякое «во-саду ли»
- есть всего лишь застывшее «буги-вуги».
- Сильный мороз суть откровенье телу
- о его грядущей температуре.
В этом отрывке прежде всего обращает на себя внимание форма и ритмика стиха. Само название «Эклога» восходит к античной литературе и подразумевает повествовательное описание мирной жизни, своеобразную идиллию. Повествование, в свою очередь, требует законченности мысли, что передается специфической повествовательной интонацией: повышением тона на логически выделяемом слове и спокойным понижением в конце предложения.
Можно предположить, что использование данной формы не случайно и продиктовано основной мыслью стихотворения. Тема сна из 1-й части «Эклоги» (Зимой смеркается сразу после обеда. / В эту пору голодных нетрудно принять за сытых. / Зевок загоняет в берлогу простую фразу) постепенно переходит в тему смерти: Сильный мороз суть откровенье телу /о его грядущей температуре. Мелодика вьюги сравнивается с речитативом, особой вокальной формой, которая воспроизводит интонацию живой речи, это как бы оледеневшая мелодия. Таким образом создается цепь последовательных событий: быстрый мелодичный танец жизни замедляется, приближаясь к речитативу, застывает, и наступает оледенение как закономерный финал затянувшейся жизни.
В русской прозе концепт «зимняя ночь» также широко бытует, часто становясь фоном, на котором разворачивается действие, пространством, где живут и действуют персонажи.
Показательна в этом отношении «Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя. Остановимся на авторской специфике изображения, проявившейся уже в первом абзаце:
«Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за полверсты… Тут через трубу одной хаты… вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле».
Зимняя ночь ассоциируется у Н. Гоголя со звездами, месяцем, морозом, тишиной и нечистой силой. На протяжении всей повести автор несколько раз возвращается к описанию ночи, и каждый раз она разная, то «Светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем», то «…поднялась метель, и ветер стал резать прямо в глаза».
Описание зимней ночи у него статично: Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Совершенный вид глаголов загорелся, обсыпался, потеплел обозначает предел действия, его естественный результат, что создает впечатление декорации к сценическому действию. Смена декораций в повести (переход от ясной, морозной ночи к ночной пурге и вновь к тихой и звездной полуночи) формируют семантическую композицию произведения.
В описании зимней ночи у Н. Гоголя центральное место занимает лексема свет. В пейзажных зарисовках главную смысловую и эмоциональную нагрузку несут прилагательные (ясная, серебряным, хрустальными), наречие (светло), глаголы (посветить, блещет, загорелся); все они репрезентируют свет, а устойчивый оборот видно, как днем усиливает восприятие.
Вечерние и ночные зарисовки характерны для произведений И.А. Бунина, что вполне объяснимо темами его творчества – смерть, увядание, вечность. Зимняя ночь является фоном, на котором разворачивается действие рассказа И.А. Бунина «Новый год». Супруги, давно живущие вместе, возвращаются зимой с юга в Петербург и в канун новогодней ночи останавливаются на ночлег в старой барской усадьбе. Впервые они отмечают новогодний праздник не в шумной компании сослуживцев, а вдвоем, среди «мертвого молчания русской зимней ночи». Чувства супругов друг к другу проявляются именно в эту «лунную зимнюю полночь». Они мечтают об уединении где-нибудь в деревне, понимая в то же время, что это невозможно. За новогодней ночью последуют триста шестьдесят пять дней, которые сливаются в один беспорядочный и однообразный, полный серых служебных дней, год. Бунинская зимняя ночь, тихая и прекрасная, наполнена прозрачным голубоватым светом и подчеркивает суетность человеческой жизни. Подобное описание зимней ночи встречалось в его стихотворении «Мороз». В бунинском концепте зимняя ночь значительное место занимает признак, заключённый в наречии всюду, прилагательных мертвое и таинственное, существительном молчание («…всюду было мертвое молчание русской зимней ночи, среди которой таинственно приближался Новый год»).
Б. Зайцев в рассказе «Волки» показывает охоту в зимнюю ночь. Окружающая действительность описывается с точки зрения волков (прием остранения), чующих скорую смерть, поэтому сигналы смерти встречаются в повествовании довольно часто, да и сам рассказ заканчивается смертью вожака, которого загрызли голодные хищники: «…Белое кругом… белое все кругом… снег. Это смерть. Смерть это». И далее: «За облаками взошла на небо луна, и в одном месте на нем мутнело желтое неживое пятно, ползшее навстречу облакам; отсвет его падал на снега и поля, и что-то призрачное и болезненное было в этом жидком молочном полусвете». Тема смерти подкрепляется прилагательными неживое (пятно), болезненное (в полусвете), безжизненные (снега), глаголами (ненавидит, похоронит), сравнением снега со смертью.
Парцелляция в данном случае является средством речевой экспрессии. Повторы слов белое и смерть нагнетают чувство страха и близкого ощущения конца. Белый цвет становится знаком смерти. Таким образом, ассоциатами зимней ночи у Б. Зайцева, помимо слов снег, поземка, луна, выступают слова белый и смерть.
Итак, концепт «зимняя ночь» достаточно устойчив в русской литературе. Многообразие его значений обусловлено разными представлениями поэтов и писателей о мире, принадлежностью их к той или иной литературной школе, направлению, идеологическими воззрениями, конкретными условиями появления произведения. Данный концепт в изображении русских поэтов и писателей отличается насыщенной цветовой гаммой, звуковыми ассоциациями и имеет целую систему образов, берущих свое начало в «историческом» ядре концепта. Их представления о концепте «зимняя ночь» можно свести к следующим: 1) ее цветовое решение разнообразно: аспидно-синяя, белесая, бледно-голубая, густо-черная, лазурная, седая, пепельно-белая, прозрачно-синяя, черная и др.;
2) наличие/отсутствие луны, звезд: беззвездная, безлунная, лунная, звездная, кромешная, беспросветная; 3) состояние природы ночью: безветренная, ветреная, морозная, вьюжная, ледяная, метельная, снежная, холодная; 4) она может быть продолжительной: бесконечная, длинная, долгая, поздняя, глубокая; 5) различно и звуковое решение: безмолвная, бесшумная, гулкая, мертвая, немая, тихая; 6) психологическое восприятие: адская, безмятежная, безумная, бестолковая, восхитительная, волшебная, греховная, горькая, колдовская и др.
Из проанализированных текстов мы выделили следующие атрибуты концепта зимняя ночь: небо, месяц/луна, звезды, поле/дорога, снег/метель, человек. Интересно заметить, что эти же слова вошли в число ассоциатов, выявленных при исследовании региональных особенностей ассоциативных рядов русской лексемы зима (на примере ассоциативных рядов, предъявленных русскоговорящими якутами и жителями Воронежской области), приведенных З.Д. Поповой [Региональные… 2001], которые подтверждают правильность выделения нами вышеуказанных атрибутов.
Языковые единицы создают модель ситуации. Однако она не была бы полной и не несла бы на себе отпечатка национальной культуры, если бы репрезентировалась в речи только вышеназванными лексемами.
При классификации языковых единиц, участвующих в репрезентации концепта «зимняя ночь», мы учли сенсорно-перцептивные процессы, происходящие в человеческой психике при обработке информации, поэтому языковые единицы распределены по группам, обозначающим виды ощущений: кинестетические и вестибулярные, тактильные, слух, зрение. Систему звуков и цвета мы выделили особо, так как на их основе строятся в основном художественные образы; это подтверждается также особенностями рассматриваемого нами материала: не только литературного, но и принадлежащего другим видам искусства.
Так, звуковое определение имеют почти все элементы концепта. Подчеркнутое внимание к отсутствию звука также несет семантическое значение. Если снег скрипит и хрустит, а метель бренчит, воет, взвизгивает, гудит, стучит в бубен, поет, издает трели, то поле беззвучное и молчаливое, небо – немое. Человек же воспринимает все это как немую, страшную тишину: «…И в этой страшной тишине / мои шаги не слышны мне» (К. Бальмонт).
Определяя звук отдельных атрибутов зимы, русские писатели воспроизводят звучание самой зимней ночи. В это время «…кажется, что нам слышна / архангельская тишина»; безбрежная тишина соседствует с бездоннът молчанием природы, сбросившей тревожный ропот ночи летней. Таким образом, зимняя ночь ассоциируется с тишиной, с одной стороны, с другой – это какофоническая музыка.
У ряда авторов появляется метафора зимняя ночь – сон, основанная на сходстве внешнего вида, производимого впечатления. На лексическом уровне понятие «сон» поддерживается глаголами спать, дремать, существительными постель, покров и производными от них. Семантическое поле смерти оформляется существительными могила, одр, призрак, саван, скатерть (печальная), труп, глаголами стынут, стынет-цепенеет, кануть, прилагательными гробовая, мертвенно-свинцовые, траурные, мертвый, убитый, неживая.
Еще одна метафора – старуха – зимняя природа — также основана на сходстве внешнего вида. Белый снег, укрывший землю, похож на седину в волосах старухи. Лексема старость наполнена следующими лексическими единицами: старушка, безглазая, космы, клочья, посох, клюка, старуха пряжу прядет.
В ряде цветовых определений можно обнаружить скрытую символику: в светлых, пастельных тонах, принято видеть символ лёгкости, счастья, радости, романтичности, беззаботности, а в тёмных, вплоть до черного, – тяжесть, печаль, грусть, тоску, угрозу, мрак, безысходность.
Анализ текстов позволил выделить лексему белый, как наиболее частотную. Она характеризуется следующими фоновыми долями знаний: нравственная чистота, праведность, смерть. Белый цвет символизирует внешнюю оболочку в противоположность внутренней сущности.
Второй наиболее частотной лексемой является прилагательное серебряный, которое обозначает яркость и блеск светлого цвета.
Однако цветовая палитра зимней ночи, изображенная словесными средствами, представлена не только белым и серебряным цветами. Языковой спектр цветовых обозначений у некоторых поэтов (К. Бальмонт, И. Бунин) порой не уступает по своей гамме палитре импрессионистов: от розово-странного, почти белого – к розовому, затем лимонно-апельсинному, желтому, зеленому, голубому, синему и вновь к серебристо-белому. Если в описании зимы встречается черный цвет, то он, как правило, наиболее характерен для фона (пространство, небо) на котором контрастирует нечто белое (снег, Млечный путь): «Ночное небо низко и черно, /Лишь в глубине, где Млечный путь белеет…» (И. Бунин).
Одним из самых ярких приемов языка в описании зимней ночи является метафора. Эта всеобъемлющая форма тропа в данном случае интересна с когнитивной точки зрения – как способ создания языковой картины мира, возникающей в результате когнитивного манипулирования уже имеющимися в языке значениями с целью создания новых концептов, особенно для тех сфер отражения действительности, которые не даны в непосредственном ощущении.
Когнитивная метафора обозначает то, что в языке нельзя выразить другими средствами. Подобное здесь отождествляется с подобным: белый снег – белый саван (покрывало, скатерть, постель), белое поле – одр, саван. Замерзшая земля сравнивается с трупом: «…И простертый саван снежный /на холодный труп земли…» (П. Вяземский), либо со спящим. Знаки смерти присущи старости, поэтому образ старухи с седыми космами не является чем-то необычным. Мы имеем комбинацию двух сущностей: буквального смысла, передающего образное видение реалии, и ее метафору.
В современной концептуальной формуле зимней ночи нашли воплощение практически все элементы, выделенные нами в историческом ядре концепта: конь – метель («над крышею пурговый конь, /железом громыхая, скачет» (А. Белый), волки – спутники зимней ночи («вой протяжный голодных волков / раздается в тумане дремучих лесов» (Я. Полонский), бесы. Иногда они трансформируются под влиянием «личного опыта творцов культуры», отчего объём содержания концепта изменяется, приобретая дополнительные значения в связи с авторской идеей.
Тема зимней ночи не является необычной для русского искусства, каждый художник, поэт, музыкант выражает в этой теме собственное мироощущение, свой жизненный опыт.
Пейзаж – один из самых популярных жанров живописи. Природа, ее жизнь, ее великолепие, изменчивость и таинственность издавна привлекали мастеров кисти. В 80—90-х годах XIX века возник лирический «пейзаж настроения», тесно связанный с общими тенденциями искусства того времени. Художники этого направления подвергли творческому переосмыслению традиции старой русской живописи. В этом виде пейзажа автор стремится очень тонко, эмоционально передать чувства и переживания человека, выказать свою любовь к родной природе, сделать ее просторы одухотворенными. Пейзаж становится одновременно и местом действия, и носителем чувственно воспринимаемой «правды видения».
В целом ряде пейзажных зарисовок воплощен концепт «зимняя ночь». Рассмотрим несколько из них.
Л.Л. Каменев «Зимняя дорога». 1866.
Художник изобразил безбрежный снежный простор, унылую зимнюю дорогу, по которой лошадь едва тащит дровни. Вдали виднеются в голубовато-сизой дымке снега деревня и лес. Ни солнца, ни луны, лишь унылое ощущение вечных сумерек. В изображении Л. Каменева дорога не вселяет надежды. Она занесена снегом, по ней мало кто ездит, она ведет в занесенную снегом деревню, где нет света ни в одном окошке. Настроение картины тоскливое и печальное.
A. К. Саврасов «Зимняя ночь». 1869.
Как считают искусствоведы, это единственный на сегодняшний день известный зимний деревенский пейзаж художника. Образ зимней ночи здесь несколько романтизирован, за светящимися окнами избы словно затаился сюжет. Важнейшим средством выражения замысла становится сложная светотеневая, как будто сплавленная живопись с коричневато-оливковым колористическим строем, подсказанным неровным светом луны и вносящим чувство тревоги. Природа в этом пейзаже близка жизни человека и воспринимается через его чувства.
B. И. Суриков «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге». 1870.
На картине изображена зимняя ночь. На полотне слева – памятник Петру I, справа в глубине высится громада Исаакиевского собора. Два этих знаменитых сооружения образуют параллельные вертикали, уравновешивающие композицию.
Вся площадь покрыта мягким белым снегом. Вдали проезжает карета, ближе к зрителю – извозчик, что придает картине своеобразную динамику. Темный силуэт всадника (памятника) кажется парящим в воздухе, так как гранитная скала, на которой стоит его конь, из-за серебристого инея и двойного освещения сверху (от луны) и с боков (от фонарей) выглядит светлой и напоминает ледяную или снежную глыбу. Это помогло органически связать скалу и Медного всадника со снежной площадью, как будто это всплеск замерзшей волны. Цвет тени (извозчика, столбов) – голубой, голубовато-розовый. На снегу сложные рефлексы тени. Лунный свет ярок.
Суриков сумел передать общее поэтическое впечатление от площади в зимнюю лунную ночь.
A. И. Куинджи «Пятна лунного света в лесу. Зима». 1898–1908.
Художник мыслит цветовыми пятнами. Для него они такой же предмет изображения, как зимний лес. Реальный эффект заснеженных деревьев, пушистых сугробов, цветных теней используется художником для форсирования цветового тона. Это изначально декорированный образ зимы вымышлен, сказочен. Формы деревьев представляют собой как бы вариации кучевых облаков. Зачарованное состояние природы возникает благодаря яркости натурального лунного света. Художник словно смешивает свет двух миров: лунного реального и неестественного снежного.
B. А. Серов «Тройка». 1899.
Эта работа была выполнена художником к юбилейному изданию сочинений Пушкина, предпринятого П.П. Кончаловским, и имеет подзаголовок «Иллюстрация к стихотворению «Зимняя дорога» А.С. Пушкина». По мнению искусствоведов, «Тройка» – одна из лучших графических работ Серова, проникнутая большим внутренним переживанием темы. По всей видимости, художник специально избрал для иллюстрации лирическое стихотворение, где важна не сюжетная канва, а передача эмоционального содержания и общей «музыки» стихотворения в зримых формах. Проникнуть в строй мыслей и чувств поэта и осмыслить его образы удалось через пейзажные задачи.
Запряженный тройкой возок с седоком и ямщиком изображен сзади, устремленным в глубину картины и еще более силуэтно рисуется на фоне зимнего пейзажа. Этот пейзаж и составляет основу эмоционального строя изображения. Серову удалось передать тусклый свет луны, едва пробивающийся сквозь тучи, тот самый «печальный свет», который она льет на «печальные поляны». Выразительна даль; снежное поле контрастирует с темной тучей, идущей от горизонта. Тонкие переходы освещения передают невеселые думы путника: «…скучно, грустно… путь мой скучен». Скучность «состояния» природы соответствует настроению путника.
Г. Нисский «Над снегами». 1959–1960.
Картина поражает своим цветовым решением. Яркий контраст сине-фиолетового ночного неба и яркого, желто-оранжевого самолета, летящего над темно-голубыми снегами. Горизонтальная линия самолета справа уравновешивается строго вертикальными соснами, изображенными слева. Сочные и яркие краски полны оптимизма. Самолет похож на комету, прорезающую пространство и побеждающую темноту.
В. Бялыницкий-Бируля «Зимний сон». 1923.
Приближение сумерек автор передает цветом. Мягкое серовато-голубое небо, сиреневые тени на снегу. Наитончайшие оттенки этих красок, спокойный колорит придают картине камерность и поэтичность. Сложнее было показать, как падает снег, но художник сделал это мастерски: при помощи наложения коротких, слегка загнутых мазков, от которых поверхность полотна как бы вибрирует.
В. Нестеров «Зимний сад». 2000.
Темные силуэты старых безобразных яблонь невольно хочется сравнить с вмерзшими в лед дантовыми грешниками. Яблони, такие прекрасные весной, такие щедрые осенью, зимой напоминают о неизбежности конца. Серо-голубой тон картины, без оттенков, делает ее холодной и мертвой. Яблоневый сад обнесен изгородью, а за ней – безбрежная серая даль, напоминающая Космос. Взгляду не на чем остановиться, и он вновь возвращается в ограниченное плетнем пространство, к мертвым яблоням. Лишь лестница, забытая с осени, прислоненная к яблоне, стремится вырваться из замкнутого пространства в ночное небо.
Так разнообразны картины зимней ночи у русских художников: это и страшный образ, связанный с чернотой, смертью, и позитивный образ, соотносимый с миром, сном, отдыхом, мечтами. Ночь в восприятии художников пропитана первобытными страхами перед злыми силами стихии, но и покоем, тишиной. Эти образы создаются за счет цветового ритма построения картин, ритма расположения предметов и деталей и т. д.
Говоря о концепте культуры, желательно рассмотреть еще одну семиотическую систему – музыку, которая есть лучшее средство выражения иррациональной сущности мира. Такое понимание музыки представлено в работах немецкого философа А. Шопенгауэра. Он противопоставлял музыку всем другим видам искусства, ибо все они в конечном счете оперируют образами, сопоставимыми с реальной действительностью. Преимущество музыки, по Шопенгауэру, состоит в том, что язык ее безОбразен, она выражает не форму явлений, а самую суть их, музыка независима от предметного мира. Под влиянием Шопенгауэра, эту же идею разрабатывал русский поэт А. Белый, назвавший музыку господствующим видом искусства. Описывая изображение зимней ночи в русском искусстве, невозможно обойтись без анализа произведений русских композиторов.
Концепт зимней ночи широко представлен и в русской музыке. «У камелька» П. Чайковского – музыкальная пьеса. Сменяющие друг друга музыкальные образы этой пьесы отражают переменчивость русской зимней ночи – от ясной морозной до буйствующей метельной. Нежные, мягкие звуки противопоставлены резким и тревожным, что передает ощущения человека, сидящего у камина и слушающего, как за окном воет и беснуется пурга.
Тонко чувствовал зиму Г. Свиридов. Покой и движение, печаль и свет, сиюминутное и вечное в свиридовской «Метели», кантате «Снег идет» по мотивам Б. Пастернака. Погружаясь в слово, композитор одновременно возвышает его через музыку. В его произведениях стихи как бы обретают крылья.
Романс С. Танеева «Зимний путь» на стихи Я. Полонского по своему образному содержанию – сугубо русское произведение. В зимнюю ночь под звон колокольчиков и скрип полозьев герою «мерещатся страшные сны:/ Мне все чудится будто скамейка стоит,/ На скамейке старуха сидит,/ До полуночи пряжу прядет».
Композитора Н. Метнера вдохновило на создание романса стихотворение А. Пушкина «Зимний вечер». Стоит добавить, что музыку на эти пушкинские стихи писали М. Яковлев, Г. Свиридов. Каждый музыкант привнес в это стихотворение свое видение ночи. Романс Н. Метнера хрупок, нежен, написан экономно и мудро. Здесь присутствует и невысказанная грусть, и печаль, и раздумья. Равноправным участником действия является фортепиано. Чувства героя, картины природы рисуются быстрыми волнообразными пассажами, разным темпом.
Среди русских музыкантов особо выделяется имя П.И. Чайковского, отличительной чертой которого было восприятие природы не только глазами художника, любующегося красивыми видами, но и ощущение ее как реального мира, частью которого является и он сам.
Симфония № 1 соль минор, сочинение 13 «Зимние грезы» была написана композитором в 1866 г. после путешествия к берегам Ладожского озера и на остров Валаам. Суровая прекрасная природа тех мест произвела на него неизгладимое впечатление и вдохновила на создание чудесных музыкальных пейзажей Первой симфонии. В этой симфонии нет трагических философских концепций, глубоких тяжелых раздумий о жизни. Все насыщено прелестью русского пейзажа, юношескими мечтами и грезами. Симфония – своеобразный музыкальный путевой дневник.
1-я часть – «Грезы зимней дороги». Уже по названию ясно, что П.И. Чайковскому интересны не столько зарисовки, сколько передача настроений, ассоциаций. По характеру образов 1-я часть близка к стихотворению Пушкина «Зимняя дорога» и рассказу «Метель» Толстого.
Образ русской дороги, уходящей вдаль и рождающей разные думы, мечты возникает в представлении слушателя. Звуки колокольчика и протяжная ямщицкая песня рождаются звуками флейты и фагота. Ее фон – тремоло скрипок, а затем и деревянных духовых, имитирующих серебряный звон колокольчика. Темп из минорного становится мажорным, светлым и веселым. Затем возникает новый мотив, как бы воспроизводящий напев метели. Эта мелодия сменяется песней ямщика; появляются стремительные пассажи, беспокойное тремоло, тревожные фанфары, которые создают драматическую, напряженную атмосферу. И вновь лирическая тема выходит на первый план: колокольчик звенит все тише и тише, кибитка уносится вдаль.
В 1876 г. П.И. Чайковский издает двенадцать музыкальных пьес под общим названием «Времена года». По содержанию пьесы связаны с месяцами года, они носят ярко выраженный национальный характер, музыка пронизана интонациями народной песни, танца, бытового романса. Первая пьеса, посвященная январю, называется «У камелька», вторая, февральская, – «Масленица» и, наконец, двенадцатая, декабрьская, называется «Святки».
Простыми выразительными средствами, не прибегая к виртуозным эффектам, оставаясь преимущественно в рамках камерного стиля, композитор живописует картины зимы, поэтические настроения, чувства, душевные состояния. Эмоциональное настроение пьес различно. Так, «Масленица» и «Святки», подвижные, динамичные, развернутые по форме, окрашенные в разные тона, несут на себе отпечаток русской удали и широты. Иной характер пьесы «У камелька». Она элегична, психологически выразительное лирическое настроение делает ее камерной по масштабам, сдержанной в своем музыкальном движении.
Таким образом, тема зимней ночи оказалась близкой и русским композиторам. Звукоизобразительные приемы музыкального письма становятся носителями эмоционального содержания произведений. Звуки зимней ночи передают не только состояние природы, но и настроение лирического героя. Они служат средством восприятия окружающего мира. В произведениях велика роль переживания звуковой гармонии.
В системе образов литературы, живописи, музыки обнаружено значительное количество ночных зимних мотивов. Они выявляют самые разные художественные концепции авторов. Такое внимание к данной теме в разных видах искусства свидетельствует о том, что «зимняя ночь» – концепт русской культуры. Специфика отражения этого концепта различна, что обусловлено особенностями используемых изобразительных средств, т. е. языков данных видов искусства. Однако общим для живописи и литературы является использование цветовых символов, для музыки и литературы – использование звуковых ассоциаций. Вместе с тем система образов, находящихся в «историческом» ядре концепта, находит отражение и в живописи, и в музыке, и в литературе. Эти образы дополняются чувственным опытом художников, несут на себе отпечаток эпохи.
Выделяя тот или иной фрагмент мира для описания, художник концептуализирует мир, наполняя личностными смыслами сущностные реалии бытия. Он как бы конструирует собственную реальность, и часто его ментальный мир почти так же значителен и глубок, как и реальный.
Изучение произведений русских поэтов, прозаиков, художников и музыкантов позволяет подтвердить многие положения, касающиеся содержания концепта как единицы изучения когнитивной лингвистики.
Концепт «зимняя ночь» становится символом, с одной стороны, страха, смерти, опасности, загадочности природы, тайного, непознанного, а с другой, напротив, – чего-то умиротворенного, ясного, светлого, чистого, тихого и радостного.
Струтура описанного концепта подтверждает концепцию Ю.С. Степанова о трех компонентах структуры концепта вообще. «Зимняя ночь» имеет основной признак (темная часть суток в холодное время года), дополнительные признаки (зимняя ночь как символ покоя и тревоги, смерти и сна, страха и радости) и внутреннюю форму (зимняя ночь как способ передачи пространственных и временных ощущений, как олицетворение внутреннего смятения человека, как связующее звено между жизнью и смертью).
Зимняя ночь как явление окружающей русского человека действительности, входя в его сознание и преломляясь в нем, приобретает значение сложных концептуальных метафор. Образы зимней ночи вошли в систему художественного мышления, приобрели многозначную смысловую трактовку. Тема стала аллегоричным и символико-философским отражением исторического времени, концепций бытия. Русским искусством разработана глубокая поэтическая, эстетическая философия зимы. Совокупность всего этого создает концепт – ментальную сущность, которая несет на себе отпечаток духовного облика нации.
Данный концепт в русской культуре сопряжен со значительным количеством негативных коннотаций (ср. ночь – божество мрака, а зима – беда, несчастье, опасность), но он притягателен для поэтов в силу своей загадочности, содержащейся здесь тайны.
КОНЦЕПТ ДЕРЕВА. Будучи природным символом, дерево во многих культурах стало знаменовать динамичный рост, природное умирание и регенерацию. Почтительное отношение к дереву в разных культурах основано на вере в его целительную силу, на одушевлении его. В волшебных сказках деревья защищают, исцеляют, исполняют желания. Восточные славяне – лесные жители, а потому многие деревья они наделяли сверхъестественной силой и считали, что характер и будущее человека зависят от его связи с природой. Древние галлы (друиды) утверждали, что характер человека соответствует одному из деревьев: деревья, как и люди, бывают одинокие и групповые, деликатные и настойчивые, мощные и слабые. На этом основан гороскоп друидов.
В современных науке и искусстве связь растений и человека рассматриваются Н. Золотницким, Э. Левковым, Т. Шамякиной и др.
Растения, трава, деревья, по преданиям древних славян, обладали сверхъестественной силой – как целительной, так и разрушительной. Например, береза, дуб, ель, яблоня, груша, вишня считались символами доброго начала; калина, рябина, осина – символами несчастья. В основе этих представлений – архетип дерева-тотема.
В мифах различных народов рассказывается о деревьях-тотемах. У якутов особо почиталась стоящая отдельно береза, у тувинцев – лиственница. У сахалинских нивхов существует миф о происхождении их от лиственницы или ели [Боргояков, 1980]. Особую символическую нагрузку в христианских культурах имеет лоза: Христос говорил о себе «Ялоза», а ученики были как бы ее ветвями.
Во многих русских загадках дерево и человек сливаются:
- Стоит дуб
- На дубу клуб,
- На клубу семь дырочек
- Стоит Алена,
- Платок зеленый,
- Тонкий стан,
- Белый сарафан
Это примеры того, как мифологическое становится культурно-эстетическим.
Дерево у славян – мотив приобщения к миру предков [Велецкая, 1978: 39], что обусловлено и природными факторами, и фольклорно-обрядовыми традициями, и многовековым земледельческим укладом жизни, и мифическими представлениями о мировом дереве, древе жизни. Предание о мировом древе, которое обнимает корнями землю, а ветвями держит небо, славяне относят к дубу. Существует предание о железном дубе, на котором держатся вода, огонь и земля, а корень его покоится на божественной силе.
Деревья – плоды Матери-Земли. В славянской мифологии дерево рождено от брака земли и неба; его питают не только земля и вода, но и солнечный свет (и это подтверждается современной наукой: в листьях под влиянием солнечного света происходит процесс фотосинтеза, и дерево живет). Именно из-за своей принадлежности к двум мирам дерево занимает столь важное место в мифопоэтических представлениях славян.
Соединяя глубину и высоту не только в пространстве, но и во времени, дерево выступает как символ памяти о прошлом, образ самой вечности. Отсюда мотив посадки дерева, распространившийся в ХХ веке, как символ сознательного и рукотворного бессмертия.
Лес – место тайн и опасностей, посвящений и испытаний, но одновременно и символ убежища. По мифологическим представлениям славянских народов лес – запредельный мир, царство мертвых. Отсюда сильное проклятие у славян Иди ты в лес! Это пожелание смерти.
Особенно тесная связь у человека с плодовыми деревьями. Такое дерево в большей мере принадлежит миру культуры, нежели природы [Агапкина, 1994: 84]. По языческим обычаям славян, плодовое дерево считалось двойником человека: умер человек – нужно срубить дерево. Такой обычай, например, отмечается в Мозырском районе Беларуси. Вторичное цветение плодовых деревьев предвещает человеку мор, голод и т. д. У славян считалось, что человек и фруктовое дерево влияют друг на друга: бездетный человек своим прикосновением мог лишить дерево плодовитости.
Таким образом, хотя растительность – низшая форма жизни, но в ней можно рассмотреть и через нее постичь изначальные закономерности бытия; жизнь деревьев совершенна именно потому, что в ней нет лжи, нет разрыва между сущим и должным: каждый миг дерево есть то, чем оно призвано быть на земле.
Описывая концепт «дерево», мы сталкиваемся с коллективной мудростью народа, с его обычаями и оберегами. Так, русские считают, что убитую змею, чтобы она не ожила и не укусила человека, нужно повесить именно на осину. Когда богатырь Добрыня убил змея, он повесил его на осину кляпую: «Сушися ты, змей Горынище, на той-то осине на кляпыя». Именно осина, как свидетельствуют поверья, охраняет славян от злых духов (из растений аналогичную функцию выполняют лопух, крапива, полынь и др.): с этим поверьем связан обычай забивания осинового кола в могилу людей, подозреваемых в колдовстве, ведьмачестве. Заостренный осиновый кол получил в глазах народа значение Перуновой палицы – как бы скипетра верховного бога-громовника древних славян-язычников. В сказках колдунам, вышедшим из могил, вколачивают в сердце осиновый кол. В свою очередь, ведьма может пользоваться осиновым колом или веткою для своих волшебных чар: ударяя этой веткой в грудь сонного человека, она наносит ему незримую рану и пьет кровь.
Дуб – одно из самых сакральных деревьев, с которым связано много символических пластов. Индоевропейский корень «дуб» тождествен корню слова «дерево». Под сенью мамврийского дуба Аврааму явился Господь. Это символ твердости, крепости, прочности, долголетия. Только очень сильного и здорового человека русские сравнивают с дубом. Дуб является также символом доблести и мужества: дубовый лист используется в военной символике. Мировое Дерево в представлении русских – дуб.
Береза особенно любима русскими, примером чему может служить следующая загадка о ней: Есть дерево об четыре дела: первое дело – мир освещать (лучина); другое дело – крик утишать (деготь на колеса); третье дело – больнъ\х исцелять (березовый сок, веник для бани); четвертое дело – чистоту соблюдать (веник для подметания пола). В бане попариться, колесо смазать, лучину зажечь, весной собрать целебный сок, очищающий кровь и восстанавливающий силы после долгой зимы, – все это дает береза.
В славянской мифологии ее почитали прежде всего как символ берегинь, русалок: во время весеннего праздника Семика девушки надевали березовые венки. Береза считалась покровительницей юных дев. Она связана также со сказаниями о Берендеевом царстве. Есть сведения, что некоторые славянские племена, жившие на территории западной России и Белоруссии, хоронили людей в бересте. Может быть, поэтому береза считалась вместилищем душ умерших.
От многих болезней крестьяне раньше лечились так: купались в реках и лесных родниках, вытирались чистой тряпицей, которую вешали на дерево или ракитов куст. Смысл обряда в следующем: смывая и стирая со своего тела недуг, как бы передают его дереву, как земному представителю того небесного, райского дерева, которое дает живую воду, исцеляющую все болезни. Когда истлеет тряпица на дереве, должна сгинуть и сама болезнь.
Известна также защитная функция еловой ветки, поэтому на похоронах разбрасывают еловые ветки, которые якобы преграждают путь мертвецу обратно. Зеленая ветка способна защитить и домашний скот, поэтому белорусы до сих пор весной (впервые) выгоняют скот на пастбище именно зеленой веткой.
У восточных славян верба – символ весны, поэтому они ею заменили пальмовые ветви, освящаемые в праздник Входа Господня в Иерусалим, за неделю до Пасхи. Освященными веточками хлестали детей и скот для здоровья. Дотронуться такими веточками до человека означало обновить его здоровье. При этом пели:
- Верба хлёст
- Бьёт до слез.
- Верба синя
- Бьёт несильно,
- Верба красна
- Бьёт напрасно,
- Верба бела
- Бьёт за дело,
- Верба хлёст —
- Бьёт до слез!
Не только самой вербе, но и ее сережкам приписывалась целебная сила. Крестьяне съедали по девять вербных сережек, считая это лекарством от лихорадки. Клали вербу в воду, в которой купали больных детей. Многие верили, что освященная верба может остановить летнюю грозу, а брошенная в пламя – помочь при пожаре. Скотину в поле весной выгоняли веточкой такой вербы.
А вот сажать вербу считалось плохой приметой. Говорили: Кто вербу сажает, сам. на себя, заступ готовит, (умрет тогда, когда из этой вербы можно сделать заступ, лопату).
С вербой было связано много пословиц, поговорок: Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед; Немец – что верба: куда ни ткни, тут и принялся; На вербе груши (о лжи).
У белорусов существует поверье, что на Ивана Купалу раскрывается вся природа и даже земля (поэтому становятся видны клады). Купальский культ – это не только поклонение солнцу, но и почитание растений, которые в купальскую ночь, согласно поверьям, обладают особой амбивалентной силой – и целебной, и ядовитой. В ночь на Купалу расцветает папоротник, завладев цветком которого, по языческим поверьям, человек становится всеведущ, потому что начинает понимать язык зверей и растений. Как гласит поверье, папоротник цветет только одну ночь, а цветы его горят как искорки. Их охраняет нечистая сила, поэтому часто ушедшие в лес за этим цветком погибают. На купальском рассвете белорусы омываются росой, ибо это якобы помогает сохранить здоровье.
В целом ряде фразеологических единиц сохраняются сведения о народной духовной культуре – мифах, обрядах, поверьях, обычаях, связанных с растениями. Например, фразеологизм березовая каша до сравнительно недавнего времени имел два значения: 1) весенняя обрядовая каша с березовыми почками; 2) ритуальное битьё. Сейчас первое значение почти утрачено, а осталось только второе, которое тоже несколько изменилось и стало обозначать «хлестание ветвями, порку розгами, вообще битьё» (В.И. Даль), отсюда современный фразеологизм дать березовой каши.
Мифологемы, давшие жизнь этим фразеологическим единицам, утрачены в сознании конкретного носителя языка, но сохранились в коллективной памяти нации, в их языке и культуре. Через них язычники «породнили душу со стихиями» (Ф.И. Буслаев), растениями и деревьями.
Описанное нами восприятие дерева в русской культуре отражает лишь первый, исторический слой концепта (по Ю.С. Степанову).
Следующий важный слой концепта отражен в словарях. Согласно словарю В.И. Даля, дерево – «самое крупное и рослое растение» [Даль: 1, 430]. С ним связано много поверий, загадок, песен, обрядов. Загадка: Есть дерево: крик унимает, свет наставляет, больных исцеляет (береза). Поговорки: От доброго дерева и плод добрый; Лист по дереву не плачет; Куда дерево клонилось, туда и повалилось; Рубить дерево по себе; Из-за леса дерева не видать.
М.М. Маковский в «Сравнительном словаре мифологической символики в индоевропейских языках» (М., 1996) выделяет у слова «дерево» следующие символические значения: «вместилище душ», «середина» (Мировое Дерево стояло посередине Мирозданья), «число», «музыка, гармония», «чудо», «жертвоприношение» (животные, приносимые в жертву божествам, часто подвешивались на деревьях) и др. (с. 134–141). Эти значения, в большинстве своем утраченные современным языком, неожиданно проявляются в поэзии.
Основу русского концепта «дерево» составляют поэтические воззрения, потому что, говоря словами Э. Тайлора, «поэзия сроднила нас с древней одушевленной философией природы» [Тайлор: 1989, 134]. В отечественной литературе есть несколько крупных произведений о жизни деревьев, среди которых поэтические тексты «Славянское дерево» К. Бальмонта (1906), «Деревья» М. Цветаевой (1923), поэма Н. Заболоцкого «Деревья» (1933), прозаический текст «Отец-лес» А. Кима (1990) и др.
Какие деревья считаются наиболее поэтическими у русских и белорусов? На первом месте по количеству посвященных ей строк русскими поэтами идет береза, потом в порядке убывающей частоты – сосна, дуб, ива, ель и рябина, тополь, клен и липа [Эпштейн: 1990, 46]. Причем в разное время поэтизируются разные породы деревьев: поэты первой половины XIX века, например, Пушкин, чаще обращались к дубу и сосне, а со второй половины нашего века (от Фета) начинается поэтический культ березы. В XX веке внимание поэтов (И. Жданова, В. Хлебникова, Б. Пастернака и др.) переключается на тополь, в котором они видят стройного рыцаря.
Наиболее поэтичными для белорусов являются калинка и рябинка, которые стали символами девичьей привлекательности, скромности.
В произведениях русской поэзии дерево часто выступает как система пространственных и духовных координат, соединяющих небо и землю, верх и низ, все стороны света. Например, в стихотворении А. Фета «Заря прощается с землею…» верхушки деревьев озарены заходящим солнцем, и создается иллюзия, что они принадлежат не только земле, но и небу:
- Как будто, чуя жизнь двойную
- И ей овеяны вдвойне, —
- И землю чувствуют родную,
- И в небо просятся оне.
В русской «растительной» поэзии мы сталкиваемся с интуитивными постижениями мира. Так, у К. Бальмонта мы встречаем попытку создать поэтический аналог мифического Мирового Дерева с учетом тех реальных деревьев, которые произрастают на славянской земле. Это дерево цветет круглый год – «от ивы к березе, от вишенья к ели», оно образует «терем», под крышей которого живут разные народы.
Очень нежный образ вербы создает К. Бальмонт в своем стихотворении «Вербы»:
- Вербы овеяны
- Ветром нагретым,
- Нежно взлелеяны
- Утренним светом.
- Ветви пасхальные,
- Нежно печальные,
- Смотрят веселыми,
- Шепчутся с пчелами…
Деревья Н. Заболоцкого – это императоры воздуха, одетые в зеленые мантии, бабы пространства, солдаты времени, деревья-пароходы, деревья-лестницы, деревья-гробницы.
Наиболее интересны поэтические прозрения М. Цветаевой, у которой деревья одухотворены, эмоциональны, чувственны:
- Вяз – яростный Авессалом,
- На пытке вздыбленная
- Сосна…
Лес дан в ее творчестве вместе с человеком, сквозь призму человеческого мировосприятия. В деревьях она видела и библейские (Яяз – яростный Авессалом; Саул, Давид) и мифологические (Элизиум – античный рай) картины, искала с ними общения, как с людьми, отождествяляла деревья и творчество. У нее есть особые циклы «Деревья», «Куст», «Сад».
Она обращалась к деревьям, изверясь в смертных, т. е. в людях, жить среди которых она не может, ибо жизнь с ними
- …двоедушье
- Дружб и удушье уродств.
Деревья лечат душу, спасают, поэтому она восклицает:
- Деревья! К вам иду! Спастись
- От рева рыночного!
Рев рынка губителен для слуха Поэта, а спасение от него – в царстве деревьев. Деревья становятся символами, получают эпитеты-символы: дуб богоборческий, ивы-провидицы, березы-девственницы и т. д. Поэт вдыхает в них душу, очеловечивает, а потом выбирает в собеседники. Каждое дерево у нее выполняет особую функцию:
- Дуб богоборческий!
- В бои Всем корнем шествующий!
- Ивы-провидицы мои!
- Березы-девственицы!
- Вяз – яростный Авессалом,
- На пытке вздыбленная
- Сосна – ты, уст моих псалом:
- Горечь рябиновая…
Деревья устремлены ввысь (ввысь сорвавшийся лес!), становясь как бы равными Богу, отсюда, вероятно, богоборчество дуба, как самого высокого и долгоживущего дерева. Ивы-пророчицы, потому что, повиснув над водой, смотрятся в нее и видят там будущее. Березам же присуща девственная белизна, поэтому березы-девственицы.
Собственное мироощущение подано сквозь призму вереска, ее отчаявшаяся душа погружается в его заросли:
- В вереск-потери,
- В вереск-сухие ручьи.
В своем одиночестве вереск полон подлинным дыханием жизни, жизнью духа, поэтому и для поэта вереск становятся царством души.
Мировосприятие поэта-пророка дано через шум лиственных разливов, с которыми сравнивается пророчествующая душа:
- Каким наитием,
- Какими истинами,
- О чем шумите вы,
- Разливы лиственные?
Через лиственные разливы путь лежит В пророчества / Речами косвенными. Лес идет в ее поэзии в следующих вариантах: сень, лес-зеленец, лесок, лесочек, перелесок, опушка, роща, куща, бор, тайжища, урман, урёма. Лес – это рай на земле, деревья для поэта – Элизиум души, который подобен острову блаженных, античному раю, это концентрация чистоты и свободы:
- Дерева вещая весть!
- Лес, вещающий: есть
- Здесь, под сбродом кривизн, —
- Совершенная жизнь:
- Где ни рабств, ни уродств,
- Там, где все во весь рост,
- Там, где правда видней:
- По ту сторону дней…
В цикле «Деревья» можно проследить несколько основных мотивов, один из которых – жертвенность: У деревьев – жесты трагедий. / Иудеи – жертвенный танец! / У деревьев – трепеты таинств. Деревья – душа скорбящая: У деревьев жесты надгробий… Сквозь жизнь деревьев просвечивает агония гибнущей России.
Деревья – это еще и лекари: Но знаю – лечите / Обиду Времени – / Прохладой Вечности…
Именно к деревьям она обращается с нежностью: Простоволосые мои / Мои трепещущие!
Два тополя, стоящие напротив дома в Борисоглебском переулке, стали в ее стихах символом поддержки, источником тепла и сочувствия ей в трудное время. Сама она советовала всем: «Идите к Богам: к деревьям! Это не лирика; это врачебный совет» (цит. По: Швейцер, с. 301).
Деревья противопоставлены человеческой жизни: в них есть трагичность, но нет «земных низостей». С деревьями у нее связаны ясность, чистота, высота.
Осенние деревья вызывают в ее поэзии множество цветовых и зрительных ассоциаций, что для ее поэтики – редкость. Одно из последних ее стихотворений – это молитва:
- За этот ад,
- За этот бред,
- Пошли мне сад
- На старость лет.
Таким образом, наблюдения над русскими поэтическими текстами позволяют дополнить модель концепта дерева следующим образом: место отдохновения и очищения; с деревьями связаны ясность, чистота, высота, целебная сила, но и опасность, тайна; дерево может и защищать.
2.3
Представления о человеке – дурак и юродивый
ДУРАК. Концепт дурак – один из ключевых концептов русской культуры. За словом «дурак» стоит мир образов, представлений, система ценностных установок, метафор. С его помощью выделяют не столько определённую группу людей, обладающих рядом характерных признаков, сколько квалифицируют поведение любого человека в случае нарушения им различных социальных стереотипов. В.И. Даль наделяет дурака следующими признаками: «глупый, тупой, непонятливый, безразсудный, малоумный, безумный, юродивый» [Даль, с. 501]. Совершенно очевидно, что любой человек в ряде случаев может стать носителем некоторых из этих признаков.
Дурак – один из самых колоритных и популярных персонажей в русских сказках [Синявский, 2001]. Он занимает самую нижнюю ступень на социальной лестнице. Даже само это слово – ругательство у русских. Дурака все презирают, над ним смеются, даже в родной семье он – существо отверженное. Е. Трубецкой: «Фигура дурака, который с видимым безрассудком сочетает в себе образ вещего, составляет один из интереснейших парадоксов сказки, притом не одной русской сказки, ибо образ вещего безумца или глупца пользуется всемирным распространением: «священное безумие» известно еще в классической древности. Тайна этого парадокса у всех народов одна и та же: она коренится в противоположности между подлинною, т. е. магическою, мудростью и житейским здравым смыслом… Образ «дурака» как бы вызов здравому смыслу» (Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 1994, с. 415). Несчастный и обездоленный дурак занимает почетное место у многих народов. У русских – это Иван-дурак, Емеля-дурак, который ленив до предела, а потому все время лежит на печи. Его поступки противоречат расчетам житейского здравого смысла и потому кажутся глупыми, а между тем он оказывается мудрее своих «умных» братьев, потому что «угадывает мудрость каким-то вещим инстинктом» [Трубецкой, 416]. Он как бы запрограммирован на иномирное поведение. Дурак сложен, его образ непонятен и стереоскопичен. В русских сказках о дураке – слабость волевого героического элемента.
Дурак во всех сказках ленив, лежит на печи и не любит работать. Он грязнуля и зачастую пьяница. Но главное его свойство – он все делает по-дурацки, т. е невпопад, не как все люди, вопреки здравому смыслу. Он идет, не зная куда, точнее, куда глаза глядят, куда ноги несут. Это делало его фигуру комической.
Дурак приносит вред семье и обществу, но делает это не по злому умыслу, а по недомыслию. Народ же симпатизирует ему, потому что он правдив и простодушен. В середине сказки ему вдруг начинает везти, он превращается в необыкновенно удачливого человека. Дурацкое поведение становится залогом счастья.
Итак, дурак пребывает в состоянии неразумной пассивности, которому все блага приходят сами. В этом проявляется специфический русский характер: пассивность, лень, надежда на «авось», на то, что все сделается само собой. Такая сказка окрыляет человека, вдохновляет его, но в то же время усыпляет его энергию. Дурак есть и у немцев (в сказках братьев Гримм, например).
Суть дурака – глубока: отказываясь от контролирующей деятельности разума, он получает возможность постижения высшей истины, которая открывается человеку сама. Его пассивность – это ожидание, когда истина придет вопреки здравому рассудку, без усилий, сама собой, он открыт для высшей силы. Отсюда поговорка: Бог дураков любит.
Язык фиксирует коллективные стереотипные и эталонные представления о человеке, называемом «дураком». Эти представления отражены в первую очередь в лексическом фонде языка, в частности, в его фразеологии. В системе языка лексико-семантическое поле «дурак» включает синонимы тупица, глупец, шут, юродивый, называющие различные признаки нестандартного поведения или качеств человека. Тупица — это человек, у которого «малая скорость восприятия и обработки информации, низкая степень способности к интеллектуальной деятельности» (беспросветный тупица); глупец — «человек, неспособный к интеллектуальной деятельности» (глупый, что малый, глупому не страшно и с ума сойти); шут — тот, кто «избрал для себя роль дурака» (шут полосатый, шут гороховый); юродивый — «непохожий на остальных во всём изначально» (см. также далее). Все они изображают человеческие неудачи (кроме юродивого): достоинство у них легко превращается в фарс, мудрость – в идиотизм. Антоним – умный, выделяется на основе признака «высокая степень способности к интеллектуальной деятельности»; создание оксюморона умный дурак возможно не только и не столько благодаря парадоксу, сколько закреплённому в сознании русского человека ещё одному качеству дурака – иметь особое видение природы вещей, тем самым проявлять свой особый ум (например: Не будь дураков на свете, не стало б и разума; Дурак завяжет и умный не развяжет).
Во фразеологическом и паремиологическом фондах русского языка сохранены единицы, с помощью которых о дураке говорят как о человеке, чьё поведение оценивается неодобрительно-отрицательно. В таких фразеологизмах как базовые используются слова-компоненты дурак, голова, например: набитый дурак, петый (устар.) дурак, отпетый дурак, беспросветный дурак, круглый дурак, набитый дурак, стоеросовый дурак, стопроцентный дурак, валять дурака (дурочку), оставлять в дураках, дурень дурню розь, нашел дурака, дураку закон не писан, ищи дурака, дурак с замочкой, большой руки дурак и др.; голова соломой набита, без царя в голове, голова садовая (еловая), дубовая голова, дурья башка, мякинная голова.
Слово-компонент дурак маркирует фразеологизмы в идеографическом аспекте: с их помощью называется такое поведение, когда один из участников ситуации (некто Y) не позволяет/позволяет квалифицировать свои действия как нарушающие социальный стереотип. Так, например, в идиоме нашёл дурака описана ситуация, когда некоторый субъект Х навязывает другому субъекту – Y поведение, связанное с нарушением его планов, интересов, т. е. ему предлагается вести себя так, как если бы Y являлся самим Х и был заинтересован в реализации его планов и его интересов. Фрейм, который соотносится с такой ситуацией, может включать следующие знания: поведение, для которого характерны идентификация себя самого с другим, отказ от своего Я, нивелирование своих личностных характеристик свойственно людям психически неразвитым, интеллектульно ущербным, т. е. неспособным в принципе выделиться из группы других в силу природного недоразвития; поведение таких людей нарушает норму. Эта категория людей квалифицируется в языке с помощью лексемы «дурак» (любопытно значение русск. диалектизма дурь – «гной»; др. – прусск. durai «боязливо»; лит. padurmai «стремительно»), закрепляющей в своём значении признаки несвойственного большинству людей поведения, которое оценивается как нестандартное, а значит – опасное.
Лингвокреативное мышление отображает сцену с субъектом «дурак» в виде протоситуации, которая абстрагирована от деталей и включает признаки: поведения субъекта, называемого «дурак», характеризуется нарушением существующих стереотипов; такое поведение опасно для других участников ситуации, чьё поведение соответствует принятой норме. При соотношении этой протоситуации с образной микроструктурой (гештальтом) обнаруживаются совпадающие признаки: 1) нарушение нормы поведения; 2) опасность такого поведения для человека, квалифицирующего самого себя как соответствующего норме. В идиоме нашёл дурака совмещаются в одно категоризующее номинативное основание смыслы – «поведение, нарушающее норму», «отказ от своей личности» и образное основание – «интеллектуально и психически ущербный человек, противопоставленный всем остальным как непредсказуемый, т. е. опасный». В идиоме нашёл дурака сближение эмпирического образа – дурака и номинативного замысла – «навязать нестереотипное (несоответствующее норме) поведение» – создаёт условие для психического напряжения с последующим развитием эмотивной оценки осуждения такого поведения и рациональной отрицательной оценки.
Лексема дурак в составе идиом реализует значения, отображающие типовые представления носителей языка, являющиеся одним из источников культурно-национальной интерпретации: «ситуативно выгодная роль» (на дурака вся надежда, строить из себя дурачка); «ситуативно невыгодная роль» (оставить [остаться] в дураках, не будь дурак); «нестандартный человек» (большой руки дурак, страна дураков), «эталон глупости» (не на дурака напал, дураку закон не писан, ищи дурака); «препятствие к достижению цели» (свяжись с дураком, дай дураку волю, с дураком поневоле согрешишь).
Фразеологизмы с компонентом голова, используемые для оценки низких интеллектуальных способностей (одна из характеристик того, кого квалифицируют как дурака), сохраняют культурно-национальное понимание интеллектуальной нормы и культурные образы дурака. Компонент голова во фразеологизмах, используемых для квалификации человека как дурака, имеет символьное значение «центр интеллекта, разума» (голова соломой набита, дубовая голова, голова садовая, дурья голова). Такие фразеологизмы называют один из признаков дурака – неспособность или низкая способность к интеллектуальной деятельности. Мотивационной основой таких идиом является образ чучела, которое символизировало в языческих празднествах (веснянках, на Купалу, Костробунько) мифическое божество, предназначенное для ритуального уничтожения (эти чучела в конце праздника сжигали или топили). Позднее чучело стало выполнять функцию имитатора самого человека (чучело в поле для отпугивания птиц, чучело огородное и т. п.) Смысловое сближение лексем «дурак» и «чучело» основано на общности признака —ненормальный человек, квазичеловек, замена подлинного человека, игрушечный человек.
Между тем в паремиологическом фонде русского языка образ человека, называемого дураком, представлен более полно и позволяет обнаружить его сугубо русские культурно-национальный черты. Так, интеллектуальные качества дурака в русских пословицах почти «не обсуждаются», напротив, ряд образных выражений сохраняет оценку удивления-одобрения перед особым «дурацким» умом и везением: Хоть дурак да съел бурак, а умный так; Дурак и в бочке сидя волка за хвост поймал; Дураку-то и отсталого дают. Чудесная удачливость героя национального фольклора Иванушки-дурака стала иллюстрацией национального миропонимания (не рационально-логического, а иррационального): гармония мира и человека, его социальный успех обусловлены способностью к синтетическому, а не аналитическому или наивно-бытовому мышлению (в русском фольклоре вообще не очень-то поощряется процесс собственно «думания»: Думать хорошо, а отгадать и того лучше; Догадка лучше ума; Думает индейский петух, Думает плотник с топором, да писака с пером; Дума что борода: лишняя тягота; От большого ума досталась сума). В русском сознании образ Иванушки-дурака является эталонным и заключает в себе главное качество – созерцательное отношение к действительности, приятие её и себя в ней в уже существующем виде: дураку везде счастье. Такое состояние восприимчивой пассивности обеспечивает удачу и в конечном счете – жизненный успех главного героя русских сказок. По верному замечанию А. Синявского, «дурак не доверяет ни разуму, ни органам чувств, ни жизненному опыту, ни наставлениям старших, потому что как никто другой доверяет Высшей силе. Он ей – открыт». Вероятно, поэтому большая часть паремий утверждает бессполезность обучения дурака традиционным путям и моделям познания: Дурака учить, что мёртвого лечить [решетом воду носить] – только портить; Когда солнце орла пожрёт, камень на воде всплывёт, свинья на белку залает, тогда дурак поумнеет; С дураком говорить – в стену молотить; Дурака пошлёшь, а за ним и сам пойдёшь. Русский народ отмечает также, что глупый да малый всегда говорят правду. Таким образом, об умственных способностях человека, называемого дураком, в русской культуре судят как о нестандартных, нарушающих общепринятые бытовые представления.
Интересны выражения, отражающие отношение к дураку как к чему-то неприятному, но повсеместно существующему, к тому, с чем необходимо смириться: Дома не так, а в людях дурак; Нашего бога дурень; На наш век дураков много; За дураками не за море ездить и дома есть; У нас дураков семь байдаков, да ещё и угол не почат; Много на свете дураков: всех не перечтёшь; Дурак дурацкое и делает; Дураку везде простор. Возникновение дурака воспринимается как нечто естественное, само по себе существующее в мире, а не окказиональное или криминальное: Дурак, что мутовка: куда выросла рогуля, туда и торчит; Как рожены, так и заморожены; Дураков не орут, не сеют, а сами родятся; Дурак сам скажется.
Таким образом, дурак, дурацкое расценивается в русском сознании как нечто само собой разумеющееся, имеющее право на существование и свою специфику. Эта специфика определяется ещё и таким свойством дураков, как нарушение существующего порядка, стремление к хаосу, путанице, шуму: Дурак с дураком съедутся – инно лошади одуреют; Дурак с дураком сходилися, друг на друга дивилися; Дурак давку любит; Свалка – дураков простор; Дурак дурака и хвалит [и тешится, и потакает].
Человек, определяемый как дурак, постоянно пребывает в радости и веселье, немотивированных с точки зрения большинства людей, но эти его эмоции обладают такой силой, что часто вызывают смех самих окружающих: Дураку всё смех на уме; Дурацкий смех – не смех, а плач; Рад дурак своей масти; Рад дурак, что дуру нашел; Дурак дураку рад; Чужой дурак смех, а свой дурак – стыд. Единственным способом совладать с дураком считается физическая расправа, её дурак побаивается, как и всякий другой человек, хотя и эта мера признаётся как малоэффективная: Умный слова боиться, дурак – плети; Дурака и в алтаре бьют; Дурака бьют, а умный не суйся; Про всех дураков не напасёшься кулаков; Не вольна в дураке и дубинка. Наоборот, паремии закрепляют народный опыт, признающий бесполезность каких-либо мер исправления дурака, его «невписанность» в человеческий стандарт и поэтому особую силу: Над дураками нет старосты; Дураку закон не писан; В дураке и царь не волен; На дурака и мухи не садятся; Лучше слыть озорником, чем дураком; С дураком и найдёшь – не разделишь; От дурака плюнь, да отойди;Ленивого дошлюсь, сонливого добужусь, а с дураком не совладаю; От черта – крестом, от медведя – перстом, от дурака – ничем.
Дурак – это как бы король, правитель наоборот. Дураков и шутов часто использовали как замену в древних ритуалах жертвоприношения. Он своего рода козел отпущения.
Итак, проведённый анализ языкового материала позволяет сделать вывод, что в русской языковой картине мира образ того, кто квалифицируется как дурак, включает следующие характеристики: дурак – это тот, кто своим поведением и интеллектуальной деятельностью нарушает норму, разрушает социальные стереотипы и поэтому оценивается неодобрительно. Быть дураком может быть ситуативно выгодно. В образе дурака также закрепляется представление как о чём-то ненастоящем, игровом. Главным же является непохожесть дурака на всех остальных. Эта непохожесть особого рода: её природа необъяснима и загадочна и потому опасна.
В русской языковой картине мира закреплено и представление о дураке, как о чём-то неизменяющемся, некоем эталоне предела интеллектуального и психического развития: Через дурака перерос, до умницы не дорос. Время перестаёт иметь отношение к тем, кто квалифицируется как дурак: Дураку, что ни время, то и пора; Дурак времени не знает; Дураком родился, дураком и помрёшь. Это обусловливает, в свою очередь, некое завидное положение дурака как существа, связанного с тайной жизни, дурак всегда – дитя малое, поэтому обидеть его – большой грех. Идентификация того, кто назван дураком, с ребёнком, остановившимся в развитии, на наш взгляд, определяет культурно-национальную интерпретацию этого образа. Такая интерпретация нашла закрепление и дальнейшее развитие в авторских текстах русской литературы. В произведениях русских писателей («Идиот» Ф. Достоевского, «Юшка» А. Платонова, «Дурочка» И. Бунина, «Чудик» В. Шукшина и др.) образ дурака символизирует потерянную человеческую суть – безграничное доверие к миру и другим людям, святую неспособность ко Злу. Представление и знание русских о нем покоится на мифологических пластах, в которых преодолевается стандартная ситуация.
ЮРОДИВЫЙ. В советской культуре XX века в один разряд с дураком попали юродивые. Но так было не всегда. В период расцвета христианства на
