Читать онлайн Особенности дифференциальной диагностики расстройств мышления на примерах клинической практики бесплатно
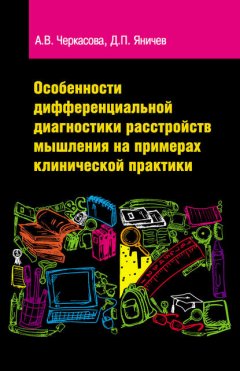
© Черкасова А. В., Яничев Д. П., 2014
© Издательский дом «Неолит», 2014
Введение
К наиболее распространенным заболеваниям, встречающимся в клинической практике психолога, работающего в области большой психиатрии, относятся заболевания шизофренического круга (такие как параноидная шизофрения, шизоаффективные расстройства, шизотипические расстройства) либо психические расстройства, вызванные различными заболеваниями головного мозга (органические расстройства), – в большинстве случаев идет речь об эпилепсии, последствиях различных поражений головного мозга (травматических, токсических, вирусных), дегенеративных заболеваниях пожилого возраста либо врожденной умственной недостаточности (различного генеза). Также часто встречаются люди с выраженными расстройствами личности (психопатиями) и больные, страдающие различными видами зависимостей.
Помимо общей клинической картины заболевания важным диагностическим критерием дифференциальной диагностики является исследование нарушений мыслительной сферы больного, т. е. определение типа нарушений мышления, характерного для того или иного заболевания.
Именно особенности мыслительного процесса позволяют устанавливать логические связи между понятиями и событиями, причинами и следствиями, а именно умение устанавливать адекватные логические связи обуславливает адаптацию человека к окружающему миру, и, таким образом, особенности мыслительного процесса и являются общим признаком наличия или отсутствия психической патологии. Таким образом, диагностика мышления является одной из наиболее важных задач, стоящих перед работой клинического психолога, о чем и пойдет речь в данном пособии.
Очевидно, не имеется в виду то, что в задачу психолога входит оценить исключительно особенности мыслительного процесса, множество других сфер психической деятельности также не должны оставаться без внимания в процессе психодиагностической работы. Лишь благодаря комплексному исследованию можно осуществить процесс психодиагностики, т. е. качественно составить психологическую картину заболевания.
Условно расстройства мышления можно разделить на нарушения по шизофреническому и по органическому типу, главным критерием является частота встречаемости при тех или иных заболеваниях. Особые диагностические трудности доставляют те случаи, когда мы имеем дело с такими расстройствами, как органическое шизофреноподобное заболевание головного мозга или, например, пропфшизофрения (развитие шизофренического процесса на фоне интеллектуальной недостаточности), когда расстройства мышления могут иметь как шизофренические, так и органические нарушения, что затрудняет дифференцировку заболеваний.
Такие же диагностические трудности могут создавать больные шизофренией, страдающие своим заболеванием на протяжении длительного периода времени, когда прогрессирование заболевания достигло степени выраженного эмоционально-волевого дефекта. В таком случае за счет выраженности негативной симптоматики мышление испытуемых может производить впечатление скорее как мышление людей, страдающих органическим заболеванием головного мозга, нежели больных шизофренией. Следовательно, в этом случае целесообразным является наряду с исследованиями особенностей мышления проводить также исследование особенностей нейродинамики, чтобы исключить причину заболевания вследствие органического повреждения головного мозга. При проведении методик, направленных на изучение особенностей нейродинамики (например, теста Бентона), важно иметь в виду, что некоторые трудности при выполнении данных проб больным могут обуславливаться не столько снижением нейрокогнитивных функций, сколько являться следствием именно расстройств мышления (примеры см. в Приложении).
Также некоторые диагностические сложности при оценке особенностей мышления могут представлять больные, страдающие грубыми расстройствами личности (психопатиями). В некоторых случаях можно наблюдать нарушения мышления, внешне напоминающие шизофренические, и в данном случае важно правильно понять причину нарушений. Например, истероидные психопаты могут создавать внешнюю картину нарушений операциональной сферы мышления, сходную с шизофренической, но нарушения эти имеют под своей основой совсем другую природу. А именно: зачастую такие больные демонстрируют вычурную логику лишь по причине стремления показать свою уникальность, неповторимость, подчеркнуть своеобразие своей мыслительной деятельности с целью произведения положительного впечатления, не отдавая себе отчета в том, что подобные особенности могут создавать впечатление выраженной психопатологии. Они, как правило, способны дать отчет об эксцентричности своих ответов, но даже после этого демонстрация уникальности не прекращается, так как для истероидной личности является характерным стремление к произведению впечатления любого рода – как положительного, так и отрицательного, основным мотивом в данном случае является подчеркнуть свою неповторимость.
К другому типу личностной патологии, способной повлечь за собой нарушения операциональной сферы мышления, можно отнести тревожно-мнительный личностный радикал. При выполнении заданий с психологом подобный больной настолько не уверен в себе, боится ошибиться и настолько хочет произвести благоприятное впечатление, что зачастую совершает столь же «странные», как и у больного шизофренией, ошибки. Выраженная тревога является заметным препятствием для структурирования мыслительной деятельности.
Таким образом, учитывая влияние личностных особенностей человека на структуру его мыслительного процесса и способ его взаимодействия с окружающими, в процессе психодиагностического исследования помимо использования методик, выявляющих специфические нарушения мышления и органические патологии высшей нервной деятельности, имеет смысл не пренебрегать использованием психологических методов, исследующих особенности личности больного. Наибольшую часть методик, используемых в диагностике личности, занимают самоопросники. Тут же появляется еще одна трудность – способность человека к адекватному выполнению самоопросника. И не только по причине его личного отношения к тестированию, а по причине наличия тех же самых расстройств мышления, способных воспрепятствовать правильному пониманию вопросов. Поэтому в процессе заполнения личностного самоопросника в задачу экспериментатора входит оказывать больному некоторую помощь, а именно – приложить максимальные усилия для того, чтобы донести истинный смысл каждого вопроса до пациента, при этом не подсказывая ему, т. е. не провоцируя на ответы, которых ожидает экспериментатор.
Кроме этого, помимо использования самоопросников для исследования личностных особенностей испытуемого, возможно применение в практике проективных методик, именно таким образом понижая проблему неправильного восприятия стимульного материала. Преимуществом является также то, что испытуемые в значительно меньшей степени могут прогнозировать результаты проективных методик. Единственная сложность в данном случае возникает из-за необходимости применения экспертной оценки при трактовке результатов, что делает результаты значительно более зависимыми от позиции экспериментатора и поэтому менее достоверными. В качестве элемента комплексной диагностики проективные методики являются практически необходимой составляющей грамотного психологического заключения и дают хорошие результаты; изолированное же их применение, к сожалению, является не всегда обоснованным.
Базисным учебником по патопсихологии в настоящий момент считается учебник Б. В. Зейгарник «Патопсихология». В «Патопсихологии» Зейгарник подробно рассмотрен ряд психологических методик, три из которых («Исключение четвертого лишнего», «Пиктограммы», «Толкование пословиц») являются основными базисными методами патопсихологического исследования мыслительной сферы и дифференциальной диагностики расстройств мышления, именно практическому применению данных методик и посвящена данная книга. Варианты применения и трактовки результатов данных методик развиваются и видоизменяются по настоящий момент. Некоторые термины, предложенные Б. В. Зейгарник в ее работе, уже не являются универсальными, а некоторые из введенных позже терминов до сих пор вызывают острые споры о своей правомерности – в качестве примера можно рассмотреть такую характеристику, как «аморфность мыслительного процесса», которая до сих пор является камнем преткновения между московской и петербургской школами патопсихологии.
Но при обсуждении проблем дифференциальной диагностики расстройств мышления все же не стоит забывать, что данная проблема имеет прежде всего прикладной характер, и при ее решении клинический практический опыт превалирует над теоретическим построением. И здесь мы сталкиваемся с другой проблемой, остро встающей перед молодыми специалистами, – высокопрофессиональное применение любого из нижеописанных методов требует качественной оценки психолога как эксперта. Приводящиеся во многих учебниках и рекомендациях клинические примеры являются в большей степени иллюстрациями, подтверждающими теоретические базисы методики, чем часто встречаемыми в практике случаями, что затрудняет применение данных примеров для овладения практическими навыками проведения данных методик. Точно так же иногда встает вопрос о правильной дифференциальной диагностике расстройств мыслительной сферы при различных смешанных или коморбидных психических заболеваниях, что также достаточно трудно решается с помощью имеющихся в большинстве пособий или учебников «чистых» показательных случаев.
Таким образом, в данном пособии мы рассмотрим основные понятия, фигурирующие в области патопсихологии расстройств мышления, принципы работы основных методик и определим различия расстройств мышления по шизофреническому и по органическому типу, опираясь на случаи из клинической практики. В книге рассмотрены как яркие и показательные примеры ответов больных при выполнении «Пиктограмм», «Исключения лишнего» и «Толкования пословиц», так и распространенные ответы, являющиеся характерными для больных, страдающих описанными заболеваниями. Примеры дополнены рисунками больных, выполненными в процессе патопсихологического исследования, которые можно рассмотреть в «Приложениях».
Патопсихология и развитие современной дифференциальной диагностики расстройств мышления
Начинать разговор об особенностях развития дифференциальной диагностики расстройств мышления стоит с уточнения поля ее деятельности, т. е. поля деятельности патопсихологии как отрасли психологической науки. Наверное, наиболее верное и однозначное определение поля деятельности современной патопсихологии принадлежит французскому психологу, философу и психоаналитику Жаку Локану (1978). Ж. Локан считал, что медицинскую психологию, которая занимает смежную область между психологий и медицинской наукой, стоит разделять на две основных фундаментальных отрасли: на клиническую психологию и на патопсихологию. Целью и задачей клинической психологии являются изучение и разработка методов психологической интервенции с целью излечения от психического недуга (психотерапия) либо с целью повышения общего качества жизни, улучшения адаптивных способностей человека, независимо от наличия у него психических расстройств (психокоррекция). Основной целью патопсихологии являются описательное изучение и исследования особенностей функционирования психики человека, отягощенной психическим расстройством. И именно исходя из этого можно легко понять, почему вопросы дифференциальной диагностики являются в своей сути отраслеобразующей проблематикой пато психологии. И если задачи патопсихологической дифференциальной диагностики нарушений нейродинамики могут быть полностью заменены в скором времени методами лабораторного исследования (ЭЭГ, МРТ и т. д.), то альтернативы патопсихологическому экспериментальному исследованию мышления и личности пока не предвидится.
Начало современного этапа развития современной патопсихологии можно условно отнести ко второй четверти ХХ века, именно в это время начинается активная разработка именно экспериментально-психологических методов оценки особенностей функционирования психической сферы человека в условиях патологических изменений, вызванных психическими расстройствами, которые впоследствии оформятся в инструментарий патопсихологической науки. Классические работы психиатров и медицинских психологов конца XIX – начала ХХ века (разграничение этих двух специальностей в тот период во многих случаях возможно только на основе субъективного мнения ученого, к какой именно отрасли относятся его работы) опирались в основном только на клинический описательный анализ феноменов, а также на метод «мысленного эксперимента», или экстраполяции, т. е. следовали наставлению Т. Рибо: «Болезнь является самым тонким, хотя и самым жестоким экспериментом, поставленным самой природой» (1886). Начиная с 20-х годов ХХ века основной вектор развития психопатологии смещается в сторону разработки стандартизированных тестов, самоопросников, а также в сторону проективных методик, что являлось данью уважения набирающему тогда силу психоаналитическому течению. Также важно отметить, что именно в это время происходит окончательное разграничение понятий «патопсихология» и «психопатология» и формирование патопсихологической науки в современном смысле этого слова, данное событие можно соотнести с появлением «Медицинской психологии» Эрнста Кречмера в 1927 году.
Так, если первыми стандартизированными патопсихологическими методиками были разнообразные тесты оценки интеллекта в целом (Бине, 1905) или отдельных его составляющих («Счет по Крепелину», 1894), то в 20-х годах появляются значительно более комплексные и информативные методы исследования психической сферы в целом и отдельных ее свойств в частности (Роршарх, 1921). В свете подобного бурного развития патопсихологического инструментария активное развитие патопсихологии явилось совершенно закономерным. Несмотря на то что сама «патопсихология» как отдельная отрасль медицинской психологии претендовала на свое существование еще с конца XIX века (Штерринг, 1900), до этого времени она не могла найти собственную нишу, отличную от клинического анализа психопатологии или психотерапевтических исследований («Медицинская психология» П. Жане, 1924). Именно по мере достижения достаточно высокого уровня развития патопсихологического инструментария патопсихология стала способна решать задачи тонкой дифференциальной клинической диагностики. Именно их решение стало требовать не только общего знакомства с методиками, но и наличия специфических профессионально-психологических навыков и знаний, что и позволило патопсихологии полностью оформиться в отдельную отрасль медицинской психологии, отличную как от клинического подхода в психиатрии, так и от клинической психологии в рамках медицинской психологии в целом.
Основоположником современной отечественной патопсихологии, наверное, стоит считать Блюму Вульфовну Зейгарник с ее классическим фундаментальным учебником «Патопсихология». Несмотря на то что сама Зейгарник в своей работе дает многочисленные ссылки на работы предшественников – прежде всего своего учителя А. Р. Лурию (под руководством которого она долгие годы работала, его имя прежде всего неотрывно связано с формированием как науки несколько другой отрасли медицинской психологии, а именно нейропсихологии), теоретические базисы Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, Запоржца, именно ее монография «Патопсихогия» является той отправной точкой, с которой начинается современный этап развития данной науки в нашей стране и большинство положений которой являются базисными и по сей день.
История развития основных классических методик, применяемых в патопсихологическом исследовании
Метод «Опосредованного запоминания при помощи пиктограмм» имеет достаточно длинную историю в отечественной патопсихологии. Первые модификации данной методики широко применялись еще с 30-х годов в работах по психологии, но все они значительно отличались от современного варианта либо по процедуре проведения и обработки результатов, либо по цели использования данного метода (варианты А. Н. Леонтьва, Л. С. Выготского). Впервые современный дизайн патопсихологического исследования метод «Пиктограмм» получил в работах А. Л. Лурии (1963) – была сформулирована инструкция, незначительно отличающаяся от используемой и по сей день. Основная заслуга в данном случае принадлежит Б. В. Зейгарник, которая впервые предложила использовать данный «значительно упрощенный вариант» для исследования особенностей мышления людей с психическими расстройствами. Именно простота в процедуре проведения и явилась залогом популярности данной методики. На настоящий момент существует целый ряд модификаций методики «Пиктограмм» в рамках дизайна, предложенного А. Л. Лурией, – больному дается ряд слов и словосочетаний для запоминания, но его ассоциативная деятельность в изображениях ничем другим, кроме ряда запретов, не сдерживается. Основное отличие большинства модификаций заключается в различных наборах слов для запоминания, наиболее распространенными наборами на сегодня являются варианты А. Л. Лурии, Б. В. Зейгарник, В. М. Мясищева и Б. Г. Херсонского. Мы в нашей работе рассмотрим набор Б. Г. Херсонского как наиболее распространенный. Важно отметить, что субъективная сложность слов в наборах разных авторов различна и не предполагает смешивания между собой. Также важно учесть, что при анализе результатов в модификации Б. Г. Херсонского (1988) имеется полная возможность использовать предложенные им стандартизованные и валидизированные критерии оценки, что является не полностью обоснованным при использовании других наборов, что расширяет возможности как количественного, так и качественного анализа результатов.
«Исключение четвертого лишнего предмета»: данная методика была впервые предложена в 1952 году Сусанной Яковлевной Рубинштейн и описана в ее монографии «Экспериментальные методики патопсихологии». С тех пор эта методика является одной из основных патопсихологических методик исследования мышления. Хотя за время существования данная методика имела целый ряд незначительных модификаций (наборы карточек С. Л. Рубинштейн, Б. В. Зейгарник, Ф. Л. Полякова, Л. Н. Собчик и пр.), большинство изменений касалось изменения либо самого набора предметов, изображенных на карточках, либо изменения визуального изображения предметов (в некоторых вариантах делались попытки перерисовывать карточки на более современный лад, что иногда затрудняло их восприятие). В нашей книге рассматривается классический набор, предложенный Б. В. Зейгарник, так как нам кажется, что он является наиболее устоявшимся и прошедшим проверку временем. При использовании других вариантов иногда возникает необходимость внесения поправок на возможные артефакты – так, например, цветной вариант, предложенный Ф. Л. Поляковым, делает необходимым принятие поправки на феномен «цветового шока» у больных шизофренией, что, несомненно, делает результаты исследования более чувствительными к наличию нарушений, но также повышает опасность гипердиагностики. Но вместе с тем при использовании классического инструментария часто возникает проблема трактовки результатов в рамках современной терминологии, именно этой проблеме и посвящены последующие главы.
«Толкование пословиц» в практике патопсихологического исследования активно применяется еще с последней четверти XIX века. Классический вариант данной методики (когда больному предлагается несколько пословиц или идиом и предлагается объяснить переносный смысл высказывания) использовал в своих судебных экспертизах В. Х. Кандинкий (1880), а великий русский психиатр В. М. Бехтерев писал о нем в своей «Объективной психологии» (1910) как об одном из «классических психологических экспериментов». Существует большое количество модификаций данной методики, но их все можно разделить на два основных варианта: первый – это классический, а второй (как, например, предложенный Б. В. Зейгарник (1973)) предполагает задания на соотнесение предложенных пословиц или идиом с предложенным списком толкований. Мы в нашей работе остановились на рассмотрении классического варианта проведения как более распространенного из-за кажущейся простоты процедуры, но предполагающего экспертную оценку со стороны специалиста, что иногда может вызывать трудности. Список самих идиом соответствует списку, предложенному Б. В. Зейгарник в своем учебнике «Патопсихология». Впрочем, необходимо уточнить, что поскольку оценка идиом и пословиц в данном случае является экспертной, то специалист вправе незначительно варьировать данный список, добавлять или убавлять отдельные идиомы с целью оптимизации патопсихологического исследования в зависимости от конкретной задачи, но делать это он может исключительно в рамках собственной ответственности.
Основные виды нарушений мышления
Помимо проведения методик, способных оценить особенности операциональной сферы мышления, следует также обращать внимание на целенаправленность мыслительного процесса – проще говоря, то, как больной ведет беседу, что облегчит проведение процесса психодиагностики, дополнит общую картину типа расстройства мышления.
Для больных шизофренией характерно нарушение целенаправленности в том смысле, что они в той или иной степени не способны поддерживать процесс мышления в одном русле. Логические связи и ассоциации рождаются у больных случайным образом – по их собственным законам, являющимся понятным исключительно им самим и значительно затрудняющим понимание речи для окружающих людей. Исходя из собственных ассоциативных связей, больные перескакивают с темы на тему, не в состоянии структурировать разговор по логически понятной схеме. Больные же, страдающие органическими заболеваниями головного мозга, напротив, поддерживают целенаправленность скорее в гипертрофированной форме, что также затрудняет понимание их речи здоровым человеком за счет невозможности больного отделить главное от второстепенного, неспособности опускать из излагаемого рассказа несущественные моменты.
Рассмотрим подробнее основные нарушения, на которые следует обращать внимание в процессе беседы.
Резонерство
Резонерство, или «бесплодное мудрствование», – нарушение мышления, являющееся характерным для эндогенных больных. В данном случае мы наблюдаем склонность больного к монологичной речи, когда он высказывает свои мысли, которые представляют собой поток пустых, бессмысленных рассуждений, не имеющих четкой направленности. Человек рассуждает, не имея стремления дойти до какого-либо вывода, до итога в своих рассуждениях. Он может говорить, оперируя одними и теми же терминами, повторяя одни и те же реплики, перефразируя свои суждения, но они не имеют ни основы, ни направленности на то, чтобы почерпнуть что-то новое из собеседника. В результате данного монолога человек как бы топчется на одном месте, он может говорить об одном и том же длительное время, его речевой поток не иссякает, поскольку ни к чему не ведет и не требует никакого результата.
Смысловые соскальзывания
В данном случае целенаправленность мыслительного процесса человека нарушена таким образом, что, поддерживая разговор, он резко перескакивает с одной темы на другую так, что уловить направление русла его мышления представляется сложным. Данные соскальзывания связаны с тем, что в процессе монолога человек опирается на свои собственные ассоциации, обусловленные неспецифичностью построения логических связей. Например, в случае ответа на какой-либо вопрос человек, начиная отвечать по существу, под влиянием случайной ассоциации резко переходит в другое русло и впоследствии неоднократно меняет тему разговора, вероятно, даже кардинальным образом. Со стороны может показаться, словно он уходит от ответа, но на самом деле это может быть и не так, просто человек не способен контролировать свой мыслительный процесс, направляя его строго в одну сторону.
Разорванность мышления
Данное расстройство является наиболее выраженным нарушением целенаправленности мыслительного процесса, когда соскальзывания принимают такую форму, что смысл речи больного перестает быть понятным. Если при наличии эпизодических соскальзываний можно уловить суть как бы частей рассуждений больного, то при разорванности мышления речь больного представляет собой набор из не связанных между собой по смыслу предложений или даже слов, что является крайне грубой патологией. Подобный уровень данного нарушения в психиатрии имеет характерное описательное название – «мышление по типу словесной окрошки».
Амбивалентность суждений
Данный тип нарушений характерен в первую очередь для эндогенных больных, но может встречаться также и при некоторых расстройствах личности, например истерических. Амбивалентность заключается в наличии одновременно двух полярно разных суждений касательно одного и того же вопроса. Например, больной рассказывает про продуктивную симптоматику, с которой он столкнулся в период обострения заболевания, связывая свои переживания с болезнью, и тут же говорит о том, что все, что он говорит, имело под собой реальную основу. Говорит о своей привязанности к какому-то человеку, но вместе с тем отзывается о нем со злостью.
Символизм
Смысл данной особенности мыслительного процесса заключается в том, что больной склонен находить в обыденных вещах окружающего мира особое значение – например, по-своему толковать значения имен, чисел, названий и т. п., считать, что они встретились ему неспроста, имеют скрытый смысл. Символизм в мышлении часто является предпосылкой к бредообразованию. Так, например, один больной отказывался общаться с медперсоналом, одетым в белые халаты, так как считал, что «врачи – убийцы в белых халатах», но охотно отвечал на вопросы медбрата, одетого в костюм зеленого цвета. Другая больная тщательным образом прослушивала все песни, размещенные в социальной сети знакомыми ее дочери, так как была убеждена в наличии скрытого смысла, адресованного лично ей, в словах песен.
Аморфность
Данный термин для описания нарушений мыслительной сферы больных шизофренией является несколько менее распространенным, чем прочие термины, описанные в данном разделе. Некоторые исследователи склоняются к тому, что он является излишним, так как представляется частным случаем разноплановости и амбивалентности мыслительного процесса, в связи с чем применять данную характеристику необходимо с особой осторожностью.
Под аморфностью мыслительного процесса подразумевают общее снижение целенаправленности мыслительного процесса, невозможность правильно поставить цель рассуждения и, соответственно, трудности в достижении каких-либо итоговых выводов. Часто создается впечатление, что, с одной стороны, больной способен удерживаться в плане задаваемого вопроса, но все его ответы несут внутреннюю неопределенность, незавершенность и поэтому являются малоинформативными. Критика к данным особенностям собственного мышления обычно ускользает от испытуемого, ему самому кажется, что он изъясняется предельно ясно и понятно. Аморфность мыслительного процесса часто проявляется в рамках негативной симптоматики на инициальном этапе эндогенного заболевания. Достаточно редко она сопровождается другими видами формальных расстройств мышления и поэтому часто не может быть однозначно диагносцирована с помощью патопсихологических методик, следовательно, она должна быть определена по особенностям речи, построения диалога испытуемого самим экспериментатором, который в данном случае выступает в роли эксперта.
Ригидность
Ригидность мыслительного процесса (или застреваемость) является характерным для больных, имеющих органическое заболевание головного мозга, либо при шизофреническом процессе на поздних периодах развития заболевания, когда формируется так называемый псевдоорганический (олигофреноподобный) синдром, при котором на передний план выступает негативная симптоматика (о чем коротко упоминалось выше). Ригидность характеризуется тем, что, зацепившись за какую-либо деталь, фразу в разговоре («застряв на ней»), она не забывается, а остается в сознании и так или иначе всплывает в процессе всего разговора. В ходе выполнения методик ригидность явно проявляет себя, например, при выполнении теста Бентона, когда при воспроизведении данных фигур по памяти больной демонстрирует большое количество персевераций, т. е. в последующих фигурах рисует элементы предыдущих. Отсюда вытекают сложности в работе за счет трудности переключаемости внимания, а также из-за таких особенностей личности, как злопамятность, аффективная застреваемость, что является одной из характерных черт личности, измененной по органическому типу.
Обстоятельность
Данный тип нарушения мышления прежде всего характерен для лиц, имеющих органическое заболевание головного мозга. Оно проявляется в том, что мышление больного отличается излишней детализированностью, мешающей ему отделить главное от второстепенного при разговоре. Он часто воспринимает вопросы буквально и отвечает на них также соответствующим образом. Например, если спросить больного о причине его госпитализации в стационар, симптомах его заболевания, он начнет свой ответ на вопрос, например, с повествования о том, как складывалась его жизнь за последние десять лет, из каких событий она состояла, какие люди его окружают. В отличие от больного шизофренией, он не отвлекается от темы – напротив, он отвечает на вопрос излишне подробно, последовательно, не упуская ни одной детали, так как искренне полагает, что все подробности его монолога являются значимыми. Так, например, на вопрос о взаимоотношениях с родственниками он не сможет дать краткую характеристику внутрисемейной ситуации или характера отдельного человека – вместо этого он предоставит излишне подробный рассказ о том, что представляет из себя каждый член семьи, описывая, например, его внешность, все его интересы, привычки, если не всю биографию данного человека. Постепенно перейдя к вопросу о взаимоотношениях, больной тщательным образом опишет разговоры членов семьи, значимые ситуации, способные по своему смысловому значению отразить общий характер взаимоотношений, но сделает это излишне детально. Отвечая на вопросы о своем времяпровождении, интересах и т. п., он может изложить в подробностях свою биографию за период нескольких последних лет – человек не теряет целенаправленности, он помнит, на какой вопрос отвечает, просто он не может исключить несущественные подробности, считая все детали своего монолога важными, без которых он не сможет дать ответ на поставленный вопрос. Так, например, описывая ситуацию, когда он ходил в гости к знакомому, он может подробно рассказать, где именно живет этот знакомый, как выглядит его дом, какие там находятся улицы и магазины, что продают в этих магазинах и т. п. Вопросы человек понимает буквально – например, при проверке его ориентировки в месте, при вопросе о том, где он находится, больному может не прийти в голову ответить, в каком лечебном учреждении он находится, он может назвать точный адрес или же сказать, что «в столовой», «в коридоре» – ему задали вопрос, и детализированное мышление не дает ему понять его более широко, чем он прозвучал.
Проводя исследования с помощью стандартизированных методик, мы изучаем сохранность операционального компонента мышления, проводим дифференцирование между нарушениями мышления, характерными для эндогенных больных и больных с органическим поражением головного мозга. Нарушения операциональной сферы при органических заболеваниях называются конкретизацией, т. е. больной понимает смысл задания конкретно по контексту; в тяжелых случаях, сопровождающихся выраженным интеллектуальным снижением, – буквально. Формулируя свои ответы, больной способен объяснить свою мысль, только приводя пример конкретной жизненной ситуации, способность к абстрактному мышлению нарушена.
Нарушения операционального компонента мышления у больных шизофренией носят название актуализации латентных признаков, что иными словами можно объяснить как доминантность второстепенных, скрытых признаков для оценки происходящего, т. е. основным движущим мотивом человека будут являться косвенные моменты вместо главных, что является предпосылкой нарушения построения адекватных логических связей и нарушения смыслополагания в целом. Таким образом, человек составляет свою собственную логику, не являющуюся понятной и предсказуемой, он опирается не на основные моменты, т. е. составляет неадекватную логическую связь, или паралогизмы, в связи с чем мыслительный процесс больного в целом теряет логически понятную детерминацию.
Рассмотрим нарушения операциональной сферы мышления, т. е. способности устанавливать логические взаимосвязи, на примере основных методик, использующихся в клинической практике. При проведении методик, затрагивающих особенности мыслительного процесса, очень важно обращать внимание не только на суть ответа больного, но и обязательно на то, как именно он объясняет свой ответ, особенно в случаях работы с эндогенными больными. При выполнении методики «Пиктограмм» встречаются рисунки, которые на первый взгляд отражают взаимосвязь с понятием, но при расспросе становится понятно, что пациент вложил в свой рисунок не тот смысл, который представляется ожидаемым с точки зрения нормальной логики. Так, например, одна больная на понятие «Разлука» рисует прерванную линию – глядя на рисунок, можно предположить, что имеется в виду абстрактный символ, обозначающий разъединение, но при расспросе больная отвечает, что ее рисунок касается межличностных взаимоотношений: «Отношения двух людей длились, затем кто-нибудь уехал, они прервались, потом снова встретились, дальше вместе». Другой пример – на понятие «Победа» больная рисует звезду. Такой образ встречается в рисунках здоровых людей, где под звездой подразумевается либо военная награда, либо символ победы русской армии над фашизмом. Но в данном случае больная, разглядывая свой рисунок, сравнивает изгибы линий звезды с жизненным путем человека: «Человек рождается, живет и умирает. Его сокрушают, ломают, но он находит выход любой ценой». Некоторые больные на понятие «Обман» рисуют деньги, что также достаточно часто встречается в рисунках людей, не имеющих психиатрического диагноза, где под данным образом подразумеваются фальшивые деньги, но рисунки больных зачастую имеют другие объяснения, как, например: «Весь обман обычно связан с деньгами», «Надо было дать 5, а дал 10 – или наоборот».
Если идет речь о методике «Исключение лишнего», то в ней также часто наблюдаются случаи, когда больной выбирает правильный вариант ответа, но при просьбе обосновать свой ответ, т. е. объяснить, на основании чего он объединил три предмета в одну группу, больной демонстрирует выделение несущественного признака. Например, рассматривая карточку «Стол, чашка, стул, кровать» больные часто исключают чашку, что само по себе является адекватным вариантом ответа, но при обобщении трех остальных предметов они руководствуется не тем, что остальное является предметами мебели, а тем, что «остальное деревянное, а чашка керамическая» или тем, что «остальное – это предметы, на которых можно посидеть». Другой пример – рассматривая карточку «Книга, ноты, туфля, картина», больные зачастую исключают туфлю, но не по причине того, что остальное – это предметы искусства, а потому, что остальное «можно смотреть, изучать» или «оно из бумаги».
Таким образом, даже рассматривая случаи, когда больные дают верные варианты ответов, преждевременно делать выводы о сохранности мыслительного процесса, во многих случаях нарушения операциональной сферы мышления по типу актуализации латентных признаков могут обнаружить себя лишь при более подробном расспросе.
Практика применения основных патопсихологических методик
Методика пиктограмм
Смысл данной методики заключается в том, что больному предлагается список понятий, на каждое из которых он должен изобразить рисунок, который максимально четко отражал бы суть данного понятия – так, чтобы потом, глядя на свой рисунок, больной сам мог определить, что это было за слово. Таким образом, мы смотрим обоснованность связи данного понятия с его изображением – при проведении данной методики более важным является само объяснение, даваемое больным смысловой нагрузке рисунка, нежели даже сама изображенная пиктограмма как таковая.
Во многих случаях больные оказываются неспособными создать четкую ассоциацию со словом-стимулом, понимая лишь основное его значение, не рассматривая нюансы. Например, на понятие «Победа» или «Подвиг» человек рисует улыбающееся лицо и дает объяснение наподобие «Победил, доволен собой», «Совершил подвиг, радуется», т. е. человек понимает саму эмоциональную окраску слова, представляет, что это является чем-то хорошим, но раскрыть суть самого понятия уже не способен. В подобных случаях пиктограммы зачастую представляют собой набор стерео типных лиц, не отличающихся друг от друга. Например, рисунки больного на понятия «Веселый праздник», «Подвиг», «Победа» и «Счастье» представляют собой улыбающееся лицо, а такие как «Болезнь», «Печаль», «Вражда» – печальное. В подобных случаях важно не перепутать подобную стереотипию, встречающуюся в рисунках эндогенных больных, со стереотипией, характерной для лиц, имеющих органическое заболевание головного мозга. Как уже упоминалось выше, следует обращать особенное внимание не только на то, что изобразил человек, но и на то, как он это объясняет. При органических заболеваниях головного мозга пациент, как правило, представляет себе конкретную жизненную ситуацию на каждое понятие, но ситуация эта слишком сложна и обогащена деталями для того, чтобы он смог изобразить ее на своем рисунке. По этой причине рисунки данной категории больных часто представляют собой набор стереотипных человеческих фигур. Например, на понятие «Вражда» они могут изобразить двух одинаковых людей, стоящих рядом, объясняя это тем, что они «ругаются, враждуют». Эндогенный же больной в таком случае оказывается неспособен описать ситуацию, отражая только ее эмоциональную окраску, о чем было изложено выше. Кроме того, при дифференцировке стереотипий в рисунках при двух вышеизложенных типах нарушений мышления следует обращать внимание на наличие или отсутствие элементов органического графического симптомокомплекса (ОГСК), что может сыграть вспомогательную роль при трактовке пиктограмм.
В одном случае больная шизофренией, выполнившая методику «Исключение лишнего» на высоком уровне, при выполнении пиктограмм продемонстрировала грубые нарушения мышления, изобразив стереотипные рисунки, представляющие собой солнце и тучи. Изображение рисунков данным образом объяснила тем, что «У нее внутри большее ничего нет, только это». На просьбы изобразить рисунки к понятиям, имеющим негативную окраску, давала резкую реакцию отказа: «Как я могу это нарисовать, если у меня внутри этого нет? Я понимаю значение слов, но во мне этого нет, поэтому я и изобразить не могу». Так, на понятие «Разлука» и «Обман» она написала фамилию подруги, с которой прежде поддерживала отношения: «Вот она знает про это, а я нет». Поскольку «У меня внутри природа, детство», на понятие «Веселый праздник» она нарисовала солнце – «Радость – солнышко», как и на понятие «Счастье» и «Справедливость» – «Оно светит всем, нужно нарисовать большое, но большое на листе не поместится».
Достаточно часто встречаются случаи, когда ассоциации эндогенных больных рождаются благодаря созвучию слов, подобные ассоциации иногда относят к «классическим шизофреническим» ответам. Слова не имеют никакой смысловой связи между собой, и больные строят ассоциации, опираясь исключительно на похожие звуки или буквы. Например, одна больная на слово «Развитие» нарисовала шарф, потому что «он развевается», другая на слово «Победа» нарисовала букву «П», третья на «Справедливость» изобразила букву «S» при невозможности обосновать свой ответ: «Не знаю, так захотелось». Другая больная, в силу негативного отношения к процедуре исследования, изображала с помощью букв те понятия, которые являлись для нее сложными и требовали умственной нагрузки – так, на понятие «Любовь» нарисовала букву «Л», «Победа» – «П», «Вражда» – «В».
Зачастую встречаются случаи, когда человек не может объяснить своего рисунка, полностью отказываясь от ответа, но при этом сам рисунок является показательным для диагностики, как и отсутствие способности его объяснения. Подобный феномен носит название «псевдоабстрактных образов» – больной изображает какой-либо абстрактный рисунок, лишенный смысловой нагрузки даже для него самого.
Примеры псевдоабстрактных образов:
Печаль – черный квадрат.
Счастье – пирожное.
Справедливость – два яблока.
Обман – ряд из кружков.
Справедливость – треугольник.
Победа – стрелочка вверх.
При работе с эндогенными больными также встречаются случаи, когда больной не знает, что нарисовать, поэтому рисует «что-нибудь, потому что попросили нарисовать», представляя произвольный образ, отдавая себе отчет в том, что он не имеет никой связи с понятиями, что указывает на недоосмысление сути задания, неспособность подобрать ассоциацию любого рода, нарушения мотивации или реакции негативизма. Например, на понятие «Подвиг» человек рисует круг: «Не знаю, почему круг, просто чтоб что-нибудь нарисовать, не хочу думать», – на понятие «Сомнение» рисует карандаш: «Потому что я не знаю, что нарисовать» (больной выполняет пробу карандашом).
Встречаются случаи, когда при размышлении над данным понятием человек представляет себя ситуацию, адекватную понятию, но в рисунке он отразить эту взаимосвязь не может. Например, на понятие «Подвиг» человек рисует почку, объясняя это тем, что «Отдать ребенку орган – это подвиг». Он изображает суть ситуации, которую представляет, но глядя на его рисунок, нельзя понять, о какой именно ситуации идет речь, путем анализа рисунка посторонним человеком нельзя раскрыть суть понятия, так как вся ситуация, додуманная больным при ассоциации с этим словом, на рисунке не отображена. Другой больной, например, на понятие «Подвиг» рисует огонь, потому что «Спасти из огня – это подвиг». Ситуация, изложенная пациентом, действительно является подвигом, но его рисунок представляет собой только огонь, на нем нет изображений спасенного человека, спасателей, человека, оказавшегося в ситуации пожара, т. е. никаких основных элементов рисунка, по которым можно было бы сделать вывод, что речь идет именно о подвиге, что изображение огня представляет собой именно это слово, а не, например, жар, страсть, гнев и т. п. Точно так же при рассмотрении огня на понятие «Подвиг» в данном случае нельзя понять, имеется ли в виду пожар или, например, Вечный огонь. Сюда же можно отнести пример, когда на понятие «Болезнь» пациентка рисует больницу, но изображенное ею здание не имеет никаких признаков, по которым можно было бы судить, что это именно больница, а не любое другое здание. На понятие «Сомнение» больные часто изображают два предмета: «Две кофточки – какую бы надеть», «Яблоко и груша – что бы съесть», но из рисунка не видно, что имеется в виду не просто изображение двух предметов рядом, а суть выбора между ними.
Еще одна особенность, встречающаяся в рисунках эндогенных больных, – это взаимосвязь изображенных образов: больные стараются вписать все предложенные образы в единую, часто плохо внутренне согласованную систему. Данная система может строиться вокруг какой-либо актуальной доминирующей идеи больного, «построения идеального общества», преследования со стороны спецслужб или чувства обиды по отношению к родственникам или коллегам по работе и т. п., либо пиктографические образы могут представлять собой последовательно разворачивающийся сюжет. При этом важно иметь в виду, что больной будет не в состоянии уйти от выбранного сюжета, даже когда тот потеряет внутреннюю логику и детерминацию. Так, например, при выполнении данной методики одна больная на все понятия рисовала одного и того же человека, данные понятия в этом случае отражали его линию жизни: на понятие «Тяжелая работа» изображен человек, который «делает проект чего-нибудь, например, дома», «Счастье» – «У него получается этот проект», «Развитие» – «Он читает книгу, которая поможет ему в его работе», «Обман» – «Он решил, что эта книга ему не нужна, он не будет ее читать, хотя на самом деле она ему нужна – и в этом обман», «Победа» – «У него получилось построить дом, посадить дерево», «Вражда» – «Он считает, что книга не нужна, а другой человек говорит, что она нужна, и из-за этого они враждуют», «Справедливость» – «Он понял, что книга ему все-таки нужна».
Другая больная при рисовании пиктограмм поначалу предоставляла не связанные между собой образы, обозначив эту взаимосвязь по мере усложнения задания. На понятие «Болезнь» она изобразила человека, лежащего на кровати, после чего обозначила взаимосвязь этого рисунка с некоторыми последующими: на понятие «Развитие» нарисовала людей – «Человек после болезни, сначала он лежит, потом встает, идет. Только что лежал, а теперь может бегать-прыгать – в этом развитие», при рассмотрении понятия «Разлука» указала на данные два рисунка, подразумевая то, что она лежит в больнице и находится в разлуке с детьми. На понятие «Обман» так же указала на тех же нарисованных людей, говоря, что это ее дети, которые «ее обманывают», говоря «мама, все будет хорошо, мы погуляем», «а на самом деле воспитывают маму, и получается то, что яйца учат курицу». Взаимосвязь данных рисунков пациентка обозначила стрелками, у которых поставила номера понятий.
«Феномен прозрачности» является еще одной особенностью, указывающей на наличие эндогенного заболевания. Некоторые пациенты при возникающем желании нарисовать новый рисунок вместо предыдущего не зачеркивают первый образ, а рисуют второй поверх первого. То есть в данном случает мы имеем дело с феноменом, который в рамках общей психологии относится к дискретности мыслительного процесса: каждая следующая задача воспринимается отдельно от предыдущей, а выполненное задание полностью теряет свою значимость после исполнения. Подобный феномен обычно нужно рассматривать как проявление склонности к смысловым соскальзываниям мыслительного процесса. Например, на понятие «Болезнь» одна больная нарисовала лицо человека, имеющего печальное выражение. На вопрос о том, каким образом рисунок отражает именно болезнь, а не другое негативное обстоятельство, заштриховала человеку нос – «красный». Далее на понятие «Печаль» также изобразила грустное лицо, после чего решила исправить предыдущий рисунок, чтобы они не были одинаковыми, и на «Болезнь» нарисовала машину «скорой помощи», но изобразила новый рисунок не рядом с предыдущим, а поверх него.
Другая больная на понятие «Справедливость» изобразила рукопожатие, после чего изобразила такое же рукопожатие на понятие «Дружба». При указании на то, что изображения двух разных понятий в ее рисунках являются одинаковыми, на понятие «Справедливость» поверх прошлого рисунка, не зачеркивая его, изобразила весы.
Рассматривая пиктограммы эндогенных больных, требуется уделять особое внимание не только тому, какой именно рисунок изобразил больной, но и как именно он его интерпретирует. Нередки случаи, когда испытуемый изображает образ внешне адекватный данному понятию, но при этом дает неадекватную интерпретацию, в ходе рассуждений демонстрируя выраженную непоследовательность суждений, резонерство. Так, например, одна больная на понятие «Развитие» изобразила спираль, что является распространенным образом в выборке нормы, но при просьбе объяснить свой рисунок начала рассуждать о том, что «Спираль идет вверх, это символ мудрости. Это солнечный поток, идет по спирали к небу. Человек тянется вверх, к Богу, солнцу, счастью, это развитие».
Последующее воспроизведение понятий по изображенным фигурам зависит от выраженности расстройств мышления больного: чем более выражено нарушение построения логических связей, чем длиннее нить рассуждений больного, тем меньше вероятность того, что впоследствии он сможет вспомнить, какую именно мысль отражает данный рисунок. Важным элементом расстройств мышления эндогенных больных является снижение произвольности психических процессов. В силу непоследовательности мыслительной деятельности больной зачастую не может отслеживать нить собственных рассуждений и, как следствие, демонстрирует сниженную способность к концентрации внимания.
Что касается рисунков больных, имеющих органическое заболевание головного мозга, то можно отметить, что изображенные ими пиктограммы обычно представляют собой набор стереотипных образов, где выраженность стереотипии зависит от тяжести заболевания. В отличие от больных шизофренией сложность выполнения задания для такого рода больных заключается в том, что в силу конкретности мышления они оказываются не способны представить себе абстрактный образ, оперируя исключительно представлениями об определенных жизненных ситуациях, соответствующих данным понятиям. По этой причине они зачастую испытывают существенные затруднения при выполнении данного задания: на каждое понятие больному требуется придумать и представить себе ситуацию, которую бы было возможно изобразить на листе бумаги. По причине столкновения с такого рода сложностями больные зачастую отказываются от ответов либо, прежде чем приступить к рисованию, обдумывают свои рисунки достаточно продолжительное время, но в конечном итоге изображения разных понятий оказываются похожими друг на друга, представляя из себя набор одинаковых стереотипных человеческих фигур. Например, на понятие «Счастье» больной рисует человека, который «улыбается, счастлив», на понятие «Победа» – такого же вида фигуру – человека, который «победил, радуется», на понятие «Дружба» – двух людей, расположенных рядом, которые «дружат». Данная стереотипия впоследствии создает проблему для больного при воспроизведении понятий по собственным рисункам. При выраженных нарушениях мышления по типу конкретизации признаки органического поражения головного мозга также видны в рисунках – линии фигур искривлены, наблюдаются признаки элементов органического графического симптомокомплекса (наличие двойных, несовпадающих, пересекающих линий), изображенные образы предельно просты, инфантильны, с тенденцией к уменьшению в процессе рисования, что также делает рисунки больного неразборчивыми, еще более затрудняя последующее воспроизведение. Не следует также забывать о том, что при наличии органического повреждения головного мозга так же страдает и память. Соответственно, воспроизведение понятий для такого рода больных становится практически невыполнимой задачей.
Примеры
В качестве примера яркой демонстрации грубых нарушений мышления при выполнении методики «Пиктограмм», характерных для шизофрении, можно рассмотреть следующий случай.
Больная Л., 45 лет, диагноз «Шизофрения параноидная. Непрерывный тип течения. Парафренный синдром» (см. Приложения).
Рисунки представляют собой стереотипные линии: при просьбе нарисовать рисунок, внешне отличный от предыдущих, говорит, что не может, так как «может представлять» данные понятия «только таким образом». На эмоционально положительные понятия, такие как «Веселый праздник», «Вкусный ужин», «Счастье», «Любовь», «Победа», «Подвиг», «Справедливость» и «Дружба», рисует волнистые линии, объясняя это тем, что это «повышенное настроение», «возвышенное». На вопрос о том, почему данные линии имеют множество «подъемов», а не один, отвечает, что «это неважно, сколько их». При акцентировании внимания на том, что рисунки получаются одинаковыми, несмотря на то что данные понятия имеют разные значения, говорит, что «по-другому не может их сопоставить», «это приятное – параболы, гиперболы». На понятие «Развитие» также рисует волнистую линию. При просьбе объяснить рисунок говорит, что нарисовала «под этот знак», указывает на линию, говорит, что «все начинается и продолжается». На вопрос психолога о том, о развитии чего, например, идет речь, что «развивается», отвечает «все, как, собственно, и вы». На понятия «Болезнь», «Печаль», «Обман» рисует прямые линии, потому что это «негатив, негодование, нет повышения». На понятие «Обман» рисует также прямую линию, говорит, что «это где чего нет». На понятие «Тяжелая работа» рисует линию с одним «подъемом», говорит, что это «негатив, но есть повышение, не все же тяжело работать». На понятие «Разлука» рисует четыре вертикальные черты, находящиеся на расстоянии друг от друга, пустые промежутки между ними подчеркивает линиями в процессе объяснения, говорит, что это «время». На понятие «Вражда» рисует две линии на расстоянии друг от друга, объясняет, что это «негатив, разрыв, негодование, настроение такое». На понятие «Сомнение» рисует линию с маленькими изгибами, говорит, что так представляет себе сомнение, «мало ли в чем сомневаемся». Через час на просьбу вспомнить, какое слово отражает каждый из рисунков, отвечает «это все огорчение, влюбленность, с этим связано». Данная стереотипия характерна для рисунков эндогенных больных, изображенные образы не способны обеспечить должной продуктивности запоминания.
Другой пример. Больной, страдающий органическим поражением головного мозга и эпи-синдромом, испытывает затруднения с рисункам на стимул «Темная ночь» – изобразил небо с луной и звездами, но ему самому этот рисунок крайне не нравится, так как «если есть луна – значит ночь не темная», но «если это ночь – то без луны не понятно», начинает просить экспериментатора перейти быстрее к следующей пиктограмме.
Другой больной с интеллектуальным снижением на стимул «Трудная работа» рисует женскую фигуру и объясняет, что это его мама, которая всегда жалуется на то, что очень устает на работе.
Рассмотрим примеры ответов на стандартный набор слов-стимулов методики «Пиктограмм».
1. Веселый праздник
В большинстве случаев как больные шизофренией, так и больные ОЗГМ успешно справляются с данным пунктом задания. Наиболее распространенными из изображаемых картинок являются воздушные шары, новогодняя елка, напитки, бокалы, фейверки и т. п.
В некоторых случаях эндогенные больные изображают на данное понятие улыбающееся лицо, что отражает хорошее настроение в связи с праздником: «праздник, весело», «люди радуются». Также часто встречаются изображения солнца при различных интерпретациях: «Радость, солнышко», «Люблю солнце, солнечную погоду, это как праздник», «Солнце дает жизнь, веселый праздник ее искусственно поддерживает. Это хорошее настроение». Встречаются также изображения цветов: «Люблю весенние цветы, это счастье», «В праздник дарят цветы постоянно».
Другие примеры актуализации латентных признаков:
Прямоугольник, нижняя грань длиннее других – «Это стол. Какой праздник без стола? Или шляпа, есть же карнавальные шляпы».
Солнце с улыбкой – «Дети, например, любят солнце».
Ведро красной икры – «Ведро – потому что икра полезна для мозга». На вопрос, как именно это связано с праздником, больная рассуждает о том, что «Праздники можно устраивать хоть каждый день. Например, я люблю праздновать день рождения раз в месяц».
«Скала, со скалы упал, а потом поднялся – это веселье».
Больные с органическими расстройствами часто делают формально адекватные примитивные рисунки – елка (Новый год), шарики, улыбающиеся лица.
2. Тяжелая работа
На данное понятие также в большинстве случаев больные изображают адекватные рисунки, такие как лопата, молот, кирпич и т. п. Встречается образ лица, имеющего грустное выражение, – «Лицо такое от тяжелой работы», «Устал», «Грустно» и т. п.
Другие примеры актуализации латентных признаков:
Ботинок – «От работы устают ноги».
Костяшка домино – «Тяжелее всего ничего не делать. Надо изобразить пустоту – нарисую пустую фигуру домино».
Заштрихованный круг – «Когда работа тяжелая, человек загружается полностью».
Человек в кандалах – «Заключенные работают, это тяжело».
Человек, который ползет, – «Так устал от работы».
Туча – «Перед дождем тучи тяжелые. Наверное, гром – это Божья работа».
Будильник – «Потому что тяжелее всего в работе – это ранний подъем», при этом на будильнике в рисунке отмечено неадекватное время для подъема.
Трава – «Потому что для меня стричь траву – тяжелая работа».
Стог сена – «Это тяжело, нужно сначала накосить, разбросать по грядочкам, сложить в стожок, отнести домой».
Открытая книга (из рисунка не понятно, что это книга) – «Это книга учета. Те, кто с ней работает, устают, пока записывают».
Прямоугольник, поделенный на три части, – «Это вагон. У меня вечером обычно такое чувство, как будто вагон разгружала, усталость».
Стул – «После тяжелой работы посидеть на стуле».
Крест – «Медицинский крест. У медиков “скорой помощи” самая тяжелая работа».
Люди за столом – «Разногласия в коллективе – это тяжело. Люди сидят за столом и не могут договориться».
Кричащий рот – «Любая работа будет тяжелой, если будет проходить под криком».
Рисует прямоугольник, объясняя, что это книга – «Читать тяжело, глаза устают. Может быть тяжеленный том», далее делит прямоугольник на четыре части с помощью линий, длительное время рассуждает – «Похоже на окно, окно как книга. Это окно в мир, создают много картин», в частях прямоугольника ставит точки – «Это звезды, звездочки ассоциируются с чем-то хорошим».
Рисует машину – «На машине ездят на работу». На вопрос о том, почему работа тяжелая, говорит, что «на дорогах пробки».
Больные с органическими расстройствами часто рисуют пиктограмму, относящуюся к их конкретной работе, – лопата (копать тяжело), кирпич (он тяжелый), автомобиль (я работаю шофером и иногда сильно устаю).
3. Вкусный ужин
Большинство испытуемых, как пациентов психиатрических клиник, так и здоровых, изображают тарелки со всевозможной едой – мясом, колбасой, конфетами, салатами и т. д.
Примеры актуализации латентных признаков:
Цветок – «Когда ешь, лучше, чтобы рядом на столе стоял цветок».
Человек – «Ужин, он радуется, хлопает в ладоши».
Акцентируя внимание на том, что «Ужин – это вечером», больная помимо тарелки с пищей и рта с языком рисует в первую очередь перевернутое солнце. Развернутого объяснения не дает – «Вечер – значит, солнце перевернуто».
Пустая тарелка – «Если все съели – значит, ужин был вкусный».
Больная рисует тарелку и циферблат, указывающий на время 12 часов – «Ужин в позднее время, 12 часов ночи», т. е. акцентирует внимание на вечернем времени, не придавая значения тому, что ужин «вкусный» (позднее воспроизводит понятие как «поздний ужин»).
Больная нарисовала круг, пояснив, что это тарелка. К вопросу о том, почему тарелка пустая, нарисовала в круге глаза и улыбку, отчего рисунок стал похож на лицо, – сказала, что нарисовала «глазунью с кетчупом».
Сковорода (из рисунка не понятно, что изображенный предмет является именно сковородой) – «На сковородке вкусно все получается».
Вилка, нож и тарелка, в тарелке нарисован знак «+», что означает «вкусный».
Больные с органическими расстройствами при выполнении данного стимула часто испытывают трудности с дополнительными несвязанными характеристиками – мотив того, что ужин является поздним, становится либо доминирующим (изображены только часы), либо, наоборот, полностью опускается.
4. Болезнь
Данное понятие можно отнести к сложным, так как не все больные способны подобрать адекватный образ. Многие пациенты способны на данное понятие изобразить такие атрибуты, как градусник, таблетки, человека, лежащего на кровати, и т. п., но если человек не справляется с данным понятием, то, рассуждая о выраженности структурных нарушений мышления, можно предположить, что последующие понятия будут представлять для него существенные трудности. Достаточно часто встречается образ лица, имеющего печальное выражение, – «болеет, плохо» и т. п.
Примеры актуализации латентных признаков:
Прочерк – «Это может быть неизвестная болезнь».
Прочерк – «Болезнь – это пустота», после чего больная выделила этот прочерк как отрезок линиями, изображенными с двух сторон – «Потому что это промежуток времени».
Хоккеист – «Они все инвалиды, получают ушибы».
Надпись «хи-хи» – «Психиатрическую больницу называют “дом хи-хи”».
Туча с дождем – «Дождь – это кашель, мокрота или пот, гром из тучи – головная боль». При повторном обследовании больная изобразила такой же рисунок, объясняя, что «Дождь как насморк, туча как температура».
Человек на виселице – «Болезнь – это бездействие. Смерть – это тоже бездействие, поэтому это болезнь. Смерть – это еще не конец, после нее еще много чего».
Точка – «Когда болеешь, смотришь в одну точку».
Темное пятно – «Темные силы, которые мешают жить, валят с ног».
Человек – «У него появились плохие мысли, это болезнь».
Заштрихованное пятно – «Это затемненное сознание».
Дождь – «Пасмурный день – это плохое настроение. Хотя некоторые любят дождь, но я не люблю. Плохое настроение может выливаться в болезнь».
Изображено печальное лицо, нарисованное в центре креста «Скорой помощи».
Неровный круг – «Любая болезнь как рваная рана, какое-то обстоятельство послужило причиной болезни».
Крест – «Потому что болезнь – это нехорошо».
Три капли – «Слезки, человек плачет, ему плохо».
Черное пятно – «Сплошная чернота, плохо. Болезнь доставляет неприятности другим и себе в первую очередь».
Больная рисует лицо человека, потом перечеркивает его – «СПИД. Человек болеет, к нему лучше не приближаться».
Рисует прямоугольник – «Кровать».
Лицо, имеющее грустное выражение, с сыпью – «Рожа страшная, проказа, нет настроения».
Череп с костями – при объяснении длительное время рассуждает о том, что «Болезней нет, единственная болезнь – это смерть, потому что уже ничего нельзя изменить. Бывают смертельные болезни, как, например, СПИД».
Рисует схематичное изображение кровати, объясняя это тем, что «Здоровый человек ведь не будет лежать все время».
Наклоненная вперед человеческая фигура – «Молящийся человек. Любая болезнь послана Богом для очищения».
У больных, страдающих органическими расстройствами, как правило, можно наблюдать примитивные ассоциации с нахождением в больнице и лечением (кровать, градусник, шприц).
5. Печаль
В большинстве случаев как больные шизофренией и ОЗГМ, так и испытуемые группы нормы, изображают на данное понятие лицо, имеющее грустное выражение. В рисунках эндогенных больных встречается образ тучи с дождем: «Грустно, дождь», «Печально, грустно, не выйти погулять», «Небо плачет», а также капли, подразумевающие под собой слезы, притом что из рисунка не видно, что данные капли являются именно слезами.
Другие примеры актуализации латентных признаков:
Фигурка, сидящая на скамейке, – «Девочка сидит на скамейке, грустит».
Ель – «Елочка, она же колючая».
Человек, лежащий на кровати, – «Он болеет».
Человеческая фигура с цветком в руках – «Он ждет ее на свидание, она не приходит».
Рисует тучу с треугольником, дождь, мокрый асфальт, кленовый лист – «Дождь как слезы. Треугольник перевернутый, потому что что-то пошатнулось, перекосилось, как голова у Пьеро».
Солнце и берег с камнями – «На камне сидит девушка (ставит точку на одном из кругов, обозначающих камни), скучает, смотрит на горизонт – а на что еще смотреть?»
Цветок – «Цветок грустит, потому что это фиалка, потому что она фиолетовая».
Прямой рот – «Губы без улыбки. После всего, что со мной произошло, я перестала улыбаться».
Дом с фонарем, вокруг штрихи, пятна – «Есть такая песня Виктора Цоя: Дом стоит, свет горит, откуда взялась печаль, из окна видна даль». Тот же случай наблюдался при прохождении методики другим больным, который написал «Цой» – «У него есть такая песня». (Следует отметить, что в случаях, когда человек делает надписи, требуется напомнить ему инструкцию задания, требующую не использовать письмо.)
Корабль и человек – «Теплоход ушел, а ты на него не успел».
«Аптека, улица, фонарь» – «Печальное стихотворение печального автора».
6. Счастье
В большинстве случаев больные справляются с данным понятием, изображая, как и испытуемые группы нормы, улыбающееся лицо. Распространенным образом среди эндогенных больных является солнце, интерпретации при этом встречаются различные: «Я люблю солнце, природу», «Солнце дает жизнь всему живому. Если бы я жил в стране, где нет зимы, то был бы счастлив», – а также образ цветов: «Потому что я люблю цветы», «Люблю, когда мне цветы дарят».
Другие примеры актуализации латентных признаков:
Яблоко – «Оно ведь хорошее, оно не обидит».
Человеческие фигуры – «Счастье – это дети».
Обозначает хаотичные штрихи на листе и на столе вокруг листа – «Счастье не вместить на лист. Любовь помещается на листе, потому что она не настолько всепоглощающая, как счастье, она более материальна, это вещи разных категорий».
После изображения на другое понятие солнца и берега с камнями пририсовывает на воде «лунную дорожку» – «Когда солнце встречается с луной – это происходит когда рассвет или закат – то становится видно лунную дорожку. Она есть везде – я ее видела и на воде, и на земле, и в городе, и в деревне. Я по ней хожу – только, конечно, не по воде. Днем она тоже есть, но ее хуже видно».
Цветок и сердце – «Сердце цветет, когда оно счастливо».
Кот – «Счастье – это животные».
Сердце – «Счастье – это здоровье, нарисую здоровое сердце».
Овал, олицетворяющий поцелуй (из рисунка не понятно, что имеется в виду контур губ) – «Счастье – это когда музыка кругом, когда весело, любовь, дружба».
Подарочная коробка – «Приятный подарок».
Торт – «Когда кушаешь сладкое, вырабатывается гормон счастья».
Пишет «777» – «Это казино. Когда выпадает это число, человек выигрывает».
Звезда, от которой отходит линия, – «Когда человек счастлив, он светится, как звезда», на вопрос о том, что обозначает линия, отвечает, что это ручка, – «Звезду же надо за что-то держать».
Больные с органическими расстройствами часто испытывают затруднения при рассмотрении данного стимула, так как он предполагает способность достаточно свободно оперировать абстрактными понятиями, и первой их реакцией является реакция отказа. Сами рисунки в данном случае часто изображают материальную составляющую счастья – «мешок денег», «машина» либо «цветы» (если счастье – это любовь), «несколько человечков» (счастье – это хорошая семья).
7. Любовь
В большинстве случаев больные шизофренией обозначают данное понятие как сердце, больные с выраженными заболеваниями головного мозга – как фигуры двух людей, стоящих рядом, которые «любят друг друга».
Примеры актуализации латентных признаков:
Пирожок – «Я люблю маму, это можно выразить с помощью пирожка. В нем начинка, она закрыта, вокруг безопасность – как с мамой».
Солнце и месяц – «Месяц молодой, луна еще не полная. Месяц не может без солнца, а солнце без месяца».
Рисует линию с зигзагом, затем зачеркивает и рисует ровную линию – «Сначала нарисовала любовь со страстями, потом нарисовала ровную линию, потому что любовь – это равновесие». Затем на это понятие рисует круг, потому что «Это что-то закругленное, линия сошлась, круг ровный. Люди встретились, затем все завершилось. Жизнь как круг – человек рождается, живет и умирает, т. е. возвращается туда же, откуда пришел, поэтому круг». Затем рисует знак бесконечности, потому что «Любовь – два круга, как сообщающиеся сосуды».
Сердце, пронзенное стрелой, и три капли – «Три, больше не нужно, а то будет больно. В сердце всегда есть вода. Можно сказать так – дорогу осилит идущий или вода камень точит».
Цветы – «Потому что я люблю цветы. Хотя на самом деле любовь – это Бог, он создает цветы, но я нарисую только цветы».
Песочные часы – «Часы равновесия. Формы похожи на женственные формы, округлые. Время течет, где-то пусто, где-то густо. Если где-то пусто, то где-то можно восполнить пустоту».
Два сердца – при просьбе объяснить, почему они разного размера, одно значительно больше другого, говорит, что «Мужчина побольше в объемах, у женщины маленькое сердце».
Наушники – «Когда люди любят друг друга, они хорошо друг друга понимают. Это как наушники – для лучшего понимания. Один наушник у одного человека, второй у другого, получается типа телефона».
Рассуждает, что «Любовь бывает разная. Можно любить небо, можно собачонку. Нарисую пушистого котенка». Рисует котенка, но из изображенного рисунка не видно, что нарисован именно котенок, – признает, что «получилось неубедительно, похоже на скорпиона».
Туча с молниями – «Неожиданно, как любовь, – откуда туча прилетела?»
Больная сначала хотела нарисовать поцелуй, но поскольку не знала, как это изобразить, заключила, что достаточно будет изобразить губы (из рисунка не понятно, что данный образ представляет собой именно губы).
8. Развитие
Данное понятие относится к сложным. Часто в этом случае рисуются такие образы, как книга, учебник, цветы, вырастающие из ростков, или же абстрактные графические образы, такие как стрелка, график, спираль, но в большинстве случаев больные испытывают трудности при обозначении этого понятия. Больные ОЗГМ часто изображают человека, который «Растет», «Учится, развивается» и т. п.
Примеры актуализации латентных признаков:
Ракета – «Развитие всего такое же быстрое, как и ракета».
Искривленные линии – «Червячки, их становится больше».
Линии – «Например, развитие завода. Линии – это трубы».
Стрелка, направленная влево, – «Стрелка указывает на то, что идет прогресс – например, в отношениях».
Несколько заштрихованных кругов – «Это картошка. Она растет, созревает, потом ее съедают».
Нота «до» – «Любое развитие идет по ступенькам».
Стрелка с изгибами (падениями вниз) – «Человек совершает ошибки, развивается, ему кажется, что у него все хорошо получается, потом совершает еще большие ошибки, только после этого развивается хорошо, стрелка ровная».
Солнце – «Солнце светит, люди купаются, плавают, у них развиваются мышцы».
Кирпичи, сложенные в форме треугольника, и вертикальную черту рядом – «Строительство дома».
Две линии, берущие начало в одной точке, – «Луч, от малого увеличивается радиус».
Пирамида из квадратов – «Кубики, они развивают мышление детей».
Человек, в области головы – волнистые линии – «У него развивается мозг». При вопросе о том, что помогает «развивать мозг», испытывает значительные затруднения, в конце концов говорит – «знания».
Буква «А» – «Развитие речи».
Волнистая линия – «Это шнурок растягивается», объяснить свой рисунок не может.
Рисует невнятный образ, подразумевающий под собой головастика, – «Он развивается, растет в воде».
Цветы, солнце с глазами и улыбкой – «Цветы тянутся к солнышку, растут».
Больная пишет символ квадратного корня из 3, объясняя это тем, что «любит общаться с мужчинами, у них математический склад ума». На вопрос о том, как это связано с развитием, рассуждает, что «без математики нельзя сделать ничего, даже стол».
Радуга – «В радуге все цвета видны, а каждый цвет – это символ, это во всем важно, даже в одежде».
Рисует круг, внутри людей – «Обычно развитие представляют как движение вверх, а я считаю, что оно должно идти не вверх, а обратно. Люди объединятся, не будет наций, тогда не будет войн».
9. Разлука
Как правило, в данном случае встречаются рисунки наподобие сердца, расколотого пополам, расходящихся дорог, людей, разделенных чертой. Среди рисунков больных ОЗГМ встречаются изображения двух людей, которые «разлучились», неразборчивых образов, обозначающих уезжающий поезд и человека с платком и т. п.
Примеры неадекватных образов (актуализации латентных признаков):
Птицы – «Птицы улетают в небо, разлучаются с детьми».
Дождь – «Разлука – грусть – ассоциируется с дождем».
Луна и солнце – «Их постоянно разлучают – то день, то ночь».
Разорванный кусок ткани – «Отношения ассоциируются с тканью, в отношениях тоже есть нити».
Крест – «Крест – это плохо. Как смерть, разлука бывает разная».
Закрытый глаз – «Потому что хочется плакать, глаз закрытый, чтобы не видеть».
Машина – «Машинка уезжает».
«Водяной матрасик. На нем на воде плаваешь. Если утонешь, тебя будут искать – это разлука».
Плачущая женщина – «От нее ушел мужчина».
Гроб – «Я похоронила много близких, это разлука со мной».
Человек, сидящий на скамейке, опустил голову – «Грустит».
Человек, сидящий на скамейке, – «Разлука – потому что он один». На вопрос, с кем он разлучился, больная ответила: «Ну, пусть будет с котом», после чего дорисовала следы, уходящие прочь от скамейки.
Пустая кровать с одной подушкой – «Потому что на кровати, где раньше спала с мужчиной, потом уже одна спать не сможешь».
Кот – «Я сейчас нахожусь в разлуке со своими котами».
Четыре одинаковых ноги, направленные в одну сторону, – «Ножки, они уходят».
Решетка – «Решетка на окне больницы. Поскольку я здесь, то я в разлуке с близкими».
Конверт – «В разлуке люди пишут друг другу».
Больная рисует квадрат с фигурами внутри – говорит, что не знает, что это. Рассмотрев свой рисунок, начинает рассуждать, что «Это, наверное, треснутое зеркало. Такая ассоциация, потому что это что-то острое, не склеишь. Зеркало разбилось, но можно ведь смотреться в маленькие кусочки, и эти кусочки оставить про запас».
Дорожный знак «кирпич» – «Такая ассоциация, значит, туда идти нельзя» (подробнее объяснить рисунок не может).
Две человеческие фигуры, между ними преграда – «Мама и сын. Между ними… неизвестно, когда встретятся. Их разделяет – ну, пусть будет вода. Родник – такая ассоциация. Доказывает то, что вода – это жизнь, без воды не может быть ничего».
Рисует человеческую фигуру, на вопросы о том, как отражается данное понятие в рисунке, рассуждает о том, что «Человек уходит… с дороги… от мамы…».
Сердце со стрелой – «Это разбитое сердце. В разлуке сердце не радуется».
Железная дорога – «Уехал, и все».
Больная рисует галочку, под которой подразумевается улетающая чайка.
Коробка шоколадных конфет – «Обычно коробку конфет дарят на прощание».
10. Обман
Данное понятие представляет существенные трудности для большинства испытуемых. Больные ОЗГМ, как правило, изображают две человеческие фигуры, объясняя это тем, что «один другого обманывает», либо человеческую фигуру, находящуюся в ситуации обмана, не отраженной в рисунке, – «Человек уходит из дома – потихоньку, а дома ничего не знают», «Сидит, замышляет что-то», «Ему назначили встречу, он стоит и ждет, а к нему не пришли» и т. п. В рисунках больных шизофренией часто встречаются образы, которых не существует в природе, – и в этом, с точки зрения больного, заключается обман.
Дорожный знак, ограничитель скорости «70» – «Такого знака нет, есть 60 и 80, а 70 на самом деле нет, и это обман».
Кот с 7 лапами – «Потому что таких не бывает, ненастоящий».
Также часто встречается лицо, отражающее негативные эмоции, при этом встречаются различные интерпретации рисунка.
Лицо – «Обманутый человек, плачет».
Грустное лицо с восклицательными знаками – «Я очень расстроена, что меня обманули».
Лицо со знаками вопроса подле него – «Недоумевающее выражение лица, человек не понимает, как его могли обмануть, зачем».
Плачущий человек – «Обманутый человек плачет».
Человеческое лицо, уголки рта которого опущены, – «Это злобная гримаса, хороший человек обманывать не будет».
Человек с искривленным ртом – «Злой человек, врет».
Стандартным образом на данный стимул являются деньги. В группе нормы данный образ трактуется как «фальшивые деньги», но среди больных шизофренией часто наблюдаются интерпретации иного рода:
Кошелек – «Обманули в магазине».
Маленькие кружки – «Деньги, обман обычно связан с деньгами» (из рисунка не видно, что кружки являются деньгами).
Денежная купюра – «Обманывают – это когда хотят что-то получить неправильным путем – например, деньги».
Также достаточно часто встречаются случаи, когда изображен какой-либо предмет, обозначающий то, что человек получил что-то, что не соответствовало его ожиданиям:
Маленькую коробочка – «Человек ожидал большого подарка, а получил маленький, это обман, он разочарован».
Рисует человека с пустой корзиной, который плачет, – «В корзинке нет того, что он хотел».
В некоторых случаях встречается взаимосвязь «туман – обман»:
«Туман, напустить туману».
Рисует пятно с черточками внутри – «Это туман. Туман – обман. В тумане плохо видно, и когда кто-то кого-то обманывает, тоже получается нечетко. Обманывает, нагоняет туману».
Другие примеры актуализации латентных признаков:
Черта и кружок – «Человек берет чужую вещь, черта – это рука».
Верблюд – «Он обманул ребеночка в песках, обещал покатать и не покатал».
Дождь и солнце – «Природа обманчива».
Стул – «Когда человека обманывают, у него появляется дрожь в ногах, он опускается на стул».
Пистолет – «Я за подобные вещи готова убить».
Ящик – «Что-то прячут в ящике, скрывают, это обман».
Закрытые глаза – «Человек обманывает, закрывает глаза, чтобы по ним не было видно, что он обманывает».
Поезд – «На платформе встречают людей, а они не приехали».
Скрипичный ключ – «Он изображен неправильно».
Конфета – «Обман в орешке. Потому что это не орешек, а шоколад».
Игрушечный заяц с барабаном – «Он ведь ненастоящий».
Туча – «Темная туча, когда человека обманут, у него на душе темно».
Тумбочка, на ней отмечен крест – «Бывало, что в детстве мама спрашивала меня, сходила ли я за хлебом, я говорила, что да, а на самом деле нет».
Платок – «Человека обманули, он расстраивается, плачет».
Хлыст – «Как будто хлыстом ударили».
Стрелка, направленная вправо, – «Обман – это подлость. Люди прекращают общаться. Стрела указывает, что отношения заканчиваются».
Плеер – «Когда человек обманывает, он нервничает, делает вот так (складывает руки, перебирает пальцами). Я не знаю, как это нарисовать. Когда человека обманывают, он расстраивается, хочет отвлечься. Отвлечься можно, слушая музыку».
Человек, повернутый спиной, – «Потому что обман всегда связан с людьми и происходит за спиной».
Рисует «Белое облачко, мираж» – объяснить свой ответ не может, далее пририсовывает к облаку колеса – «Не бывает облаков с колесами».
Овал с вопросом – «Потому что когда обман, на душе пустота и сомнения, обман это или нет».
Игральная карта – «Обман обычно связан с картами».
Нарисован человек – облачко с текстом в голове (мысли) и облачко с текстом около рта (речь) – «Думает одно, а говорит другое», однако в рисунке не отражено противоречие между смыслом мыслей и высказываниями вслух.
«Ухмылка человека, который обманывает».
Батон булки с надписью «Хлеб» – «Лежит булка, а написано, что хлеб – обман».
Половина сердца – «Когда обманывают, половина сердца».
Машина и неоформленное пятно, под которым подразумевается человек, – «Человек говорил, что любит, а сам уехал один на машине. Второй остался один со своей любовью, непонятного вида».
Улыбающееся лицо – «Улыбается, лицемерит».
Человек и паук – «Человек не может улыбаться, когда видит паука».
Предмет неопределенной формы, подразумевающий под собой пистолет, – «Когда делают подлость, плюют, стреляют в спину».
Эндогенная больная с наркозависимостью изобразила шприц – «Потому что много народу недоговаривает, что кололись, – это первое что пришло в голову».
Две человеческие фигуры, изображенные рядом, – «Человек обманывает – это значит, он делает плохо, делает плохо – значит, наговаривает, обзывает».
Больная начинает рассуждать о том, что обман – это «Корысть, ненависть, ложь», рисует закрашенный круг, перечеркивает его, рисунка не объясняет. Далее рисует на то же понятие человека, дотрагивающегося до предмета (из рисунка не видно, что это за предмет). На вопрос о том, что она изобразила, раздраженно отвечает, что «Вы сами должны понимать, что это». После многочисленных просьб объяснить свой рисунок поясняет, что этот предмет является мешком – «Мешок с деньгами, человек оттуда вытаскивает, кража».
Рисует фигуру, сверху от которой расположена черта, – «Мешок с деньгами под полом. Ищут злато, а злато спрятано, под полом».
«Это фига. Я мужу говорю, что он обещал что-то сделать, а он так показывает, говорит: фиг тебе».
Два циферблата, на одном отмечена цифра 12, второй пустой, стрелки ни на одном не изображены – «Одни часы показывают время, а другие остановились, время другое, получается обман».
Больная сначала затрудняется подобрать образ, говорит, что «нельзя так делать», но как это нарисовать, она не знает. В результате рисует лицо с высунутым языком – «Меня обманули, показывают мне язык».
Свинья – «Свинью подложили».
Нарисовано три стакана в ряд и маленький круг – «Есть такая игра, найдешь ли шарик, обман».
Весы – «Весы, которые врут».
Круг с каплями – «Лишение девственности обманным путем. Мальчик обманывает девочку, чтобы получить удовольствие».
«x» – «Икс, неизвестное, обман».
Нарисована рука с поднятым вверх пальцем – «Обещали дать конфетку, а показали фигу», но из рисунка неясно, что именно за ситуация имелась в виду.
11. Победа
Распространенными образами являются флаг страны, человек с кубком, салют и другие атрибуты 9 Мая, человек на пьедестале с номером «1». В большинстве случаев больные, страдающие ОЗГМ, изображают человеческую фигуру, описывая ее как «Человека, который победил», либо улыбающееся лицо – «победил, рад, доволен».
Примеры актуализации латентных признаков:
Изредка встречается рисунок автомобиля – «Есть такая марка машин, я с ними работала», «Это машина марки “Победа”».
Бабочка – «Ассоциируется с полетом, это что-то возвышенное, к чему человек стремится».
Зигзагообразная стрела – «Это молния. Победа происходит резко, она как искра».
Рисует букву «V» – «Виктория», далее пририсовывает другие буквы, переделывая данную надпись в электронный адрес, сообщая, что у нее есть сайт в Интернете.
Мужчина на коленях с цветами – «Он делает предложение, это победа, его же не насильно на колени ставят».
Солнце, туча и радуга – «Потому что когда это все вместе, то это красиво».
Нарисована девушка, рядом море и птицы – «Победить все болезни, поехать на море».
Два человека держатся за руки – «Два человека вместе, была разлука, они соединились».
Флаг – «Знамя Российской Федерации, победа в том, что произошел возврат знамени, который был в царской России, возврат к демократической жизни».
Надпись «ССР» – говорит, что это «Советский Союз, там война была, вроде бы».
Две фигуры вытянутой формы, расположенные рядом – «Это жезлы фараона. Это энергия, с ее помощью можно достичь победы».
Человеческое лицо с открытым ртом – кричит «Ура».
Неразборчивые предметы, обозначающие посуду, – «Вымытая посуда, выполненная работа – это победа».
Рисует флаг, на вопрос о том, что именно за флаг изображен, говорит, что это «Мой флаг, потому что моя победа. Неважно, над чем. Подержать флаг – это уже победа».
12. Подвиг
В большинстве случаев больные, имеющие существенные нарушения мышления по органическому типу, испытывают значительные затруднения при изображении данного занятия, вследствие чего их рисунки зачастую представляют собой человеческую фигуру – «человек совершил подвиг, довольный, радуется», человек с надписью «ура», изображение конкретного подвига (подвиг Матросова, Гастелло и пр.) либо изображение конкретной жизненной ситуации – например, больная рисует младенца – «Спасти ребенка – подвиг. Например, из огня вынести» (на рисунке изображен только ребенок, ситуация, в которой совершается подвиг, не отображена), «Человек спасает другого из огня, из воды, снимает кошку с дерева» и т. п. при том, что вследствие выраженных графических нарушений их рисунки приобретают неразборчивый вид, после чего больные сами не могут вспомнить, что нарисовали.
Примеры актуализации латентных признаков:
Дом – «Построить дом – это подвиг».
Пианино – «Играть на пианино – это подвиг».
Люди, стоит ребенок – «Концертный зал, стоит ребенок, зовет, чтобы пошли за ним. Это подвиг – а вы попробуйте на концерте встать и хоть что-нибудь сказать, хотя бы свое имя».
Бормашина – «Сходить к стоматологу – это подвиг».
Решетка – «Человек сидит за решеткой, другой приходит его спасать – это подвиг».
Человек, который «копает огород на даче».
Цветок – «Человек нарисовал цветок».
Неразборчивый рисунок, образы схематичны – «Спасение. Мальчик хочет поймать утенка. Утенок маленький, еще не может летать. Подошел охотник, хочет спасти утенка от мальчика, поэтому будет стрелять в утенка или поймает сетями, которыми рыбу ловят».
Больная сначала рисует линию со ступенью – объяснить затрудняется – «Человек жил, болел, принимал лекарства…», затем рисует ровный круг, затем круг с изгибами внутри пространства окружности, изгибы означают подвиги – «Если подвигов не было, то ровный круг, если человек совершил подвиг, обогатил внешний мир, тогда появляется линия, много линий внутри круга как кружочки у дерева».
Мама и дети – «Дети чистые и довольные, подвиг материнства».
«Один человек грозит другому пальцем и говорит, что нельзя идти купаться, можно утонуть».
Человек с заклеенным ртом – «Молчание, сделать что-то хорошее, дальше про это промолчать».
Отказывается от ответа, затем вспоминает, что «у нас в районе кинотеатр так называется», после чего рисует кинотеатр.
Человек рядом с домом – «Подвиг – это когда решают что-то сделать… уходят из дома».
Рисует человеческую фигуру, рядом – лицо большого размера. Говорит, что «Подвиг – это когда человек совершает глупость, уходит в себя». Подробнее объяснить свой рисунок отказывается, также мотивируя тем, что «Вы сами должны понимать». Далее говорит, что изображенное лицо – это маска – «Получается человек-маска», подробнее не объясняет.
Кубок – «Например, я выиграла в конкурсе ногтей» (больная работает в маникюрном салоне), но из рисунка не понятно, что изображенный образ представляет собой именно кубок.
Мороженое – «Это подвиг – пойти и купить себе мороженое. Если, например, человек на диете».
Ноги – «За счет танцев улучшается здоровье. Например, мое, у меня плоскостопие».
Рисует человека без рук, который пишет портрет, держа карандаш в зубах, – «Этого трудно добиться, преодоление возможностей».
«Колечко» – «Парень сделал девушке предложение – это подвиг».
13. Вражда
Распространенными образами являются человеческие фигуры, которые дерутся, скрещенные мечи, кулаки, кошка с собакой. В большинстве случаев больные ОЗГМ изображают человеческие фигуры, расположенные рядом, объясняя это тем, что «они враждуют», «ругаются» и т. п.
В рисунках эндогенных больных достаточно часто встречаются изображения или схематичные образы двух людей, между которыми завязывается вражда, притом что из рисунка неясно, что именно за ситуация имеется в виду.
Два лица, которые «недружелюбно смотрят друг на друга».
Пример: лицо с прямым ртом + улыбающееся лицо = грустное лицо – «Друг обиделся на подругу, они поругались».
Два лица, повернутых друг к другу, имеющих недовольное выражение, – больная говорит, что «у них злые лица».
Две линии слева и две линии справа – правая пара перечеркнута – «Один человек делает другому что-то плохое».
Две линии – «Это люди. Они на расстоянии друг от друга, это как вражда».
Две человеческие фигуры, стоящие рядом, – «Они дерутся».
Два человека, один повернут к другому спиной – «Вражда – это когда не дружат… человек уходит от другого… это брат с сестрой».
Другие примеры актуализации латентных признаков:
Рисует поросенка, потом зачеркивает, рисует собаку – «Поросенок, собачка. Можно враждовать из-за поросенка – если он, например, забежит в чужой огород».
Человек, который наносит себе удары ножом, – «Я не знаю, что такое вражда. Никогда такого не чувствовала, но подобные вещи доводят до самоубийства».
Вилы – «Можно общаться как на вилах».
Язык – «Вражда обычно начинается из-за языка, из-за слов».
Точка – «Потому что это ни к чему не приведет в конечном итоге».
Изображен черт с нимбом над головой – «Враждуют черти и святые. Нужно смириться с тем, что есть и плохие, и хорошие.» На вопрос о том, почему и плохое, и хорошее отражено в одном образе, отвечает, что «Я ведь тоже могу быть и плохой, и хорошей».
Спичка – «Вражда распаляется как спичка, потом угасает».
Сначала рисует стрелку, указывающую на вертикальную линию, – «До человека не достучаться», затем стрелку, указывающую на волнистую линию, – «Как колючая проволока, человек дает острую реакцию», затем круг, на который направлены стрелки, – «Живешь, никого не трогаешь, а к тебе лезут», затем стрелку и три встречных стрелки – «Человек живет, сталкивается с обстоятельствами», затем те же стрелки, но в форме спиралей и пунктирных линий – «Каждый живет своей жизнью, сталкиваются, столкновение мнений, обстоятельства, это вражда».
Молния – «Вражда шумная, как молния».
Пустой овал – «Когда кричишь, а в ответ – пустота, получается вражда».
Плюс и минус – «Вражда – это столкновение разных мнений, я нарисовала противоположные полюса».
«Колючий кактус».
Больная рассуждает над тем, «где бывает вражда», заключает, что «в коммуналках», после чего рисует плиту со сковородкой – «Это газовая плита, неподеленная сковородка».
«Солдаты с ружьями» (из рисунка не видно, что это именно солдаты).
Окровавленный нож – «С ним ассоциируется ненависть. Не обязательно кто-то кого-то режет, просто крайне негативная ассоциация».
Сначала больная рисует человека – голова большая относительно тела, квадратной формы, перечеркивает его. Рассуждает, что «В жизни что-то явно не так, мысли спутываются в кучу». На вопрос о том, кого она изобразила, раздраженно говорит, что «Это вы, потому что вы враждуете. Зачем вы даете мне таблетки, каждый день что-то спрашиваете?» Далее успокаивается и рисует другой образ на данное понятие – «Вражда – это когда кого-то бьет человек с палкой».
Лицо с оскаленными зубами – «Он враждует, показывает зубы – эмоции такие».
Изображает прямоугольник с удлиненной нижней гранью, после чего решает – «Это шляпа. Она лежит на стуле, человек может на нее сесть, помять, тогда другой будет сильно ругаться».
Закрашенный круг – «Как одинокая луна. Человек думает, что он хороший, а на самом деле плохой».
14. Справедливость
Данное понятие представляет трудности как для больных шизофренией, так и для больных ОЗГМ. Больные, имеющие органическое поражение головного мозга, рисуют разнообразные конкретные жизненные ситуации, где, по их мнению, люди достигают справедливости. Человек с пачкой денег – «Человек получает достойную зарплату – какую заслужил», «Мальчик получил двойку, его поставили в угол», «Люди, которые держатся за руки, подняв их вверх».
Примеры актуализации латентных признаков:
Золотая рыбка – «Она исполняет желания».
Подарочная коробка – «Человек получает награду по справедливости».
Старушка – «Бабушка, довольна, что все хорошо у ее внуков».
Люди – «Справедливость – это Родина. Родина – это люди».
Медсестра – «Я нарисовала нашу медсестру, она справедливая».
Спираль – «Спираль закручивается, линии ровные, не пересекаются, это справедливость».
Растения в горшках, животные – «В доме все хорошо – это справедливость».
Знак бесконечности – «Хотелось бы, чтобы справедливость была бесконечна».
Улыбающийся человек – «Человек одержал победу, прав в действиях, довольный».
Дерево со сломанной веткой – «Мальчик сломал ветку, поступил несправедливо, неправильно».
Глаз – «всевидящее око, например у Бога, глаз видит справедливость» (Далее следуют рассуждения о том, что события, которые кажутся плохими, на самом деле тоже являются справедливыми – когда случается плохое, это оберегает от чего-то еще более плохого).
Рука – «Справедливость – это когда человек подает руку с чистым, открытым сердцем и душой».
Человек – «Справедливость – это значит люди добились победы в отношениях, правды, у них хорошие отношения. У человека удовлетворение на лице, руки распростерты, он жестикулирует, радуется».
Дом – «Человек сделал что-то справедливое. Например, нарисовал дом».
Кувшин – «В нем молочко. Коровы дают молочко, они приятные животные».
Дед Мороз – «Раздает подарки детям».
Сначала рисует прямоугольник со стрелками на гранях, объяснить затрудняется – «Пыталась нарисовать, что человек жил, потом какое-то обстоятельство…», затем рисует бумеранг – потому что «все вернется».
Рисует волны – «Потому что это прилагательное». При указании на то, что данное слово является существительным, а не прилагательным, говорит, что «Спокойные волны – это справедливо».
Шприц – «Врачи меня вылечили, сделали укол».
Плюс – «Это положительное качество».
Больная рассуждает, что «Справедливость – это, например, когда дают премию за работу», после чего рисует пачку денег, но из рисунка не понятно, что эти деньги являются именно премией.
Рисует двух козлов, идущих по разным бревнам, – «Справедливо, что у каждого из них есть своя дорога, им не нужно сталкиваться».
Знак бесконечности, под ним – крылья птицы – «Равноправие, равновесие. Тут – в половинах восьмерки, знак бесконечности, тут – в крыльях голубя.» На вопрос о том, связан ли сам символ бесконечности с понятием «Справедливость», отвечает, что «Конечно. Истина бесконечна».
Цветок – «Это когда относятся как заслуживаешь, это радость, радость – это цветок».
Три человеческий фигуры, стоящие в ряд, – «Какой-то дефицит выкинули, нужно, чтобы каждый по очереди, чтоб друг друга не задавить».
Сердце – «Два человека вместе. Я вышла замуж, и это справедливо».
Весы – «Какая чаша перевесит, в той и справедливость».
«Я» – «Я должна выбрать справедливый жизненный путь».
Человек, в руке воздушный шарик – «Справедливость – это когда все по-честному. Человек хочет, чтобы все было хорошо, чтобы его любили… Ему радостно».
Лицо – «Некоторые люди считают, что у них справедливые лица».
Рисует звезду – указывая на предыдущие пиктограммы, поясняет, что «Была вражда, потом победа. Пятиконечная звезда находится в Кремле, это символ справедливости».
Часы – «Часы двигаются по справедливости, не обманывают».
Исписанный лист бумаги – «Это грамота. Человек старался, работал, добился, чего хотел, и за это должен быть вознагражден».
Рисует чаши весов, объяснить рисунок затрудняется – «Сложно сформулировать. Короче, добро побеждает зло».
15. Сомнение
Данное понятие представляет трудности для испытуемых. Рисунки больных как шизофренией, так и ОЗГМ зачастую представляют собой в основном человеческую фигуру или лицо: «человек сомневается», «в душе сомнения», «пребывает в сомнениях», «лицо выражает растерянность» и т. п.; не раскрывая в рисунке основную суть понятия.
Примеры актуализации латентных признаков:
Глаз – «Он сомневается».
Яйцо – «Сомнительное яичко – съедобное ли оно. Бывают несъедобные, мутные».
Солнце – «Человек проснулся, посмотрел в окно и увидел солнце, не понимает, сейчас утро или обед».
Сосуд – «Сосуд с ядом. Сомнение, пить или не пить».
Язык – «Когда я думаю, я иногда высовываю язык».
Почтальон несет письмо в дом – «Сомневается, туда ли принес».
Два узла – «Сомнение, какой завязан крепче».
Река – «Я рисую извилистую речку, мне человек говорит, чтобы я рисовала прямую, а я хочу нарисовать такую, ведь прямых речек не бывает, любая река извивается».
Лицо – «На нем отображено сомнение».
Рисует в разных вариантах круги, соприкасающиеся гранями, круги «наезжают» на основной круг, и места пересечений заштрихованы – «Сомнения отнимают много сил, круг – человек, другие круги – сомнения, заштрихованные места – то, что сомнения отнимают у человека, человек тупеет».
«Нарисую человека с шапкой: связал шапку – и сомневается, хорошая ли она».
Буква «Я» – «Я сомневаюсь во всем, будет ли муж со мной».
«Бабушка. Я сомневаюсь, успею ли привезти бабушку с Украины сюда, пока она еще здорова».
Два озера – «Я думала, что озеро круглое, а оказалось, что вытянутое».
Туча – «Печальная маленькая тучка, как переживания родных».
Две черты в форме двух углов – «Это ноги. Когда человек сомневается, он стоит в такой позе».
Мозг, в нем отделена часть – «Когда человек сомневается, в голове мысли, вот часть, которую занимают сомнения».
Рисует квадрат как основу рисунка. Рассуждает, что «Сомнения бывают разного уровня». Хочет написать на квадрате «Курение убивает» – «Потому что это сомнительная реклама». При напоминании того, что по инструкции данного задания писать нельзя, можно только рисовать, зачеркивает надпись, рассуждает о рекламе, рисует «щит с рекламой бытовой техники».
Весы – «Весы колеблются, где тяжелее. Если смотреть по гороскопу, то люди знака зодиака Весов часто сомневаются».
Черный квадрат – «Вообще не поймешь, что происходит, сомневаешься – получается полный мрак кругом и в душе».
Крест – «Нет сомнений!»
Два человека рядом – «Сомнение – вместе или нет».
Человек, который держит в руках коробку, – «Думает, покупать или не покупать».
Человеческая фигура – «Он ничего не знает… Это растерянность».
Лицо, имеющее индифферентное выражение, – «И не улыбается, и не радуется, и не грустит – сомневается, что делать».
Самолет (рисунок неразборчивый) – «Человек не полетит на нем. Он боится, что будет неудачный рейс».
Лампочка – «Человек, когда сомневается, думает об этом все время. Лампочка – значит ум».
Извилистая линия – «Кардиограмма. У моей бабушки был ишемический инсульт, было не понятно, выживет или не выживет».
Дверь – «Откроют дверь в школу или нет».
16. Дружба
В большинстве случаев как больные шизофренией, так и больные ОЗГМ справляются с данным понятием, изображая людей, которые держатся за руки, либо рукопожатие. При выраженных органических нарушениях могут быть изображены человеческие фигуры, просто находящиеся рядом, – «они дружат». В некоторых случаях из рисунков больных шизофренией не понятно, что изображенные люди являются именно друзьями. Так, например, встречаются случаи:
Больная рисует двух человек, которые держатся за руки, – «Мальчик с девочкой» – говорит, что они любят друг друга, признает, что «любовь» и «дружба» не одно и то же, но отказывается подобрать более корректный образ.
Люди – «Они дружат».
Человеческая фигура – «Это друг».
Изображены двое людей, которые целуются. На вопрос о том, как из рисунка видно, что это именно друзья, а не влюбленные, больная говорит, что «друзья находятся на большем расстоянии друг от друга, чем влюбленные».
Среди эндогенных больных изредка встречается ассоциация «Мир-дружба-жвачка». При просьбе пояснить данный ответ объясняют «Есть такая детская поговорка», «Жвачка сладкая, хочется дружить».
Другие примеры актуализации латентных признаков:
Ленточки – «Разноцветные ленточки от разных стран, страны дружат, от каждой страны по ленточке».
Качели – «У меня подруга в детстве поспорила, что сможет много раз на качелях сделать “солнышко” – упала и ударилась».
Конфета – «В больнице друг другу конфеты дают, это символ дружбы».
Пила – «Есть пила, которая называется “Дружба”».
Сердце со стрелками, направленными в разные стороны, – «Два человека соединяются в одном сердце».
Человек, повернутый спиной, за спиной сомкнуты руки – «Друзья обнимают. Конечно, у меня есть друзья, к которым я не прикасаюсь, но все равно телесный контакт значим для дружбы».
Много бантов – «Друзьям делают подарки, например торт, а подарки обычно с бантиками».
«Я +?» – «Найду ли я компанию?»
Земной шар – «Планета Земля, дружба между всеми народами, в каждом народе есть хорошие» (далее следуют пространные размышления о том, что «если бы все объединилось, как СССР, протянули бы друг другу руки помощи, то нашей страны все боялись бы»).
Больная рисует сердце, так же как и на понятие «Любовь», при этом объясняет, что «Дружба – это любовь».
Некоторые из рисунков лиц, имеющих психиатрические диагнозы, можно наблюдать в разделе «Приложения».
Исключение лишнего
Методика представляет собой выполнение операции, направленной на исключение лишнего предмета из четырех после объединения трех остальных на основании важного признака. Существует два варианта данной методики: графический и письменный(«вербальный»). Более предпочтительным для психодиагностической работы является графический вариант, так как рассмотрение изображенных рисунков в наибольшей степени провоцируют нахождение у них второстепенных признаков, искажение уровня обобщения, чем написанные слова. В норме при выполнении данного задания человек должен руководствоваться основным признаком предметов, т. е. совершать обобщение на категориальном уровне. В случаях выполнения данной методики больными шизофренией наблюдается искажение уровня обобщения, т. е. объединение предметов исходя из признаков, не имеющих важного значения, таких как форма, материал, размер, сходство отдельных элементов и т. п. В случаях эндогенных заболеваний так же наблюдается такая особенность мыслительного процесса, как разноплановость, т. е. мыслительный процесс, идущий в разных плоскостях вместо четкого русла, – например, рассматривая карточку «Нож, бритва, ножницы, перо» одна больная исключает перо, «потому что им можно писать», при этом остальная группа имеет не тот признак, что «этим нельзя писать» – она говорит, что «остальное опасное, с этими предметами нужно осторожно обращаться».
Для снижения уровня обобщения, встречающегося при ОЗГМ или при поздних стадиях развития шизофрении (псевдоорганический синдром), характерно объединение трех предметов в группу с помощью представления конкретных ситуаций, взаимосвязи этих предметов. Так, например, при рассмотрении карточки «Стол, чашка, стул, кровать» такие больные, как правило, исключают кровать, потому что «чашку можно поставить на стол, придвинуть стул», т. е. выделенная группа, соответственно, носит название наподобие «чаепития». Зачастую встречаются случаи, когда больные объединяют все четыре предмета, исключая один потому, что им можно проделать какую-либо манипуляцию с остальными тремя, – например, при рассмотрении карточки «Сапог, галоша, нога, ботинок» часто исключают ногу, потому что «остальное надевается на ногу». В более тяжелых случаях больные остаются убежденными в том, что «здесь нет ничего лишнего».
В случаях слабовыраженных нарушений мышления по органическому типу больные в большинстве случаев способны выделить признак предметов, но испытывают затруднения при подборе названия группы. Так, например, они объединяют секундомер, весы и термометр потому, что «ими можно что-то измерить», но не способны дать группе название «измерительные приборы». При более выраженных нарушениях больные определяют выделенные группы на основании более абстрактных функций, т. е. в ряде случаев дают такие определения, как «предметы быта», «предметы обихода».
В случаях существенных поражений головного мозга данное задание вызывает большие затруднения для больных: они подолгу разглядывают предъявляемые карточки, рассуждая, что «ножницами стригут», «бритвой бреются», «градусником мерят температуру», «пилой пилят», «бабочка красивая, радует человеческий глаз», т. е. могут определить, какими свойствами обладает один предмет, но не способны найти общее свойство у нескольких. Для данных нарушений характерно объединение двух предметов вместо трех, выполнение операции с тремя предметами является слишком трудным для понимания больного. Например, рассматривая карточку «Самолет, пароход, автомобиль, воздушный шар», больные объединяют самолет и воздушный шар, потому что «они летают», либо в ряде случаев исключают автомобиль, потому что «остальное движется по воздуху и по воде», при этом являясь неспособными ответить на вопрос, что общего они выделили у предметов, которые «движутся по воздуху», и предметов, которые «движутся по воде».
При грубых нарушениях операциональной сферы мышления по органическому типу при исключении лишнего предмета больные руководствуются признаком «мне это не нужно», «мне это не нравится», «не знаю, что это такое, для чего это нужно», «он плохой», что указывает на интеллектуальное снижение больного и, как следствие, недоосмысление сути задания. В таких случаях больные также часто исключают лишний предмет, потому что, изолированно от других, он обладает каким-либо свойством, дефектом – «птица лишняя, потому что она летит», «ботинок лишний, потому что он без шнурков», «весы лишние, потому что они пустые». Также в ряде случаев больные объединяют предметы в группу потому, что «они чем-то похожи», «у них есть что-то общее», при неспособности дать более развернутый ответ.
Также встречаются случаи, когда больные начинают трактовать предметы, выделяя у них отдельные детали – «крылышки», «слоник», «из дерева», «планка от кровати», «блюдце от чашки», «вещи с замками». Данный феномен, как правило, несет свое начало в крайней выраженности явлений актуализации латентных признаков предметов в сочетании с нарушениями мотивационной сферы по типу фабулизаций, т. е. отдельная выделенная деталь становится краеугольным камнем всего дальнейшего сравнения, и больной в своих рассуждениях уже не может избавиться от нее. В редких случаях подобный феномен можно наблюдать у испытуемых с ОЗГМ, в особенности с эпи-синдромами – там он является результатом выраженной вязкости и ригидности мыслительного процесса; дифференциальная диагностика в данном случае особых затруднений не вызывает, так как подобные особенности обычно бросаются в глаза исследователю уже во время предворяющей проведение тестов беседы с испытуемым.
В качестве примера демонстрации грубых нарушений мышления при выполнении методики «Исключение четвертого», характерных для шизофрении при наличии грубой сформировавшейся дефицитарной симптоматики и, соответственно, ее схожести с ответами «органических» больных, можно рассмотреть следующий случай.
Больная М., 74 лет (болеет примерно с 18-летнего возраста), диагноз «Шизофрения параноидная, непрерывный тип течения. Параноидный синдром».
Больная долго рассматривала картинки, уточняла, что изображено, тут же забывала, многократно спрашивала снова, не понимала, что нарисовано: «Что это? Корабль? Не видно. А это что? А это корабль, да?», обращала внимание на несущественные детали, пример: «Слон, гусь, ведро, бабочка»(карта № 2) – «Это птица? А это утка или гусь?», просила подробно ей объяснять, что нарисовано, тут же забывала, снова задавала одни и те же вопросы. Ни в одном случае не смогла адекватно выбрать лишний рисунок, демонстрировала грубые нарушения операциональной сферы мышления по типу снижения уровня обобщения: «Кровать, чашка, стол, стул; лишнее – кровать, потому что она не нужна, кровать тут уже надоела всем»; «Корабль, самолет, автомобиль, воздушный шар; лишнее – воздушный шар, он не нужен, остальное работает»; «Птица, стол, молоток, очки» – «Это какая птица, это голубь, да? Лишнее – стол, он не нужен, голубь лучше»; «Секундомер, настенные часы, будильник, монета – 5 копеек» – «Лишнее – секундомер, он плохой, а это монета, 5 рублей, если добавить еще 8 рублей, то это будет четвертинка хлеба». Во многих случаях не могла выбрать лишний рисунок, либо не давала ответа, либо выбирала любой рисунок: «Шкаф, кровать, комод, этажерка» – «Что тут плохое? Комод плохой, не нужен, да? Или комод нужен? Что плохое? Пусть комод плохой, это лишнее».
Работая с эндогенными больными, как и при выполнении методики пиктограмм, важно уделять большое внимание не только тому, какой предмет больной исключает как лишний, но и тому, как именно он объясняет свой ответ, какой признак он выделяет у остальных трех предметов. Нередки случаи, когда больной дает на первый взгляд верный ответ, но при объяснении демонстрирует расстройства мышления. Например, рассматривая карточку «Стол, стул, кровать, чашка» исключает чашку, что само по себе является верным выбором, но при объяснении своего ответа руководствуется не основным признаком («остальное мебель»), а второстепенным – «чашка фарфоровая, а остальное деревянное» или «из чашки можно что-то потреблять внутрь, из остального нет», что является важным диагностическим критерием.
Кроме этого, нужно обращать внимание также на то, как больной формулирует фразы при своем ответе. Зачастую даже при способности выделить основной признак предметов больной не может дать адекватное название группе выделенных предметов, объясняя свою позицию витиеватыми формулировками, что также указывает на такое расстройство мышления, характерное для эндогенных больных, как вычурность: «Книга, портфель, чемодан, кошелек; лишнее книга, остальное – емкости для хранения», «Письмо, радио, телефон, балалайка; лишнее письмо, остальное – звукоиздающие предметы», «Телега, пароход, матрос, грузовик; лишнее матрос, остальное – передвигающиеся машины», «Птица, стол, очки, молоток; лишнее птица, она противопоставлена миру обитания человека», «Шкаф, кровать, комод, этажерка; лишнее кровать, остальное – средства для того, чтобы положить одежду», «Пила, коловорот, винт, топор; лишнее винт, потому что остальное – инструменты, которыми можно сделать разъем, а винт не подходит для того, чтобы оставить механическое повреждение», «Перо, бритва, нож, ножницы; лишнее перо, остальное человек использует для того, чтобы убрать волосы в конфигурацию прически», «Солнце, керосиновая лампа, лампочка, свеча; лишнее солнце, остальное – представители искусственного освещения», «Зонт, фуражка, пистолет, барабан; лишнее зонт, остальное – атрибутика офицера».
Предъявлять карточки больному следует начиная с элементарно простых, для того чтобы испытуемый понял смысл задания, с постепенным усложнением. При этом не рекомендуется показывать помногу сложных карточек подряд, периодически предъявляя также простые, с целью избегания негативных реакций больного, связанных с невозможностью выполнения сложных пунктов задания.
Рассмотрим примеры ответов, полученных в ходе выполнения данной методики.
1. «Кот, клевер, роза, колокольчик»
В большинстве случаев как больные шизофренией, так и больные ОЗГМ правильно справляются с данным пунктом задания.
Примеры выраженных нарушений мышления:
Шизофрения: «Лишнее кот, потому что у остального есть запахи, а кот просто отдыхает», «Лишнее колокольчик. Кошка олицетворяет ласку, нежность, чувство любви, но у нее есть и защита – коготки, как шипы у розы. У клевера защиты нет, но он может быть розового цвета, это цвет любви, роза и кошка – тоже любовь», «Лишнее кот, остальное похоже листочками».
ОЗГМ: «Лишнее роза, потому что кот пойдет нюхать розу и уколется, а остальное ему нюхать приятно», «Лишнего ничего нет, потому что все это должно быть в домике», «Кот, потому что остальное можно собрать в букет», «Кот, потому что кошки любят надкусывать цветы».
2. «Слон, гусь, ведро, бабочка»
Большинство больных шизофренией дают правильный ответ в данном пункте задания. Примеры грубых патологий: «Лишнее ведро, потому что у остальных есть ноги», «Лишнее ведро, потому что остальное живое – но, правда, в ведре живая вода», «Ведро, потому что остальное – это изображения картинок на стенах», «Лишнее ведро. Вода – это тоже живое, но если она находится в емкости, то она уже мертвая, а остальное живое».
Ответы, характерные для лиц, имеющих грубое органическое поражение головного мозга: в большинстве случаев исключают бабочку, так как находят ведро необходимым для слона и гуся – «Потому что слон и гусь пьют из ведра», «Слон и гусь могут пить из ведра, а бабочка утонет», «Потому что вода нужна слону и гусю», «Слон и гусь пьют водичку».
Другие примеры ответов больных ОЗГМ: «Ведро нужно для воды, гусь нужен – мясо, слон нужен, он интересный – для детей, например, а бабочка не нужна».
Исключает ведро, потому что остальное «животные и насекомое». На вопрос, почему животные и насекомое можно объединить в одну группу, дать ответ затрудняется, начинает рассуждать о том, что «есть ноги, крылья».
«Лишнее слон, потому что остальное находится в сельской местности», «Лишнее ведро, потому что остальные не могут пить из ведра», «Бабочка, потому что она плохая, была гусеницей», «Ведро, остальное находится в зоопарке», «Слон, остальное – привычное для нас, а слон далеко», «Слон, все остальное дома, гусь домашний, бабочка тоже может залететь, ведро тем более находится дома, а слон сюда не вписывается, он большой, его надо в зоопарк», «Лишнего ничего нет, это все зоопарк».
Сначала говорит, что лишнее бабочка, потому что «слон и гусь пьют воду», затем говорит, что «бабочка и гусь летающие», затем заключает, что лишнее ведро, потому что «слон и гусь около водоема, могут самостоятельно им пользоваться, а бабочка пролетает мимо».
«У бабочки и у гуся есть крылья, у гуся и слона – носик».
3. «Сапог, галоша, ботинок, нога»
Больные шизофренией, как правило, дают верные ответы.
Примеры грубых расстройств мышления: «Лишнее живая нога, остальное изображено, оно натуральное, действительное, не фантастическое», «Нога от живого человека, остальное – неживые предметы», «Лишнее нога, она живая, одушевленная; может быть, конечно, макет ноги, манекен, но все равно она лишняя, остальное ботинки».
Ответы больных, имеющих грубые нарушения мышления по органическому типу: «Лишнее нога, остальное обувь, которую одевает нога», «Сапог, потому что остальное можно надеть на ногу, а сапог высокий, так много воды нет», «Лишнее нога, потому что остальное обувь, хотя на самом деле лишнего нет ничего, ведь обувь создана ради ноги», «Лишнее нога, потому что все остальное одевается на ногу», «Лишнее сапог, так как остальное удобно, нужно», «Лишнее нога, остальное – это обувь, которая одевается на ногу».
Иногда можно наблюдать явления так называемых «фабулизационных комбинаций» – например, больная исключает сапог, про остальное говорит «Я бы взяла такое на поляну» Почему именно «на поляну», объяснить не может, говорит «А куда еще?» – подобные ответы иногда встречаются и в протоколах здоровых людей или больных в состоянии ремиссии, но в этом случае они, как правило, сопровождаются улыбкой. В остальных случаях они указывают либо, в данном конкретном примере, на грубое снижение уровня обобщения, свойственное больным с ОЗГМ, когда человек не может в принципе абстрагироваться от ситуаций происходивших или тех, которые могут произойти, именно с ним; либо являются проявлениями высшей степени дезорганизации мыслительного процесса больных шизофренией по типу неспособности удержать возникающие ассоциации отдельно друг от друга, разорванности мыслительного процесса.
4. «Кровать, чашка, стол, стул»
В большинстве случаев больные шизофренией дают правильный ответ. Примеры грубых нарушений мышления (исключают также чашку): «Лишнее чашка, потому что остальное – это строительные материалы из дерева, на которых можно сидеть», «Чашка, остальное – это то, на чем сидишь, лежишь», «Чашка, потому что из нее что-то потребляют внутрь, из остального не потребляют», «Чашка, потому что остальное нужно для отдыха, а чашка для еды», «Чашка керамическая, остальное деревянное», «Лишнее чашка, остальное мебель. Хотя смотря какая это кровать. Если она пружинистая, то это просто кровать, а если деревянная, то тогда мебель», «Чашка, у остального четыре ножки».
Большая часть больных ОЗГМ исключает кровать, потому что «чашку можно поставить на стол, сесть на стул, пить чай». Примеры ответов: «Лишнее кровать, потому что остальное – кухонные принадлежности», «Кровать, остальное для того, чтобы пить чай», «Остальное – кухня», «Лишнее кровать, стул можно поставить к столу, поставить на стол чашку», «Лишнее кровать, остальное – это интерьер, уют, обиход», «Кровать, остальное нужно для чаепития», «Можно поставить кружку на стол, сесть, попить чаю», «Остальное нужно, чтобы пообедать», «Остальное столовая», «Остальное – это чайный столик».
Другие ответы больных ОЗГМ: «Лишнее кровать, потому что остальное нужно человеку после сна», «Лишнее чашка, потому что неприлично в постели пить чай, рядом с кроватью можно поставить стол и стул», «Лишнее кровать, потому что остальное – это обстановка больницы», «Лишнее стол, рядом с кроватью можно поставить стул, а на него чашку, а стол слишком большой, мне такой не нужен».
Примеры грубых патологий: «Лишнее чашка, остальное – то, на чем можно спать».
Предлагает исключить планку от кровати, затем чашку, «потому что у остального есть ножки, а у чашки нет».
Исключает чашку, потому что у остального есть «опора, ножки».
5. «Книга, кошелек, портфель, чемодан»
В большинстве случаев для больных шизофренией данная карточка не представляет трудностей, но и в этом случае встречаются варианты актуализации латентных признаков, где больные, как правило, исключают книгу: «Лишнее книга, потому что в остальное можно что-то складывать, в книгу тоже можно что-нибудь положить, использовать ее как заначку, но это не основная ее функция», «Остальное – это закрывающиеся предметы, книга тоже может закрываться, но у остальных есть замок», «Остальное кожаное, а книга картонная», «Лишнее книга, потому что она не пустая. В остальное можно что-то положить, в книгу тоже можно положить, но она не емкость», «Остальное – предметы перемещения, они не стоят на месте, их носят с собой», «Книга бумажная, остальное кожаное», «Лишнее книга, остальное – неживые предметы, а книга – символ знаний», «Остальное – вещи из кожи, а книга из бумаги», «Лишнее книга, так как остальное сделано из кожи, это носят на работу, а книгу читают, она из бумаги», «Лишнее книга, остальное – аксессуары, а книга познавательная», «Лишнее книга, остальное для хранения, переноса вещей, а книга для переноса информации».
Изредка встречаются другие варианты исключения лишнего предмета: «Лишнее кошелек, потому что он круглый, а остальное квадратное».
Классическим ответом больных шизофренией часто можно назвать следующую актуализацию латентного признака: «Лишнее книга, остальное – это предметы с замком». Вместе с тем подобный ответ можно иногда встретить у больных с выраженным интеллектуальным снижением, где он будет объясняться трудностями с выделением какого-либо признака в целом, и поэтому больные часто могут начать свои рассуждения с первого попавшегося сходства предметов, демонстрируя при этом снижение дискриминационных возможностей, характерное для их заболевания.
Примеры, характерные для больных, имеющих выраженные поражения головного мозга: «Лишнее книга, потому что с остальным можно ходить в магазин, уезжать в отпуск», «Чемодан, если есть портфель, то чемодан не нужен, остальное можно в него положить», «Кошелек, книгу можно положить и в чемодан, и в портфель», «Книга, остальное нужно для переноса, а книга – это то, что можно переносить», «Чемодан, потому что кошелек и книгу можно положить в портфель, а чемодан здесь не нужен», «Кошелек, книгу можно положить в портфель, чемодан», «Кошелек, потому что остальное нужно ученику», «Чемодан, потому что кошелек и книгу можно в портфель положить», «Чемодан, потому что остальное каждый день нужно», «Книга, потому что остальное можно взять с собой в дорогу. Или нет, лишнее кошелек, книгу тоже можно взять с собой в дорогу, почитать, а без денег можно отправиться в дорогу».
6. «Птица, стол, стул, молоток»
Большинство больных шизофренией дают верные ответы. Примеры грубых расстройств мышления: «Лишнее птица, остальное – это орудия труда», «Лишнее птица, остальное металлическое», «Лишнее стол, потому что его не закинешь в воздух, а остальное при желании можно», «Птица, потому что остальное – хозяйственные предметы, а птица залетела в дом случайно», «Птица, потому что она летает, а остальное находится на земле», «Стол, потому что его проще всего сделать – проще, чем летать, сделать молоток – тут нужно что-то из железа сделать, еще и из дерева, очки – тут нужно и оправу делать, и линзы», «Молоток, потому что остальное может быть прозрачным – очки прозрачные, бывают прозрачные столы, птица – бывает птица калибри, она почти прозрачная, пьет нектар», «Молоток, остальное может летать, стол и очки будут летать, если их бросить, а молоток упадет», «Птица в воздухе, остальное на земле», «Лишнее птица, остальным распоряжается человек, а птица не дома».
Больные ОЗГМ почти во всех случаях исключают птицу, связывая остальные предметы таким образом, что «можно надеть очки, взять молоток и ремонтировать стол, за столом»: «Лишнее птица, потому что остальное относится к ремонту, надевают очки, чинят молотком ножки у стола», «Остальное – приборы, чтобы сделать этот стол», «Можно сесть за стол и в очках что-то мастерить», «Надел очки, ремонтируешь стол», «Молотком можно делать стол, в очках видеть, что делаешь», «Остальное нужно для того, чтобы что-нибудь починить», «Остальное – это строительство, очки помогают видеть», «Надеваешь очки и ремонтируешь стол», «Человек стоит у стола, что-нибудь делает молотком, надевает очки», «Можно надеть очки, починить стол», «Можно сидеть за столом в очках, бить молотком», «Надеть очки, заниматься столярным делом», «Можно молотком починить стол, смотреть через очки».
Другие ответы при ОЗГМ: «Лишнее – птица, потому что она летит», «Молоток нужен для стола, чтобы вколотить гвоздь, а в очках можно видеть полет птицы», «Лишнее очки, потому что молотком можно подбить ножку у стола, а птица улетела со стола», «Лишнее молоток, потому что можно, сидя за столом в очках, наблюдать полет птицы», «Молоток, потому что тут нечего чинить, все починено, а птичка сядет сверху», «Птица, потому что она не может ни стучать, ни в очки смотреть, ни сидеть на столе».
7. «Очки, секундомер, термометр, весы»
В большинстве случаев больные шизофренией справляются с данным пунктом задания.
Примеры актуализации латентных признаков: «Лишнее очки, потому что остальное связано с наукой, физикой, нужно, чтобы делать эксперименты», «Очки, потому что остальное – это приборы для медицины, а очки не для медицины, это устройство для зрения», «Термометр работает сам по себе, а остальным пользуется человек», «Очки, потому что остальное висящее», «Весы, в очках видно показания, а весы – это неуравновешенное состояние человека», «Очки, потому что остальное можно подвесить на стенку», «Градусник, остальное необходимо прочитать, а градусник находится на улице», «Весы, остальное сразу можно посмотреть, а весы – нужно сначала взвесить», «Градусник, потому что остальное нужно для работы, а градусник – когда человек болеет», «Термометр, потому что остальное во множественном числе (имеется в виду «весы, часы, очки»), а термометр в единственном», «Градусник, потому что остальное – предметы, а градусник связан с тем, когда человек болеет», «Очки, потому что остальное – это бытовые предметы, они что-то показывают, у них есть цифры», «Очки, потому что остальное – это механические инструменты, а очки носящиеся», «Очки, потому что остальное – это медицинские приборы, а очки могут быть у любого человека», «Очки, остальные предметы человек на себя не надевает, а очки можно надеть», «Лишнее очки, это медицинский прибор для лучшего зрения человека, а остальное – приборы для измерения чего-либо», «Лишнее градусник, все остальное какое-то круглое», «Лишнее градусник, в названиях остальных предметов по четыре буквы (секундомер воспринимается как «часы»)», «Лишнее очки, остальное похоже графами, делениями, шкалой», «Лишнее очки, остальное – это предметы быта, которые применяются в домашних условиях, а очки – это скорее аксессуар».
Ответы, характерные для больных ОЗГМ: «Лишнее очки, остальные предметы что-то показывают», «Весы, потому что остальное может находиться в одном месте – дома, в больнице, а весы находятся в магазине», «Термометр, остальное нужно человеку, в очках посмотреть время, взвесить», «Секундомер, потому что остальное – измерение веса, температуры, смотреть в очках», «Очки, потому что остальное и без очков видно», «Лишнее секундомер, потому что остальное – необходимые предметы, а секундомер не нужен», «Весы, потому что остальные предметы находятся в комнате, человек в очках смотрит на температуру, время, а весами пользуются реже», «Лишнее очки, потому что при плохом зрении можно их надеть и посмотреть показания», «Весы, без них можно обойтись, а остальное необходимо», «Весы, в очках можно посмотреть часы, термометр», «Лишнее весы, потому что они пустые либо потому, что можно надеть очки, посмотреть время, температуру».
Пример формально правильного ответа с опорой на конкретный перцептивный признак, свойственный для случаев тяжелой органической патологии, в данном случае будет представлять собой следующий ответ: «Лишнее очки, потому что остальное с циферблатом».
8. «ЗАмок, замОк, дом, шалаш»
Больные шизофренией обычно справляются с данным пунктом задания.
Примеры грубых расстройств мышления: «Лишнее замОк, остальное построенное человеческими руками, оно деревянное, а замок металлический», «Лишнее замОк, остальное имеет крыши».
Ответы, часто встречающиеся при ОЗГМ: «Лишнее шалаш, потому что остальное можно закрыть на замок», «Пусть будет лишнее замОк, потому что остальное дома. Он, конечно, тоже нужен, но мы представим, что здесь у нас все двери открыты», «Лишнее замОк, все остальное закрывается замком».
9. «Солнце, свеча, керосиновая лампа, лампочка»
Классический вариант ответа больных шизофренией заключается в обобщении по принципу наличия настоящего огня, т. е. исключается лампочка: «Лишнее лампочка, потому что остальное живой огонь», «Лампочка, потому что остальное – это природный огонь», «Лампочка, потому что это искусственное излучение, остальное – естественное», «Лампочка, потому что это электроэнергия, а остальное – натуральный огонь».
Другие ответы больных шизофренией: «Лишнее солнце, остальное – это придуманные технические средства для добывания света, смастеренные приборы, а солнце светит бесплатно, днем. Остальное может светить и днем, и ночью», «Солнце, потому что остальное земное, а солнце неземное», «Солнце, потому что его Создатель создал, а остальное – рукотворные источники света», «Солнце, остальное используется в доме, а солнце на улице», «Солнце, оно на улице должно быть, а остальное можно включать, оно будет гореть», «Солнце, остальное нужное для глаз, свет, солнце дает тепло», «Лампочка – она просто так не горит, нужно ее вкручивать, остальное поджигать», «Лампочка, потому что остальное – это предметы солнечного света, в лампочке нет огня», «Солнце, потому что оно должно светить над нами, на нас действует, остальные приборы соответствуют, включаются, где необходимо, а солнце сейчас не греет», «Лишнее солнце, потому что оно живое; или лампочка, потому что она только светит, а остальное еще и греет», «Свеча, все это дает свет, но свечу можно задуть, и света не будет», «Керосиновая лампа, потому что когда в нее наливают керосин, то исходит неприятный запах, а от остального исходит аромат», «Солнце, потому что оно светит всегда, никогда не угасает, остальное гаснет», «Лампочка, ее нужно ввернуть, чтоб она горела, а остальное светится само», «Свеча, потому что она быстрее сгорит, чем все остальное», «Солнце, потому что оно не всегда светит, заходит, а остальное всегда светит», «Солнце, потому что оно живое, остальное – это освещающие предметы, неживые, они находятся на других предметах – например, лампочка вкручивается, а солнце находится в небе», «Лампочку нужно ввернуть, чтобы она горела, а остальное светится само», «Солнце всегда горит, а остальное только когда зажгут», «Лишнее солнце, от остального больше света, солнцем нельзя дома пользоваться», «Свечу нужно зажигать спичками, остальное светит само», «Солнце светит от своей силы, остальное от зажигалки», «Солнце, остальное – придуманные технические средства для добывания света», «Солнце, от остального больше света, и солнцем нельзя дома пользоваться», «Лишнее солнце, остальное работает от чего-то – свеча от воска, фитиля, лампада от горючего, лампочка от электричества, а солнце – ему надо, оно взошло, надо – скрылось», «Лишнее солнце, остальное зажигается, а солнце на небе светит, когда может по температуре», «Лишнее солнце, остальное дает свет и днем и ночью, а солнце ночью не дает свет», «Лишнее солнце, потому что оно высоко, его руками не достать, а остальное в обиходе», «Лишнее лампочка, она современная, остальное использовалось в прежние века, солнце было, есть и будет».
Примеры ответов больных ОЗГМ: «Лишнее керосиновая лампа, потому что ей сейчас не пользуются», «Солнце – сейчас его нет, на улице пасмурная погода, так что необходимо освещение – оно, наверное, нужнее, чем солнце», «Солнце, потому что в остальном нужно участие человека – лампочку ввернуть, зажечь», «Свеча, она здесь не нужна, здесь есть электричество и солнечный свет – сейчас день».
10. «Пуговица, катушка, крючок, пряжка»
Достаточно часто больные шизофренией исключают пряжку, потому что остальное, по их мнению, является предметами шитья: «Пряжка лишняя, остальное нужно пришить, а пряжку надо вставлять», «Пряжка в ремне, остальное в шитье».
Также часто руководствуются признаком материала, из которого сделаны данные предметы: «Лишнее катушка, она деревянная, остальное металлическое», «Если катушка железная, то лишнее пуговица, потому что остальное железное», «Лишнее катушка, потому что она деревянная, а остальное пластиковое, железное», «Катушка, потому что остальное металлическое, а катушка пластмассовая или деревянная».
Другие примеры ответов больных шизофренией: «Катушка, потому что она пустая, не может быть использована, а остальное может», «Лишнее катушка, потому что остальное – это частички одежды. Катушку тоже можно прилепить к одежде, но все-таки это не то», «Катушка, остальное держит ткань», «Крючок для подвешивания, остальное для шитья», «Лишнее катушка, остальное – предметы декора, застегиваются, а катушка без ниток», «Катушка, остальное от одежды, а катушку не наденешь».
Ответы, характерные для больных ОЗГМ: «Лишнее пряжка, остальное пришивают, на катушке нитки», «Катушка, потому что на ней нет ниток пришить все», «Катушка, потому что на ней нет ниток, ничего не пришить, а остальное пришивается», «Пряжка, потому что нитками можно пришить крючок и пуговицу», «Крючок, катушка пришивает пуговицу, пряжку», «Лишнего ничего нет, потому что это все швейное, ниткой скрепляют», «Лишнее крючок, потому что можно обойтись и без него», «Катушка – остальное это то, на что застегивают».
11. «Телефон, балалайка, радио, письмо»
К классическому ответу больных шизофренией относится обобщение по принципу наличия способности предметов издавать звуки, т. е. исключается письмо, остальное объясняется как «Остальное – это звуковые предметы, их можно услышать», «С помощью остального можно слушать музыку», «Остальное говорящее, музыкальное», «Остальные предметы издают звук», «Остальное – звенящее, бренчащее, играющее», «Остальное звуковое», «Издает звук», «Лишнее письмо, потому что это зрительная передача, а остальное – звукоиздающие предметы», «Лишнее письмо, остальное говорящее, поющее, и письмо можно в голове удержать», «Лишнее письмо, остальное объединяет музыка. Радио и балалайка связаны с музыкой, телефон связан с музыкой тем, что может позвонить друг, включить магнитофон».
Другие ответы больных шизофренией: «Лишнее балалайка – остальным можно передать информацию. Хотя балалайкой тоже можно передать информацию, музыка – способ передать настроение», «Письмо, его нужно писать, а остальное для того, чтобы разговаривать», «Лишнее письмо, остальное предметы, неодушевленные. Письмо рукотворное, оно кому-то лично предназначается, для души», «Письмо, потому что сделано из бумаги, остальное из деталей», «Лишнее радио, ему нужна антенна для передачи информации, в остальных случаях не нужна. Балалайка тоже передает информацию – это духовная связь», «Балалайка, потому что остальное несет информацию, а балалайка только воспроизводит звуки», «Лишнее письмо, остальными предметами можно задействовать слух, а письмом задействовать зрение», «Письмо, потому что это неожиданно появившийся предмет, а остальное находится под рукой», «Письмо, потому что остальное – это предметы общего пользования, эти вещи сделаны из чего-либо, а письмо – это бумага», «Балалайка, потому что все остальное может что-то рассказать словами, а балалайка не может сказать слов, она издает музыку», «Письмо, потому что остальное – это бытовые принадлежности, а письмо – это бумага, не издает звуков», «Письмо, потому что остальное относится к разговорной теме, под балалайку можно петь», «Письмо, остальное передает известия о человеке, предметы пользования человеком, а письмо – это интеллектуальный уровень», «Лишнее письмо, остальное издает сигнал, балалайка – музыку, радио – передачи, например, “Точное время”, телефон звенит, по нему разговаривают, а письмо – это бумага», «Лишнее письмо, у остального есть струны – у балалайки есть, у телефона трубка (провод), похожая на струну, а радио же не может просто так работать – там, наверное, внутри струны», «Лишнее письмо, остальное – рабочие инструменты, телефон работает. Письмо – бумага, остальное – вещи. С письмом человек работает».
Примеры ответов больных ОЗГМ: «Лишнее радио, я информацию могу и по телефону узнать, осталась бы с остальным», «Балалайка, потому что она относится к профессии, а остальное – предметы быта», «Радио, потому что если пользоваться остальным, то радио надо выключить, оно будет мешать», «Лишнее письмо, дома у человека есть радио, балалайка, он разговаривает по телефону. В наше время, когда есть телефон, письма уже не нужны», «Письмо, потому что остальное передает информацию из письма – по телефону, по радио, под балалайку можно спеть песню, если в письме ее текст».
12. «Кровать, шкаф, комод, этажерка»
Среди больных шизофренией распространенным является вариант обобщения по принципу материала, из которого изготовлена мебель, изображенная на картинках: «Лишнее этажерка, потому что остальное – мебель, этажерка сделана из пластмассы, а мебель делают из дерева», «Этажерка из пластика, а остальное из дерева», «Лишнее кровать, она железная, остальное из дерева», «Лишнее этажерка, она обычно из пластика, а остальное деревянное», «Лишнее кровать, остальное деревянная мебель, а кровать железная».
Также распространенным вариантом исключения является кровать, потому что «Остальное с полками», «У остального есть ящики», «Кровать, потому что у остального есть полки», «Лишнее кровать, в остальном есть полочки, а в кровати нет».
Другие примеры ответов больны
