Читать онлайн Народная игрушка бесплатно
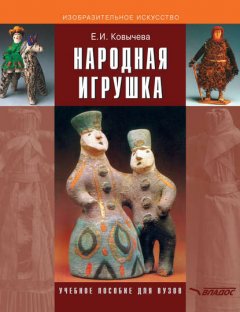
© Ковычева Е.И., 2010
© ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2010
* * *
Деревянная или глиняная кукла талантливого кустаря как произведение искусства часто неизмеримо выше бронзового памятника.
Н.Я. Симонович-Ефимова
Введение
Предмет курса, о котором пойдет речь в данной работе, – теоретические основы народной игрушки, процесс ее исторического развития и технологические особенности изготовления.
Приоритетным направлением воспитания, развития и обучения средствами данного курса является глубокое проникновение в духовную сущность традиционной культуры и постижение ее ценности в настоящее время. Курс проблемно связан с курсами этнологии, этнопедагогики, теории и истории народного творчества, мировой художественной культуры. Это важно для понимания общекультурных исторических процессов и формирования представлений об истории народной игрушки как части духовной культуры человечества.
Обучающей целью является формирование устойчивой системы знаний по теории и истории народной игрушки, выработка целостного представления о ее генезисе и месте в системе народной культуры. В теоретической части пособия доказана ценность народной игрушки для современности, дано ее определение,
в историческом развитии раскрыто функциональное своеобразие двух типов игрушки: крестьянской и ремесленной, проанализированы ее художественно-образные свойства. В этой части работы автор опирается на теоретические положения по народной и игровой культуре (Т.М. Разина, Ю.М. Лотман), также используются выводы по теории и истории русской народной игрушки (Н.Д. Бартрам, И.Я. Богуславская, Т.С. Семенова, Н.В. Тарановская и др.). Особенно ценными для курса являются идеи глубокого исследователя в этой области Г.Л. Дайн. Пособие в учебной интерпретации привлекает к ним внимание. Используются также исследования игрушки Волго-Уральского региона, выполненные автором и студентами Отделения народного художественного творчества Института искусств и дизайна Удмуртского государственного университета. В пособие включен методический материал по выполнению студентами практических, творческих заданий по курсу, что способствует подготовке высококвалифицированных специ-
алистов. Освоение системы выразительных средств народной игрушки – одна из важнейших задач обучения. Эта задача решается путем практического задания – пишется сочинение эмоционально-аналитического типа, посвященное игрушке. Следующее задание для самостоятельной работы – написание реферата об истории и особенностях локального стиля игрушечных промыслов России. Оно нацелено на формирование умения работать с нужной литературой, обобщать и систематизировать полученные сведения. Доклады по материалам реферата, сделанные для аудитории, позволят студентам расширить знания об историческом развитии, художественно-стилистическом многообразии, технологических приемах изготовления народной игрушки.
На примере текстильной куклы дается представление о принципах этно-педагогики и роли игрушки в ней, что позволяет проиллюстрировать положение о многофункциональности народной игрушки и ее способности к передаче духовного культурного опыта. Практическое задание – изготовление текстильных кукол направлено на освоение традиционных приемов и навыков работы с материалом, развитие художественных способностей и эстетического вкуса. Этот раздел пособия актуален не только для студентов, но и для мастеров центров ремесел, педагогов, родителей и детей. Технологические приемы изготовления текстильных кукол демонстрируются при помощи графических изображений, с краткими пояснениями,
на примере кукол, изготовлявшихся в Удмуртии. Этот материал является также образцом итогового, зачетного задания курса, направленного на изучение игрушки как части традиционной детской культуры. Студенты должны отразить результаты собственного поиска народных игрушек во всем комплексе их бытования – от изготовления до применения. Поэтому зачет проходит в виде практической конференции с элементами праздника. Сценарии выступлений с технологическими картами, оформленные в соответствии с едиными требованиями, составляют основу методического фонда курса.
Использование традиций народной культуры, без сомнения, может обогатить процесс воспитательной работы в образовательных учреждениях и семье. Учитывая то, что учебное пособие предназначено, кроме студенческой аудитории, педагогам, родителям и детям, оно дополнено разделом, отражающим современный педагогический опыт. Знание основ народной игрушки успешно используется в педагогической практике студентами заочного отделения и выпускниками, работающими в детских садах, школах, домах творчества для детей и юношества, клубах, музеях и т. д. Для примера приводятся методические разработки преподавателей. Опыт в области музейной педагогики иллюстрирует текст экскурсии к передвижной выставке из фондов Художественного музея университета. Все эти методические материалы демонстрируют комплексный подход
к об разовательному процессу, знание возрастных психолого-педагогических особенностей учащихся, глубокое проникновение в основы народной культуры и этнопедагогики, успешное использование музыкального, словесного и изобразительного фольклора.
Многие из выпускников Отделения народного художественного творчества становятся профессиональными художниками, мастерами центров народных ремесел. Это доказывают выставки декоративно-прикладного искусства, в том числе специализированные, посвященные авторской и ремесленной игрушке. Поэтому мы предлагаем знакомство с современным состоянием игрушечного дела в Удмуртии – одном из типичных регионов России. Образцы современных
ремесленных изделий, иллюстрации сопровождаются кратким анализом.
Однако вопросы об успешности использования народных традиций в процессе индивидуального творчества остаются проблемными. Педагогический и художественный опыт становится достоянием общественности, он находит свое отражение на выставках различного уровня, показывается на фестивалях народного творчества. Эти комплексные мероприятия бесценны для актуализации проблемы передачи традиций, для планирования дальнейшей работы и прогнозирования ее результатов. Считаем возможным, подводя итоги, познакомить с некоторыми из таких мероприятий и поделиться своими идеями.
Раздел 1. Народная игрушка
1. Ценность народной игрушки
Сегодня народные игрушки можно встретить нечасто. Благодаря художникам и собирателям, оценившим их эстетические достоинства еще в конце XIX в., они украшают экспозиции музеев. Глядя на лучшие образцы народных игрушек, посетители выставок отмечают лаконичность и благородство их пластики, нарядное, но неназойливое декоративное решение, проверенное вкусом многих поколений, бережное отношение к материалу и любование его естественной красотой. Неизменно трогает теплота и искренность образов рукотворных изделий, где содержание неотъемлемо от формы.
Мы не только любуемся красотой народной игрушки, но и испытываем гордость. Многие из них славятся во всем мире, например: традиционные матрешки подмосковного Загорска (так назывался в советское время Сергиев Посад), приволжских Семенова и Полхов Майдана, узнаваемые по локальному художественному стилю, но имеющие общерусский характер.
Все они неизменно веселые. Физическое и духовное здоровье выдает румянец, ясный взор, полнота. Цвета яркие и чистые, с преобладанием солнечных красных и желтых. Блеск подчеркивает плавность и округлость форм. Отточенные многолетними повторами орнаментальные вставки, любимые русские цветы, написаны легко, будто играючи. Русская матрешка стала столь популярной еще и потому, что отвечала общечеловеческим представлениям о прекрасном. В матрешке угадывается древний и вечный первообраз мира, с которого начинается все, в том числе и человек – яйцо, бесконечно делящееся и восстанавливающее свою целостность. Она являет дорогой каждому образ матери, рождающей из своего лона, дает представление о благодати как о плодовитости (цв. ил. 1а, б).
Однако попав в музейную коллекцию, став культурно-эстетическим памятником, игрушки утрачивают свои практические функции. Наверняка многие взрослые, любуясь ими сквозь стекла витрин, мысленно «примеряли» их к интерьеру своего жилища, сознавая беспочвенность таких притязаний. Или насильно уводили непосредственных детишек, порывавшихся взять игрушку в руки, чтобы начать играть ею. Тем, кто хочет приобрести народную игрушку для дома, нужно идти в художественные салоны и сувенирные лавки. Но лишь немногие из игрушечных промыслов прошлого представлены там. Ассортимент товарных образцов пополнили многочисленные подделки в русском духе. В погоне за зарубежным покупателем они приобрели несвойственную народному вкусу многословность, пестроту, броскость. Такие игрушки, купленные за немалые деньги, редко дают детям. Так и матрешка, к сожалению, почти исчезла из обихода ребенка. Мастерство токарной деревообработки по ряду причин утратило свою привлекательность и доходность. Художники, с трудом приобретая точеные фигурки, стремятся расписать кукол «дороже». У рассчитанных на вкус богатых иностранцев сувенирных матрешек слащавые лица, богатые боярские костюмы с отточенным, но дробным узором, сложный, многообразный по оттенкам, но холодноватый, а потому отстраненно-равнодушный колорит. В качестве сувенира и украшения интерьера они пополняют обиход людей с невысокими эстетическими запросами, в чьем кругу приверженность моде делает их случайной и кратковременной безделушкой.
К счастью, некоторые производители бережно хранят и развивают традиции русской народной игрушки. На напоминающей старый русский торг сувенирной ярмарке под открытым небом у ворот Троице-Сергиевой лавры иногда даже у самих мастеров можно купить настоящие богородские нераскрашенные деревянные игрушки с движением. Продают их и в московских сувенирных лавках для иностранцев, и в музее знаменитого детского кукольного театра им. С. В. Образцова. Фирма, которой руководит М. Б. Дайн, дочь известного исследователя, возрождает старые сергиевские игрушки. Фирма рентабельна, активно представляет свои образцы за рубежом, ищет помощи государства в организации в центре туризма и православия «Дома кустаря», где было бы возможно не только купить, но и увидеть процесс изготовления знаменитых некогда изделий подмосковных народных художественных промыслов.
Ценность игрушки велика, в первую очередь, для педагогики, в связи с ролью игры в воспитательном процессе. Это ведущий тип деятельности ребенка до школы, когда закладываются основные качества личности. Игрушка отражает мир самого человека, его природное окружение, мир его культуры. В этом качестве она – способ передачи материального и духовного опыта общества, и самого важного, вневременного, и актуального своей исторической конкретностью. В связи с этим встает вопрос: все ли игрушки полезны детям?
Какой должна быть игрушка по сюжету, облику, качеству? Об этом надо задуматься не только родителям, но и производителям игрушек. Вопрос не теряет остроты, пока наш рынок заполнен натуралистичными куклами, назойливыми по цвету, с трудом узнаваемыми зверями, уродливыми монстрами, игрушками на батарейках, монотонно повторяющими одни и те же движения. Игрушки наших детей сложны, но агрессивны, нарядны, но не доступны каждому, ярки, но бездуховны. Игра с ними только и может, что повторять экранную жизнь: боевики и фильмы ужасов, эстрадные и модельные шоу, погони и издевательства героев мультфильмов.
Народные игрушки, наоборот, способны гармонизировать сферу человеческих отношений, ориентируя лишь на положительные общечеловеческие ценности. Тряпичная или соломенная кукла, глиняный конек или птица-свистулька, деревянный медведь, бьющий по наковальне молотом по очереди с мужичком, интересны и понятны современным детям. Игра с ними содержательна и разнообразна. Она развлекает и дарит положительные эмоции, отражая быт, труд, природу, праздничные традиции родного народа, прививает любовь к национально-самобытным и общечеловеческим сторонам жизни. Универсальные свойства языка народной игрушки помогают ей преодолевать барьеры, разобщающие современное общество, несут идеи добра, согласия, любви.
Г. Л. Дайн заметила, что ценность матрешки не только в ее образно-художественных качествах, это одна из самых полифункциональных кукол[1]. Она – забава для младенца, яркая, прочная, гремящая, если потрясти. Малыши, раскладывающие и складывающие фигурки, незаметно осваивают понятия размера, формы, цвета. Став старше, дети могут играть несколькими мал мала меньше веселыми куклами в большую и дружную семью, усваивая нормы межличностных отношений. Повзрослев, они сохранят любимую игрушку как память о пережитых мгновениях, как мечту о будущих детях. Сказочно-приподнятая, красочно-нарядная матрешка – украшение любого интерьера, прекрасный подарок людям разного возраста, наконец, символ русской культуры.
Отрадно, что в последние десятилетия в связи с возросшим интересом к традиционной культуре народная игрушка привлекла внимание педагогов. Дети способны восторгаться роскошью магазинной игрушки, оценить детализацию и предельное сходство ее с прототипом, но простота и остроумие устройства поделки, созданной своими руками, для них ценнее.
Попробуйте научить детей лет пяти и чуть старше мастерить тряпичную куклу, такую же, какой играли крестьянские дети сто лет назад. В детском саду или в школе можно составить вместе несколько столов. Накрытые лоскутным покрывалом, они станут похожи на широкую печь или полати, где обычно спали «старые и малые», где в тепле бабушки забавляли внуков игрушками-самоделками. Мальчишки и девчонки будут, открыв рот, смотреть, как учительница в роли деревенской старушки, сняв с головы платок, быстро превращает его в нарядную фигурку, подпоясанную фартучком и узорным пояском, повязанную цветистой шалью. А потом они из носовых платочков и принесенных из дому лоскутков скрутят своих куколок. Скользкие синтетические ткани будут топорщиться и с трудом завязываться. Спасут положение изношенные остатки ситцевых халатиков и рубашек. Дайте каждой такой кукле старинное русское имя. Хорошо, что время не стерло хотя бы часть из них. Бережно унесут малыши домой созданную своими руками и потому вдвойне дорогую куклу Анну, Марию, Елизавету, Варвару, не замечая, что у них нет рук, ног, лица, что одежда их непритязательна. Дети будут играть ими долго и самозабвенно. Спокойная и теплая игра отразит самое обыденное, но глубоко человечное, что есть в каждой семье. Кукол будут кормить, баюкать, приговаривая ласковые слова, поведут в гости. У кукол по мере развития игры появятся мама и папа, бабушка и дедушка, сыновья и дочки, друзья и подруги, сделанные так же легко и без промедления. Детская фантазия будет бурлить, подсказывая новые ситуации и сюжеты.
Народная игрушка соответствует разным педагогическим задачам. Она не только игровой объект и забава, средство воспитания и обучения, но и повод к самостоятельному творчеству. Опыт преподавания курса по истории народной игрушки показал широкие возможности его использования в педагогической практике. Руководители детских коллективов[2] и их воспитанники, общаясь со старшими односельчанами, собирают образцы местных кукол. В Удмуртии проживают русские, удмурты, татары, а также люди многих других национальностей. Текстильные куклы поражают остроумием устройства, простотой и художественностью. Дети, освоив несколько традиционных конструкций, не только копируют их, но и смело творят собственные, экспериментируют с цветом и фактурой тканей. Педагоги отмечают свободу детского творчества и спонтанную (на уровне генетической памяти) яркую национальную образность. Она проявляется не столько в этнографических признаках, сколько в выражении ментальности. У маленьких татарочек куклы активные, броские, яркие.
Платочки им повязаны назад, чтобы не мешали. Застенчивые девочки-удмуртки мастерят сдержанные по цвету фигурки, укутывают их большими шалями, надвигая низко на лицо. Девочкам меньше десяти лет, они только учатся аккуратно работать иглой, наряжая кукол. Многим достаточно, закрутив и подвязав их наскоро, получить эффектный образ, который сразу же побуждает к игре. Учительница начальных классов сыплет упреками, в портфелях девчонок куколок больше, чем учебников. Подружки, увидев поделки, пристают: «Подари, да подари!» Да разве жалко подарить, смастерить-то нетрудно, да и научить сделать такую же куколку-закрутку проще простого. Ко дню рождения мамы и для утешения заболевшей бабушки с особым старанием создается самая красивая кукла. Те бережно ставят ее в сервант и гордо показывают родным и знакомым. И вот уже на занятия приходят девочки постарше и даже женщины, готовые делать кукол хоть каждый день. Появились планы: к Рождеству смастерить вертеп и показать его в селе, изучить народную одежду, обряды, праздники и связать эти знания с кукольным ремеслом, создать этнографический кукольный театр. Таким образом, простая самодельная тряпичная кукла, выполненная в народных традициях, обнаружила не только игровую свободу. Она стала средством самовыражения и творческого развития, поводом к освоению традиций национальной культуры (рис. 1).
Таким образом, игрушка как ценный образец народной культуры не утратила свое го значения для современности. Народная игрушка может обогатить массовую культуру и быт наших современников, поскольку обладает удивительным многообразием и неразрывностью функций. Для детей игрушка ценна своей способностью ненавязчиво и эффективно забавлять, развлекать, обучать, воспитывать и развивать. Перейдя в мир взрослых в качестве подарка, сувенира, украшения интерьера, она продолжает свою воспитательную миссию, гармонизирует наш внешний и внутренний мир, делает нас более добрыми и отзывчивыми к красоте. Игрушка знакомит с нaциональной историей, развивая патриотизм и гражданские чувства. Она обладает немалым запасом общечеловеческих ценностей, помогает воспитывать подрастающего человека прежде всего с духовной стороны, прививая нормы нравственности, основы толерантности (терпимости к проявлениям иной культуры), уважение к традициям.
Рис. 1. У. В. Ковычева. Текстильные куклы. г. Ижевск. 1999
Вопросы для самопроверки
1. Какие качества народной игрушки привлекают к ней внимание художников и производителей?
2. В чем педагогическая ценность народной игрушки?
3. Какие свойства народной игрушки характеризуют ее способность к передаче духов опыта?
2. Определение народной игрушки
Слово «игра» звучит уже в самом понятии игрушки. Попробуем дать определение народной игрушки и найти наиболее приемлемый термин для него из трех предложенных: предмет, модель или образ для игры.
Обобщенное понятие «предмет» хорошо выражает неодушевленную природу материала игрушки. Предмет может иметь любую форму, цвет, качество. Этот термин лучше всего подходит к игрушке упрощенной формы. В процессе детской игры она легко превращается в человека, животное, средство передвижения, мебель, архитектурную композицию. Природные анимистические свойства сознания: способность к одушевлению, фантазия позволяют ребенку создавать воображаемый облик, обстановку, поведение персонажей игры. Так, например, кубики и призмы деревянного конструктора становятся сельским домом, дворцом, космической станцией. К первому лошадка привезет дрова, ее распряжет мужичок. Ко второму прикатят кареты, из них чинно выйдет король в окружении свиты. Летательные аппараты примчат к месту отдыха непохожих на людей инопланетян. Подобные сегодняшнему конструктору брусочки и чурочки были у детей с незапамятных времен. Игра в дочки-матери, подражание знакомым сценам труда, наконец, игры-состязания на ловкость и меткость – все было им доступно.
Однако понятие «предмет», которое мы для себя конкретизировали, не исчерпывает всего многообразия народных игрушек. Большинство из них позволяет узнать облик и внутренние качества реальных существ и вещей, которые легли в основу изображения. Но еще более важным доказательством некорректности термина «предмет» является то, что в основе игры лежит превращение неживого в живое, абстрактного в конкретное. Воображаемая одушевленность, вера в наличие внутренней жизни – главное и обязательное качество игрушки. Значит, термин «предмет» нас не очень устраивает.
Можем ли мы применить для определения игрушки термин «модель», под которым понимаем результат копирования, дублирования? Такие игрушки особенно хороши для детей старшего возраста. Копируя технические объекты, они приобщаются к процессу изобретательства. В детском труде незаменимы модели орудий производства. Но хорошо, когда они настраивают ребенка на труд и творчество, а не сковывают его инициативу. В наши дни производители игрушек сознательно стремятся к максимальному сходству их с прототипами. В машинах с дистанционным управлением и открывающимися дверцами без труда узнается марка и страна-производитель. Куклы получили длинные ноги и соблазнительные формы. Иной папа вертит такую в руках не менее заинтересованно, чем дочь. Некоторым взрослым кажется: чем больше сходства с реальностью, тем игрушка лучше. В нее вложено много труда, она – результат технического прогресса, она дорогая, наконец. Но такие игрушки больше тешат тщеславие родителей. Им часто приходится сетовать, что их дорогие подарки пылятся без дела или безжалостно ломаются. В результате упреки, а не желание понять, что не удовлетворяет ребенка.
Еще в начале 20-х годов ХХ в. художник, собиратель, организатор первого в нашей стране музея игрушки Н. Д. Бартрам заметил, что иллюзорность игрушке вредит, поскольку сужает свободу игровой импровизации. Он привел примеры игрушек, которые не только не нужны, но даже вредны детям. В их числе механический кукольный театр. «На сцене этого театра скучно кружились заводные, стриженые куклы-пудели под звуки рояля и скрипки, или в размеренных движениях две куклы же – маркиз и маркиза – танцевали менуэт, в движениях, настолько зависящих от механизма, что ни одного свободного жеста в них не было видно… Ничтожная иллюзия такого театрика иногда нарушалась порчей механизма или неправильностью движений, и тогда из-за кулис появлялась рука механика и уволакивала за сцену застывшую фигуру с поднятой рукой или смешно, неестественно приподнятой ногой и застывшей улыбкой на розовом фарфоровом лице… Только подобные инциденты и веселили детей, вызывая искренний смех и продолжительную радость»[3]. Вспоминается герой сказки Гофмана «Щелкунчик» – мальчик, которому крестный подарил на Рождество чудесный замок с движущимися дамами и кавалерами. Восхищение ребенка удивительно скоро сменилось разочарованием: «…раз нарядные человечки в замке только и знают, что повторять одно и то же, так что в них толку? Мне они не нужны. Мои гусары куда лучше! Они маршируют вперед, назад, как мне вздумается».
Но почему взрослые не прислушиваются к детям? Сегодня игрушки, в основном, – натуралистические слепки. Мамам и девочкам не приходится выбирать. Куклы-игрушки в женском облике, без которых немыслима жизнь девочки любой эпохи, однообразны и тиражируют образцы, разработанные известными фирмами. У них не только одинаковы имена (все Барби и Синди), но и облик схож: правильные, оттого одинаковые личики, пышные волосы, высокая грудь, тонкая талия, длиннющие ноги, поднятые в пятках маленькие ступни, чтобы можно было надеть туфельки на высоких каблуках. Сходство обусловлено подражанием идеалу массовой культуры: манекенщицам, танцовщицам, фотомоделям. Куколки, несмотря на небольшой размер, дороги. Цена возрастает от стоимости платья, аксессуаров. Хотите, купите платья отдельно, на каждый случай жизни: для выхода в театр или ресторан, для пикника и спорта, для сцены или даже для съемки в фильме-сказке. Но чаще кукла уже экипирована для всех этих поводов. Некоторые мамы покупают по первой прихоти крикливой дочки Барби-спортсменку, Барби-принцессу или Барби – будущую маму, так как такой еще нет в гигантской «коллекции», вдруг она подольше задержит внимание избалованного чада. А потом кукле приобретается дом с посудой, мебелью, гаражом, автомобилем, загородная вилла и многое другое, миниатюрное, но такое настоящее. Нет конца приобретениям, так как производителям не надо ничего изобретать, копируй и копируй атрибуты западного благополучия, столь приятного невзыскательному вкусу.
Развитая предметная среда и одежда кукол Барби, создающая профессиональную и сюжетную характеристику, способствуют созданию игровых ситуаций. Хотя они же и ограничивают игру. Девочке с ранних лет внушают нормы взрослого поведения, и она быстро усваивает, что в бальных платьях не резвятся на кортах, не моют посуду, не ухаживают за детьми. Фантазия ребенка, его способность домыслить любую роль и обстановку оказались скованными. Для любимой девочками игры в материнство сегодня в магазинах продается резиновая лысенькая кукла-младенец, закрывающая глазки и плачущая. Кроме того (вновь недоверие к детскому воображению!), кукла имеет размер настоящего ребенка. Она просто тяжела, вспомните, как женщины вздрагивают и ужасаются, если такая кукла выпадает из колясочки или из рук кажущейся сестренкой маленькой хозяйки. Но еще меньше приспособлена для игры модная сегодня кукла с фарфоровой головой, со стеклянными глазами, шелковистыми локонами, уложенными в изысканную прическу, в старинном платье из натуральных благородных по цвету и качеству отделки тканей. Из-за дороговизны и хрупкости ее даже и не дадут девочке в руки. А если и дадут, то будут пристально следить, чтобы не раздела, не порвала, не сломала, охраняя мир куклы, а не мир ребенка. Характеризуя куклу как культурный объект, известный культуролог Ю. М. Лотман[4] в 70-х годах ХХ в. поделил кукол на две группы, соответствующие обрядовому и индивидуальному типу мышления. Первая разновидность куклы, кроме детской игры, использовалась в народной обрядовой жизни. Ее качества – схематизм, оживление в обрядовом сознании через игровой процесс, активность в получении информации сосредоточена в адресате. Кукла вторая – скульптурное изображение – становилась произведением искусства, сосредотачивая активность на себе самой, становясь посредником между творцом и зрителем. Эта кукла требовала отношения к себе как к произведению искусства и «взрослого» поведения, исполнения набора жестких правил: в кукольном театре «не лезьте на сцену, не вмешивайтесь в пьесу», на выставке – «не трогайте руками». Дети с трудом эти правила исполняют. Они хотят в театре кричать и участвовать в действии, в музее – не только трогать куклу, но и играть ею. Только в процессе игры они вырабатывают информацию. Ю. М. Лотман повторил, что детская и народная кукла может быть предельно упрощенной, она – повод для смыслопорождающей игры, требующей фантазии, напряженной работы воображения. Более того, чем она схематичнее, тем больше значений может ввести в нее ребенок, вовлекая в игру. Кукла-скульптура из быта ребенка ушла в мир чистого искусства.
Выставки таких кукол сейчас проводятся очень часто. Вспоминаются куклы на ставшей уже традиционной предновогодней коммерческой выставке в Центральном доме художника на Крымском валу. Миловидный типаж, позы, соответствующие костюмы и даже видимость эмоций на личиках, например слезинки на одном. Жюри отмечает кукол в психологическом образе: девочку-шалунью, уличного фотографа. Но большинство зрителей удивляются не характерным, а натуралистичным куклам, с их богатыми нарядами, сложными прическами, глазками, копирующими настоящие глаза. Однако восхищаются они не столько образами, сколько технологией, которая довлеет над искусством. Куклы, подражающие людям, живыми не становятся. Их оцепенелые позы пугают, застывшие взгляды пронизывают зрителей насквозь. Лишь уменьшенные по сравнению с человеком размеры не позволяют куклам уподобиться восковым манекенам, рядом с которыми, как в склепе, бешено колотится сердце. Натуралистичность сама по себе подразумевает жизнь, движение. Оцепенелость выглядит смертью. Кукла-модель произведением искусства стать не может.
Но есть и приятные исключения. В Музее архитектуры им. А. Щусева в Москве в сентябре 2001 г. проходила выставка «Кукла от звезды». Известным деятелям массовой культуры: телевидения, шоу-бизнеса и моды было поручено смастерить кукол. Их намеревались продать на аукционе и направить вырученные деньги на лечение детей-инвалидов с дефектом «заячьей губы». «Вернем детям улыбки!» – благородно и многообещающе гласило объявление у входа. Кукол «звездам» выдали одинаковых, с белым матовым личиком, красивым, но стандартным, из тех, которые и у живых-то девушек называют «кукольными». Ручки и ножки красавиц были изящными, утонченными. А вот тело им подарили уродливое, тряпичное, набитое ватой. Видимо, предполагалось прикрыть его одеждой.
Это бесформенное тело оказалось благом, условностью, которая подсказала «звездам» множество образных решений. Они доказали, что умеют творчески мыслить. Но кроме того, проиллюстрировали идеи человека начала XXI в., обладающего определенным и ценностями. Чего только не делали знаменитости с ватным тельцем куклы! Они втыкали в него булавки, будто вспомнили кукол используемых в магических обрядах, и решили разом расправиться со всеми своими врагами. Они распинали куклу, прибив конечности гвоздями и оторвав на всякий случай головку. Они расчленяли куклу, топили ее в зеленом клее, запихивали в банку со спиртом, уподобляя щекочущим нервы эмбрионам-уродцам.
А рядом с результатами жестоких опытов стояли на цыпочках нежно схваченные за талии блестящими зажимами сказочные феи в платьях немыслимой красоты. «Звезды» воплотили в них свои мечты о нарядах. Будто им самим не доступно блистать при свете юпитеров. Как умело потрудились парикмахеры, покрасив длинные бесцветные волосы кукол, уложив их в миниатюрные прически! Как профессионально колдовали малюсенькими кисточками стилисты, накладывая макияж на белые личики! Готово «лицо-загадка», «лицо – гостья из будущего», «лицо – я сама звезда».
Большинство авторов идеи наняли художников для ее воплощения. На этикетках были честно написаны рядом со звездными именами другие, нам ничего не говорящие. Некоторые заказали живописцам и скульпторам выполнить собственный портрет, а те с блеском превратили белесое существо в копию «известного лица». Запомнились кукла – копия Ирины Хакамады, Лия Ахеджакова и Алла Ларионова в ролях. Никита Михалков представил копию дочки в клетчатом платьице, фартучке, в крошечных сандаликах. На этикетке было написано: «В этом платье Надя прошла по Каннской лестнице».
Куклы, благодаря искусству гримеров и костюмеров, становились экзотичными негритянками и японками, приобретали облик исторических героев, сказочных и фантастических персонажей. Скульпторы лепили им новые головы и тела, превращая юных девушек в стариков с обвисшими животами. Дизайнеры заменяли туловище механизмом, клеткой, аквариумом, перетягивали руки и ноги пластиком и получали монстров, таких причудливых, каких не увидишь в самых изощренных фильмах ужасов (человек – не такой податливый материал). Образы были острыми, запоминающимися, например: женщина-мать с прозрачным животом и видимым младенцем, женщина-вожделение с пятнышком на тряпичном животе над пушком лобка. Куклы несли мысли и чувства наших современников, в большинстве своем неприглядные, отталкивающие, нервные. Олицетворений добра было совсем немного, например: несколько очень похожих, а потому не волнующих ангелов. Только жена Н. Дроздова, ведущего передачи о животных, одела куклу в вязанные крючком платье и туфельки, украсив их обилием разноцветных цветочков. Кукла превратилась в Весну, почти боттичелливскую, но более трогательную.
Выставка показала, что кукла может сыграть любую роль: кукла доказала богатство творческих решений и образного языка, кукла продемонстрировала способность выразить чувства человека, идеи и ценностные ориентиры его времени. Художники – дизайнеры, костюмеры, гримеры использовали человеческий образ для создания произведения искусства. Но потребители-то у него разные. Иное как образец поп-арта купит музей. Мини-портреты интересны поклонникам звезд. Часть кукол окажется в коллекции, где, как и на самой выставке, в наборе образов они раскроются самым наилучшим образом. Ну а остальные станут сувенирами. Создатели выставки рассчитывали на взрослое восприятие, современные взрослые клише сознания, чтобы продать дороже модный образец товара и вырученные деньги распределить между взрослыми же: организаторами выставки, журналистами, врачами, которые будут лечить больных детей. А теперь представьте этих детей на выставке. Вы сумели бы объяснить им, для чего эти куклы, подарили бы хоть одну? В руках ребенка можно представить только простую и нежную девочку-весну. В данном случае кукла-скульптура утратила свою игровую функцию и связь с потребностями ребенка.
В сентябре 2003 г. в Сергиевом Посаде в Художественно-педагогическом музее игрушки прошли Первые Бартрамовские чтения. Специалисты, отметив, что музеи и выставки натуралистичных кукол сейчас получили небывалое распространение, отказали им в художественной ценности. Сложилось даже негативное отношение к самому термину «кукла». Коммерческий успех таких предприятий, засилье в нашей торговле аналогичной продукции требует постановки и разрешения вопросов, связанных с эстетическими свойствами игрушки. По той же причине авторская художественная игрушка – новое явление в нашей культуре – стала предметом научного анализа и обсуждения. Декларация ее ценности как единственного в своем роде произведения чистого искусства, утратившего прикладную игровую функцию, послужила поводом к полемике. Петербургский музей игрушки, самобытность коллекции которого доказывает раздел авторской игрушки, заявляет о себе как о музее преимущественно художественном, а не педагогическом, взрослом, а не детском. Среди вопросов к его сотрудникам особенно дискуссионными были следующие: чем интересна авторская игрушка производителям, детям, деятелям изобразительного искусства, какие свойства определяют ее принадлежность к игровой культуре?
Таким образом, термин «модель» нас не устраивает прежде всего из-за отсутствия художественности. Копия тоже сковывает процесс одушевления игрушки.
Вернемся к народной игрушке, чью ценность мы уже почувствовали. Искусство игрушки – особое, уникальное. Оно имеет сходство и со скульптурой, и с живописью, и с декоративно-прикладным искусством. В нем есть элементы художественного конструирования и театра. Эта особенность игрушки была подмечена еще Н. Д. Бартрамом[5] и нашла конкретные пояснения в трудах Г. Л. Дайн. Исследователь справедливо заметила: «В ней активно живет пластика, ее выразительными средствами игрушка моделирует, изображает предметный мир со всей убедительной конкретностью. С другой стороны, игрушка вещь бытовая, утилитарная и, значит, изобразительность ее носит прикладной характер. Она подчинена функции игрушки, приспособлена к детским интересам, к игре. Это сближает игрушку с предметами прикладного искусства. Их взаимосвязь выражена и в том, как свободно комбинируются в игрушке разные материалы, как открыто декоративна в ней роль цвета, фактуры, орнамента… В ней есть элементы художественного конструирования, прямая и обратная связь между техническим строением игрушки и ее образной выразительностью… Помимо того, игрушка содержит яркие элементы театрализации. Она зрелищна, сценична, преображаясь в движении, сопровождаемая еще и мелодией или звукоподражанием, т. е. живет она не только в пространстве, но и во времени, притом театральна любая игрушка, даже если она статична, потому что полностью проявляет себя только в детской игре, в руках ребенка – актера и режиссера… Все эти выразительные средства в их уникальном соединении рождают образ игрушки, важнейшая функция которого – эмоциональное, духовное воздействие»[6] (рис. 2).
Таким образом, народная игрушка не просто предмет или модель, она – художественный образ для игры, для которого характерно смелое обобщение, порождающее многообразие метафор, ассоциаций, общечеловеческих идей. Это свойство роднит ее с фольклором. Глубокая связь с реальностью, жизнью и деятельностью человека позволяет образу приобрести конкретный, национально и социально узнаваемый облик, выразительный характер. Лаконизм и типизация – приемы, которые позволяют их создать. Выделяются не все самые броские черты, а лишь те, которые проверены народной мудростью, несут положительные идеалы, отражают лучшие нравственные принципы. Образ чужд сатире, пародии, эксплуатирующим отрицательные, не менее выразительные качества человека. Обратим внимание на многофункциональность народной игрушки. Трудно найти другое произведение искусства, где утилитарность была бы столь многозначна. Игрушка, созданная для потребностей ребенка, удовлетворяющая задачам разного возраста, в мире взрослого человека становится подарком, украшением, сувениром, произведением чистого искусства, имеющим музейную ценность. Причина этого – в неразрывной связи утилитарного назначения с эстетическими свойствами, единстве «пользы» и «красоты».
Рис. 2. Е. И. Лукьянова. Всадник; Е. К. Евдокимова. Барыня. Тульская обл., с. Филимоново. 1987
Вопросы для самопроверки
1. Какие игрушки мы понимаем под термином «предмет»? Почему он не исчерпывает возможностей определения народной игрушки?
2. Какие качества позволяют нам назвать игрушку «моделью»?
3. В чем недостатки современных игрушек-моделей?
4. Какие свойства позволяют определить народную игрушку как художественный образ?
5. Каким искусствам близка народная игрушка?
3. Виды народной игрушки и историческое развитие их функций
Народная игрушка делится на две группы, исторически сложившиеся и генетически связанные, но различающиеся между собой функционально и по образно-художественным характеристикам. Это крестьянская и ремесленно-промысловая игрушка. Впервые определила и проанализировала эти типы игрушки Г. Л. Дайн.
Крестьянские игрушки – поделки, изготовлявшиеся из подручного материала родителями для своих детей в свободное от нелегких забот земледельца время. Создатели таких игрушек не считали себя художниками. Их эстетическая функция (красота) была обусловлена экономией материала, лаконизмом отточенных, передававшихся по наследству приемов исполнения, повторением образцов многолетней давности, несущих память о древних, очень значимых для крестьянина образах. Понятие красоты было неотделимо от представлений о ценном, полезном, добром (рис. 3).
Самая доброжелательная к земледельцу сила природы – солнце, несущее тепло, жизнь, сытость. Отсюда преобладание красного (красивого) цвета в окраске крестьянских игрушек, излюбленный, самый гармоничный декоративный элемент в виде солнечных кругов и спиралей. Отметим предпочтение образов коней и птиц, на которые издавна переносились представления о том же солнце, небе как месте пребывания богов и предков. Идея плодородия и богатства выражалась в фигурках домашних животных, изображениях женщин с подчеркнутыми детородными органами. Человек вообще изображался преимущественно в облике женщины.
Рис. 3. Куклы-панки, конь. Архангельская губерния. Конец XIX – начало XX в.
Практическая функция (польза) игрушек реализовывалась в детской игре. Игры способствовали подготовке к жизни и труду, развитию самостоятельности и смекалки, передаче традиций и опыта. Игрушек в крестьянской избе было немного, но все они были полезны, соответствовали возрасту, интересам, духовным и физическим потребностям детей. Младенцу, чтобы не плакал, подвешивали над колыбелью яркие тряпочки, звенящие украшенные подвески. Они не только развлекали, но и защищали ребенка от зла. Звона, шума, солнечных цветов и знаков, по мнению крестьянина, нечистая сила боялась. Годовалому малышу мастерили каталку на палочке. Завороженный кружением подвижных деталей, ритмом звука и цветных полос, он все увереннее шагал вслед за бегущим впереди него «чудом». Конструкция, форма и декор каталки имели архаичную форму. В языческой культуре праславянской древности маленькие колесницы посвящали природным божествам, от которых зависел земледелец. Каталку мальчика, будущего защитника, украшали фигуркой коня, девочки, будущей продолжательницы рода, – птичкой. Ребенок еще не сознавал их значения, но для родителей они были знаком его судьбы.
Когда малыши подрастали, отец тем же топором, которым рубил избу или чинил инвентарь, вытесывал из древесных остатков сыну коня, а дочери – куклу. Играя с ними, дети усваивали свои социально-половые различия и роли. Эти игрушки в виде обобщенного силуэта были устойчивы и прочны, неизбежные падения из неуверенных рук им были не страшны. Мальчику постарше коня ставили на колеса, чтобы был послушен движению ведущей его руки и внушал маленькому хозяину чувство превосходства над сильным животным, главным в хозяйстве помощником. Присев отдохнуть от жатвы на золотистую солому, из нее же мать крутила куклу, чтобы порадовать помогавшую ей дочку. Дома кукла-забава весело кружилась в танце, от вибраций и под звук ударяющих по плоскости стола детских кулачков, и усталость отступала. Подобную куклу-стригушку, только большую, ставили между стеклами, где в морозные дни она напоминала о лете и солнце, а также вбирала в себя лишнюю влагу. Дети получали их только после «службы между рамами». Поздней осенью и зимой, когда времени для рукоделья было больше, опять же в перерыве между важными для крестьянского быта серьезными занятиями – прядением, ткачеством, изготовлением одежды или гончарным делом, мастерились и украшались детские потешки: тряпичные куклы и глиняные свистульки. И все это на глазах у детей, которым рано доверяли инструменты и позволяли подражать взрослым, оценивая по достоинству результат усилий.
Процесс работы сопровождался общением взрослого и ребенка. Пояснения перемежались с назиданием, рассказом, побасенкой, песней, сказкой, с помощью которых усваивалось значение того или иного образа, внушались нормы поведения и общественные ценности. Так игрушка выполняла свою главную коммуникативную функцию – передачи из поколения в поколение материального и духовного опыта коллектива – сложного комплекса важных практических, нравственных, мировоззренческих знаний и представлений (добро и святыня).
Не случайно игрушки было принято бережно хранить. Куклы, например, передавались по наследству от матери к дочери. Символизировавшие плодородие и деторождение, они были атрибутом свадебного ритуала. И девичью игру в куклы поощряли вплоть до рождения первого ребенка. Свистульки и выпеченные из теста фигурки в образе домашних животных и птиц были для детей желанным подарком. Игра с ними принимала характер магического ритуала, способствовавшего приходу долгожданной весны, увеличению поголовья животных в крестьянском хозяйстве.
Малочисленность игрушек развивала у детей не только бережливость, но и фантазию, как в игре, так и в собственном творчестве. Лет с пяти дети могли смастерить игрушку самостоятельно не только для себя, но и для младших братьев и сестер. Предметную среду ролевых игр усложняли обыгрываемые бытовые предметы, поделки из природных материалов. Коллективные игры, в которых принимали участие мальчики и девочки разного возраста, отражали знакомый детям быт и праздничную жизнь. Ведь все главные события не только родового, но и семейного значения носили в деревнях публичный характер. С помощью игрушек и игр осваивались традиции, социальные отношения и роли. Игра в свадьбу, например, требовала от детей знания порядка и содержания ритуала, свадебного фольклора. И это был активный процесс, требовавший эмоционального переживания и творчества, поскольку дети исполняли роли главных участников события, а не были пассивными наблюдателями. Художественность коллективной игры усиливалась включением в нее песен, танцев, музыки.
Игрушки требовали активного участия в обращении с ними и способствовали разностороннему развитию детей. Ловкость, силу, навыки коллективизма и состязательности тренировали подвижные игры с самодельными луками, мячами, костяными бабками. Зимние забавы, закалявшие и укреплявшие детей физически, не обходились без импровизированных лыж и разнообразных приспособлений для катания с гор. Музыкальный вкус развивался при помощи рожков, свистулек, дудочек. Трудовые процессы осваивались с помощью игрушечного инвентаря. Крестьянские дети рано начинали помогать родителям, поэтому так ценилось время для игр. Трудовая деятельность и празднично-обрядовая жизнь коллектива, в которой дети принимали посильное участие, подчинялись природному календарю. Потому и детская игровая культура, отражавшая жизнь деревенского сообщества, зависела от законов и ритмов природы.
Таким образом, на примере крестьянских игрушек мы можем осознать синкретизм (неразрывность, слитность, взаимопроникновение) народной культуры, основывающейся на патриархальном мифологическом мышлении и выражающей себя в традиционной обрядовой жизни и быте. Философ, священник П. А. Флоренский считал идеалом высшей духовности нерасторжимость четырех понятий: польза, добро, святыня и красота. И этот идеал он находил в народной жизни, народном искусстве. В начале ХХ в. он призывал современников – и его призыв не утерял актуальности сегодня – понять душу народную, всмотреться в духовный мир народа. Он противопоставил непосредственное народное сознание «“духовному атомизму”, который, как рак, изъел и мертвит современную душу… распались начала внутренней жизни; святыня, красота, добро, польза не только не образуют единого целого, но даже в мыслях не подлежат теперь слиянию. Современная святыня робка и жмется в затаенный, ни для чего более не нужный уголок души. Красота бездейственна и мечтательна, добро ригористично, польза – пресловутый кумир наших дней, нагла и жестока… Но вглядитесь в душу народную, и вы увидите там – совсем не так. Тут целен человек. Польза есть не только польза, но она же есть и добро, она и прекрасна, она и свята»[7]. Крестьянские игрушки выполняли, кроме основной игровой задачи, роль обрядового и магического предмета, атрибута семейной или общинно-родовой праздничной культуры. Этим объясняется синкретизм их духовных и практических функций: обрядово-магической, воспитательно-образовательной, коммуникативной и эстетической. С этим ассоциируются основные художественно-образные качества крестьянской игрушки: связь с мифологией, обобщенность форм, архаичность декора.
Патриархальное мышление и культура тяготели к неизменности, незыблемости, были хранилищем очень древних представлений. Однако мифологические значения образов со временем изменялись и… забывались. И тогда им находились эстетические объяснения. Так, например, отсутствие лица у тряпичных кукол роднило их с пластическими воплощениями древних богинь, взгляд которых считался опасным для людей. Кукла, изначально мыслившаяся одушевленной, могла стать вместилищем опасных духов. Поэтому люди, боясь навлечь на своих детей их гнев, хотели оградить от злых влияний нечистой силы. Позже отсутствие лица объяснялось носителями этой традиции неумением его красиво нарисовать, подражанием белоликости городских женщин. Так постепенно исчезла обрядово-магическая функция крестьянской игрушки, эстетическая же приобрела большее значение. В эпоху капитализма деревня втягивалась в товарно-денежные отношения, замкнутость ее культурного мира постепенно разрушалась. Крестьянская игрушка не только испытывала влияние городской культуры, но стала объектом купли-продажи, превратившись в иной тип – игрушку ремесленно-промысловую.
Ремесленные игрушки – это изделия для продажи, выполненные мастерами-игрушечниками, для которых производство игрушек было добычей средств к существованию. Крестьянам, жившим на малоплодородных землях, близко от городов или сел, ставших центрами торговли, игрушечное ремесло помогало прокормить семьи. В крестьянской среде в дополнение к основному гончарному промыслу делали на продажу глиняную игрушку. Она сохраняла образные свойства крестьянской игрушки. В качестве примера можно привести каргопольскую и филимоновскую игрушку, где преобладают фольклорные образы, отражающие связь человека с природой. Это женские фигурки, олицетворение животворящих сил природы, фантастические существа, соединяющие черты зверя и человека, животные крестьянского хозяйства, символизирующие плодородие. Игрушки, несмотря на маленький размер, имеют монументальные лаконичные формы, украшены строгим архаичным декором. Почти все они – свистульки, что выдает их древнее предназначение – зазывать весну. Таким образом, ремес ленная игрушка в своем содержании имеет много разновременных исторических слоев. Она, как и крестьянская, – копилка коллективной памяти, сохранившей отзвуки древних верований и мифологии.
Однако архаичные черты, уже не осознаваемые носителями по значению, постепенно все более наполнялись впечатлениями от реальности. Стремление заинтересовать игрушкой горожан и выгоднее ее продать способствовало тому, что она приобрела броский, нарядный облик и занимательный характер. Глиняная игрушка селений, расположенных рядом с большими губернскими городами (например, слободы Дымково под Вяткой), изготавливалась с учетом вкусов мещанства, купечества, других сословий горожан. Игрушечники старались следовать моде, испытывали влияние фарфоровой и гипсовой пластики, заимствовали образы в городской культуре. С наивным любопытством и юмором представляли они городские типажи: барынь в богатых шляпах, с зонтами и сумочками, военных в высоких головных уборах, сценки из праздничного быта. Яркость промышленных красок заменила благородную гамму натуральных оттенков природных красителей. Некоторые игрушечные промыслы стали экономически успешными, что способствовало их развитию. Так, игрушки Дымковской слободы во второй половине XIX в. были востребованы не только в Вятке. Скупщики развозили их в города губернии, а во время сплава и в другие торговые центры Поволжья. Но особенно много игрушек изготовлялось к моменту проведения местного праздника Свистуньи, в содержании которого усматриваются разные временные напластования.
Более древнюю традицию имели расписные глиняные шары, свистульки в образе коней, оленей, птиц. И хотя время проведения праздника еще позволяло «почувствовать» его происхождение от весенних праздников плодородия, магическую и обрядовую функцию эти игрушки уже исчерпали. Свист и катание шаров превратились в игру и развлечение. Купленные на ярмарке расписные, украшенные золотом фигурки барынь, кормилиц, всадников, сюжетные сценки стали уже не игрушками, а произведениями декоративной пластики. Их в качестве украшения ставили на подоконники, на комоды, в посудные шкафы-горки. Эстетическая функция, тесно связанная с товарным характером изделия, постепенно вытеснила не только магическую, но и игровую функцию игрушки.
В городах и ремесленных предместьях игрушечное дело тоже формировалось рядом с более значимыми ремеслами – производством мебели и посуды. А поскольку приемы обработки материалов были общими, складывался единый стиль изделий. Так, узнаваемы по формам и декору деревянные игрушки крупных ремесленных центров Поволжья: Городца и Федосеева. Они мастерились из отходов главного производства: дощечек и щепочек, собирались на гвоздях и шпеньках. Неказистость материала маскировалась окраской и растительной росписью, такой же, как на посуде и мебели. Игрушки были дешевы, чтобы заработать, нужно было трудиться всей семьей. Сложилось разделение труда: росписью белых деревянных игрушек, изготовленных мужчинами, занимались женщины и дети.
Волжанам был близок образ коня. Но это уже не рубленный топором из одного куска дерева, обобщенный по формам крестьянский конь, а лихая ямщицкая пара или тройка с повозкой и седоком. Если первая игрушка представляла замкнутый, тяготеющий к неизменности и символическому толкованию мир деревни, то вторая расширяла его, вносила элементы конкретности, местного колорита. Вскоре рядом с русскими тройками у мастеров Федосеева появились пароходы, паровозы, автомобили – яркие приметы времени, несущие информацию ребенку, расширяющие круг его познаний. Ассортимент федосеевских игрушек пополнила игрушечная мебель и домики, необходимые маленькому горожанину, чтобы его сюжетные игры отразили быстро меняющийся городской быт. Востребованными стали занятные игрушки с движением, например веселые карусели, памятный знак богатых поволжских ярмарок.
Особенно много игрушечных промыслов появилось в XIX в. в Подмосковье. Соседство со столицей способствовало успешному сбыту продукции. Мастерство игрушечников опиралось на приемы обработки дерева или фаянса. Город Сергиев Посад и село Богородское славились резчиками по дереву и иконописцами. Многочисленные паломники охотно покупали в центре русского православия не только церковную утварь, но и резную деревянную игрушку. Ведь, по преданию, игрушки для детей резал сам Сергий Радонежский. В Подольске и Звенигороде наряду с деревянной посудой вытачивали для забавы детей разъемные яйца, шары, бочата, наборы малюсеньких бирюлек. На Гжельском керамическом производстве, кроме расписной посуды, делали кукол-голышей, фигурки зверей, игрушечный кухонный инвентарь.
Формирование капиталистических отношений, развитие международных и внутренних связей активно воздействовало на облик и характер ремесленной игрушки, так как она должна была выдержать конкуренцию с промышленным и заграничным товаром. Это особенно было заметно в самом крупном центре игрушки – Сергиевом Посаде, который называли столицей потешного царства или русским Нюрнбергом. Там осваивались новые современные дешевые материалы, например папье-маше, перенимались и активно перерабатывались зарубежные образцы. Торговцы скупали игрушки по очень низким ценам. Игрушечники были вынуждены трудиться от темна до темна. Они увеличивали производительность труда, специализируясь на одном виде изделий, кооперировались при изготовлении сложного товара. Разделение труда произошло не только внутри промысла, но и между ремесленными центрами. Фарфоровые головки для кукол, одеваемых в платье в Сергиевом Посаде, делали в Гжели. Стеклянные глазки для животных из папье-маше изготовляли мастера-камушники из Дмитровского уезда. Организаторы производства шли даже на переселение семей лучших мастеров. Первых одевальщиц вывезли в Сергиев Посад из Москвы, токарей, точивших матрешку, из-под Подольска и Звенигорода.
Городские дети были оторваны от природы и традиционной обрядовой культуры. Они имели гораздо больше времени для игр, чем их сельские сверстники. Педагогическая функция ремесленных игрушек изменилась в пользу образования и развлечения. Поэтому они приобрели зрелищность, занимательность, информативность. Задачи развлечения сделали ремесленные игрушки более активными, театрализованными. Образовательные задачи потребовали от игрушки повествовательности, изобразительной конкретности, детализации, уточняющей характер и род занятий персонажа. И сегодня любопытно разглядывать резные деревянные фигурки гусар и барынь-модниц из Сергиева Посада, где цвет подчеркивает значение броских деталей. А по костюму кукол-талий, названных так за изящную, будто затянутую в корсет фигуру, можно узнать время их первоначального изготовления – 30–40-е годы XIX в. (рис. 4).
Рис. 4. Куклы-талии. Сергиев Посад. 2-я половина XIX в.
Привезенные в свое время в провинцию, куклы эти, подобно картинкам из журналов, знакомили модниц с новейшими тенденциями западной и столичной моды. Куклы-талии были подражанием иностранным образцам, так же как куклы-скелетки, с подвижными ручками и ножками: их каркас из лучинок был на шарнирах. Однако применение дешевых, но эффектных материалов, демонстративно-утрированный характер образов, выдающий усмешку простонародья, подчеркивал их отличие от прототипов. Игровую динамику промысловой игрушке придавали подвижность, озвученность, комбинирование разнообразных материалов. Сборный характер, конструктивная подвижность формы, движение и звук промысловой игрушки выполняли функцию развлекательную.
Образовательная функция народной ремесленной игрушки формировалась под влиянием городской культуры, профессионального искусства и педагогической мысли того времени. Информативные качества игрушки проявлялись в разнообразии и широте тематики. Многие игрушки принимали иллюстративный характер. Этого требовали педагоги, пропагандировавшие игрушку как средство формирования представлений о мире. Так, «этнографические куклы» из Сергиева Посада, демонстрирующие праздничные костюмы разных губерний России, знакомили с историей, бытом и искусством. Искусно выполненные, они стали объектом коллекционирования и экспорта. Игрушка-иллюстрация требовала конкретной изобразительности всей игровой среды: мебели, посуды. С миром деревни городского ребенка знакомили наборы домашних животных: стада и фермы. Архитектурные комплекты, выполненные при участии профессиональных художников, расширяли познания о географии и культурных ценностях. Рядом с домашними животными появились экзотические львы, слоны, обезьяны. И все же самыми излюбленными для народных мастеров были образы, представляющие типажи праздничной городской площади: циркачи, балаганщики, бродячие комедианты, нарядно одетые горожане. Коммуникативная функция игрушек выражалась в отклике на текущие события, легкости изменения и приспособления к потребностям времени. Мастерам приходилось заимствовать и переводить на язык игрушки не только реальные впечатления, но и картинки из книг, лубки, модные поделки массовой культуры.
Но все же ремесленники, недавние выходцы из деревни, по-прежнему выражали в игрушке положительные народные идеалы и национальные качества. Меткий юмор и ирония выдавали ее принадлежность народной «смеховой» культуре. Эти качества и эстетические достоинства народной игрушки в конце XIX – начале ХХ в. привлекли внимание художников и близких их кругу меценатов. Следуя задаче создания русского направления модерна, они не только совершенствовали ее своим общекультурным и профессиональным участием, но и способствовали организации новых кустарных мастерских и центров.
Вопросы для самопроверки
1. Какие виды народной игрушки существуют? В чем их различие?
2. Какие функции выполняет крестьянская игрушка?
3. Что такое синкретизм функций? Какому виду игрушек он присущ? Проиллюстрируйте это примерами.
4. Что способствовало перерождению крестьянской игрушки в ремесленную?
5. Почему в ремесленной игрушке преобладают образовательная и развлекательная функции?
4. Художественно-образные свойства народной игрушки
Г. Л. Дайн впервые определила, что художественный образ народной игрушки обусловливается ее функциональным своеобразием, зависящим от среды обитания и характера производства. Она подметила, что «в крестьянской игрушке причудливо соединены совсем разнохарактерные изобразительные приемы: условная форма соседствует с предельно правдоподобной, даже натуралистичной. Народный деревенский художник изображал предметы такими, какими они ему казались. Это всегда был результат суммированных зрительных и эмоциональных впечатлений и одновременно духовно-практических понятий. Крестьянская игрушка выступает как нечто самоценное, в себе замкнутое.
Иной характер носит изобразительность народной ремесленной игрушки. Она гораздо нагляднее, конкретнее и может быть сопоставлена с действительностью, с живой натурой. Это касается и тематики, и скульптуры игрушки. В ней преобладают знакомые образы и привычные бытовые сюжеты. Зритель воспринимает игрушку сначала в главных ее деталях, которые точно выражают весь ее образный строй. Затем она привлекает внимание множеством интересных подробностей. Разнообразие материалов, фактур, цветосочетаний, съемные и подвижные элементы формы, звук и конструкция – изо всех этих выразительных средств складывается художественный образ игрушки»[8].
История крестьянской игрушки уходит своими корнями, возможно, еще в те времена, когда воззрения предков современных народов были если не общими, то сходными. Традиционность, понимаемая как соблюдение определенных внешних и внутренних качеств образа, передаваемых из поколения в поколение, – порождение обрядового мифологического сознания. Она имеет ритуальные истоки, отсюда устойчивость некоторых образов, пластических воплощений и декора. Игрушка донесла до нашего времени древние мифологические сюжеты, связанные с раннеземледельческими, а возможно, и с охотничьими культами. Существует небольшое количество широко распространенных образов – культурных архетипов, общих для многих народов. Птица, олень с золотыми рогами, красный конь, в декоре которых преобладали круги и спирали, – это олицетворение животворящего Солнца. Женская фигура пышных форм – сама Природа, все рождающая и все пожирающая, богиня, покровительствующая плодородию и деторождению. Во время великого переселения народов и военного соперничества земледельцев со степняками-кочевниками появился образ всадника-богатыря, сросшегося с конем, олицетворяющего идею покорения пространства и героической защиты родной земли.
Отсюда поразительное сходство отдельных игрушек между собой, с изображениями народного искусства, сохранившими черты языческой культуры, и даже с археологическими находками первобытного и античного мира. Причина сходства – в значительной смысловой нагрузке, которая заложена вследствие многовекового отбора жизненно важных ценностей. Единство содержания подкреплено общностью художественного языка. Общие средства выразительности: фронтальность и статичность, обобщенность и монументальность форм, знаковость декора и цвета. Г. Л. Дайн отмечает архаичность деревянных коников-каталок из села Пурех Нижегородской области. Она пишет: «Степень художественной обобщенности старых пуреховских игрушек, доведенная до символического звучания, позволяет исследователям сравнивать эти изделия русских мастеров XX в. с произведениями античного мира: с древнегреческими коньками, найденными археологом Шлиманом при раскопках Трои… Пуреховский двуглавый конек-каталка, развернутый в плоскости, подобен изображениям коней на гребнях, ткацких станах, в домовой резьбе.
И значение его аналогично. “Суришный” конек-игрушка, окрашенный огненным свинцовым суриком, олицетворял собой Солнце»[9] (рис. 5).
Рис. 5. Коник – каталка. с. Пурех. Нижегородская губерния. Конец XIX в.
Еще один аналог двуглавого коня – кониковые подвески из захоронений пермской чуди ломоватовской культуры XII–XIII вв. Две симметричные конские головки удваивали магическую силу оберега, призванного защищать и днем, и ночью. По той же причине, возможно, в слободе Дымково мастерили странные, на первый взгляд, глиняные свистульки в виде двуглавого коня. На каждой из голов – золоченые ушки, конической формой напоминающие рога. В раннеземледельческую эпоху конь заменил оленя в представлениях о солнечных образах. По центру широкой груди лошадки – ярко-красный круг. Она уверенно стоит на земле, лаконична по формам, а потому монументально героизирована. Задача свистульки не только забавлять несмышленых детей, но и бороться с силами зла. В сюжетах дымковской игрушки И. Я. Богуславская[10] усматривает отголоски древнеязыческих культов плодородия. Поэтому, кроме птиц и домашних животных, частыми были изображения женских персонажей. В эпоху палеолита женские фигурки из кости мамонта – амулеты, связанные с идеей рождения, родового коллектива, наконец, размножения животных, – всего того, от чего зависело благополучие людей. Древние земледельцы лепили скульптурки женщин из глины, в которую добавляли зерна, муку. Эти изображения олицетворяли собой материнское и семейное начало, а кроме того, природные силы, покровительствующие земледельцам. Женский образ был настолько почитаем, что даже когда объект поклонения стал детской игрушкой, основные внешние признаки сохранились. Спустя тысячелетия мастерицы слободы Дымково лепили кормилиц, вспоминая нарядных горожанок, подражая модным алебастровым статуэткам, но при этом они продолжали придерживаться традиций своих прабабушек, бабушек, матерей.
Рассмотрим «Даму с ребенком» мастерицы А. И. Мезриной (начало XX в.). Фронтальной статичностью фигурка напоминает женские образы древних охотников и земледельцев, а кроме того, Богоматерь русских домонгольского периода, мозаик и икон. Исследователи отмечают в данном качестве христианского образа влияние языческих традиций поклонения женскому божеству. Вятская глиняная фигурка также божественно сурова, похожа на идола. Симметричность колоколообразной фигуры усилена парными деталями: разделенным на две половины головным убором, короткими, торчащими, будто крылышки, рукавами жакета, подчеркивающими линию плеч. Квадраты золотой потали[11] расположены именно на плечах и на голове по сторонам от лица. Только самый крупный из них – строго посередине живота. Божественный золотой цвет там, где зарождается жизнь, на фоне лазурно синего цвета, в христианской культуре символизирующего духовное возвышение. Их соседство, как близость солнца и чистого неба, должно быть, и намного ранее воспринималось как знак благодати. Столь же важен огненный красный цвет, преобладающий в колорите куклы. Женщина держит ребенка прямо перед собой, не прижимая, а лишь легко касаясь его, пряча кисти рук под широкой юбочкой. Как будто какая-то неведомая сила поднимает ребенка над землей. Белый круг лица ребенка в золотом нимбе шляпки на уровне груди женщины вызывает воспоминания не только об изображении Христа Эммануила в круглом медальоне на груди Ярославской Оранты (иконы XII в.), но и личины на торсе птицеголового идола ананьинской культуры VII–IX вв. (см. цв. ил. 3,б).
Птица – важный персонаж в языческих представлениях о мироздании, она была связующим звеном между миром земным и миром потусторонним. Она уносила души умерших людей в инобытие, так же как женщина приносила человека из неведомого далека в реальность. Чудская бляшка столь же подчеркнуто симметрична, причем акценты, как и у вятской кормилицы, на плечах и по бокам головы. И декор в нижней части обеих фигурок в виде вертикальных полос и рядов кружочков, нанизанных как бусы на нитку, также удивительно сходен (рис. 6).
Рис. 6. Птицевидный идол. Прикамье. VIII–IX вв.
Ученые считают орнамент из ритмично повторяющихся кругов и спиралей символом времени, отсчитываемого солнечными фазами. Вертикально спадающие шарики могли означать и капли столь желанной для земледельца небесной влаги. Хочется отметить строгость круглоглазого взора идола и куклы. Ей-то, румяной и нарядной, зачем хмурить брови? И у «барынь» мастера И. В. Ягненкова из села Лыскова Нижегородской области брови черные, придающие суровость взгляду модницы. Формы токарной фигурки лаконичны и симметричны, потому она статична и устойчива. В колорите главный цвет – красный, в декоре – те же ряды круглых бусин.
Обобщение, вплоть до схематизма, – результат отбора, усиливавшего значимость того или иного сакрального (священного, религиозного) признака. Здесь игрушка – наследница обрядового предмета, участвовавшего в магических и религиозных церемониях. Обрядовая кукла, как правило, делалась из подручного материала, была далека от натурального воспроизведения образа. Выделялись признаки, имевшие особое значение. Этнограф М. Т. Маркелов, мордвин по национальности, в одном из писем 1934 г. описывает праздник, который он наблюдал в детстве в бывшей Саратовской губернии. Одной из реликвий праздника были схематичные фигурки лошадей – «алашат». На них с криками, подражавшими ржанию, носились женщины в определенный момент ритуала. М. Т. Маркелов изобразил «алашат» и дополнил его описанием: «…это деревянные сукообразные изогнутые палки в руку толщиной с нашитым на них корпусом коня в виде подушки. Голова коня – сук, шея украшена погремками-бубенцами. В нижней части подушки привешены холщовые мешочки, набитые пшеницей или просом. Это означает: кони – жеребцы, мешочки testiculos жеребца»[12]. Описанная М. Т. Маркеловым кукла-конь не имела ног, хвоста, головы, зато были выделены производительные органы (рис. 7).
Рис. 7. Обрядовая кукла «Алашат». Мордовия. Начало XX в.
Условная кукла имела огромную свободу применения. Широко известна использовавшаяся в различных обрядах у многих народов кукла в виде деревянной чурки («Рождественское полено» в Европе, «Колодка» у славян). Ее сжигали в момент празднования Рождества, привязывали к ноге парням, не женившимся в Мясоед, в наказание за нереализованную возможность продолжения рода. Весной в некоторых русских губерниях женщины целую неделю праздновали рождение, свадьбу, похороны Колодки, совершая с ней соответствующие действия. Украшенный столб или деревце, уничтожавшиеся через потопление в мае, июне, в тот момент, когда народившимся зеленым побегам была особенно нужна влага (у славян это обряды Троицко-Семицкого цикла – зеленые святки), также могут считаться аналогами Колодки[13]. Эта простая кукла была отголоском древних культов деревьев и производительной силы природы.
Условные признаки обрядовой куклы дополнялись характерными узнаваемыми чертами в сознании играющих, в самом процессе детской и народной игры. Легкость одухотворения, наделения самой схематичной куклы свойствами живого существа: волей, речью, движением (анимистические свойства) – неотъемлемое качество обрядового и детского сознания. Все мы наблюдали, как обыкновенная палочка для девочки может стать ребенком, для мальчика – лошадкой. Она готова принять наиболее важные для игры приметы.
Не только схематизм, но и значение тех или иных признаков отделяют обрядовых кукол от детских.
Многие из них внешне и по конструкции мало отличались от тех, которыми играли дети. Часто кукла после исполнения обряда переходила в собственность ребенка и при этом совмещала оберегающую и магическую функцию с игровой. Главное, чтобы эта кукла несла положительные идеи, а не была олицетворением зла. У обских угров куклы мыслились вместилищем души как неродившегося ребенка, так и умершего предка, благоволившего и помогавшего потомкам после смерти. Кукла в колыбели должна была защищать ребенка, хранить его от невзгод, так же, как и изображение предка, соотносимого с домовым, духом-покровителем. Удмурты использовали кукол в поминальных обрядах. Тряпичных кукол, одетых в национальный костюм, прикрепляли к сучьям кладбищенских деревьев или вешали на могильный крест.
Но бытовала и другая традиция – хоронить или выбрасывать в недоступное место куклу в момент болезней, недорода, других бедствий, что выдавало семантическое отождествление ее с духом несчастья[14]. Ее образ нес противоположные признаки, имеющие значение принадлежности к миру зла, миру наоборот. Пример – кукла, изготовленная в Удмуртии. Это ветка дерева с сучками-развилками. Подобная ветка часто была основой детской куклы, сучки были повернуты вниз и позволяли ей устойчиво стоять на плоскости. Здесь же они – воздетые вверх, будто в немом крике, руки. Одежда не несет никаких знаков индивидуальности и национальной принадлежности, это даже не ткань, а полиэтилен, – антиодежда, которая не может защитить от холода, укрыть, украсить. В древности для такой куклы, скорее всего, вместо современного материала, удивительно образного в данном значении, использовалась ветхая ткань, уже без цвета, фактуры, узора. Ведь и жуткое чучело, сжигавшееся в конце Масленой недели и олицетворявшее собой старуху-зиму, крестьяне делали из мусора: истлевших соломенных подстилок, отслужившего инвентаря и одежды. Обряд этот имел рациональное значение санитарной очистки, способствовал здоровью людей и животных.
Условность образов народных игрушек – результат способности наших предков по детали представлять целое, по сходным признакам выстраивать цепочки подобий. Люди архаичных культур отождествляли незнакомые им понятия с уже освоенными, знакомыми. Почти немыслимые для культурного человека ассоциации выглядят как поэтические метафоры. Это мы хорошо знаем по устному фольклору. Фольклорность игрушки – это не только прямая связь с фольклором, метафоричность, но и выявление связи человека с природой, создание положительного поэтического идеала. Народное мышление не вычленяло человека из мира природы, позволяло соединять неживое с живым, звериное с человеческим. Отсюда сказочность, фантастичность образов. Глиняные игрушки Каргополя представляют Полкана – русского кентавра, птицу Сирин с девичьим лицом, мужичка в шляпе, напоминающего гриб. Звери филимоновских мастеров стоят, как люди, на двух ногах. У них и одежда, и взгляд, и поведение человеческие. Богородские резные деревянные медведи тоже куют, пилят вместе с человеком, обнаруживая не враждебность, а трогательное желание помочь.
Также легко народные мастера объединяли природные и искусственные формы. Некоторые рубленые кони-каталки выглядят так: передняя половина – голова и грудь лошади, а вместо задней половины – повозка. Образ приобрел удивительный лаконизм, цельность, кажется, так было всегда: не убавить, не прибавить. Умение отказаться от ненужных деталей, обобщить или сочинить новую, не существующую в природе форму, подчинить ее функции изделия характерно и для дымковских мастериц. Среди их свистулек – знакомый нам конь-двухголовка (лаконичный образ двойки лошадей), всадник на коне, гуляющий кавалер, имеющие головы и торсы, но не имеющие ног, которые превращены в конический свисток. П. Пикассо, самый знаменитый художник ХХ в., говорил, что всю свою творческую жизнь шел к подобной непосредственной (детской) свободе художественного вымысла и обобщения.
У наших современников двухголовая лошадь, кукла с суровым лицом, полуконь-полутелега, возможно, вызывают недоумение. Однако сущность условного образа, имеющая, кроме сакрального, символического смысла, общечеловеческое значение, открывается каждому. Понятно, что двухголовый конь обладает удвоенной богатырской силой, что лошадь, неотделимая от повозки, – большая труженица и кормилица семьи, что материнская доброта всегда требовательна. Ассоциации и метафоры в мифологическом языке более действенны, чем прямые назидания. Игрушка учит добру так же легко, «играючи», как сказка и басня, поскольку отражает мудрость народа, его идеалы и положительные ценности.
Мы убедились, что народная игрушка «говорит» на языке не только доброжелательном, но и универсальном. Он понятен всем людям, независимо от возраста, национальности, социального положения, религиозных и идеологических воззрений. Еще в первой трети ХХ в. представителей различных этносов разделяли языковые и религиозные барьеры, различие культурных традиций и ментальности подобно тому, как их соседствующие поля разделяла межа. Но именно на меже легко представить оставленных в момент напряженных полевых работ детей с их игрушками. Нет сомнения в том, что, не зная языка, дети легко вступали в общение посредством игрушек. Начиналась игра. И игра эта несла доброе начало, закладывающее основы толерантности, терпимости к будущему соседу. Дети могли увлеченно играть на меже предельно схематичными игрушками. Куклы богатые, детализированные, как и сегодня, когда имущественное расслоение стало заметным, могли их рассорить. Дети находили общий язык, поскольку их игры отражали сходные условия быта. Дети способны вычленять из жизни главное. Какими бы разными приемами и в какие бы непохожие колыбели не укладывали матери ребенка ко сну, какие бы песни они ему при этом не пели, смысл в этих действиях и песнях был один. Он понятен человеку любой национальности. Детишки «пахали, сеяли и убирали хлеб» подобно их отцам. В их игре не было ни капли настоящего пота взрослого труженика, а была радость труда, воспринимавшаяся как радость от его результата в виде свежего ломтя хлеба или привезенного с ярмарки немудреного подарочка. Дети могли «породнить» своих кукол, уложив их спать на одно ложе, не вкладывая в действие ни толики скабрезности. После этого появлялись дети, и жизнь начиналась сначала.
Итак, отбор самых важных черт и признаков, имеющих положительное значение, – один из главных приемов создания образа в народной игрушке. Этому способствовал культурный опыт, передававшийся по наследству. Немаловажны анимистические свойства народного и детского сознания, позволявшие наделять самые схематичные изображения свойствами живого существа и вовлекать их в игровой процесс. Добавим непосредственность восприятия, способствовавшую умению вычленять главное из сложных процессов и образов и, наоборот, по части представлять целое.
Схематичные игрушки, изготовлявшиеся самими детишками и их родителями из сучков, соломы, тряпок, легко соседствовали с игрушками кустарными, привезенными в подарок с ярмарки. Обобщение образа в них выражалось как типизация главных, узнаваемых примет внешнего облика и внутренней характеристики, социальной или национальной принадлежности героев. В игрушках отражались типичные черты быта крестьян и горожан, создавались яркие характеры не только людей, но и животных. Пример: вятские лесовички и лошадки поволжских мастеров (см. цв. ил. 5,в).
По их облику легко узнается характер, географические и экономические условия жизни, склад мышления их реальных прототипов и самих мастеров, изготовивших игрушку. Жители глухих вятских лесов создавали из мха, шишек, коры, щепок, лыка суровых человечков с топорами за поясом, туесками и посохами в руках. Они легко вовлекались в игру, отражающую впечатления от лесных занятий: прогулок за грибами и ягодами, заготовку дров (см. цв. ил. 6,б).
С расписными тройками мастеров из Городца, как верно заметила Н. В. Тарановская, «…врывается к нам шум больших ямских трактов, веселье и пестрота народных гуляний и балаганов волжских ярмарок, смех и шутка волгарей»[15]. Народные мастера-ремесленники, умело отражая реальность, отбирали, обобщали и даже гиперболизировали главное в типаже, оттого он приобретал сходство с фольклорными образами. Сама форма коней с могучими телами, сильными шеями и маленькими головками с торчащими ушами и раздутыми ноздрями, смелая размашистость росписи по красному или черному фону выражают удаль и сказочную, неудержимую силу. Скромные лесовички, немногословные патриархи и знатоки непроходимых чащоб, по-былинному мудры и могучи. В основе образа народной игрушки лежит наблюдение реальности и поэтическое, сказочное преувеличение. Поэтому при всей узнаваемости она далека от натурализма.
В жанрово-бытовой скульптуре-игрушке Дымковской слободы тематически представлен мир провинции, где живые наблюдения сплетаются с мечтой народа о лучшей жизни. Гуляющие и катающиеся в лодках барыни и военные, барышни и кавалеры, гарцующие на конях наездники, няньки и кормилицы с детишками, водоноски и женщины, доящие корову, – вот разнообразные персонажи дымковской пластики. Большинство из них – это уличные типы, отражавшие внимание сельских жителей к миру господ. Выразительные, преувеличенно утрированные приметы, узнаваемые по времени детали костюма придают образам яркую индивидуальность. Это типы-характеры, конкретные и в то же время собирательные образы. Так, наездник на коне воплощает удаль и горделивость. В профиль, одним взглядом, мы охватываем сросшиеся фигуры лошади и человека, отмечаем выгнутую шею и маленькую головку коня, умелую лихую посадку всадника. Барыни в шляпах и пышных юбках чопорны и надменны, статные няньки в передниках с оборками аккуратны и спокойны, барышни – по-девичьи грациозны. Их ножки, поставленные параллельно, внутрь носками, передают присущую возрасту неуклюжесть. Часть фигурок – вариации фарфоровой пластики, о чем свидетельствуют подставки-основания и побелка в подражание фарфору. Но сторонние влияния подчинены народному мировосприятию и эстетическим нормам. Образы метки, как народный язык, характеристика ярка и выразительна, типичное всегда подчеркнуто, гиперболизировано. Чувствуется уважение к представителям низших сословий, любование удалью всадников, усмешка в изображении праздных горожан. Все дела и занятия дымковские персонажи совершают со значительностью и серьезной сосредоточенностью, как ритуал. И эта кукольная важность комична и забавна (рис. 8).
Рис. 8. А. А. Мезрина. Танцующая пара. Дымковская слобода, г. Киров (Вятка). 1910–1920
Итак, еще одно свойство народной игрушки – комизм и юмор. Многие исследователи народной культуры приписывали игрушке такое качество, как гротеск. Это тип художественной образности, основанный на преувеличении (гиперболе), причудливом контрасте фантастического и реального, прекрасного и безобразного, трагического и комического. Черты гротеска присущи проявлениям юмористической праздничной народной культуры: ярмарочным увеселениям, крестьянским обрядам и играм, ряжению. Вспомним, что в конце XIX в. конкуренция вынуждала ремесленников-игрушечников заимствовать сюжеты не только лубка и фарфоровой пластики, но и народного театра, цирка, балаганных развлечений, славившихся острым комизмом. Поводырь с медведем, клоуны, циркачи и забавные персонажи балаганных зрелищ и, конечно, городские типажи ярмарочных гуляний – это образы сергиевопосадской игрушки из папье-маше. Г. Л. Дайн, увидев в них своего рода рекламу увеселений праздничной площади, подмечает фамильярность и раскованность в их поведении: «Как плотоядно дразнятся, высовывая красные языки, обезьяны и язычники, нагло объедаются глотатели и живоглоты, всем напоказ дымно раскуривает курильщик. А сколько издевки в одних названиях игрушек: пузаны, горбачи, скелетки, дергуны, пьяницы»[16].
Названия происходят от самой броской детали, позволявшей издали узнать изделие. Она становится традиционным, устойчивым признаком игрушки. Так, сергиевские куклы-талии имеют маленькие головки из папье-маше или фарфора и иксообразное туловище, набитое соломой. Тонкость талии подчеркивается шириной юбки из грубых торчащих тканей. Народные художники наделили куклу ручками, где каждый пальчик отчетливо виден. Не сразу заметишь, что это всего лишь бумажные трубочки. Маленьким кульком являются и черные лаковые туфельки куклы, только бумага здесь заменена клеенкой. Дешевые, но броские материалы прекрасно выполняют задачу создания яркого образа. Утрированная фигура, меткие детали демонстрируют характер горожанки-франтихи, выставляющей напоказ свои достоинства.
Однако создатели ремесленных игрушек никогда не прибегали к грубой сатире и шаржу. Им присуща лишь мягкая насмешка, проверенная положительным народным идеалом. В игрушке гротеск проявляется как сочетание контрастных свойств: конкретности и обобщения, серьезности и усмешки, статики и движения, лаконизма и активной роли детали. Г. Л. Дайн подметила, что если крестьянская игрушка имеет сходство со сказкой, то ремесленная игрушка родственна городскому фольклору – частушке, романсу, раешному стиху.
Их объединяет наивный реализм и откровенная насмешка на злобу дня. Это всегда импровизированный и меткий отклик на новую тему. Лебеди, собачки, кошечки отражают штампы чувствительных и слезливых романсов. Забавны новые городские типажи, заслуживавшие насмешливого показа, так же, как меткого частушечного слова. Игрушка заимствует героев небывальщин, баек, потешек. Это кукла-перевертыш: молодуха, превращающаяся в мгновение ока в старуху. Или звери, которые для затейливости занимаются людскими делами: коза пляшет, обезьяны музицируют, заяц стучит в барабан.
Элемент гротеска, абсурдности вносит намеренное преувеличение деталей и путаницау. Так, в росписях деревянных игрушек Полхов Майдана огромные, с человеческую голову яблоки растут на дереве с белым в крапинку стволом – березе. Так же действенно уменьшение размеров копий реальных предметов, привносящее чувство нереальности. Сколько восторга у детей вызывают малюсенькие бирюльки, сделанные будто самим Левшой. Это выточенные из дерева чашки, блюдца, крынки и даже самовар со стенками не толще листа бумаги, все такого масштаба, что более тридцати предметов помещается в коробочке с лесной орех. Расфасовывать эти диковинки доверяли детям с их тоненькими пальчиками.
Театральность и зрелищность ремесленных игрушек проявлялись не только в характере персонажей и в демонстративном движении, но и в звуковом сопровождении. Игрушки-забавы неожиданно приходили в движение, издавали звук. Франты смешно кланялись, переламываясь в талии, клоун показывал язык, звери рычали, птицы издавали пронзительный писк. Для этого мастера использовали простейшие механические механизмы: шарниры, балансы, разводы, рычаги, колеса с кривошипами. Арсенал движений, всегда точно передающих главное впечатление от образа, был велик, а жестикуляция необычайно выразительна. Звуки сергиевских игрушек из папье-маше получались благодаря простым, но эффектным звукоподражательным механизмам, издающим бой, писк, звон. Так, гусельки, использовавшиеся для аккомпанемента танцу или движению фигурок по кругу, это всего лишь скрытая в коробочке натянутая струна, за которую при повороте рукоятки задевает гусиное перышко. Повторы движений и жестов усиливали комичность образов. «Многократно повторять и повторять, неустанно принимать ту же позу, постоянно двигаться – это ли не гротескный художественный прием? Бесконечно кружиться в танце, непрестанно с почтением кланяться, с неизменной бодростью барабанить, и снова и снова толочь воду в пустой ступе, с серьезным видом делать “зряшное” дело – ну не смешно ли, не забавно ли! Да еще и под музыку»[17].
Богородская игрушка, любимая детьми за свое остроумное устройство, также позволяет героям оживать. Одно и то же движение обыгрывается в разнообразных сюжетах, что не позволяет им устаревать. Медведица, попеременно поднимающая то одну, то другую лапу, моет медвежонка, медведь надевает лапоть. Те же движения позволяют изобразить медведя, играющего на рояле, работающего на компьютере и даже поднимающего на флагштоке российский флаг. Точное движение дополняется звуком. До сих пор изготовляется одна из старейших игрушек богородских мастеров – куры на кругу. Качнешь круг на рукоятке, деревянный шарик под ним придет в движение, начнет дергать попеременно нитки, привязанные к шеям кур. А те по очереди бодро стучат по дощечке, клюют воображаемое зерно. Интересна и другая богородская игрушка – кузнецы (см. цв. ил. 6,а). Повтор движений и вторящих им звуков, а кроме того, декор, основанный на повторении однородных элементов, создают ритм, который дети чувствуют и любят. Не зря это свойство используется в детском фольклоре: потешках, считалках, колыбельных песнях (см. цв. ил. 2,а).
Итак, в народной игрушке привлекает мягкий юмор и жизнерадостность, свобода и ясность содержания, наивная искренность. Наивность народного мастера – это прямота взгляда на жизнь, желание отразить подлинную суть вещей. Игрушка – зеркало исторической памяти, праздничное выражение души народа. Главное в ней – сила характера, открытость и прямота чувства, активное жизнеутверждающее мировидение. Отсюда высокий строй содержания игрушки, приподнятость над действительностью. Значимостью идей порождается обобщение форм, сильная пластика, смелые ритмы. Жизнерадостность и праздничность придает народной игрушке красочность, сочность и повышенную яркость цветовой палитры. Вспомним толстобокую, солнечную, легко и просто украшенную русскую матрешку или нарядную и величавую, несмотря на небольшие размеры, дымковскую игрушку. В конце XIX в. вятский писатель Всеволод Лебедев написал, что дымковская кукла стала местным сувениром, который не стыдно было привезти в столицу. Отметив ее возвышенный, просветленный образ, он заметил: «При ней, при этой кукле, в разговоре слово бранное побоишься сказать: ведь за стеклом она красавица, сделанная рукой деревенской старухи, – стоит, как гостья, и держись при ней чище и прямее»[18]. И матрешка, и дымковская кукла выражают национальный характер, потому они стали излюбленным сувениром для иностранных гостей.
Г. Л. Дайн заметила, что русский характер народных игрушек особенно заметен при сравнении их с зарубежными аналогами. Сергиевская игрушка из папье-маше, цельномассивная по форме, отличается от более детализированной немецкой игрушки, служившей ей образцом. Она грубее и проще по типажу, несдержанно ярка и блестяща, в отличие от скупой по цвету, сухой по росписи игрушки немцев. Искусствовед Е. О. Змеева привлекла народную игрушку для иллюстрации основных черт национального сознания жителей России и Германии. Русская модель мира, определенная Д. С. Лихачевым как дорога по необозримой равнине, великолепно иллюстрируется образами игрушечных коней, всадников, троек, воплощающих идею удалой, быстрой езды. Наглядным примером немецкого представления о мире как о доме служит игрушечный домик, где царит образцовый порядок. Не зря такой домик использовался как пособие по домоводству, а сегодня служит историческим документом, позволяющим реконструировать быт немецких бюргеров. Матрешка и щелкунчик служат иллюстрацией мысли Г. Д. Гачева об определяющем женском начале в русском национальном костюме и мужском – в немецком. Лирический образ матрешки, символа материнства, противопоставлен свирепому образу служаки в мундире, рьяно выполняющему свою немудреную обязанность – «разгрызать» орехи. «Конкретность мышления, прилежание и умение трудиться, незаурядные инженерные способности немецких мастеров… обретают наглядность, овеществляются в народных игрушках Германии. Русские игрушки доносят до нас такие черты, как поэтическое, образное видение мира, некую разухабистость и ярмарочную развеселость русской души»[19]. С выводом исследователя нельзя не согласиться.
Таким образом, на примере игрушки мы убедились, что ценность и профессионализм содержания произведения народного творчества определяется идеями добра и жизнеутверждающего, активного преображения действительности. Обобщение – коренной принцип отбора важного, значимого. Этими свойствами народное искусство отличается от индивидуального творчества, где важнее непосредственность первого импульса восприятия, открытие каждый раз нового. Профессионализм народной игрушки кроется в самом характере изготовления продукции.
Если рассмотреть авторскую манеру мастериц одного промысла, можно убедиться, что они иллюстрируют общую закономерность народного творчества – соотношение коллективного и индивидуального. Под коллективностью в крестьянской игрушке понимается следование традициям, передаваемым по наследству. В ремесленном производстве коллективность – это общность, связанная с художественной системой местного искусства. Это каноны, которые находят варианты и интерпретации у разных авторов, но позволяют сохранять стилевое единство изделий.
Т. М. Разина напоминает, что с древности ремесло было результатом технического и эстетического опыта многих поколений людей[20]. Производители, оторванные от крестьянского образа жизни, утрачивали традиционное мышление. Их изделия отражали расширившиеся общественные отношения, зависимость от рынка, социального состава потребителей. Однако сознательный повтор и творческий вариант оставались присущими не только крестьянскому искусству, но и развитому ремеслу. Профессионализм формировался в процессе изготовления однородных изделий. У каждого промысла существовала узкая специализация. Кустари делали массовую продукцию. Их задача, в отличие от художника-профессионала, создающего единственное произведение, – сделать много красивых изделий для большого числа потребителей.
Традиционность (каноничность) и вариативность в народном творчестве находятся в единстве. Индивидуальность мастера проявляет себя в деталях, наблюдениях, сюжетном богатстве. Вспомним, как много разнообразных сюжетов в дымковской пластике. В филимоновской игрушке закрепились парные сценки «Любота», где мужской и женский персонажи показаны в разговоре, танце, объятии. Каждая мастерица вносит в изображение свидания нотки личного и конкретного посредством новых жестов, наклонов и поворотов, деталей. Но импровизация не уводит далеко в сторону. Варианты сохраняют целостность общего стиля. Преемственность мастерства приводит к виртуозному владению техникой. Таким образом, уровень профессионализма – не только результат личного опыта одного человека. Он отражает практику предшествующих поколений и опыт мастеров, работающих рядом. Чем глубже традиция, тем совершеннее результат.
Г. Л. Дайн, собравшая богатый материал об игрушечниках, реконструирует по их воспоминаниям процесс ремесленного производства[21]. Большинство мастеров рассказывали, что работали быстро (товар-то копеечный), многократно повторяли знакомое с детства. Но были мастера, которые могли сочинить новый сюжет. Если новинка нравилась, ее перенимали, начинали исполнять с новыми вариациями. В присвоении было коллективное признание ценности личного творчества. Игрушка теряла авторство, становилась общей. Коллектив корректировал индивидуальную творческую инициативу.
Личное растворялось в общем, питало его, обогащало, развивало. Как образно заметила Т. М. Разина, народное искусство – это дерево, имеющее один ствол (традицию). Чем больше у дерева листьев и ветвей – интерпретаторов традиции, носителей творческого начала, тем мощнее ствол и корни. В каждом центре игрушечного ремесла бережно хранят имена самых талантливых мастеров, способствовавших укреплению и развитию промысла. Они известны сегодня благодаря исследователям и популяризаторам. В Филимонове это А. Ф. Масленникова, А. И. Дербенева, Е. К. Евдокимова, в Дымкове – А. А. Мезрина, Е. А. Кошкина, Е. И. Пенкина, З. Ф. Безденежных, Е. И. Косс-Деньшина, в Каргополье – И. В. Дружинин, У. И. Бабкина, семья Шевелевых, в Лыскове И. В. и М. И. Ягненковы.
В наши дни ценится индивидуальное исполнение, авторский стиль, потому что игрушка не столько ремесленное изделие, сколько произведение искусства. Она выполняется не для базара, а для выставки, салона, музея. И все же необходимо отличать народное творчество от самодеятельного искусства. Самодеятельное творчество персонально, оно определяется личным талантом художника, не получившего специального образования. Он смело выражает свои наклонности и интересы, сиюминутные впечатления от реальности. Примитивное искусство, как его называют, чтобы отличить от профессионального, часто страдает иллюстративностью, мелочной изобразительностью, натуралистичной формой. Ему не хватает того, без чего немыслимо народное искусство, – отбора.
Г. Л. Дайн напомнила, что игрушечникам тоже не была чужда свобода творческого порыва. Так, глиняная игрушка деревни Вырково на Рязанщине, активно развивавшаяся в 20–30-е годы, была живым откликом на современность. Фигурки были выполнены в эмоционально-эскизной форме, непосредственны по замыслу, индивидуальны по исполнению, т. е. это был вариант самодеятельного творчества. Однако пренебрежение формой и техникой привело к исчезновению промысла. Не успели сформироваться навыки и приемы игрушечного ремесла, не сложился локальный стиль, базирующийся на синтезе индивидуального творчества и ремесленных традиций, не хватило времени для проверки коллективным опытом. Исследователь делает справедливый вывод: «Искусство народной игрушки возникало на ее ремесленной основе, и чем прочнее она была и совершеннее, тем полнее и значительнее проявлялось художественно-образное начало в игрушке… Если слабеет, теряется ремесло, то художественность вещи теряет свою убедительность. И наоборот, если игрушка лишается образной выразительности, то ремесленная основа ее оголяется, обескровливается, утрачивает свою духовную наполненность»[22].
Локальный стиль складывается на основе индивидуального творчества, но в русле местных, отточенных временем, выработанных коллективом ремесленных приемов. Сложение локального стиля – процесс многогранный. В нем участвуют социальные, культурные, психологические, экономические факторы. Т. М. Разина считает, что основа художественной системы локального искусства кроется в трех факторах: материале, технике его обработки, предметном существе изделия. «Можно говорить об общих местах и формулах, которые определяют характер целого, направляют мастера, воспитывают и дисциплинируют его вкус. Такую общую основу называют иногда каноном, учитывая при этом, что в народном искусстве это понятие нерасторжимо с живым творчеством. Канон – особый круг приемов, помогающих творчеству, однако, – подчеркивает автор, – не существует предписанных правил. Само искусство естественно возникает благодаря насущным материальным и духовным потребностям людей, развиваясь во множественности вариантных повторов. Индивидуальности сливаются в единство. В этом сложном процессе формируются устойчивые структурные системы, и формируются они в производстве, в трудовой практике»[23]. Для иллюстрации сравним локальный стиль филимоновского и дымковского промысла. И те, и другие игрушки, хотя и созданы из глины, значительно отличаются как по содержанию, так и по форме. Филимоновские свистульки имеют устойчивый круг традиционных сюжетов, выдающих близость их создателей к крестьянской среде. Это женские образы, очеловеченные звери, домашние животные. Выразительна пластика филимоновских игрушек. Они устойчивы, но изысканно удлиннены. Причина – в технологии изготовления и свойствах местной глины. Синевато-черная, жирная и тягучая, она позволяет тянуть фигурки из одного куска. У кукол колокол юбки переходит в стан, завершающийся маленькой головкой в шляпке. Все формы неразрывно связаны. Животные крестьянского хозяйства лепятся из жгута: из одной половины – ноги, из другой – длинная шея с крохотной головкой. Если сделать ее больше, она осядет под собственной тяжестью. Кони, козлы, коровы одних пропорций не походят на знакомых с детства домашних любимцев. Диковинное длинношеее животное узнается только по форме ушей и рогов. В процессе сушки мягкая глина садится, плывет. Форму игрушки приходится не раз править. Так игрушки вытягиваются еще больше. При обжиге темная глина приобретает бело-розовый цвет, ее не надо белить. Завершает отделку роспись яркими анилиновыми красками, среди которых главные – желтая, красная, синяя. Узнаваемость филимоновской игрушке придает свободная скоропись архаичного декора. Это ритмичная радужно-яркая полоска, круги-солнышки, елочки, кресты, треугольники (рис. 9).
Дымковские мастерицы владеют многофигурной сюжетной композицией, ориентированной на вкусы городского населения. Их игрушка – сплав народного творчества с городской культурой. Дымковскую игрушку лепят из красной глины, собранной на отмелях Вятки и смешанной с чистым речным песком, потому она не садится. Лепят игрушку из отдельных деталей, сначала крупных, потом более мелких, примазывая их мокрой тряпкой. Так дымковская фигурка приобретает округлость форм, плавность линий, гладкость поверхности. Вычурные оборки и плетенки придают игрушке богатый и нарядный характер. После сушки и обжига в русской печи красную игрушку белят мелом, разведенным на молоке. Оно, скисая, образует казеиновую пленку, закрепляющую поверхность мела. После этого выполняется роспись яичной темперой самых ярких цветов. Простые мотивы орнамента – кружки, полоски, клетки, овалы, приобретают разнообразие в большом количестве композиционных схем. Применяются и крупные пятна росписи. Поверх, для большего впечатления ценности, на игрушку накладывают поталь, ромбики сусального золота (см. цв. ил. 5,а).
Рис. 9. Филимоновская игрушка
Описание технологии изготовления игрушки помогает понять, что в самом процессе изготовления вещи – база будущего искусства. Ремесленное производство, построенное на вариантном повторе однотипной продукции, характеризуется ручной обработкой. Повтор не становится штампом не только из-за творческой вариативности, но и вследствие органической свободы рукотворного преображения материала. Даже инструменты становятся продолжением руки, подчиненной сознанию человека. Это рождает связь между творцом и материалом, личное к нему отношение. Отсюда эстетика изделия, базирующаяся на бережном отношении к материалу, раскрытии его декоративных качеств, совершенстве технологии.
В процессе труда вырабатывались и закреплялись приемы обработки. Работа с разными материалами рождала свои ритмы, обнаруживала их качества: мягкость, упругость или, наоборот, твердость, хрупкость. Рукотворность – это не просто сохранение следа руки, это выявленность материала, его фактурная выразительность, подчеркнутая простота обработки. Форма предметов, их тектоника – результат многовековой работы человека. Отсюда долговечность технических приемов и классических форм, сохранявшихся иногда на протяжении тысячелетий.
Т. М. Разина привела пример того, как в народной игрушке конструкция и технология становятся фактором эстетическим. «Можно сравнить две деревянные игрушки в виде коньков. Одна из них – каталка – выполнена из единого бруса и сохраняет его нерасчлененность. Глубокая выемка спереди, крутой подъем шеи образуют голову коня. Ничто не детализируется, весь образ сжат в деревянном блоке, лежащем на плоскости. Вместе с тем это конь, игрушка, которую можно катать или посадить на нее ребенка. В этом предмете предельно раскрыт характер работы мастера, делавшего его послушным топором. Решительность инструмента, точность ударов крепкой руки дают результаты в виде лапидарной, монолитной формы, обладающей особой выразительностью смелого художественного обобщения.
Другой конек выполняется не из тяжелого бруса, а из более легкой и тонкой доски. Его форма сохраняет структурную основу материала: высокая шея с маленькой поднятой головой, туловище с намеком на ноги, которые заменяют деревянные колесики, – все «вписано» в плоскость доски, родилось из нее. Силуэт дает полную характеристику образа конька не статичного, а готового к плавному движению на колесиках-ногах»[24].
«Выявленность» материала – знание и обнажение его физических свойств, красоты. Чувство материала, уважение к нему приводят к художественному обобщению формы, отсутствию торопливости, произвольности. Формы народных изделий предельно рациональны, материал используется экономно. Так, барыни и гусары сергиевских резчиков вписаны в форму треугольной призмы, поэтому спереди уплощены. Это связано с тем, что из одной круглой чурки, расколотой пополам, делалось две игрушки. При лепке глиняных игрушек не оставалось ни одного кусочка, щепные деревянные игрушки изготовлялись из остатков мебельного и посудного производства. Игрушки, кроме того, были очень дешевым товаром, их изготовляли сотнями и тысячами. Высокая производительность труда достигалась рациональностью приемов исполнения. Они оттачивались в процессе многолетнего повтора. На этом было построено обучение приемам ремесла. За обобщенность и экономичность как показатель высокого профессионализма ценили игрушку художники-профессионалы. Скульптор И. С. Ефимов писал: «Принцип хорошей скульптуры – экономия материала; будь то золото или осина. Но в данном случае эта экономия вызвана реальной экономией: гениальные русские резные игрушки продавались по «никакой» цене, и ценность осинового обрубка в аршина учитывалась в затратах производства, так же как и время, затраченное на лишний, уверенный срез ножа»[25].
К сожалению, у современных мастеров полезность и экономичность перестают быть критерием эстетического. Красивым считается сложное, изящное, излишне украшенное. Народные мастера, поставленные в условия конкуренции их продукции с городским товаром, тоже иногда были вынуждены нарушать природу материала. Так, очень мало сохранилось кукол, изготовлявшихся в тульском предместье Большие Гончары. Там в подражание фарфоровой пластике, выполненной в технике литья, лепили из глины барынь с зонтиками, в нарядных платьях с оборками и другими разнообразными украшениями. Фигурки были выразительны, но слишком хрупки.
Разрушалась практическая игровая функция игрушек. А это уже грозило недолговечностью промыслу, что в результате и случилось.
Нерасторжимость красоты и пользы, утилитарность вещи – регулятор и показатель мастерства. Т. М. Разина подметила недостатки в современной промысловой игрушке, даже в той, где традиции были сильны, а слава заслуженна. Так, глиняная дымковская игрушка вследствие интереса к сюжетно-изобразительным мотивам еще больше утратила свою утилитарность, заняла место среди декоративных изделий. Исполнение для выставки вызвало сюжетную многословность, повышенную декоративность, яркий цвет, броскость форм. Опасными тенденциями в творчестве полховмайданских мастеров является отказ от росписи, тонировка под черное дерево, гиперболизация размеров изделий. Богородские мастера, увлекшись станковой скульптурой, начали терять характерные приемы резьбы. Возврат к игрушке, развитие ее в обновленном содержании вернули промысел на правильный путь.
Именно поэтому хочется обратить внимание изготовителей современной игрушки на то, что ремесло – сфера создания необходимых в жизни вещей. Игрушка должна в первую очередь служить ребенку. В народной жизни не было места бесполезному, бесцельному, нежизненному, непроверенному многолетней практикой. Мудрая целесообразность основывалась на опыте не одного человека, а коллектива. Бытовая основа народного искусства порождала органичность полезного и прекрасного. Практическая функция вещи рождала художественный характер формы.
Вопросы для самопроверки
1. Какие образные свойства и средства выразительности характерны для крестьянской игрушки?
2. Какие новые образные задачи появились в ремесленных изделиях и как это проявилось в ее художественном облике?
3. Какую роль играет в образе игрушки обобщение и как оно проявляется в крестьянских и ремесленных образцах?
4. Какие качества подчеркивают национальный характер народной игрушки?
5. Что такое локальный стиль изделия? Как традиционные приемы ремесла влияют на эстетический облик игрушки?
6. В чем причина утраты образно-эстетического совершенства народной игрушки в наши дни?
5. Разнообразие народных игрушек
Вы изучили два типа народных игрушек – крестьянскую и кустарную, и теперь знаете их художественно-образные характеристики. В качестве примеров приведем самые известные образцы. Некоторые из них – варианты матрешек, дымковская глиняная пластика, богородские резные деревянные игрушки изготавливаются и сегодня в немалых количествах, имеют широкий сбыт на внутреннем и внешнем рынке. Другие разновидности кустарных игрушек знакомы нам по книгам, телевизионным передачам, музейным собраниям. О них чаще с горечью говорят, как об исчезнувших раритетах. Вполне естественно, что и крестьянские игрушки сегодня не бытуют даже в самых отдаленных деревнях. Но знакомство с ними, несомненно, полезно, что и является задачей данного раздела. Это обогатит знания о традиционной культуре, позволит еще раз убедиться в эстетических достоинствах и педагогической ценности народной игрушки, поможет увлечься разными способами их современного применения, а может быть, даже принять участие в возрождении утраченного.
За многие годы экспедиционной работы Г. Л. Дайн собрала огромное количество образцов промысловой и крестьянской игрушки и сведений о них. Все, о чем рассказывает Галина Львовна, она знает не столько по книгам, сколько из архивных записей очевидцев, из общения с пожилыми людьми в научно-поисковых экспедициях по всей стране. Ее публикации не просто знакомят нас с народными игрушками, но позволяют узнать среду их рождения и обитания, бытовую обстановку, природное окружение, даже самих создателей игрушек. С огромным уважением исследователь записала немудреные рассказы стариков об их детских забавах и занятиях, о том, как мастерились игрушки, как проходил процесс обучения, какие традиции существовали в их местности. Мы можем полюбоваться самим складом их неторопливой речи, полной наблюдений и юмористических замечаний, богатой местными, образными словечками, названиями, оборотами. Внимательным читателям откроется атмосфера доверительного общения ученого и деревенских мастеров. А иначе и невозможно, так как за годы подозрительности и репрессий крестьяне стали опасаться записей как улик в неблагонадежности. Так бывшие участницы Хотьковской артели «Мягкая игрушка», обученные монашками жестоко разоренного монастыря, боялись даже самих расспросов о том страшном времени.
Автор популяризирует игрушки не только с помощью своих книг. В школе № 3 города Хотьково в Подмосковье под ее руководством дети изучают традиции народной культуры, игры, фольклор и, конечно, игрушки, которыми играли их далекие предки. В результате многолетней деятельности был создан музей «Детский народный календарь», где подлинники и реконструкции старинных игрушек помогают школьникам приобщиться к истории и культуре своего народа. Благодаря целесообразности принципов этнопедагогики, внедренных в современный педагогический процесс, это происходит естественно и легко, можно сказать, играючи. Как и раньше в крестьянской среде природные ритмы, изменения времен года влияли на трудовые процессы, так и эта обусловленность влияет на порядок и последовательность проведения занятий.
Разнообразие трудовых процессов вносит атмосферу увлеченности, а результат учебы подводится на праздниках, где в коллективе сверстников каждый чувствует себя и творческой личностью, и частью дружного, веселого сообщества. Книга Г. Л. Дайн «Детский народный календарь» стала руководством для большинства педагогов России. Это не только готовая программа педагогического воздействия, уникальное пособие, которое можно использовать в обучении и развлечении детей различного возраста, в том числе и в семье, но и доказательство личной увлеченности автора, основанной на понимании ценности традиций, научной достоверности, настоящем патриотизме. Г. Л. Дайн еще раз заставляет нас убедиться, что крестьянские игрушки просты в изготовлении, но очень остроумны и эффективны. Материалы, из которых они исполняются, дарованы нам природой. Нужно только присмотреться внимательней. Каждое время года богато по-своему, создает условия для игр. Зима заливает катки на реках и прудах, делает крутые горки на склонах оврагов. В качестве лыж деревенские дети использовали доски от старых бочек. Санки-ледянки мастерились из любой подходящей старой посудины, корзины, рогожи, долбленого лотка или скамеечки с набитыми полозьями. Их намазывали снизу навозом, поливали водой и замораживали до звонкости. Но особо счастливы были те мальчишки, у кого имелись сделанные отцами каталки из металлического прута – два конца под ноги, а середина выгнута вверх, чтобы стоя, чуть наклонившись, можно было крепко держаться и лететь с горы быстрее ветра. Палка с сучком – аналог сегодняшней хоккейной клюшки. Шайбу заменял тот же мороженый кусок навоза. Много радости доставляли детям выкопанные в высоких сугробах пещеры. В оттепель из подтаявшего снега катались шары. Из них лепились снежные бабы, строились крепости.
В лютые морозы у теплой печки существовали иные забавы. Девочки играли в куклы. У мальчиков были свои игрушки, тренировавшие ловкость: камушки, орешки, бабки из костей, бирюльки из соломы. Игры с ними превращались в увлекательные соревнования, где умение подбрасывать и ловить, вытаскивать, не раскатив, из общей кучки «обогащало» детей. По окончании игры специально помеченные «ценности» игроки бережно убирали в сшитые мешочки. Из названных игрушек особенно интересны забытые сегодня бирюльки. Для городских детишек народные умельцы вытачивали на токарном станке из дорогих пород дерева малюсенькие предметы домашней утвари – кругленькие, так и норовившие укатиться, крыночки, самоварчики, блюдца, чашечки. Они были так миниатюрны, что умещались в точеном раскладном орехе или яблочке. А деревенские мальчишки мастерили себе бирюльки из соломы. Нарезанные размером в сантиметр соломинки, иногда с межузлием в середине, иногда со вставленной внутрь более тонкой соломинкой (чем разнообразнее, тем лучше) высыпались из берестяной коробки прямо на пол кучкой. К самой длинной соломинке прикреплялся крючок из проволоки, но можно было играть и тонкой макушкой стебля, вставляя ее в полые трубочки бирюлек, которые лежали чуть-чуть в стороне. Крючок находился в руках играющего до тех пор, пока он вытягивал бирюльки, не потревожив и не раскатив соседние. Побеждал тот играющий, у кого собиралось самое большое их количество.
Зима оставляла много времени для рукоделия. У детей были свои посиделки, где они состязались в мастерстве и учились друг у друга. Девочки пряли, шили, вышивали, а устав, играли в куклы, которые не забывали взять с собой. О разных по конструкциям тряпичных куклах будет сказано отдельно. Мальчики в компании сверстников плели из лыка, а в пригородных селах, где были развиты ремесла, резали из дерева поделки, которые позже продавались на весенних ярмарках. Отходы столярного производства – щепочки и лучинки, годные, казалось бы, только для растопки печей, становились материалом для самоделок. Из отщепленной от хвойной доски планки (одно условие, она должна быть не слишком высохшей) быстро мастерилась лошадка. Ее так и прозвали – «минутка». Перегнув планку несколько раз, отщепив ножки, ушки, хвостик и загнув их в другую сторону, получали выразительный образ задорного конька или оленя.
Из длинных, ровных лучинок, накладывающихся друг на друга и переплетающихся между собой под прямыми углами и по диагонали, конструировались «звездочки» и «крестики». Фигуры можно было усложнять, увеличивая вправо и влево, вниз и вверх. Это занятие тоже было соревнованием на красоту и прочность изделия. По окончании игры композиция легко разбиралась. Поэтому таких игрушек нет в музеях. По такому же принципу, только в объеме делались соломенные «фонари» – золотистые, легкие, украшенные разноцветными бумажками, лоскутками, нитяными кисточками. Для прочности соломинки нанизывались на нитки. Они как солнышко освещали избу в короткие зимние дни, перекликаясь по цвету с настеленной на полу соломенной подстилкой.
Самый долгожданный и радостный праздник зимы – Рождество. Дети загодя готовили рождественскую звезду и вертеп. Ведь колядки – рождественские обходы домов веселой толпой ряженых, поющих и прославляющих Христа, были любимым детским занятием, сулившим щедрые угощения. Звезда делалась из лучины, соломы или заложенной складками длинной полосы бумаги и напоминала лучистое солнышко. Особо красивые и большие звезды создавались из невысокого берестяного цилиндра (иногда старого решета) и обернутых бумагой конических лучей из палочек. Такие поделки хранились и использовались в течение нескольких лет. Их украшали бумажной иконкой со сценой Рождества, фольгой, лентами, кисточками и бантами из цветной гофрированной бумаги.
Вертепы, символизировавшие пещеру, в которой родился божественный младенец, делались из открытого с одной стороны ящика. Изображение Рождества помещалось на задней стенке, а свеча в низком подсвечнике – впереди. Это был простейший театр, иллюстрировавший текст рождественских песнопений. Вертеп мог иметь и более сложную конструкцию. При участии взрослых изготовлялись настоящие кукольные театры, в виде двухъярусного ящика, где куклами на стержнях, двигающимися по прорезям в полу, игралась рождественская пьеса «Царь Ирод». Сюжет ее заключался в том, что Ангел указывал дорогу волхвам, идущим поклониться новорожденному Христу. А грозный и ужасный царь Ирод лишался головы за то, что в своей лютой ненависти к народившемуся «царю царей» приказал погубить невинных младенцев Вифлеема.
Сегодня изготовить переносной кукольный театр можно из склеенных картонных упаковочных коробок. Такой вертеп очень легок. Его можно носить из квартиры в квартиру, радовать рождественской импровизацией друзей и знакомых. В школьном зале он украсит сценарий новогоднего представления. Поставленный рядом с наряженной елкой домик-вертеп сделает квартиру сказочной. Для красоты вертеп нужно оклеить цветной бумагой или тканью, украсить аппликацией и блестками. Звезду на фронтоне крыши домика можно «зажигать» с помощью помещенного внутри фонарика. Верхний ярус изображает небо, его лучше украсить в голубых оттенках. Там особенно нежными выглядят Богоматерь с младенцем, Ангел, возвещающий приход Христа в этот мир. Нижний ярус – это земля. Ткань в цветочек коричневых, зеленых, фиолетовых оттенков подойдет для его декорирования. Лучше, чтобы эта зона была темнее верхней, ведь там кроме добрых героев действуют и злые персонажи (рис. 10).
Кукол для традиционного вертепа делают из дерева. Они имеют простую конструкцию. Палочка-стержень для вождения куклы в верхней части принимает форму тела. Голова вырезается обобщенно из деревянного шара. У Царя Ирода голову не нужно прочно скреплять с туловищем. Тогда она легко сваливается, что вызывает бурю восторга у зрителей. Руки в виде палочек прикрепляются на пружинках. Даже при самом незначительном движении куклы они шевелятся, и герой кажется совсем живым, несмотря на то что торс его неподвижен. Костюм персонажей вертепного представления выполняется из лоскутков ткани, цветной бумаги, фольги. Важно выделить размером, цветом, материалом тот элемент костюма, который делает героя узнаваемым. У Ирода это сабля, у Генерала – эполеты, у Волхвов – царские короны, у Ангела – крылья. В современном импровизированном вертепе куклы могут быть еще проще. Их могут сделать даже дети. Для этого на стержень наматывается ткань. Скатка перетягивается ниткой на уровне шеи и пояса. Руки из валиков пришиваются на уровне плеч. Остается надеть вырезанную из подходящих кусочков ткани одежду, закрепить на клей бумажные аксессуары, нарисовать фломастером лица.
Очень красив вертеп теневой. Он мастерится из лучин в виде призмы и оклеивается белой бумагой. Вертеп носят на длинной палке, являющейся осью призмы. К палке сверху прикрепляется звезда. В нижней части на стержнях помещаются свечки, над ними – вырезанные фигурки персонажей рождественской истории. Когда свечи зажигают через отверстие в донце бумажного фонаря, потоки нагретого воздуха заставляют легкие фигурки ангела, пастуха, осла шевелиться. Темные силуэты оживают. Это волшебство не может не вызвать искреннего восхищения.
Рис. 10. Домашний кукольный театр – вертеп. 1996
В центрах гончарства зимой дети помогали взрослым готовить глину, лепить посуду и игрушки. Свистульки в образе животных и птиц, куклы, полые внутри шары готовились к продаже на будущих весенних ярмарках. Из свистулек особенно необычной можно назвать «соловья», названного так не за форму, а за трели. Они получались оттого, что в полость в виде кувшинчика до самой дырочки свистка заливалась вода. Бульканье накладывалось на свист, заставляя его переливаться подобно звукам соловьиного пения. Свист на все лады, напоминавший пение птиц, отпугивал, по мнению наших предков, злые силы. Это признак весны. Он раздавался в течение нескольких дней на весеннем празднике в Вятке. Оттого праздник даже прозвали Свистопляской, Свистуньей. Дети умели мастерить свистки не только из глины. Летом в дело шли полые стебли растений, веточки с вынутой из коры сердцевиной и даже плоские травинки, зажатые между пальцами. Любой деревенский мальчишка умел свистеть, просто засунув пальцы в рот. Свистом призывали лошадей, окликали друг друга, сопровождали пение и пляски.
Весенние игрушки и игровые ситуации отличались от зимних забав. Весна сначала радовала льдинами, на которых смельчаки-мальчишки катались как на плотах. Потом начинали звенеть ручьи. Они весело несли щепки-лодочки, перегонявшие друг друга. Чтобы скорее прилетели птицы и принесли весну на своих крыльях, матери пекли детям птичек из теста. Это был условный образ. Например, лепешка с вытянутым носиком и угольками вместо глаз. В бока уже после выпечки дети втыкали перышки. На сидящих в гнезде птичек похожи закрученные спиралью жгуты. А если такой жгут завязать узелком, а верхний конец чуть заострить наподобие клювика, жаворонок будет выглядеть сидящим. Такие душистые печеные птицы – не просто лакомство. Дети выносили их на улицу, шли с ними в поле, сравнивали, у кого птички красивее, играли с ними, подбрасывая вверх и распевая заклички-веснянки. Наигравшись, дети съедали птичек, но крошки обязательно рассыпали где-нибудь повыше, чтобы ими полакомились настоящие птицы.
Поощрялись игры с печеными фигурками в виде домашних животных. Считалась, что они способствовали здоровью и плодовитости скота. Ржаные фигурки рогатых козочек, бычков и оленей на Севере называли «козули». Их пекли на Рождество, когда закладывалось благополучие будущего потомства домашних кормильцев. Весной же, когда коров и овец впервые после долгой зимы выпускали в поле, ребятишки играли в стада, вылепленные из муки с добавлением просеянной золы. Маленьких коровок и овечек ставили на ножки-лучинки, а иногда дополняли фигуркой пастушка. В Сергиевом Посаде лепили подобные стада из мастики и папье-маше на продажу. Их располагали в коробке на заготовленном с осени зеленом мхе. Казалось, что стадо гуляет на свежей травке. Обрядовое печенье с христианской символикой, выполнялось в форме крестиков и лесенок. Поедание ржаной лепешки, испеченной в середине Великого поста, превращалось в игру, истоком которой было гадание. В середину лепешки запекалась монетка или крестик. Кто находил монетку, радовался. Крестик заставлял пригорюниться, суля несчастье (рис. 11).
Весенних птичек в деревне мастерили не только из теста. В скорлупу выдутого сырого яйца сзади и с боков вставляли сложенные гармошкой цветные бумажки. Сейчас это могут быть фантики от конфет. Они изображают крылья и хвост птицы. Короткая трубочка-клюв дополняет образ. Легкая птица, подвешенная на длинной нитке, продернутой от оснований крыльев, кажется, парит в воздухе. В селах Калужской губернии голубков мастерили из соломы, переплетая полоски распоротых соломинок в центре и связывая их внизу словно ножки. Красный бантик украшал головку птицы – горизонтальные ряды соломинок спереди. Под завязку в задней части вставляли настоящие птичьи перышки – получался хвост.
Рис. 11. Обрядовое печенье. г. Сергиев Посад. 2002
Сельские умельцы изготовляли парящих птиц с телом из дерева, с веерообразными крыльями и хвостом из щепы. Солнечный цвет, круглая форма, кружащиеся движения над головами людей делают ее похожей на сказочную Жар-птицу – символ солнца. Крестьяне считали, что она приносит благополучие и здоровье, оттого прозвали «святым духом». Есть легенда о том, что впервые такую птичку сделал отец умирающей девочки. Больная с нетерпением ждала прихода весны, надеясь, что она принесет ей избавление от смерти. За окном еще лютовали морозы, а щепная птица осветила избу. Девочка поверила в приход весны и начала выздоравливать. Не случайно такие «птицы счастья» изготовляются и поныне. Купить их для своего дома – добрый знак (рис. 12).
Семь недель строгого поста перед Пасхальной неделей дети не должны были играть в шумные игры. Пасха – день Светлого Христова Воскресения, приносила веселье. На зеленеющих холмах за селом мальчишки и девчонки забавлялись яйцами, окрашенными в отваре луковой шелухи, трав, сухих листьев. Яйцо было лакомством, игрушкой и магическим предметом. От прикосновения яйца с землей, как считалось в старину, ее плодородие увеличивалось. Яйца катали с лотка или просто с пригорка, загоняли в лунки, пробовали на прочность, ударяя друг о друга. Ребятишки старались выиграть как можно больше трофеев, напоминающих круглое солнце. Не жалели даже лбы. Тот, у кого яйцо оставалось целым от удара им по лбу, получал его в награду. Глиняные шары, которые в Вятке в XIX в. катали по склону оврага и по дорогам во время праздника Свистопляски, были аналогом яиц. Гончары Дымковской слободы продавали их ведрами. Игры в мяч тоже имеют древние обрядовые корни. В деревнях ребятишки знали немало таких игр. Мячи скатывали из овечьей шерсти, шили из лоскутков, набивая чем-либо мягким. Лето приносило крестьянам заботы об урожае. Дети были помощниками родителей, но находили время для игр и забав. Дни были значительно длиннее, чем зимой. Игры в куклы проходили теперь на улице, в специально построенной на дворе клетушке. Кукольное угощение для игры в гости девочки готовили из того, что дарило лето: плодов, ягод, семян дикорастущих растений. Они стряпали пироги из глины с начинкой из лепестков цветов, напоминавших капусту, морковь, свеклу, грибы. Посуда тоже была импровизированной. Еда накладывалась на листья лопуха и подорожника. Игра на природе позволяла разыгрывать не только праздничные, но и трудовые ситуации. Дети устраивали свой маленький огород, поле с растениями, похожими на настоящие злаки. У них имелся игрушечный инвентарь: лопатки, грабли, ведра. Таким ведерком, соответствующим по размеру силе ребенка, можно было помочь родителям с поливом огорода.
Рис. 12. Щепная птица. г. Ижевск. 2004
Летом на просторе затевались подвижные игры, которые тренировали выносливость, силу, меткость. Из самодельных луков стреляли в цель. Высокие ходули – палки с плоскостью для стояния на высоте полуметра, требовали усилий по удержанию равновесия. Как аисты мальчишки ходили на них, поглядывая свысока на друзей, выделывали разные трюки: перепрыгивали через препятствие, удерживались на одной ходуле как можно дольше. Дети играли в бабки, в городки, в лапту приспособлениями собственного изготовления. Их имел каждый мальчишка. Делали воздушных змеев, соревнуясь, чей змей поднимется выше. Воздушный змей – это рамка из лучинок, с натянутым на нее листом бумаги. Чтобы змей был заметным издали, к нему прикрепляли нарядный хвост из тряпочек разного цвета. Длинная суровая нитка наматывалась на катушку и позволяла игрушке парить высоко в небесах, но всегда возвращаться к хозяину по его воле. Также ребята любили бегать наперегонки с маленькой вертушкой в виде пропеллера. Она делалась из выструганной ножом дощечки с закругленными лопастями, свободно крепившейся к палке на длинном гвозде. Малейший ветерок заставлял вертушку весело кружиться и стрекотать. Прикрепленная к крыше, она могла указывать направление и силу ветра, на огороде звуком отгоняла от урожая прожорливых птиц и грызунов. В жаркую погоду дети брызгались из самодельных приспособлений, наподобие современных насосов. В трубку из твердого стебля растения вставлялся поршень из растения меньшего диаметра, которым втягивалась и выбрасывалась струя воды.
Осень – пора сбора урожая, дарила детям свои игрушки. Для игры годились причудливой формы корнеплоды, похожие на человечков, зверей, птиц. Зеленые ягоды картофеля ребята подкидывали вверх, воткнув в них птичье перо, наблюдая медленное, как у парашютов, красивое снижение снаряда. Девочки украшали себя бусами из рябины и диких яблок. Из разноцветных осенних листьев, подбирая их с большим вкусом, дети крутили куколок в виде спеленутых младенцев. Красивые листья становились предметом любования и игры. Свернув их несколько раз, девочки зубами выкусывали отверстия и фигурные края. Получались цветные кружева, которыми декорировали кукол и домики для игры.
Походы в лес приносили свои трофеи. Подходящей формы сучки становились лошадками, плывущими уточками, основой для кукол. Для изготовления человечков годились шишки, мох, береста, лыко. Лесных человечков нетрудно смастерить самим. Подходящего диаметра палка с сучками-ножками обертывается сухим мхом и перевязывается лыком. Получается вывернутая вверх шерстью шуба. Голова вырезается ножом лаконичными срезами, намечающими форму носа и бровей. Прямые нахмуренные брови и большие носы придают лицам суровость. Глаза рисуются карандашом в виде овалов с точками посередине. Мох имитирует волосы и бороду. Перезревшие еловые шишки с отшелушенными пластинками – руки человечка. На концах семенные пластинки нужно оставить. Они напоминают кисти рук с пальцами. Ноги моховиков кустари обували в специально сплетенные малюсенькие лапотки, онучи делали из газетной бумаги, обмотки – из суровой нитки. На голову человечков надевались шляпы из шишек, задеревеневших грибов, чурбачков и спиленных стволовых пластин. В руки лесовикам давали палки и корзинки из бересты, наполненные сушеными ягодами. За пояс затыкали топоры с лезвиями из жести. Для устойчивости игрушки прикреплялись к дощечкам. Сама фактура лесных материалов, их охристые и коричневые оттенки в сочетании с цветом дерева и выгоревшей газеты удачно подчеркивают природно-естественный и чуть загадочный характер таежных старожилов (см. цв. ил. 6,б).
Широко были распространены куклы из соломы – игровой аналог обрядовой Житной бабы, покровительницы урожая. Форму кукол подсказали перекрученные посередине и перевязанные снопы. Перетянув пучок соломы выше пояса, намечали голову. Руки получались из отделенных и заплетенных в виде косичек стеблей. Их можно опустить или заткнуть за пояс, чтобы кукла забавно подбоченилась. Расширяющийся внизу пучок соломы подстригали, поэтому кукла получила название «стригушка». Юбку украшали плетеными тесемками или оборачивали тканью. Голову наряжали в платок или шапочку. Золотистая «стригушка» может «плясать» под стук детских кулачков. Несколько кукол кружатся в хороводе. Это настоящее чудо оживления, созвучное праздничному народному мироощущению. Зимой соломенных кукол использовали для сбора воды, ставя на подоконники, куда стекала вода с оттаивавших в теплую погоду стекол. Соломинки втягивали ее в себя и оберегали дерево от лишней влаги. Окна с золотистыми красавицами как изнутри избы, так и снаружи были любо-дорого посмотреть! Сами куклы не портились. Весной, выполнив свою работу, они снова доставались ребятишкам, что было вдвойне приятно.
Осенью, когда заканчивались полевые работы, в деревнях всем миром строили избы из заготовленных прошлой зимой и хорошо просушенных бревен. Дети помогали взрослым, чем могли. Плотники, безупречно владевшие топором, баловали ребятишек деревянными игрушками, которые так и прозвали плотницкими (см. рис. 3). В музеях сохранилось немало сделанных еще в конце XIX – первой половине ХХ в. кукол и коников, найденных в экспедициях по деревням Беломорья, бассейнов рек Мезени и Печоры. У них общий с элементами деревянной архитектуры стиль. Бревно, венчающее крышу каждой избы в Архангельской области, украшалось торсом и головкой коня. Потому его и прозвали – конек. Игрушечные деревенские коники, даже небольшие, массивны телом, подчинены объему чурки. Ноги только намечены. Кажется, конь медленно шествует или плывет. Маленькая головка на высокой выгнутой шее напоминает голову утицы. Эти два образа в древнем мировоззрении были взаимозаменяемы. Они символизировали дневное солнце, катящееся по небу на коне, и ночное, плывущее по подземному океану на утке. Потому двухголовый конь был суточным оберегом. Обобщенные формы подчеркивают богатырский образ коня. На Севере крестьянские кони, на самом деле, приземисты, могучи, выносливы, покорны. Они привыкли пахать тяжелую почву, возить сено и картошку, преодолевать большие заснеженные пространства.
Самый большой вырубленный из целого бревна плотницкий конек выдерживал вес ребенка. На полу в избе, на полянке возле дома он использовался для сидения. Такие кони постепенно приобретали еще более обобщенные формы, потому что стирались от многолетнего использования, служа многим поколениям ребятишек одной семьи. Изготовлялись также кони-качалки, на которых шалунишки, ритмично раскачиваясь, успокаивались в минуту каприза. Разве можно плакать всаднику! Такие игрушки в виде обобщенного торса ставились на ножки-палочки, крепившиеся к округленным доскам. Красные кони, украшающие знаменитые расписные мезенские прялки, по силуэту очень напоминают этого коня-качалку. Их массивные торсы контрастируют с ножками, намеченными уверенным росчерком пера. Тонкие, длинные, неестественно выгнутые, они придают конькам сказочный облик. Конь, кажется, не скачет, а летит по воздуху. Длинные хвосты в виде параллельных линий напоминают струи косого дождя. Под брюхом у коня – звезды. Как вещий Сивка-Бурка взмывает он в небеса.
Небольших коников ставили на колеса, снабжали санями для перевозки груза и седоков. Часто вырубалась только половина торса коня. Заднюю часть крупа заменяла емкость в форме долбленого корытца. Небольшие колеса скрывали под игрушкой. Силуэт напоминал плывущую птицу. Игрушку легко обхватить детской ладонью за шею, так как фигурка лошади имела уплощенный вид. Присмотревшись, замечаешь, что разные по ширине конь и сани все же рублены из одного бревна. Нельзя не удивиться искусству плотника, умеющему извлекать нужные объемы из природной цилиндрической формы. Коники декорировались выжженными раскаленным гвоздем ямками, горизонтальными порезками, намечающими гриву и элементы сбруи, иногда красились. Но чаще они оставлялись без окраски. По-своему красив сначала золотистый, потом потемневший цвет натурального дерева.
Он дополнен рисунком естественной текстуры в виде слоев и концентрических колец на месте срезанных сучков. Отполированная руками поверхность приятна на ощупь, кажется теплой, шелковистой.
Северные куклы в женском обличье напоминают формой столбы, держащие крыши в сельских постройках. Столбы крылец, например, обрабатывали так называемыми «дыньками» и «репками». Внутри церквей столбы с кронштейнами тоже напоминали женскую фигуру с поднятыми вверх руками. Куклы сродни и древним идолам, вырубавшимся из целого ствола дерева. Их название «панки» пока не расшифровано. Возможно, корень его связан с ненецким словом «панга», что переводится как «ствол». Формы женского тела намечены выемками на уровне пояса и шеи. Рук нет вообще. На срезанных плоскостях лиц – глаза и рот в виде круглых ямок или выжженных раскаленным железом кружков. Одежда украшалась кругами, параллельными линиями, треугольными и ромбообразными фигурами. Они выполнялись краской самодельными кистями, вырезались ножом или полукруглой стамеской, процарапывались гвоздем. Следы ударов топора создавали ритмически организованную фактуру поверхности. Праздничность и внушительность куклам придавали не только украшения, но и монументальная обобщенность расширенного к низу силуэта, загадочная строгость лица, выделявшего фронтальную сторону.
Среди крестьянских игрушек непременно была сработанная отцом каталка на палочке. Каждый малыш в свое время учился с нею ходить. Раз игрушка была столь востребована, кустари всех деревообрабатывающих промыслов имели ее в своем ассортименте. Тем более что изготовление ее было не сложным, а конструкция отработана многими поколениями столяров. На цилиндрическую ось из непросохшего дерева надевались колесики из спилов еще влажной чурки. При усушке зазор между колесами и осью увеличивался, потому колесо всегда замечательно крутилось, не спадая с оси. Также по традиции изготовляли колеса у всех деревянных катающихся игрушек, в том числе лошадок и троек. На ось, просверленную в центральной части, насаживалась палочка, за которую ребенок катал игрушку. Осевая деталь могла иметь и фигурную форму. Замечательные каталки мастеров из села Пурех Нижегородской (бывшей Горьковской) области мы уже рассматривали (см. рис. 5). Их вырезали из доски в виде контура двух конских головок, развернутых в разные стороны. Впрочем, они столь условны, что могут быть приняты за головы птиц. Изгиб между ухом и мордой коня напоминает разинутый клюв птицы. Каталки окрашивали в красный цвет. Затем наносился декор в виде концентрических окружностей, выполненных простейшими циркулями, и рядов параллельных линий. Круги и полосы – это схематическое изображение солнца и дождя, важных и желанных для крестьянина природных сил. Красивая симметричная форма, нарядные локальные цвета выразительной росписи придают пуреховским каталкам композиционную законченность и привлекательность. А сходство с известными древними произведениями декоративно-прикладного искусства доказывает архаичность этих игрушек.
Недалеко от Пуреха, в городке Семенове, делали каталки другой формы. Они были не менее красивы, веселили своими «хитростями». На ось крепилась полусферическая чашка, в которую малыш мог положить что угодно. Она быстро, но очень эффектно расписывалась примитивной кистью из палочки с намотанной на конец тряпочкой. Скругленные или прямые линии проводились от центра. Получалась розетка-цветок с треугольными или овальными лепестками. Параллельные полоски и кружки, выполненные «тычком» (прижатием круглого торца) той же кисти, дополняли розетку. Цвета использовались яркие, чаще красный и синий. Они дополняли желтый цвет дерева. На палочку наносились веселые полоски.
Еще один вариант семеновской каталки украшался вертушками в виде расписных дисков на вертикальной оси, что доказывает знание и остроумное использование мастерами устройства механических колесных передач. Как бы обнажается древняя тема кружения колеса, столь созвучная круговороту солнца, извечному ритму жизненных циклов. Она читается и в рисунке форм вертушки, и в беге красочных линий простого орнамента. Цветок сказочно преображается в переливающийся круг, манит ребенка за собой. Сегодняшние производители игрушек знают остроумную народную игрушку – каталку на палочке. У каждого из нас в детстве была такая, где бабочка складывала и распахивала крылья, а веселый зверек поворачивался вокруг себя. Мы не забываем эти игрушки, помогавшие нам в первых шагах, удивлявшие неожиданным движением, яркой окраской, веселым сюжетом.
Еще одной любимой игрушкой в старину была лошадка с повозкой (см. цв. ил. 5,в). Для мальчиков это средство транспорта было незаменимо как сегодня машинки. Ролевые игры имитировали перевозку тяжестей, поездки в гости, праздничные катания. Кустари-волжане изготовляли кибитку с ямщиком. Ее тянула двойка или тройка быстроногих коней. Тройка – символ преодоления бесконечных равнин, олицетворение дороги, убегающей вдаль. Вспомним слова Н. В. Гоголя, «какой русский не любит быстрой езды». Этот товар был побочным для мастеров-мебельщиков, сундучников, тарантасников, саночников. В дело шли отходы производства: щепочки, брусочки, дощечки. Приемы изготовления и инструменты были те же. Кони вырубались из доски топором, а затем скруглялись ножом по контуру для придания плоскостной фигурке объемности. Наклон головы и горделиво выгнутой шеи у всех коней тройки чуть-чуть отличается. Сбоку, выглядывая друг из-за друга, они создают своеобразный рельеф. Так вносится разнообразие в движение. Кони закреплены на длинной дощечке с деревянными колесами-кружками. Кибитка сколочена из выпиленных дощечек. Дополняют образ оглобли-палочки и дуга из согнутого прутика. Условна форма человечка-возницы. Это деревянный брусочек с подвижными на гвоздиках щепочками – руками. Не столько для достоверности, сколько для нарядности лошадка снабжалась мочальным хвостом и уздечкой из веревочки. А на шляпу кучера приклеивалось крашенное перышко. Образ тройки получался узнаваемым и обобщенным, забавным и празднично веселым. Народные мастера не просто копировали жизнь, а творили чудо, чтобы порадовать маленьких покупателей. Они любовались праздничным выездом и иронизировали над этим символом бесшабашной удали и бахвальства гостей нижегородских ярмарок.
Праздничность выезду придает роспись. Ее второе назначение – маскировать неказистость бросового материала. На Волге: в Хохломе, Городце, Семенове, Федосееве давно сложились свои приемы окраски и цветной орнаментации точеной посуды, саней и повозок, сундуков и донец прялок. В понятии о красоте цвет играл важную роль. В народной среде всегда предпочитали яркие цвета, создающие мажорный, приподнятый настрой, соответствующие представлению о празднике. Городецкие упряжки горят контрастными сочетаниями черного и красного, оранжевого и синего цветов. Листочки и розетки дополняются линейной и штриховой отделкой. Фигурная боковая стенка возка получает яркую обводку по контуру. Верхняя и задняя плоскости украшаются цветочными композициями. Гривы коней изображаются либо штрихами, либо ажурными пятнами от прикосновения торца жесткой кисти. На месте седла у лошадки – узнаваемый городецкий розан с листьями. Его поддерживают по цвету яркие полосы сбруи возле основания головы и шеи. Глаза пишутся овалом с точкой посередине. Они кажутся шальными от быстрого бега. Прижатые вперед уши и приоткрытые рты лошадок поддерживают впечатление бешеной скачки. Длина игрушки заметно больше высоты. Преобладают горизонтальные линии, а вертикальные получают наклон назад, будто удерживается равновесие. И хотя ноги коней не согнуты, общий рисунок упряжки создает впечатление стремительного движения.
Кроме Городца, лошадок с повозками мастерили в Федосееве и Полхов Майдане. Там ноги коней заменялись простыми палочками. Форма тела и головы более условная. От этого лошадки кажутся не стремительными, а неспешными, не молодцеватыми, а робкими. Кроме упряжек, федосеевские мастера делали всадника на коне. Они придумали карусель с лошадками, бегающими по кругу. Возки походят на крестьянские тарантасы, так как не имеют крыши над головой седоков. Они сколочены из дощечек, наподобие ящичков. Этот способ конструирования получил название «ящичный».
Простоту формы и пластики компенсирует роспись. В Полховском Майдане упряжки необычайно яркие и нарядные. Для них характерны смелые сочетания излюбленных красок: малиновой и черной, желтой и сине-зеленой. Манера нанесения цветочного орнамента быстрая. Это контурный рисунок тушью с плоскостным заполнением цветом. Если лошадка красная, то повозка непременно черная, дуга и основание-платформа – желтые. Оглобли и ноги коня декорируют полосками. На колеса наносят желтые кресты диагоналей, контрастирующие с синими и ярко-розовыми треугольниками. Колеса еще не закрутились, а у вас уже рябит в глазах от этого темпераментного и активного образа, выражающего бодрость духа.
В Федосееве стиль декора упряжек еще более динамичный, непритязательный. Рубили и резали игрушку мужчины, а расписывали женщины и дети. По влажной поверхности натурального дерева лошадок разрисовывали обыкновенным химическим карандашом. Энергичными получались синие расплывающиеся линии рисунка упряжи на голове, параллельные штрихи гривы, протяженные линии вдоль крупа и поперек шеи. Ритмично расставлены вдоль них точки. Кажется, слышишь, как тенькают колокольчики, неторопливо цокают копыта. На спине лошадки выделяются два цветных прямоугольника седла – красный и синий. Дуга, оглобли, колеса тоже яркие. Но особенно нарядна тележка. Ее, прежде чем расписывать, окунали в емкость с желтой анилиновой краской. В народе ее остроумно прозвали «канарейкой». И пока дерево не просохло, наносили карандашом кудрявые веточки, цветы, плоды, листья, щедро снабженные завитушками, по народному – «вилюрками». Иногда с юмором дополняли их забавными, по-детски упрощенными фигурками петушков, зверей, человечков, даже смешными рожицами. Рисунок расцвечивали наложенными поверх мазками красной и зеленой краски, которые тоже не требовали излишней аккуратности, но придавали росписи законченность и эффектность. Эти приемы были отработаны на деревянных ложках, дешевых, но столь необходимых в народном быту, а потому и выполнявшимися тысячами. Свободные цветочные композиции, легко «разрастаясь» в любую сторону, выразительно заполняли плоскости.
Федосеевские игрушки, «балясы» как их называли на местном диалекте, известны с середины XIX в. Несколько семей ремесленников – Александровы, Мордашевы, Шестериковы променяли ложкарный промысел на игрушечное дело, поскольку оно оказалось более доходным. Каждый столяр специализировался на своем виде игрушечной мебели и утвари. Одни делали диванчики, столы, стулья, шкафчики. Другие мастерили лопатки, корытца с вальками, балалайки. Вначале, как было принято в старину, мастера скрывали друг от друга секреты ремесла. Но их игрушки пользовались спросом, и скоро сформировался общий узнаваемый стиль изделий. Это простые геометризированные формы, ящичные конструкции и веселый быстрый стиль росписи. Балясники Федосеева живо реагировали на требования времени. Атмосфера конкуренции способствовала изобретению новых видов игрушки, отражающих современный быт, привлекающих внимание движением и звуком. Каталки с крутящимися птичками, ветряные мельницы, карусели, пароходы, в том числе удивительные, многопалубные – вот ассортимент новой продукции. В 30-е годы мастера Федосеева соревновались в изобретении композиций с движущимися фигурками. У Антона Мордашова маленькие человечки плясали в такт игры балалаечника и гитариста. Он же показал работу горшечников и трепальщиков льна, а потом сумел продемонстрировать, как ложкари делают ложки. Каждая из четырех пар двигалась по-своему, позволяя узнать ту или иную операцию. Макар Седов смастерил косарей. При вращении ручки на расписном ящичке, под мелодию простого звукового механизма, они взмахивали косами. В игрушке «Молотьба» работающие делали движения в различном темпе. Выражение «точить балясы» означает – проводить время за разговорами. Может быть, это как-то связано с игрушками села Федосеева. Налицо говорливая интонация их сюжетов, подсмотренных в народной жизни, полных метких наблюдений и комизма. Несомненно, заслуживают особого восторга фантазия и изобретательский талант федосеевских игрушечников (рис. 13).
Самым поздним по времени создания стал игрушечный промысел Полхов Майдана. С ним знаком почти каждый человек средних лет. В 30-е годы ХХ в. потомственные токари-посудники освоили изготовление копилок, погремушек, птичек-свистулек, разъемных яиц, матрешек, переняв эту традицию у семеновских и сергиевопосадских мастеров. Этот стихийный сельский промысел без какой-либо помощи государства вскоре стал одним из самых успешных в стране. Почти все жители села, а это шестьсот семей, перешли на изготовление игрушек, поделив рынки сбыта. Полховмайданские «тарарушки» еще в 80-е годы прошлого века продавались на базарах больших и маленьких городов не только в Поволжье, но и намного дальше, в самой Москве и даже во Владивостоке. Что способствовало успеху этих изделий?
Рис. 13. С. Кокурин. Пароход двухпалубный. Нижегородская обл., дер. Федосеево. 1987
Во-первых, их художественный стиль: зажигательно-броский, свежий и заманчивый. Они привлекали необычайной яркостью красок, энергичностью росписи, смелым преувеличением, общим жизнеутверждающим настроем. Казалось, сама душа русского человека, чуточку бесшабашная и огневая, перелилась в эти замечательные игрушки.
Во-вторых, полховмайданские мастера были чутки к спросу. Они постоянно расширяли сложившийся ассортимент. Все покупатели находили у них что-либо привлекательное для себя. Мальчишкам нравились духовые пистолеты, стреляющие пробками, девчонкам – матрешки, копилки-грибки и бочонки. Девушки на выданье выбирали поставцы-шкатулки, где можно было прятать украшения и секретные послания. Малыши выпрашивали у матерей свистульки, пирамидки, юркие волчки. Хозяйкам приглянулись солонки в виде яблок на ножке.
В-третьих, все «тарарушки» были вполне доступны по цене. Достигалось это разделением труда. Всем членам семьи находилась работа по возрасту и умению. Приемы изготовления игрушек быстрые и простые, поэтому на первый взгляд они выглядят непритязательно. Но восхищает композиционная законченность декора, связь росписи с формой изделий (см. цв. ил. 1,а).
Можно проследить, как складывались самобытные способы декорирования полховмайданской игрушки. Сначала строгие токарные формы предметов украшались выжиганием с незначительной подцветкой красной краской. Потом стала применяться оконтуренная перовым рисунком роспись прямо по дереву с крахмальной грунтовкой. Затем она сменилась размашистой кистевой живописью. Пронзительный розовый фуксин, канареечный желтый, ярко-зеленый и синий цвет, получавшийся от наложения на желтый фон зеленого, великолепно сочетается с натуральным цветом дерева, сверкают под прозрачным лаком. Черные контуры, мазки, «тычки» в виде солнышек, наконец – рисунок деталей объединяют все цвета, придавая изображениям определенность и конкретность. Полховцы любят писать наивные, идиллические пейзажи с малиновыми закатами, домиками и мельницами. Деревья увешаны диковинных размеров плодами. Так проявляется детское удивление щедротам природы, остроумие, лукавство. Сочетая несочетаемое и нереальное (вспомните, яблоки на березе), мастера добиваются впечатления необычности и сказочности, заставляют нас улыбаться. Пейзажи умело вписываются в круглые формы крышек, дополняются каймой или фестонами по краю. Боковые плоскости украшаются цветочными букетами и ветками с узнаваемыми васильками, колокольчиками, гвоздиками, розами, но чаще с невиданными розетками, бутонами, листьями. Декоративные цветочные композиции выражают радость бытия, черпающего силы в буйной роскоши природы.
Полховмайданскую матрешку не спутаешь с другими. Она вытянута по пропорциям и условна по отделке. Сельские живописцы не копируют реальный костюм. Вместо кокошника – большой цветок. Всю переднюю плоскость ниже круглого лица занимает пышный букет. Он вписан в овал, намекающий на форму фартука. Нижняя и верхняя части матрешки раскрашены контрастно. Сзади они воспринимаются как юбка и кофта. Впрочем, поскольку руки не нарисованы, матрешка может показаться укутанной в шаль. Лаконизм отнюдь не противоречит узнаваемости деревенского типажа. Лицо написано быстрыми росчерками пера. Глаза изображаются близко посаженными в виде сросшихся овалов с точками. Их, как и брови в виде галочки, можно вывести, не отрывая руки. Нос с губами художник легко заменяет тремя черными точками. Выражение лица от этого становится напряженным, будто всматривающимся вдаль. Надо лбом другая перевернутая галочка, нанесенная круговыми движениями пера. Это волосы, расчесанные на прямой пробор. А по бокам лица – завитушки. Оказывается, мастер отразил редкий элемент местного костюма – воткнутые в головной убор перышки селезня, закрученные штопором, как кудряшки. Получился гротескный образ деревенской модницы, где лаконизм не противоречит острой детали, а строгость сочетается с шутливостью. Весело рассматривать фигурки внутри старшей матрешки. Нигде не повторяется цветочный узор, стремительно выведенное выражение лица. Оно кажется то ласковым, то удивленным, то сердитым. Чем меньше фигурка, тем обобщеннее декор. Уже не пишутся цветы. Нарядность создают сами краски. Желтый верх, красный низ, рисунок лица прямо поверх желтого фона у предпоследней матрешки. Розовая заливка вокруг светлого овала лица у последней фигурки, которая напоминает младенца, завернутого в пеленки. Домысливаешь, что это семья – мать со своими разными по возрасту детьми, похожими друг на друга.
Матрешка – очень русский образ. Даже не верится, что придумана она всего сто с небольшим лет назад. Вопрос «кто придумал матрешку?» остается волнующим. Даже водители такси в Сергиевом Посаде задают его своим пассажирам, с гордостью объясняя, что именно в их городе проживал ее изобретатель В. П. Звездочкин. В конце XIX в. молодой потомственный токарь поступил на работу в московскую мастерскую «Детское воспитание», принадлежавшую А. И. Мамонтову, брату известного абрамцевского мецената. Под влиянием новейших педагогических теорий здесь создавались детские иллюстрированные книжки, придумывались новые образцы игрушек. Увидев в журнале подходящий образец, В. П. Звездочкин выточил цельную женскую фигурку, потом по совету других мастеров сделал ее разъемной и полой внутри, заполнил сначала тремя, а потом и шестью другими. Известно, что в доме Мамонтовых имелась раскладная игрушка из Японии, изображающая лысого старичка-мудреца. Но принцип вкладывания одной игрушки в другую был издавна знаком и русским токарям. В деревнях под Подольском, Звенигородом, Вереёй точили цилиндрические укладки, разъемные яйца. Сохранились стоместные яйца с толщиной стенок чуть больше, чем у куриных яиц. Мастерство токарного дела от заготовки древесины до вытачивания изделий на самодельных, тоже деревянных, станках в богатом лесом краю было потомственным, а значит отработанным не одним поколением ремесленников. Пасхальные яйца украшались изображением лика Богородицы. А отсюда уже совсем недалеко до изобретения женской разъемной фигурки.
Расписал первую такую игрушку художник С. В. Малютин. К такому выводу пришли ученые, подметившие сходство изобразительных приемов росписи со стилем его детских книжек, оформлявшихся в то же самое время по заказу Мамонтовых. Художник принадлежал к кругу мастеров русского модерна, для которых изучение и применение традиций русского народного искусства стало способом поиска нового художественного языка живописи и графики, отличающегося от эстетики критического реализма большей условностью, обобщенностью, декоративностью. Поиск новой красоты в «серебряном веке» требовал от художников универсализма. Они смело экспериментировали в области декоративно-прикладного искусства, театра, оформления книг и журналов. Игрушка как синтетический вид искусств также стала полем экспериментов для профессионалов-художников. В то время кроме С. В. Малютина игрушками увлекались В. А. Серов, Н. Д. Бартрам, скульптор И. С. Ефимов.
Восемь фигурок первой матрешки хранятся сегодня в Музее игрушки в Сергиевом Посаде. Они изображают крестьянских детей в простых ситцевых сарафанах, фартуках, рубашках и набивных платках. В руках у одной девочки серп, у другой – чашка с молоком, третья держит за руки стоящего у ног малыша. Рыжеволосый мальчонка с топориком демонстрирует новую красную вышитую косоворотку. Маленькая девчушка задумчиво держит пальчик во рту. Самая старшая сестренка несет под мышкой черного петуха. Ее скромный наряд, аккуратно причесанная головка, милое улыбающееся круглое личико с нежным румянцем всем казались такими знакомыми.
Ни дать ни взять – та самая босоногая Матрешка, что бегает по своим немудреным делам по сельской улице. Имя это происходит от одного из распространенных в деревнях женских имен – Матрена. В целом, набор фигурок несет достоверную, лирично окрашенную информацию о народной детской культуре.
С. В. Малютин сумел передать узнаваемые национальные характеры. Образам застенчивых крестьянских ребятишек созвучны средства художественного воплощения. Простоте пластического решения вторит благородная приглушенная тонально богатая цветовая гамма. Тактична свободная графическая прорисовка лиц и одежды. Художник расписал еще две раскладные куклы «Девушка с поросенком» и «Старуха с мешком», которые находятся сегодня в коллекции Музея-усадьбы В. Д. Поленова.
Все вместе они немало рассказывают о мире русской деревни. Не удивительно, что малютинский вариант росписи с простонародными типажами стал образцом для повтора среди кустарей. Хотя для тиражирования пробовались раскладные игрушки в образе боярынь, исторических лиц, литературных персонажей (рис. 14).
Рис. 14. С. В. Малютин. Матрешка с несушкой. Мастерская братьев Ивановых. г. Сергиев Посад. Начало XX в.
Сергиевские иконописцы были привлечены к росписи матрешек предпринимателем В. И. Боруцким после успеха игрушки на Парижской выставке 1900 г. Тогда она стала экспортным дорогим товаром. Им пришлась по сердцу привезенная из Москвы удивительная игрушка, «рождающая» себе подобных. Она напоминала и о почитаемом образе Богородицы, и о собственных больших семьях. В Сергиев Посад были приглашены несколько семей лучших подольских токарей, в том числе В. П. Звездочкин. В 1911 г. заведующий художественной частью Кустарного музея Н. Д. Бартрам писал, что матрешка изготовляется десятками тысяч и стоит всего 35 копеек. То есть популярная в Европе игрушка, которую не раз безуспешно пытались подделывать и в Германии, и во Франции, стала доступным товаром и для русских покупателей.
До 20-х годов ХХ в. сергиевские (загорские) матрешки отличались благородством теплого колорита и тонкостью графической прорисовки. Сказывалась иконописная традиция. Г. Л. Дайн считает эту цельную манеру письма созвучной «певучему хоровому ладу». Кроме колорита, строгой и плавной линии, «заимствования видны и в изображении рук матрешки, и в том, как они лишь касаются предметов: петуха, корзинки, узелка, а не держат их. Эти предметы-атрибуты также “оплощены”, а не объемны, немногословно, но четко проработаны. Они важны сами по себе – это условный прием придает содержательности всей росписи. Близка к иконописной и обработка поверхности изделий, плотная, гладкая… Не случайно к росписи лица, даже на игрушке, здесь было особо уважительное отношение. И писали их, по древней традиции, отдельно, в последнюю очередь, и более тщательно по сравнению с одеждой»[26].
Позднее в артели игрушечников Загорска утвердился более яркий, построенный на сочетании локальных цветов вариант матрешки, соответствующий народному вкусу. В ее цветовом решении преобладали теплые охристые, красные, зелено-желтые оттенки, и только для контраста вводился темно-синий цвет. Одета она была по-прежнему в сарафан с вышитой белой сорочкой, платочек с цветочным орнаментом, имитирующим рисунок набойки. Мастерство росписи проявлялось в отточенном рисунке миловидного лица. Черным цветом выводились аккуратные брови, глаза, две точки вместо носа. Красным цветом изображались маленькие губки – бантиком, а мягким розовым пятном – румянец. Пышнотелая круглолицая красавица с румянцем во всю щеку – вот народный идеал красоты. Черным контуром, где-то графично и четко, а на округлых формах плавно и легко, обводились лицо и одежда. Цветы писались уверенным мазком и тычком без предварительного рисунка. Простота этих пятилепестковых цветков, больших листьев, составленных из круглых пятнышек, маленьких острых листочков, написанных мазком мягкой кисти, соответствует простодушному образу куклы. Сочетание цвета натурального дерева, чистых и звучных пятен сплошной заливки, темного контурного рисунка, быстрой живописи цветочных узоров, блеска лакового покрытия выглядело очень нарядно и цельно.
Другой центр изготовления матрешки сложился в 20-е годы ХХ в. в Поволжье. В нескольких селах близ маленького городка Семенова воды реки Керженец издавна крутили маховые колеса более пяти сотен токарен. В середине XIX в. за недостатком леса посудники перешли на вытачивание игрушечных ведерок, бочонков, шаров, раскладных пасхальных яиц. В самом большом селе Мериново в 1917 г. каждый третий житель точил «потешки». Особенно славились семейства Вагиных и Майоровых. В каждом считали, что они первыми стали делать матрешку. Вспоминали, как Иван Вагин привез из Нижнего Новгорода деревянную куклу-болвашку в виде мужика с бородой и усами. Выточив подобную разъемную игрушку, Вагины расписывали ее шутливо, то бабой, то плешивым мужиком в длинном тулупе. Арсентий Майоров начал точить матрешку в 1922 г. А вначале его дочь разрисовала гусиным пером и расписала прозрачными анилиновыми красителями привезенную с ярмарки белую точеную куклу. Получается, что идея многоместных кукол у мастеров токарного дела вызрела почти одновременно. Ведь она особо созвучна национальному менталитету. Искусство цветочной росписи было сформировано в посудном ремесле. Это доказывает всемирно известная Хохлома. Неизменно удавались семеновским ремесленникам букеты. Из-за них выглядывали улыбающиеся лица черноволосых красавиц. Алые розы, маки, тюльпаны, ромашки, в обрамлении бутонов и темно зеленых резных листьев, заполняли почти всю лицевую сторону семеновской матрешки. Цветы стали ее узнаваемым знаком, сменив достоверные элементы костюмного комплекса. Цветение издавна на Руси ассоциировалось с Божьим миром, с раем. Это символ неувядающих сил земли и народного благополучия. Преобладание красного, желтого и золотистого цветов, неуемный блеск на поверхности круглых форм выражают тему радости жизни, напоенной солнечной энергией.
Дерево было самым распространенным и любимым материалом в России. Не может не восхищать мастерство его обработки, как в архитектуре многоглавых церквей, так и в детской игрушке. Народному мастеру было по силам сымитировать в дереве дорогую фарфоровую статуэтку, как это делали в первой половине XIX в. резчики Сергиева Посада. Каждый богомолец, посещавший лавру, покупал на память о святых местах кто дорогое, кто дешевое изделие. Ремесленники старались угодить вкусу состоятельных паломников и простолюдинов. Резались фигуры высотой от полуметра, меньше и вплоть до самых малюсеньких, не более двух сантиметров. Скульптурная проработка фигурок удавалась благодаря многовековому опыту резьбы иконостасов, церковной мебели и декора. Приемы грунтовки и росписи были заимствованы в иконописи. Игрушку, по местному преданию, здесь начали резать с самого момента основания лавры. Сергий Радонежский любил одаривать ею детишек.
Крупные изображения запечатлели дам в шляпах и платьях стиля «ампир», бравых гусаров в киверах, разряженных городских модников. Они, как на парадных портретах, стоят неподвижно, выставив одну ногу, положив согнутую в локте руку на узкий столик-постамент, демонстрируют свой наряд и знаки отличия. Большие скульптуры покрывались меловым левкасом и расписывались. Поставленные на комодах в домах среднего сословия они с первого взгляда мало отличались от модных фарфоровых статуэток (см. цв. ил. 3,а).
Фигурки поменьше представляют узнаваемых по характеру представителей различных сословий. Здесь все, кого можно было встретить в русской провинции. Это юркие разносчики-торговцы, важные пузатые купцы, степенные длиннобородые священники, скромные монахи с потупленными взорами, готовые к выполнению приказа солдаты с ружьями «навскидку», иностранцы в удивительных нарядах. Иногда бытовые персонажи изображались в действии: крестьяне плясали, няньки качали младенцев, поводырь показывал шутки с медведем. Хотя искусство сергиевских резчиков подражало иностранному фарфору, народные мастера находили любопытные их взгляду сценки в русской действительности. Мелкая пластика – «китайская мелочь», как ее называли в подражание фарфоровым безделушкам, была предметом коллекционирования. Но ее также давали ребятишкам для развлечения.
В каждой сотне было около двадцати вариантов персонажей, поэтому игра с ними превращалась в маленькое театральное представление, отражавшее знакомые детям сцены и незабываемые ярмарочные развлечения. Мальчишки, конечно, разыгрывали военные сражения. А. Н. Бенуа в своих мемуарах вспоминал, что у него были целые полки разномасштабных деревянных солдатиков, окрашенных в яркие «колеры» и восхитительно пахнувших «чудес-ным запахом игрушечных лавок».
При внимательном рассмотрении сергиевских деревянных игрушек становится ясно, что их изготовители не нарушали природу материала. Они экономили дерево и свои силы, выверив многократными повторами каждое движение руки и инструмента. Ведь их товар, даже самый крупный, сбывался очень дешево. Чурбан кололся на три части. Трехгранная форма «проглядывала» в уплощенных спереди фигурках. Все оставшиеся горбушки и щепочки шли на разнокалиберные поделки. Верх больших скульптур обрабатывался тщательно. Детально вырезались лица, замысловатые прически, головные уборы, воротники, аксессуары в руках. Они помогали передать насмешливое отношение народа к жеманным дамам, франтоватым господам, высокомерным офицерам. А в нижней части кукла оставалась монолитной, сохраняющей форму заготовки. Квадратный постамент отделывался одинаковыми желобками. Следы стамески были отчетливо заметны на складках одежды. Фактура меха передавалась ритмично расположенными выемками, что выглядело достаточно декоративно. Кукольность изображениям дам придавали зонтики на тонком металлическом стержне и подрагивающие на пружинном стебле цветки. Маленькие фигурки вырезались обобщенно, с нарушением пропорций и анатомии. Но эти большеголовые миниатюры очень выразительны по пластике. Кто-то подбоченился, кто-то держит в руках предмет, уточняющий род занятий, другие чуть повернули или наклонили голову. Самой проработанной по традиции была фронтальная сторона. Детали костюма и лицо уточнялись росписью. Одежда и головной убор соответствовали типажу, моде, форме рода войск. Неровная скоропись лица и нарушенная симметрия (даже у вытянувшихся «во фронт» солдатиков) придавали им динамичности и живости.
Таким образом, в творчестве сергиевских мастеров нашла отражение специфика посада как места паломничества представителей разных сословий и связанная с этим, как сегодня с туризмом, репрезентативность ритуальной жизни, обилие торговых и праздничных мероприятий. Это мы видим в сюжетном содержании игрушек. Отсюда же чуткое следование спросу и моде, влияние разных культурных факторов. Как было верно замечено Т. Г. Перевезенцевой, «народная картинка и дорогой фарфор, дворянский быт и профессиональное искусство, важнейшие исторические события и происшествия местного значения – все причудливым образом отражалось в их произведениях, рождало неповторимое по содержанию и форме искусство»[27].
Село Богородское расположено в 30 километрах от Сергиева Посада и связано с ним ремесленными традициями. Заниматься резьбой по дереву там начали более 300 лет назад. Белые деревянные изделия продавались посадским живописцам и сбывались близ лавры приезжим. Но уже в первой половине XIX в. богородцы отказались от услуг «красил». Начал формироваться узнаваемый стиль изделий из неокрашенного дерева. Золотистая поверхность материала, волнистый рисунок слоев древесины, оставленная смелыми движениями ножа и стамесок фактура издавна ценились в народной среде. Красота изделия достигалась завершенностью силуэта, сочетанием гладких поверхностей со скупыми врезами, намечающими формы деталей, а также отделкой, принимающей декоративный характер.
Игрушки были копеечным товаром, который изготовлялся сотнями в день. В Богородском резали игрушку в каждом доме. Дети помогали родителям, постепенно осваивая все операции. Нож им доверяли рано, позволяя вырезать фигурки на промежуточном этапе после зарубки топором. Даже не совсем удавшиеся первые самостоятельные изделия, предварительно договорившись, сдавали скупщикам. Ребенок чувствовал радость от заработка. К подростковому возрасту, все ребята владели «смашной» резьбой без предварительных разметок. Посиделки превращались в соревнование, где перед ровесниками демонстрировались умения, перенимались новые приемы, сюжеты и образы. Для увеличения производительности резчики совершенствовались на близком виде товара, который освоили в семье. Но новые сюжеты вызывали общий интерес, стимулируя творческий подход, расширяя ассортимент промысла. О ремесленниках, повторявших всю жизнь одни и те же простые игрушки, отзывались не очень уважительно, называли «серыми».
Резьбой в Богородском занимались зимой, а начиная с весны крестьянствовали. Поэтому, в отличие от сергиевских, богородские игрушки отражали сельскую жизнь – трудовые будни и праздники земледельцев. В начале XIX в. преобладали одиночные фигурки прях, музыкантов, охотников, бондарей, косцов. Крестьяне исполняли привычные дела со всей серьезностью. Связь с каноничным церковным искусством заложила в образы монументальность форм. Лица крестьян напоминают лики святых, столько в них значительности и строгости. Даже маленькие фигурки у богородских мастеров выглядят величественными из-за лаконичности форм, нахмуренности лиц.
Во второй половине XIX в. резчики начинают увлекаться многофигурными повествовательными композициями. Эти скульптурные группы были сувенирами, интерес к которым подогревался увлечением интеллигенции национально-романтической тематикой. Из фигурок составляются целые сцены крестьянского быта. Они монтируются на доске наподобие макетов. Мужички постепенно утрачивают иконописную утонченность, они кажутся крепкими, уверенно стоящими на земле.
Но самую большую известность богородскому промыслу принесли небольшие игрушки с применением простых механизмов. Они позволили добиться лаконичных движений и расширить тематику. Движение одного типа игрушки достигается качанием гирьки, спрятанной под круглой или прямоугольной подставкой. Хозяйки при этом рубят капусту, медведица моет медвежонка, куры старательно клюют. Принцип другого движущегося изделия таков: параллельные планки ходят вперед и назад, заставляют фигурки наклоняться. Мужик и медведь, любимые персонажи такой игрушки, стучат молотами в маленькую наковальню (см. цв. ил. 6,а). Вращающиеся основания позволяют персонажам делать круговые движения, например – косить косарям. Если дергать нитки, связанные за спиной медведя, они управляют подвижными сочленениями его лап. Потапыч пускается в пляс. Такую игрушку прозвали «дергунчиком». Раздвижные планки «разводы» оформляются рядами одинаковых человечков или животных. Здесь сценки построены на неожиданном движении. Весело наблюдать, как стадо, только что дружно шагавшее рядом с пастухом, убегает от него вперед, как раздвигают строй солдаты и их будто бы становится больше. Игрушки с движением стали выражением народной смекалки, доброй шутливости (см. цв. ил. 2,а).
Медведь – любимый персонаж богородских «зверистов». Они могли сделать его грозным хозяином леса с тяжелой поступью и взглядом исподлобья, с косматой шерстью, изображенной рядами длинных порезок. Но больше им полюбились сказочные сценки, где медведь подражает человеку. Здесь медведь, стоящий на задних лапах, большеголовый и большелапый, иногда кажется добродушным медвежонком. Сюжеты с медведями неисчерпаемы и остроумны. Богородские медведи воруют мед, играют на гармошке, катаются на велосипеде, умываются из рукомойника, пляшут в присядку, раздувают сапогом самовар, ставят печать на бумаге, протянутой волком-просителем, а сегодня, как почти все дети, сидят за компьютером.
Композиции с лошадьми – еще один узнаваемый сюжет, выполнявшийся богородскими мастерами. Народные традиции здесь переплетались с влиянием профессиональной скульптуры. Мастера вырезали коней, запряженных в телегу, пролетку, тройки с каретами, пасущуюся кобылу с жеребенком. Реалистическая трактовка в сочетании с игрушечной условностью позволила этим изображениям стать многофункциональными. Повозки можно было катать, седоков вынимать из кареты. Делались также и большие кони-каталки сборной конструкции. К вырубленной топором туше приколачивались ноги и шея с головой. Затем «сколотный» конь обмазывался глиной, оклеивался бумагой. После раскраски он получал льняные хвост и гриву и ставился на колеса.
Этот конь близок по облику к игрушкам из папье-маше, которые делали в Сергиевом Посаде, начиная с 20-х годов XIX в. Для удешевления товара деревянные резные фигурки стали оклеивать в несколько слоев размоченной бумагой. После просушки она снималась в разрезанном виде, снова склеивалась, грунтовалась и расписывалась. Формы – «болвашки», сделанные лучшими резчиками, сейчас они демонстрируются в музеях как образцы народной скульптуры. Они быстро портились от постоянной влажности и надрезания по средней линии. Поэтому «балбешники», так прозвали мастеров игрушек из папье-маше, стали использовать разъемные гипсовые формы. Поделки получались легкими, но прочными. Конь, например, выдерживал вес ребенка. Ремесленники чувствовали некоторую упрощенность формы игрушки из бумаги и старались ее броско украсить. Для этого использовали фольгу, ситец, цветочные обои, елочные бусы. Зверей обшивали тканью, осыпали шерстяной пылью, вставляли им стеклянные глаза. Подставки украшали крашеными опилками, наподобие зеленой травы. Для «оживления» применяли механику и звукоподражательные устройства. Так дешевая игрушка стала заманчивым товаром, передающим дух ярмарочного веселья.
Сами образы игрушки из папье-маше созвучны атмосфере площадной культуры. Высовывающие языки – клоуны, кланяющиеся франты, дымящие курильщики, непрестанно качающиеся турки-неваляшки, старухи, превращающиеся в молодух, представляли театрализованный, скоротечный, обманный, но такой притягательный мир праздничной площади. Неожиданный пронзительный писк или нежное треньканье дополняли образы игрушек из папье-маше, вызывая у покупателей удивление и восторг. Подставки-меха заставляли пищать птичек и пойманных котом мышей. При каждом повороте ручки звенела затронутая струна в круглом основании карусели, и напоминающий мелодию настоящей шарманки звук украшал ее движение по кругу. Чтобы выдержать конкуренцию с иностранным товаром, подмосковным игрушечникам приходилось осваивать новые конструкции и материалы, расширять ассортимент продукции, заимствовать сюжеты в лубочной литературе, фарфоровой пластике, современной жизни. Откликающаяся на покупательские запросы кустарная игрушка оставалась национально узнаваемой, демонстрировала народные вкусы и предпочтения, высмеивала, подобно меткой и ироничной частушке, пороки социально чуждых слоев населения: праздных горожан, кичливых богатеев, высокомерных священников, скучных монахов, угодливых торговцев.
Влияние времени испытывала и глиняная игрушка, искусство с древней историей. Археологические раскопки показывают, что предки славян уже во II тысячелетии до н. э. изготовляли из глины шары-погремушки и фигурки коней. Свистульки в облике птиц и домашних животных находят в культурном слое почти всех древнерусских городов. Мастера московской Гончарной слободы XVII в. запечатлели любимые праздничные развлечения в глазурованных фигурках, играющих на дудках скоморохов и поводырей с медведями. По мнению известного исследователя И. Я. Богуславской, глиняная игрушка всегда стремилась, помимо архаичной символики, к отражению жизненных впечатлений. Реальные сюжеты преодолевали будничность с помощью гротеска, поэтичности, фантазии. Сходство глиняных игрушек разного времени и различных регионов автор объясняет общим языческим мировоззрением и хозяйственным укладом, аналогичными приемами обработки пластичного материала. Но анализ локальных стилей глиняной игрушки доказывает, что бережно охранявшиеся местные каноны зависели от многих факторов: от качества глины, от окружающей среды, в том числе природной, от рынков сбыта, вкусов потребителей. Каргопольская игрушка – искусство чисто крестьянское. Классика этого вида – изделия жителей нескольких деревень близ города Каргополя на юге Архангельской области, самая известная из которых – Гринево. Ныне она исчезла. Именно в этой деревушке, окруженной огромными елями и березами, овсяными и ржаными полями, а больше болотами, где серые журавли наедаются клюквой перед перелетом на юг, жили И. В. Дружинин, У. И. Бабкина и другие не столь прославленные гончары и игрушечники. Дети со всей округи забавлялись их «бобками» (так принято здесь называть игрушки) – куколками да утушками, купленными на базаре за копейки. А в 30-е годы потянулись сюда музейщики и коллекционеры не только из Архангельска и Вологды, но и из столичных городов. Как произведения искусства были оценены маленькие, крепенькие фигурки мужичков, баб, зверей: настоящих, будто подсмотренных за окном, и фантастических, какие живут только в народных преданиях (см. цв. ил. 2,б).
Свистульки в образе оленя, коня, утицы, козла, барана выполнены в обобщенном статичном виде, сходном с другими центрами игрушки. Это мифологизированные образы, олицетворяющие силы плодородия. Домашние животные имеют узнаваемый облик и характеры. Напоминающие лаек собачки именно той породы, которая чаще других водится в Каргополе. Они участвуют в жизни человека, ходят на охоту, нападают на медведя, преданно машут хвостом, забавляются мячиком. Но любили каргопольские мастера лепить и сказочных животных. Здесь и Полкан – русский кентавр, и страшные черти, и четырехлапые существа с бородатой личиной, и загадочные с крючковатым клювом хищные птицы, действующие как люди, и другие очеловеченные звери. Стоящие на задних лапах медведи играют на музыкальных инструментах, борются с человеком, нянчат детенышей. Интерес к этому зверю – отголосок древнего, еще со времен первобытных охотников, почитания медведя, веры в его сверхъестественные способности. Бурого ассоциируют с самим «скотьим богом» – Велесом, хозяином леса и нижнего мира, покровителем домашних животных. Не случайно, медвежье имя всего лишь намек на его любовь к меду, также как применявшиеся повсеместно иносказательные прозвища «дед», «хозяин», «суседушко». Настоящее же имя медведя предпочитали не называть, опасаясь накликать на себя беду.
Сюжеты каргопольских игрушек, изображающих человека, удивительно разнообразны. Одно перечисление заняло бы целую страницу. Но чем бы не занимались их герои – это узнаваемый быт и типичные характеры северной деревни, мало менявшиеся на протяжении веков. Охотники горделиво несут добычу; хозяйки держат на руках ребятишек или степенно подают на стол пироги, рыбу, ягоды; гармонисты залихватски играют на гармошках; сельчане весело катаются на санках, запряженных не только конем, но и оленем, переправляются на лодке через реку, заготавливают дрова. Из редких сюжетов можно назвать изображения бражников, пирующих на пароходе, мужчин и женщин, стирающих белье, и даже – покойников в гробу. Не только наблюдательность, чувство юмора, но и интерес к ритуальным сторонам жизни выдают выполненные И. В. Дружининым скульптурки, хранящиеся в Сергиево-Посадском музее-заповеднике[28].
Глубокой архаикой веет от образа женщины с обнаженной грудью, с птицами в воздетых руках. Это сама Мать-сыра земля, Богиня природы. Традиция фронтального, статичного, в широкой юбке колоколом женского изображения очень древняя и распространена у многих народов. Впрочем, фигурки крестьянок с круглым блюдом, караваем хлеба, младенцем на руках очень похожи на нее своей монументальной пластикой, несмотря на конкретные головные уборы (не только крестьянские, но и модные городские), кофточки с большими пуговицами и бусы на шее. Серьезность и внушительность им придают приземистые пропорции, неподвижность торса, обобщенность круглой без прически головы, слившейся с конической крепкой шеей и покатыми плечами. Предпочтение отдается фронтальной точке зрения. Спереди располагаются предметы-символы. На фартуке сгущается иератический по своей простоте рисунок орнамента. На условно написанном лице вопрошает взгляд, намеченных черными точками глаз. Цветовая гамма игрушек Дружинина будто подсмотрена в неброской северной природе. Колорит построен на светло-серых, бежевых, красно-коричневых оттенках. Но доминирует белый цвет. Он контрастирует с живыми черными линиями и точками, выделяющимися также активно, как четко читаются силуэты деревьев и ворон на свежевыпавшем снегу. Элементы орнамента – астральные и растительные символы. Это кресты, круги, елочки, ветки, овалы и точки, напоминающие зерна.
Игрушки У. И. Бабкиной, которые начали собирать в 60-е годы ХХ в., некрупные, скромные. Одинокой старушке нелегко было за несколько километров носить их в Архангельск на базар. Но от них как от северной архитектуры исходит впечатление силы, устойчивости, былинного богатырского духа. Ее кони крепко стоят на широко расставленных толстых ножках. Всадники с головами, будто вросшими в плечи, могучи словно Илья Муромец. Они – одно целое с конем. Медведь, стоящий на задних лапах – грозный владыка леса. Морда зловещая, а в лапах – блюдо с дарами. Ульяна Ивановна любила контрастные сочетания красок, звучащие героически. Залитые сплошным цветом объемы доминируют над линейным декором. Живописная отделка кажется слишком поспешной, не главной. Пластика игрушек, несмотря на не заглаженную поверхность, закончена, пропорционально выверена, монументальна. Фантазия игрушечницы поразительна. Она запечатлела многочисленные образы животных, обилие полных живости бытовых ситуаций. Знавшие ее вспоминали, что игрушки были для нее живыми существами, с которыми она разговаривала так же, как со своими любимыми домашними питомцами. В память об уникальной мастерице, ее щедром даре, добром сердце в Архангельске поставлен памятник.
Сегодня в Каргополе усилиями семьи Шевелевых создан цех по производству керамики. Г. Л. Дайн с радостью поделилась, что преподаватель детской художественной школы В. Д. Шевелев обучает детей традиционным приемам лепки и росписи каргопольских игрушек[29]. Школьникам близки по духу сказочный Полкан, очеловеченные медведи со ступкой или другими сельскими инструментами, медведи с детенышами. Ребята с удовольствием лепят домашних животных, простодушных лодочников, гордых своим искусством гармонистов, которых, к счастью, еще немало на праздничных гуляниях не только в Каргополе, но и в других русских селах и городах. Сам педагог – замечательный художник, берегущий традиции знаменитой игрушечницы и сказительницы Ульяны Бабкиной, ее односельчан Дружининых, собственной талантливой семьи, где мастерство передается по наследству. Валентин Дмитриевич придумал в дополнение к традиционным образам очень удачное семейство персонажей, являющихся своеобразным символом родного города. Это носатые Вороны (по-старинному Карга) с крыльями-руками, которым привычны дела настоящих каргопольских мужиков. Они и развлекаются тоже очень по-народному, катаясь в санях вместе со своими женами-воронами и детьми-воронятами. Получился фантазийный образ-тип, природа которого созвучна народному мировосприятию. Он перекликается с мифологическими и сказочными образами, имеет яркий характер, созвучный характерам людей этой местности, по-своему праздничен и забавен. Автор также возродил забытую технику обварной игрушки, которую после обжига нужно обмакнуть в жидкий овсяный кисель. Она выходит похожей на пекарскую скульптуру, которую пекли раньше в каждом деревенском доме.
Игрушки А. И. Житнухина, мастера из города Вельска Архангельской области, также очень похожи на фигурки, выпеченные из поднявшегося теста. Они такие же пузатенькие с чуть-чуть выступающими ножками и головками. И даже по цвету покрытые свинцовой глазурью свистульки: коньки, птички, коровки, всадники, золотистые с подпалинами. Т. М. Разина, наблюдавшая процесс работы Александра Ивановича, пишет: «Округлый комок глины… сразу начинает обретать форму будущей игрушки. В его полусогнутых ладонях уже живет фигурка птицы. Она сохраняет свою округлую цельность. Руки мастера лишь несколько вытянут глину для хвоста и двух коротких ножек. На этих трех точках будет стоять фигурка. Чуть вытянута глина вверх, и из объема тельца возникает маленькая головка с хохолком. Нерасчлененность объема, прямой срез хвоста, мягкая округлость силуэта выражают “глиняную” суть игрушки»[30] (рис. 15).
Эти чисто крестьянские приемы лепной игрушки были усвоены А. И. Житнухиным в родной деревне Самово, которой сегодня уже нет на карте. В молодости вместе с отцом возили они по округе кувшины, горшки и крынки, оповещая о своем прибытии звуками незатейливой свистульки. Кроме игрушек, он знал плотницкое дело, плел из бересты, резал щепных птиц, которых в сельской местности называли «святым духом», поскольку верили, что они защищают от невзгод и болезней. В Вельске, поддержанный местным отделением Союза художников, мастер воспитал нескольких учеников, которые продолжили его дело.
Рис. 15. А. И. Житнухин. Птица. Всадник. Архангельская обл., г. Вельск. 1979
Сказочные по обличью игрушки созданы в деревне Филимоново Одоевского района Тульской области. Это тоже передававшееся из поколения в поколение древнее рукоделие. Есть легенда, что название селение получило от имени своего основателя горшечника Филимона. Сегодня усилиями тульских мастериц эти игрушки живут и славятся не только в России, но и за границей. За что их так любят? За смелое преувеличение, фантазийность и забавность, за яркую не стандартную раскраску, словно приносящую в дом солнце. Древность происхождения выдает функциональное назначение игрушек. У каждой есть свисток. У животных он торчит сзади в виде хвостика. Люди держат птиц со свистком под мышкой. И сюжеты чаще традиционные. Это изящные олени, большерогие вытаращившие глаза коровы, голенастые птицы, стоящие на задних лапах медведи с ношей, барыни в пышных юбках и всадники в заломленных шляпах с погонами на плечах. Шляпки у барынь украшены куриным перышком, у солдат вылеплены сапоги с каблуками. Следовательно, выразительная деталь помогает филимоновским мастерицам создать узнаваемый и в то же время гротескный образ (рис. 16).
Рис. 16. А. И. Гончарова. Корова; Е. И. Лукьянова. Курица. Тульская обл., с. Филимоново. 1987
Сюжетные композиции показывают их интерес к действительности. Особенно полюбились сценки «Кормление птиц», «Катание на тройке», «Любота», где изображена танцующая пара. Круглая подставка объединяет фигурки женщины и кур в композиции А. И. Гончаровой «Птичница». Есть особенная мягкость, задушевность, композиционная законченность в простой сценке. Куры сгрудились вокруг чашки, которую держит на коленях хозяйка. Вылепленные в виде калачика руки обнимают ее. Самый яркий розовый цвет преобладает в окраске кофты женщины. Так, расположенная в центре круглая чаша оказывается выделенной многократно. Пластика женской фигурки лаконична. Круглая головка с узлом волос на затылке чуть-чуть наклонена вбок. Это придает образу выражение умиротворенности и ласки. Круг повторяется в форме спинки стула. Впечатление простоты поддерживается и росписью, где преобладает работа пятном. А узор организуется ритмично повторенными полосками на спинках и хвостах белых хохлаток. Они радиально расположены на желтом круге подставки, окаймленном контрастными по цвету штрихами (рис. 17).
Рис. 17. А. И. Гончарова. Птичница. Тульская обл., с. Филимоново. 1987
Все герои филимоновской пластики имеют удивительные неестественные пропорции. Они с длинной шеей, стройные, с маленькими головками. Свойства местной глины, оседающей при сушке, вынуждало мастериц вытягивать их из одного куска, многократно править, заглаживать, облегчать в верхней части. Росписью анилиновыми красками они усиливали впечатление сказочности. Натуральный цвет обожженной глины у филимоновских игрушек нежный, напоминающий молоко, которое долго томилось в русской печи. На светлом фоне горят как радуга желтые, сине-зеленые, ярко-малиновые полоски. Их горизонтальный и вертикальный бег совсем не скучен. Опоясывая длинные шеи коровушек и петухов, полоски как лестница «возносят» нас ввысь к выделенным белым или ярким цветом головкам. Ряды чередующихся контрастных полосок обнимают утолщенное тело коня, придавая ему округлость, намечают пряди его гривы и челки. Они стелются вдоль ног солдата, изображая рисунок ткани на его штанах, и расширяются на круглом основании фигурки, придавая ей дополнительную устойчивость. Роспись кисточкой из пера живая и быстрая, но нет случайности и непродуманности в стремительных мазках. Ритм полос сочетается со сплошными заливками. Замешанные на яйце краски блестят, придавая игрушкам еще большую нарядность и солнечность. На светлых плоскостях линии, будто сами собой, складываются в узоры, напоминающие лучистые круги и звезды, елочки, ветки, колоски, ряды треугольников. Над ними властвуют симметрия и ритм. Это придает декору завершенность. На белых лицах людей точками намечены глаза и рты. Безволосые головы пластически выделены только округлостью спереди и небольшим наклоном шеи. Маленькие шляпки поддерживают это движение, наклоняясь следом, будто съезжая на лоб. То есть статичность фигурки вновь не скучная, не абсолютная. Контрасты горизонталей и вертикалей, монолитных объемов крупных форм с маленькими предметами в руках героев, гротесковая преувеличенность размеров самых характерных деталей придают филимоновским игрушкам необычайную выразительность. Они запоминаются с первого взгляда, радуют как удачная шутка, впаиваются как меткое народное словцо в язык, поражают как редкое чудесное явление природы.
Много развитых центров гончарства было в Рязанской области. Скопин славился глазурованными фигурными квасниками. Делали там и свистульки – всадников-солдат с большущими эполетами. В деревне Вырково под Касимовым, кроме посуды, также издавна изготавливали игрушки. В тяжелой работе с глиной участвовали все члены семьи. Мужчины «возводили» на примитивном гончарном круге крынки, горшки, корчаги, наращивая стенки по-старинному – жгутом. Женщины и дети лепили вручную «дудки» в облике коня, собачки, птички с хохолком, свиньи. Острой палочкой прокалывались отверстия для свиста, каждый раз по-разному. Звук получался особенным, забавным. Поросята «умели» хрюкать, петухи кукарекали, издавая два звука, медведи низко ревели. А бабы «болтали» скороговоркой. Игрушки, как и посуду, поливали цветными глинами, свинцовым суриком. Они радовали глаз блеском, желтыми, коричневыми, зелеными переливами. В 30-е годы, когда вырковскими игрушками заинтересовались коллекционеры, к ним вернулись и мужчины. Увлеченно начали они лепить подсмотренные в жизни сюжеты: фигурки курильщиков – коренастых мужичков в картузах, схватку медведя с охотником, хлопочущих у печки хозяек, самих себя, сидящих за гончарным кругом, и много других сценок. Воодушевленные вниманием специалистов гончары лепили быстро, импровизируя. Людям и животным придавалась неповторимая жизненная повадка, характер, облик. Игрушки сохраняли следы пальцев, асимметрию. От этого они казались еще более живыми. В традиционном искусстве проявилось желание придумать образ и сцену не как у других, с выдумкой, наблюдательностью. Это увело вырковских мастеров в сторону самодеятельного творчества. Промысел исчез. Конечно, повлияла и историческая ситуация: запрет на торговлю своими изделиями, подневольный изнурительный труд в колхозах, страшная война, отнявшая жизни у большинства местных потомственных гончаров.
Последний игрушечник селения И. Л. Листов вернулся к забытому ремеслу в 70-е годы, когда зачастили в деревню музейщики. Будто за всех своих погибших ровесников старался он налепить игрушек, изумительных по изобретательности, динамичности, богатству тем и сюжетов. «Что вздумаю, то и вылепляю», – объяснял мастер. Кроме всадников, одно- и двухголовых коней, стоящих на задних лапах медведей, лепил он множество характерных животных и птиц: гусей с длинными изогнутыми шеями, подавшихся вперед лающих собак с обвисшими ушами, ягненка с разъезжающимися ножками, воющего волка с вытянутым хвостом. Его коротконогие мужички с трубками и посохами получили на головы солдатские пилотки. Большеглазые лица, с нависающими над складкой рта носами, кажутся добрыми и чуточку печальными. Оттого вдвойне грустно говорить об утраченном центре народного искусства, жившего не только традициями, но и творческим полетом.
На Рязанщине известен еще один центр народного гончарства – деревня Александрово-Прасковьинка Сапожковского района. В 90-е годы здесь работали по заказам коллекционеров и ученых всего два мастера: А. А. Силкина и Т. А. Кандрашов. Именно женщины были хранительницами традиций. В отличие от своего напарника, у которого среди традиционных образов были нередки зайцы и черепахи, Анна Алексеевна Силкина лепила только «улютки» – свистульки в образе коней, всадников, барынь. Ее куклы со сложенными под большой грудью руками монументальны. Лица с защипнутым одним движением пальцев носом и проткнутыми палочкой глазами напоминают птицеподобные лики архаичных скульптур славян. Игрушки украшены проколами и насечками по сырой глине. После обжига на них нанесены синие и красные полосы краски. Мастерица порадовала Г. Л. Дайн, сплетя из соломы куклу – точную копию той, что хранится в Сергиево-Посадском музее игрушки и сделана еще в начале ХХ в. А еще она смастерила соломенного голубка (таких еще не было в музейных собраниях), испекла ржаных жаворонков, салдохристи – великопостные лепешки в виде крестов, лесенки. Но главное, мастерица подробно рассказала, как девочкой принимала участие в святочных и весенних обрядах. Исследователь почувствовала, что, в отличие односельчанок ее возраста, игрушечное дело помогло ей сохранить информацию о забытых игрушках, об их использовании в обрядах.
Незаурядными хранителями детского фольклора и игровых традиций назвала специалист сестер У. И. Ковкину и О. И. Дериглазову из села Кожля Курской области. Процесс изготовления игрушек у них всегда сопровождался особыми присказками, которые впервые были записаны. Так подтвердился синкретизм народного творчества, где опыт ручного ремесла неотделим от образной и поэтичной речи, где игрушка – не только атрибут детской игры, но и ритуально-магический предмет. Кроме глиняных игрушек, мастерицы слепили и выпекли птиц из пшеничного теста, доказав, что между ними много общего. «Что из теста лепить, что из глины – не велика разница» – так сказала О. И. Дериглазова. Мастерица покрасила печеных канареек куриными перьями в те же цвета, как и игрушки, и «попыряла» (нанесла оперенье) куликов, сидящих на железном листе, той же палочкой («шпичкой»), что и «свистуны»[31]. Остывшего «кулика» с глазами из маленьких пуговичек старушка «урядила» – перевязала ленточками из ситца. Сложивший крылышки впереди он стал похож на глазастую девчонку с бантом на голове. Кожлянские игрушки вообще очень забавные и добрые. Кошки играют на гармони, петухи катаются верхом на баранах, люди с объемными свистками сзади в профиль выглядят как диковинные сказочные существа. В. В. Ковкина, дочь одной из сестер, кроме всадников и барынь, лепит белочку с орешком (вспоминается пушкинская белка из сказки о царе Салтане), петуха, сидящего на баране и обнимающего его за шею как человек. Роспись яркими красками легко ложится на белую поверхность округлых, лаконичных по форме игрушек. Штрихи и линии складываются в веточки, ромбическую сетку, изгибаются в виде волн. В позапрошлом столетии кожлянская игрушка почти вытеснила такие же изделия ближнего города Суджи, славившегося своею керамикой еще с XVII в. Но сейчас промысел, когда-то известный благодаря суджанским перекупщикам по всей Южной России и Украине, почти угас. Хотя В. В. Ковкина приобщила к лепке игрушек нескольких учеников, обеспечить своим семьям нормальное существование они не могут (см. цв. ил. 4,а).
Отрадно, что в Курской области есть энтузиасты, возрождающие народные традиции. Преподаватель школы искусств г. Суджа Ю. С. Спесивцев стал инициатором сохранения суджанского промысла игрушек-свистулек. Он начал с копирования сохранившихся традиционных образцов. Для реконструкции способа лепки и декорирования были привлечены старушки, лепившие игрушки в детстве под руководством своих отцов. Была создана целая программа сохранения народных гончарных традиций. Школьный кружок, отделение художественной керамики при училище, творческое объединение «Суджанский гончарный цех» – вот результаты этой программы. Сейчас мастера не только восстановили все приемы изготовления и сюжеты традиционной игрушки, но и создают авторские образцы, позволяющие надеяться на развитие промысла[32].
В селе Хлуднево Калужской области игрушечное дело тоже было преимущественно женским занятием. Оно помогало прокормить детишек в нелегкие годы. Хотя и здесь мастериц преследовали за торговлю глиняными «сопелками», «гудухами», куклами «гремотухами», разбивали поделки, гоняли как спекулянток с базара, наказывали неподъемными штрафами. И только после того, как в 1970 г. хлудневские игрушки были замечены на выставке народного творчества в Центральном выставочном зале в Москве, началось оживление промысла. Процесс лепки и сами образы очень архаичны. Сначала лепятся «куржупки» – полые емкости для свиста, для сопелок – поменьше, для гудух – побольше, чтобы звук был как у свирели. Когда они подсохнут, мастерицы протыкают и формуют отверстия палочкой, острой с одного конца и плоской с другого. Эти инструменты они делают сами, моют после работы и бережно хранят. А уже потом примазываются к свисткам птички, женские фигурки, конские головки на удлиненных шеях. Внутрь конических по форме с закрытым донышком кукол кладут шарики, чтобы гремели. Отсюда ее название – «гремотуха». В сложенные на груди руки обязательно что-нибудь вставляют: цветок, зверюшку или младенца. На большую голову надет кокошник либо какой-нибудь другой узнаваемый местный головной убор. Костюм декорируется вдавленными в сырую глину линиями, насечками, дырочками. Лицо тоже решается глубокими ямками. После просушки на воздухе хлудневские мастерицы обжигали игрушки в самодельных горнах на берегу маленькой чистой речки. К ней выходят все местные огороды. Поделки становились бело-розовыми, чуть потемневшими в выпуклых местах. Быстро нанесенные красные и зеленые пятнышки, полоски, точки – дополнительный декор. Сейчас краски покупные, а раньше их готовили так: зеленую выжимали из побегов ржи, фиолетовую – из несозревших желудей.
Для выставок хлудневские керамистки делают больших барынь, нарядных петухов и павлинов. Но особенно эффектно чудо-дерево. К нему примазываются ветки, листья, цветы, птички в гнездах. А к подножию ставятся коники, медведи, люди. Этот сюжет олицетворяет вечное древо природы. Он не имеет аналогий в других центрах народной керамики. Единство композиции придает, прежде всего, характер лепки. Он похож на детский, нетерпеливо быстрый, без детализации, с заострением главного. Само дерево – толстый цилиндр, короткие конические сучки как наросты на коре. Птицы, поющие и вытягивающие шеи, по форме тоже похожи на сучочки. Художницы выделяют их цветом. Звери плотно прижаты к стволу, их ноги не вылеплены, сливаются с основанием дерева. Глядя на эту сложную, пестро украшенную композицию сначала удивляешься, потом начинаешь рассматривать диковинные формы, искать среди них знакомые и, наконец, радуешься, словно ребенок буйству фантазии и смелости народных мастериц. В селении Абашево Пензенской области игрушечное ремесло дополняло гончарное. Тут оно было делом сугубо мужским. Поскольку товар предназначался для ярмарок, он наделялся декоративностью и привлекательностью. Пластический декор у сосудов и игрушек сходен. Это налепные пояски с ребристыми вмятинками и приплюснутые шарики. Для яркости фигурки людей, зверей и птиц полностью покрывались красками, разведенными на яйце. Игрушки блестели будто глазурованные. Подкраска дешевой покупной алюминиевой или бронзовой пудрой делала их еще более заманчивыми. Образы барынь и генералов у абашевцев гротескны. Укрупненные элементы костюма, пуговицы и эполеты, модные шляпки у дам контрастируют с короткими ручками, упертыми в талию, со всей статичностью фигуры. На фоне общей условности лепки выделяется лицо. Оно выполнено штампом, снятым с гжельской кукольной головки. Белизна личика куклы не дает сомневаться в подражании фарфоровой пластике.
В 30-е годы сформировался почерк талантливого игрушечника Лариона Зоткина. Разноцветные большие пятна украшают его животных. Он делал голову оленя или быка желтой, шею и передние ноги – красными, заднюю часть торса – синей.
С золотыми и серебряными рогами они становились сказочными красавцами. Царственность им придавали формы тела и головы. Туловище на устойчивых ножках – это лишь постамент для массивной вытянутой шеи, увенчанной неподвижной горделивой головкой с большими рогами. Пластика законченная, выверенная. Не зря все изучавшие абашевскую игрушку подмечали ее сходство со знаменитой древне-восточной скульптурой. У них такая же граненая плоскостями голова, решительно защипнутый с боков тонкий гребень носа, глубокие отверстия глаз и ноздрей. Рога быка и козла огромны, как царственная корона, красиво изогнуты. У оленя они похожи на ветвистое могучее дерево, симметрия которого подчеркнута лепным и тисненным декором. Впечатление аристократизма и невероятной мощи исходит от этих величественных животных. Выразительность и монументальность абашевской пластики позволила Т. Н. Зоткину превратить ее из игрушки в декоративную скульптуру. Законченно смотрятся одноцветные с серебристыми деталями свистульки И. И. Зузенкова в облике традиционных барашков, оленей, собачек и всадников (рис. 18).
Рис. 18. И. И. Зузенков. Всадник. Пензинская обл., с. Абашево. 1972
В сюжетном и технологическом разнообразии игрушек бывшей городской слободы Романово близ Липецка можно проследить разновременные напластования, следы славянской архаики и влияния городской культуры. Вывезенные из-под Скопина крепостные крестьяне еще в XVII в. принесли сюда традиции гончарства и лепки рязанских игрушек. Неподалеку издавна существовали местные центры керамики. Л. А. Динцесс доказал сходство пластики и орнаментации кукол-баб села Инжавинье бывшей Тамбовской губернии с древними фигурками Поднепровья. Романовские барыни от них отличаются только городским костюмом. Всадники также очень похожи как на скопинских, так и на инжавинских. В больших головных уборах, слившихся с формой головы, с выразительными укрупненными ладонями, одна из которых на бедре, а другая на гриве коня, они чуть развернуты и выразительно выглядывают из-за его высокой шеи. Поливой украшены только головки и спинки. Они контрастируют со светлой задней частью, где расположен свисток. Близость Липецка, куда в летнее время съезжалось на минеральные воды множество отдыхающих, потребовала от ремесленников создания не только некрупной массовки, но и больших игрушек-скульптур, подражавших фарфору. И. П. Митин, кроме барынь, делал офицеров, одетых в мундиры своего времени. У первых головки отделаны примитивными защипом и проколами, у вторых оттиснуты с портретной скульптуры последнего русского царя, что не вяжется с упрощенно вылепленным телом и короткими ручками. Тема катания на лошадях также решалась по-разному, то обобщенно, когда конь как бы срастался с человеческой фигуркой и санями, а свисток был устроен прямо в их спинке, то более детально, с отражением подробностей костюма седоков, интересом к отношениям господской пары, т. е. с элементами наивного натурализма. Более удачны зооморфные образы этого мастера, например: крупные фигурки павлинов, являющиеся одновременно и декоративной скульптурой, и свистулькой. Выразителен силуэт сидящей большеносой птицы со скрещенными на спине крыльями и круглым хвостом. Ее тело с чуть выступающими ножками-опорами и свисток не задекорированы. Зато голова, спинка и хвост богато украшены рядами насечек по сырой глине. Они напоминают елочные ветки или перья павлиньего хвоста, великолепно сочетаются с блестящим охристым покрытием и мазками алюминиевой краской. Укрупненные размеры и общая импозантность этих изображений доказывает, что они были ориентированы на вкусы заказчиков-горожан (рис. 19).
Рис. 19. И. П. Митин. Павлин. Тамбовская губерния, с. Романово. Конец XIX– начало XX в.
Существует версия, что и зажиточные крестьяне, начиная с XVIII в., использовали игрушки для украшения своего жилища. Кроме того, И. А. Колобкова пришла к выводу, что романовские свистульки использовались как музыкальный инструмент. Это доказывается наличием в них четырех игровых отверстий. Идею подтвердили пожилые местные жители, исполнив фрагменты танцева льных и песенных мелодий весенне-летних обрядов земледельческого цикла обрядов перед участниками экспедиции Русского музея 1990 г.[33]
Во второй половине XIX в. игрушка гончарных центров, расположенных рядом с большими городами, испытывает влияние гипсовой и фарфоровой пластики, копирующей, в свою очередь, образцы иностранной продукции. Особенно ярко это чувствуется в дымковской игрушке, разговор о которой нам предстоит впереди, а также в фигурках слободы Большие Гончары под Тулой. Они запечатлели городские типажи: офицеров, монахов, нянюшек с детишками. Но особенно интересны образы барынь. Есть удивительная грация в их стройных фигурках, где тонкость талии оттеняется шириной юбки, на подоле которой фигурки стоят. Масса лепных оборочек и нанесенных цветом лент и кружев украшают эту массивную юбку. Мастерицы с наивным интересом копируют другие элементы городского платья: воротники, вырезы декольте с рюшами, украшения на груди, пояса с кистями. Модные шляпки с цветочками венчают маленькие головки красавиц. А в руках – зонтики на тонких металлических стержнях. В форме головы, торса и юбки, вытянутых из одного куска глины, чувствуются приемы народной лепки. Не случайна версия о связи этого промысла с Филимоновским. Но этой монолитности противоречат многочисленные детали прически и костюма, пропорциональные туловищу согнутые в локтях руки, где в кисти виден каждый пальчик, наконец – слишком маленькие зонтики на длинной ручке, напоминающие диковинные цветы. Роспись беленых фигурок выдержана в изысканных холодных оттенках. Отсутствие орнаментальных мотивов также доказывает инородное влияние. И все же с игрушками других центров барынь роднит симметричность и фронтальность композиции. Роспись лица носит гротескный характер. Черные брови с изломом и кружки глаз, смело нанесенные ниже своего естественного места, слишком активно выделяются на белом лице и придают ему выражение строгой важности. Чувствуется, что народные мастерицы не только любовались обликом горожанки, но и иронизировали над ее самовлюбленностью, франтоватостью. Хрупкость этой декоративной скульптуры, по-своему смелой и выразительной, враждебна природе народного творчества. Поэтому век ее был недолгим. Но музейные собрания хранят память об этом недолговечном эксперименте (см. цв. ил. 5,б).
Известный теоретик народного искусства М. А. Некрасова сформулировала способы и условия возрождения утраченных ремесленных центров с их неповторимым и узнаваемым локальным стилем изделий[34]. В первую очередь, это поддержка местных мастеров учеными, музейными работниками, художниками, но главное – государственными органами, отвечающими за развитие искусства. Так в 70-е годы благодаря действиям комиссии по народному искусству Союза художников удалось разыскать и поддержать уцелевших мастеров и восстановить каргопольский, филимоновский, абашевский промыслы глиняной игрушки. Второе – это меры по организации производства. Организаторы должны возрождать ремесло во всей его полноте и целостности, не сковывая мастеров нормами и навязанными образцами. Их главная миссия – наладить заготовку сырья и сбыт изделий. Когда же преемственность мастерства оказывается оборванной и уровень профессионализма утрачен, предстоит поэтапное кропотливое восстановление процесса изготовления изделий при помощи изучения и копирования музейных образцов, привлечения носителей традиции, пусть даже давно отошедших от дела, тактичного авторского эксперимента талантливых и заинтересованных художников под руководством ученых, знающих ценность утраченного. М. А. Некрасова в качестве примера подобной работы приводит собственный эксперимент по реконструкции замененной масляной живописью городецкой темперной росписи с ее неповторимым мазком и колоритом и воссоздание объемных изделий с нею, в том числе игрушек.
Восстановление художественной системы, возрождение образных типов изделий должно быть поддержано педагогическими усилиями по созданию школы, основанной на преемственности и особом типе профессионализма. Исчезновение романовского промысла глиняной игрушки произошло еще в первой половине ХХ в. Но преподаватели художественно-графического факультета Липецкого педагогического института, понимая значение приемов народной педагогики и ощущая интерес у детей к искусству лепной игрушки, привлекли народного мастера И. Ф. Гункина к обучению своих студентов. В результате кружковой работы в школах была решена задача популяризации местного промысла. Сейчас в селе, некогда славившемся своими гончарами, создана мастерская традиционной керамики. Там трудятся бывшие кружковцы под руководством педагога В. В. Маркина, много лет перенимавшего секреты лепки романовской игрушки у последнего носителя традиции.
Хочется надеяться, что энтузиасты найдутся и в других центрах традиционной игрушки, что она получит свое дальнейшее развитие, обретет достойное место в современной культуре. Задача ученых – восстановить историю народных промыслов, проанализировать имеющиеся на сегодня источники и сохранившиеся коллекционные образцы. Государственная поддержка носителей традиции, как моральная, так и материальная, это обязательное условие сохранения народного искусства, его столь актуальных для нашего времени лучших качеств.
Вопросы и задания для самопроверки
1. Назовите несколько зимних, весенних, летних и осенних крестьянских игрушек. Почему они были сезонными? Докажите их многофункциональность.
2. Перечислите промыслы деревянной игрушки. Какие сюжеты в них преобладали и почему?
3. Назовите основные промыслы матрешки. Охарактеризуйте их локальный стиль.
4. Назовите основные промыслы глиняной игрушки. Которые из них можно назвать крестьянскими и почему? Какие из этих промыслов испытали влияние городской культуры?
6. Практические задания и методические указания
Рефераты
Задание 1
Подобрать самостоятельно литературу в соответствии с темой и написать реферат об одном из игрушечных промыслов России по следующему плану. Во введении необходимо отразить актуальность сведений о народной игрушке данного промысла для педагогики и художественной практики, а также перечислить литературные источники, которые были использованы. В основной части рассказать об истории промысла, назвав имена наиболее выдающихся его мастеров. Проанализировать на характерных примерах особенности локального стиля и технологические приемы изготовления. В заключении сделать выводы о художественной самобытности и значении данного промысла.
Требования к оформлению реферата. Каждый фрагмент текста сопровождается ссылкой на источник с указанием фамилии автора и номеров страниц. Объем работы 5–10 страниц формата А4, набранных на компьютере в Microsoft Word, шрифт 12, интервал 1,5, поля 2 см. Листы подшиты в папку. В конце работы приводится список использованной литературы, составленный в алфавитном порядке и оформленный по библиографическим стандартам. Работа сопровождается иллюстрациями. Иллюстрации сканируются из изданий хорошего полиграфического качества или копируются с электронных дисков, из Интернета. Требования к изображению в электронном виде: линейный размер 10–14 см, оптический размер 300 dpi, расширение TIFF. Подача иллюстраций: распечатывается полноцветное изображение на листе формата А4, до четырех на одном листе, сопроводительные надписи приводятся на обороте (полная информация о произведении, ссылка на источник). Иллюстрации изготовляются в двух экземплярах. Один экземпляр помещается в папку. Второй экземпляр ламинируется горячим способом с двух сторон (на оборудовании в полиграфической фирме).
Темы рефератов
1. Сергиевопосадская игрушка из папье-маше.
2. Сергиевопосадские куклы.
3. Загорская, семеновская и полховмайданская матрешка.
4. Богородская деревянная игрушка.
5. Гжельская фарфоровая игрушка.
6. Астрецовская жестяная игрушка.
7. Токарная деревянная игрушка Подольска.
8. Северная деревянная игрушка.
9. Деревянная игрушка Владимирской области.
10. Лысковская и пуреховская деревянная игрушка.
11. Городецкая деревянная игрушка.
12. Федосеевская деревянная игрушка.
13. Полховмайданская и крутецкая деревянная игрушка.
14. Каргопольская глиняная игрушка.
15. Дымковская глиняная игрушка.
16. Филимоновская глиняная игрушка.
17. Абашевская глиняная игрушка.
18. Скопинская глиняная игрушка.
19. Вырковская глиняная игрушка.
20. Хлудневская глиняная игрушка.
Образец реферата
Дымковская глиняная игрушка
Дымковская игрушка – одна из самых знаменитых русских народных игрушек. Нарядные фигурки барынь в широких юбках, удалые черногривые лошадки в цветных яблоках известны многим жителям России, начиная с дошкольного возраста. Изучению народного искусства сейчас уделяют большое внимание и в детских садах. Образ «дымки», как часто называют игрушку в быту, растиражирован в костюмах танцевальных ансамблей, поздравительных открытках, рекламе русских товаров. Он национально узнаваем, зрелищен, позитивен. Дымковские мастерицы участвуют во всех выставках народного творчества: региональных, российских, международных. Дымковкая игрушка – национальный сувенир, символ русской культуры, к счастью, не претерпевший такого большого отхода от традиций, как прославленная матрешка. Подробные сведения о дымковской игрушке позволят нам понять причины такой популярности.
Старинный дымковский промысел всегда был экономически успешным. Он известен с начала XIX в., но, наверняка, существовал намного раньше. Обнаруживаются достаточно древние слои в символике образов и орнаментов. У него были свои ценители и радетели. Много сделал для его сохранения А. И. Деньшин, как собиратель и популяризатор, художник и руководитель. Коллекции дымковской игрушки имеют всемирно известные музеи: Государственный исторический музей в Москве, Государственный музей этнографии и Русский музей в Санкт-Петербурге, Вятский художественный музей и др. Благодаря выставкам, книгам и статьям искусствоведов и журналистов известны имена мастериц Дымкова. Некоторые из них имеют государственные награды и звания, являются членами Союза художников. Чтобы узнать, почему у промысла столь удачная судьба, нужно углубиться в его историю. Важно выяснить, какие причины способствовали появлению промысла, какие изменения претерпевала игрушка и почему, каков был вклад в развитие художественного стиля выдающихся мастериц. Нужно понять, как складывался и развивался локальный стиль игрушки, зависящий от материала, технологических особенностей его обработки и декорирования, от социальных условий, взглядов производителей на жизнь и мир вокруг. Анализ отдельных произведений поможет нам почувствовать образно-художественные характеристики дымковской игрушки. Среди них мы видим неизменные и развивающиеся во времени качества. Постараемся выделить те черты, которые иллюстрируют коллективное, общее и определяют индивидуальное, вариантное. В результате выявятся основные достоинства «дымки», знание которых полезно специалистам по народной художественной культуре, художникам декоративно-прикладного искусства, мастерам-игрушечникам, педагогам.
Дымковская игрушка имеет значительный по объему список литературы. Статьи в вятских периодических изданиях XIX в., воспоминания вятичей и гостей города этого времени – очень ценный материал, к которому обращаются все исследователи. Он помогает восстановить ранние этапы истории промысла, содержит достоверные описания праздника Свистопляски, характеризует ассортимент продукции, показывает, как он менялся на протяжении столетия. Интерес деятелей культуры к вятской игрушке зародился в конце XIX – начале ХХ в., когда игрушка стала экспонироваться на промышленных выставках в Казани и Нижнем Новгороде. Там были представлены разделы народного искусства и кустарной промышленности.
В 1890 г. «дымка» заняла центральное место на Первой выставке игрушки в Петербурге, организованной при участии известного художника и историка искусства А. Н. Бенуа, большого любителя и знатока игрушки. Он уделил ей внимание в своей книге «Игрушка, ее история и значение». Но самый ценный материал, фиксирующий наблюдения и размышления современника, содержится в книгах А. И. Деньшина. Первый свой труд уроженец Вятки, покидавший родной город лишь на время учебы в Москве, создал по совету будущего организатора музея игрушки Н. Д. Бартрама и живописца-земляка А. М. Васнецова. Альбом «Вятская глиняная игрушка в рисунках» 1917 г. – поистине рукотворная художественная книга, соответствующая стилистике русского направления модерна. Автор написал каждую страницу вязью на литографском камне, снабдил рисунками, выполненными энергичными линиями, сам отпечатал и собственноручно раскрасил все триста экземпляров тиража яичной темперой. Не удивительно, что альбом принес автору известность и скоро стал библиографической редкостью. Художник продолжил работу по популяризации дымковской игрушки в аналогичных художественных изданиях 1919 и 1926 гг., многочисленных статьях, рукописях, частично опубликованных поздними исследователями, и, наконец, в обобщающем труде 1945 г. Благодаря А. И. Деньшину, всю свою жизнь неустанно трудившемуся на благо дымковского промысла, стала известна история этого промысла, сохранились имена лучших мастериц, была описана и запечатлена поэтапно технология изготовления игрушки. Став художественным руководителем промысла, он заботился об улучшении условий и материальном обеспечении работы, наладил обучение молодежи, без которого невозможны были бы развитие и успех. Рисунки в альбомах А. И. Деньшина мастерицы использовали как учебные пособия. Они даже повлияли на стиль игрушек, сообщив им большую яркость и масштабность.
Искусствоведы советского периода А. В. Бакушинский, Л. А. Динцесс, О. С. Попова, А. Б. Салтыков, обращавшиеся к истории народной игрушки и керамики, уделяли в своих работах внимание дымковской игрушке. Благодаря их трудам сформировалась последовательная история промысла, наметилось понимание стилистических особенностей «дымки». Кировские музейные сотрудники Г. Г. Киселева и В. Д. Пересторонина участвовали в организации выставок работ дымковчан, издании каталогов и статей в местной печати. Они способствовали известности среднего поколения мастериц, подняли современные проблемы промысла, важные для его истории в целом. Все написанное о дымковской игрушке обобщила в своей монографии 1988 г. И. Я. Богуславская. Она дополнила исчерпывающую историю промысла творческими биографиями самых известных игрушечниц, атрибуцией и анализом работ, хранящихся в лучших музейных собраниях, перечнем выставок, списком литературы. Для восстановления начальных этапов развития промысла искусствовед привлекла, кроме периодики, работы этнографов и историков, материалы по развитию кустарной промышленности.
Ранний период в развитии промысла самый красочный и увлекательный. Игрушка еще бытовала в народной среде, была частью праздничной культуры. Вокруг нее складывались героические легенды, которые доказывали сложную историю края. Самая известная записана путешественниками конца XVIII – начала XIX в.: капитаном Н. П. Рычковым и генерал-майором Н. З. Хитрово. Она гласит, что начало празднику Свистопляски положило Хлыновское побоище. Город был заложен в XIV в. ушкуйниками, выходцами из новгородских, двинских, устюжских земель, ходившими в поход на Волжскую Болгарию. Однажды, будучи осажденными войском инородцев, жители Хлынова послали за помощью к своим союзникам устюжанам. Те подошли ночью, и в темноте были неузнаны и уничтожены. Только утром обнаружилась страшная ошибка. С той поры стало традицией чтить память невинно убиенных панихидою в специально возведенной на берегу реки Вятки часовне. После поминания устраивался праздник с кулачными боями и плясками, продажей сладостей и игрушек, катанием глиняных шаров по склону Раздерихинского оврага. Историки не нашли доказательств реального существования Хлыновского побоища. Но еще в начале XIX в. легенды о нем передавались всем любопытствующим. А путешественники, описывавшие праздник, объясняли изготовление и продажу глиняных кукол памятью о вдовах погибших воинов.
Корреспондент «Санкт-Петербургских новостей» в 1856 г. утверждал, что праздник Свистопляски единственный в мире по своей оригинальности. Уникальность его заключалась в слиянии земледельческой обрядности с городской ярмарочной культурой. Для глухой провинции, какой была Вятка, это было естественно. Столичному жителю показались удивительными элементы праздника, уже утраченные в центральных городах. Сочетание скорбных поминальных обычаев и разгульного веселья – элементы культа предков. Смех мыслился условием воскрешения, способом борьбы со смертью.
Немалую зрелищность празднику придавали дымковские игрушки. Разноцветьем и блеском выделялись они на фоне обычного ярмарочного товара, были в центре праздничных забав, в которых еще чувствовалась глубокая архаика. Катание шаров – отголосок почитания солнца, магического воздействия на землю с целью ее весеннего пробуждения. Шары катали по склону оврага. Их ловили те, кто стоял внизу. Делалось это для перепродажи. Но важна также была демонстрация сноровки. Поймать шар было не просто. Он норовил угодить в голову, и не одна головушка была проломлена. Свист же, как верилось простонародью, должен был отгонять силы зла. Для того именно свистульки и лепились дымковчанами в изобилии. Они продавались с лотков наряду с берестяными дудками. Свист и дудение на все лады были слышны на дальних подступах к месту праздника. От этого поднималось настроение. Несколько дней подряд расшалившихся ребятишек было не унять. Вот как передал эмоциональную атмосферу праздника местный писатель Всеволод Лебедев: «Этот блеск и свист сначала озадачивает, а потом поднимает на воздух – и так путешествуешь до вечера – а ночью – в глазах и ушах во сне стоит что-то яркое и радостно-нежное»[35].
Праздник Свистопляски всегда проводился около реки. В народной культуре вода считалась мощным очищающим средством. Событие было сезонным и приурочивалось к четвертой субботе после Пасхи. Это время совпадает с Троицко-Семицкими праздниками земледельцев, смысл которых заключался в воздействии на силы природы. Общее в этих праздниках: шары – аналог яиц (весенней обрядовой еды и игрового атриб
