Читать онлайн Русский детский фольклор. Учебное пособие бесплатно
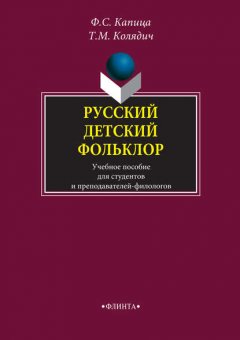
Предисловие
Детский фольклор относится к тем феноменам культуры, о которых все слышали или говорят. Признавая его самобытность и оригинальность, даже исследователи не всегда могут точно определить своеобразие данной разновидности фольклора, выделить его в самостоятельную область знания.
Специалисты разного профиля пытаются разработать методики, подготавливающие ребенка к школе, обучающие начальным приемам письма и счета. Особое значение придается развитию речи, умению правильно и грамотно выражать свои мысли, делиться своими впечатлениями от услышанного и прочитанного. Важнейшим средством формирования указанных навыков становится детский фольклор. Колыбельные, песенки, прибаутки, докучные сказки легко усваиваются и создают прекрасный воспитательный эффект. Позже развитию памяти, смекалки, игровым навыкам способствуют загадки, скороговорки, считалки.
С подобными произведениями ребенок знакомится как через отдельные издания, так и в составе хрестоматий («Родная речь», «Родное слово», «Азбука»), одновременно постигая основы родного языка. Между тем произведения в них нередко отбираются чисто механически, не учитывается специфика жанров, их взаимосвязь между собой. Отсутствие научного подхода проявляется и в том, что тексты часто повторяются, пропадает принцип новизны, а следовательно, исчезает интерес. Наша книга помогает восполнить этот недостаток.
Некоторые фольклорные формы и приемы использованы детскими писателями при создании оригинальных произведений, сюжетные мотивы фольклора становились основой цикла повестей А. Волкова, С. Прокофьевой. Переделки детского фольклора представлены в сборниках «Стихи – детям» К. Чуковского, «Детские песенки»– С. Маршака, сочинениях Т. Александровой и В. Берестова, Э. Мошковской и Д. Емеца.
Поводом к написанию настоящего учебного пособия стали разработки ведущего исследователя и собирателя детского фольклора О.И. Капицы. В 1928 году в издательстве «Прибой» вышла ее книга «Детский фольклор. Песни. Потешки. Дразнилки, сказки, игры. Изучение. Собирание материала». На протяжении многих лет она являлась настольным руководством для всех, кто работает с детьми.
Однако со временем книга О.И. Капицы перестала соответствовать уровню развития науки. Кроме того, в данной работе исследователю удалось лишь частично реализовать замысел. В рукописи осталась глава «Школьный фольклор», не были собраны программы и методические разработки.
В течение долгого времени наследие 20-х годов оставалось золотым фондом, практически неизвестным исследователям, которым пришлось заново открывать многие явления. В то же время было ясно, что хотя работы Г.С. Виноградова, О.И. Капицы сохранили несомненную историко-методическую ценность, они нуждаются в определенных комментариях и уточнениях. Естественно, что за прошедшие годы появились новые исследования, посвященные детскому фольклору: работы и публикации А.Н. Мартыновой, М.Н. Мельникова, М.П. Чередниковой. Одновременно продолжалось развитие сложившихся форм и возникали новые, прежде всего в области школьного фольклора.
Предлагаемое пособие реализует современный взгляд на труды наших классиков и отражает систему жанров детского фольклора на новом этапе его развития. Авторами были учтены основные разработки по теме. Новизна учебника заключается в том, что подобный комплексный подход реализован впервые. Поэтому любые конструктивные предложения по дальнейшему совершенствованию структуры и содержанию учебника будут с
Построение учебного пособия традиционно: оно включает в себя общие теоретические главы и проблемные главы, посвященные отдельным жанрам. Каждая глава сопровождается контрольными вопросами для самопроверки и заданиями. Методическая часть состоит из программы курса, вариантов тем семинарских занятий, примерного перечня вопросов к экзамену, тематики курсовых, бакалаврских, магистерских работ.
Особое внимание уделено образцам форм текущего контроля: коллоквиумы, письменные задания, групповые тематические консультации. Они могут быть использованы в качестве развития форм индивидуальной работы со студентами.
В приложении приведены программы по собиранию и обработке детского фольклора, варианты спецкурса по детской народной сказке.
В конце приведена библиография теоретических исследований, указаны сборники текстов, биографические справочники, словари, которые помогут студентам, бакалаврам, магистрантам, аспирантам, учителям и педагогам в их практической деятельности по изучению и собиранию детского фольклора.
В будущем предполагается превратить учебное пособие в учебный комплекс, включающий и хрестоматию, состоящую из текстов и отрывков из основных работ исследователей детского
Авторы полагают, что пособие может быть использовано как составляющая общего курса фольклора, для углубления основных знаний по предмету «Русский фольклор». Кроме того, предлагаемый материал может входить как одна из составляющих в курс «Детская литература». Материалы предназначаются для разных форм обучения, основного учебного процесса, подготовки бакалавров, магистров и аспирантов. Ряд глав может оказаться интересным и для учителя-практика, работающего в разных звеньях, использующего межпредметные связи.
В случае специализации курс «Детского фольклора» может быть использован при подготовке не только студента-словесника, но и психолога, этнолингвиста, учителя начальной школы и
Введение
Детский фольклор представляет одно из направлений устного народного творчества. Большой корпус текстов произведения бытует и в взрослой, и в детской среде, но методика исполнения, лексический и стилевой составы существенно различаются.
Несмотря на видимые отличия детского фольклора от фольклора взрослых, граница между ними устанавливается в ходе исторического и функционального изучения отдельных жанров. Так, колыбельные песни одними исследователями относятся к детскому фольклору, другие считают их фольклором взрослых, приспособленным для использования в детской среде. Вместе с тем продолжают существовать жанры, которые можно в равной степени отнести и к взрослому, и к детскому фольклору: загадки, песни, сказки.
Переходя в детскую среду, большинство заимствованных текстов перестраивается в соответствии с особенностями детской психики. Они выполняют как информативную, так и педагогическую и развлекательную функции. Процесс трансформации носит сложный характер. Многие произведения детского фольклора перешли к детям так давно, что память об этом утратилась, другие произведения перешли в детский фольклор недавно. Следовательно, необходимо изучать жанры с учетом их исторического происхождения.
Традиционно можно выделить два направления, по которым происходит пополнение детского фольклора. С одной стороны, фольклор взрослых приспосабливается к детской среде. С другой, самими детьми создаются произведения, учитывающие специфику мировосприятия ребенка (страшные рассказы, садистские стихи). Но есть и третий путь – создание взрослыми произведений, специально предназначенных для детей (поэзия пестования, колыбельные песни).
Приспособление фольклора взрослых предполагает упрощение сюжета, привнесение в конфликт большей занимательности, создание ярких запоминающихся образов, упрощение языка. Часто используется рифмованное изложение событий, тексты отличает несложный язык, понятные выражения и обороты.
Отметим и прямое перенесение из взрослой среды в детскую отдельных произведений, например, песен. В первую очередь это сатирические, скоморошные песни. Когда содержащаяся в произведениях сатира перестает быть понятной, уходят в прошлое породившие ее социальные явления, тексты перестают повторяться и забываются взрослыми. Обрядовые песни переходят к детям в тех местах, где взрослое население перестает осознавать их как часть ритуала. Так, обычай колядования исчез среди взрослого населения, но сохранился среди детей, которые воспринимают его как составляющую праздника Нового года.
Нередко подобные произведения становятся основой для словесных игр. Детей привлекают их яркая форма и интересный сюжет, необычные ситуации, передача животным функций людей. Произведения типа «Как у бабушки козел», «Сватовство совы», «Смерть комара», «Война грибов» превратились в обычные игры.
Со временем игры и народные драмы начинают бытовать исключительно в детской среде. Г.С. Виноградов писал, что народная драма – «Царь Максимилиан» больше не разыгрывается взрослыми, а стала сезонной игрой школьников. Похожий процесс произошел и с народной пьесой «Лодка». В Вологодской и Новгородской областях она также разыгрывается только детьми. Кроме сатирических произведений, дети перенимают и запоминают от взрослых песни любовного содержания, злободневные частушки и даже песни непристойного содержания.
Развитие средств масс-медиа и лексика из фильмов также расширяет поток фраз и словесных оборотов, встречающихся в детской среде. Это явление распространено среди детей всех социальных слоев. Подобные материалы постоянно встречаются в записях; они интересны как отражение окружающей среды детьми.
Особую роль в организации детского фольклора и выделении его как самостоятельной части устного народного творчества сыграла книжная традиция. В XIX веке в связи с общим интересом к национальной культуре начался процесс, приведший к постепенному развитию методики переложения оригинальных произведений фольклора для детей. Опыт братьев Я. и В. Гримм показал, что в большинстве западноевропейских стран оказалось возможным обособить детский фольклор от фольклора взрослых. Отдельные формы были специально введены в круг детского чтения. Столь распространенные в Англии «Колыбельные песенки» (Nurcery Rhymes[1]) произошли из песен взрослых и прошли те же стадии развития, что и наши детские песни.
Следовательно, детский фольклор представляет собой сложное единство трех составляющих – творчества взрослых для детей, произведений традиционного фольклора взрослых, перешедших в детскую среду, и оригинального детского творчества.
Согласно выводу М.Н. Мельникова «детский фольклор представляет собой специфическую область народного творчества, объединяющую мир детей и мир взрослых, включающую целую систему поэтических и музыкально-поэтических жанров» (Мельник, с.8)
Отметим следующие атрибутивные признаки детского фольклора: простоту конструкций, несложный, но динамично развивающийся сюжет, запоминающиеся образы, несложные синтаксические конструкции, четкий внутренний ритм, кумулятивность, звукоподражания, аллитерации, ассонансы. Тексты рассчитаны на образное, зрительное восприятие, быстрое запоминание. Часто в них повторяются одни и те же сюжетные мотивы, в колыбельной песне, например, они даже переходят из одного произведения в другое.
Ребенок способен запоминать информацию небольшими частями, поэтому для различных жанровых форм характерны повторы разного уровня: отдельных слов, оборотов и понятий. Часто для рифмовки используют прием звукоподражания.
Детский фольклор является предметом исследования нескольких смежных дисциплин: истории, филологии, этнографии, педагогики (в том числе педагогической антропологии), дефектологии. Они устанавливают свой объект изучения: в качестве источника он несет сведения об обычаях, обрядах, типовых играх, традициях и особенностях поведения. Детский фольклор используют как средство для изучения ребенка, познания его внутреннего мира, развития врожденных способностей, воспитания определенных навыков и умений (памяти и речи).
В свое время О.И. Капица писала: «Хорошо собранный и разработанный материал по детскому фольклору необходим и социологу, и этнографу, и лингвисту, и исследователю словесности, но собирание и исследование этого материала дело очень трудное и сложное»[2].
Объектом исследования становится фольклор различных социальных и бытовых групп. Прежде всего изучается традиционный, преимущественно крестьянский фольклор, бытующий на протяжении ряда столетий. Не менее подробно исследуется детское творчество, отражающее условия быта современного города.
И деревенский ребенок, воспринимающий с раннего детства обрядовую сторону фольклора благодаря общению с его носителями, и городской ребенок, формирующийся под воздействием средств масс-культуры, одинаково воспринимают отдельные жанры детского фольклора (в первую очередь колыбельные песни, сказки, приговоры, а затем и дразнилки, страшилки, обрядовые формы).
Детское мировосприятие отличается от мироощущения взрослых, детский фольклор способствует созданию собственного игрового мира[3]. Очевидно также, что в зависимости от возраста меняется характер детского творчества, круг интересов восприятия и, следовательно, изменяется использование форм детского фольклора[4]. Весьма своеобразно происходит трансформация разных речевых явлений (об этом говорится в соответствующих главах).
Термин «детский фольклор» стал употребляться с середины XIX века. Издавая «Русские народные песни» П.В. Киреевского, П.А. Бессонов впервые выделил детские песни в самостоятельную разновидность фольклора. В 1848 ходу П.А. Бессонов подготовил сборник текстов «Детские песни», ставший первой публикацией детского фольклора. Во вступительной статье составитель не только мотивировал отбор текстов, но и указал на отличие их бытования от произведений, предназначенных для взрослых.
Следуя методике П.А. Бессонова, учитывая тенденции развития, позднейшие собиратели расширяют границы понятия «детский фольклор». Е.И. Резанова, например, показала, что одной из его составляющих следует считать обрядовую поэзию, в частности, заклички и обращения к солнцу и стихиям[5].
Основное содержание понятия «детский фольклор» установилось в двадцатые годы XX века. Стало очевидно, что к детскому фольклору относятся произведения устной народной словесности, предназначаемые для детей и бытующие в детской среде. Носителями детского фольклора являются как сами дети, так и взрослые – матери, бабушки, няни и все те лица, на попечении которых находятся дети или которые в силу тех или иных обстоятельств близки к детям.
Контрольные задания
1. Почему детский фольклор стали выделять в самостоятельный
2. Когда, как и почему происходит процесс перехода текстов из
3. Как происходит пополнение детского фольклора?
4. Как книжная традиция повлияла на организацию детского фольклора в качестве самостоятельного раздела устной традиции?
5. Каковы составляющие детского фольклора?
6. Каковы атрибутивные признаки детского фольклора?
7. Какие дисциплины изучают детский фольклор и почему?
8. Кто первым осуществил публикацию детского фольклора?
9. Как дополнилось определение «детского фольклора» в работах
10. Кто является носителем детского фольклора?
1. Собирание и изучение детского фольклора
Собирание детского фольклора[6] началось позднее других видов народной поэзии. Только в 1868 году была опубликована программа П.В. Шейна, в которой специальный раздел посвящался методике анкетирования при сборе детского фольклора. В течение почто двух третей XIX века преобладало пренебрежительное к нему отношение, он воспринимался как часть повседневной жизни, поэтому не возникала потребность записывать подобные материалы. Последующее предпочтение иноязычной культуры и иностранных языков приводило к тому, что возникало даже своеобразное отторжение услышанного в детстве.
В то же время условия жизни и быта помещиков обуславливали их зависимость от крестьянской среды; дети помещиков и дворян находились на попечении мамушек, нянек и дворовых людей, которые знакомили своих питомцев с различными формами фольклора. В воспоминаниях разных лиц переданы образы наставниц, рассказаны некоторые запомнившиеся истории, сказки, былички, легенды. В своих мемуарах Д.И. Фонвизин вспоминает о том, как любил слушать песни и сказки одного из дворовых. Биографы будущего этнографа П.В. Киреевского свидетельствуют, что его детство прошло в помещичьей деревенской обстановке, «насыщенной народной поэзией»[7]. Даже в сатирическом журнале XVIII века можно встретить такое рассуждение: «Многие отцы и матери, когда дети по ночам не спят, приказывают им сказки сказывать»[8].
Столь разнообразные источники содержат как пересказы отдельных произведений, так и фактические сведения об условиях записи, некоторых бытовых и обрядовых аспектах. Однако в них не представлена общая методика записи текстов, содержатся самые общие сведения о месте записи и его носителе.
Одним из первых начал собирать и записывать детский фольклор И.П. Сахаров. В «Сказаниях русского народа» (1837) он опубликовал образцы некоторых жанров: потешку, колыбельную песню, описание нескольких детских игр. В следующей книге – «Песни русского народа» (1839) были напечатаны четыре колыбельные песни.
В книгу А.В. Терещенко «Быт русского народа» (1848) также включены тексты потешек («Ладушки», «Сороки»), колыбельные песни и описания игр; к русским песням приведены параллели на украинском и польском языках[9].
В своих воспоминаниях «Записки и замечания о Сибири» (1837) собирательница Е.А. Авдеева впервые дает живые зарисовки детского быта, тексты игровых приговоров и обрядовых рацеек. Она приводит тексты колыбельных песен и прибаутки, слышанные ею в детстве. «В старину, – пишет она, – нянюшки или, где их не было, мать или бабушка, укладывая ребенка, пели, или, лучше сказать, приговаривали разные рассказы и припевы. Конечно, в них нет ничего остроумного или поэтического, они изображают простой старинный быт и какие-то особенные понятия о воспеваемых предметах. В них, как в русских песнях и сказках, всего чаще встречается вольная бессмыслица, потому что этого нельзя назвать ни лукавым простодушием, ни юмором. Теперь редко где в отдаленных от столицы и больших городов местах можно услышать такие припевы»[10].
Е.А. Авдеева (1789–1865)
На основе собственных записей Е.А. Авдеева издает небольшой сборник детских народных сказок «Русские сказки, рассказанные для детей нянюшкой Авдотьей Степановной Черепьевой» (1844), впервые выделив сказку как самостоятельный жанр. Книга Е.А. Авдеевой была предназначена как читателям, так и тем, кто работал с детьми. Она также показала педагогическую и методическую ценность фольклорных материалов в отличие от текстов, стилизованных под фольклорные жанры.
Несмотря на авторскую интерпретацию, сводившуюся к упрощению текстов, собранные Е.А. Авдеевой материалы впервые представляли тексты, записанные конкретным собирателем от установленного лица. В дальнейшем подобная практика получит распространение и паспортизация текста станет обязательной.
В 1849 году Е.А. Авдеева опубликовала в «Отечественных записках» подборку текстов поэзии пестования – колыбельных, приговорок, потешек[11]. Правда, позиция собирателя страдала некоторой односторонностью и противоречивостью. Так, она заявляла, что в песнях матерей и нянюшек для детей «нет ничего остроумного или поэтического», «теперь редко где в отдаленных от столиц и больших городов местах можно услышать такие припевы»[12].
Для работ Е.А. Авдеевой также характерно некоторое любование старым бытом, что и обусловило резкий отзыв о ее книге В.Г. Белинского. В отзыве о книге «Записки о старом и новом русском быте» (1842) В.Г. Белинский отметил публикации Е.А. Авдеевой как довольно «добродушные рассказы умной и начитанной женщины», но не увидел в них никакой художественной ценности[13]. Мнение критика резко контрастировало с рецензией Ф.Б., заметившего, что «книга написана легко, рассказ живой»[14].
Качественно иной этап собирания и изучения детского фольклора наступает после появления изданий текстов из фольклорных собраний П.В. Киреевского. В сборниках песен, записанных П.В. Киреевским, напечатано шесть текстов колыбельных песен, сообщенных ему В. Пассеком, из них одна финская, переданная в русском стихотворном переводе[15]. Исследователи полагают, что именно с публикаций колыбельных песен началось научное собирание детского фольклора.
Составители указанных сборников отбирали в первую очередь произведения, которые затем можно было использовать в детской среде. В большинстве работ не предпринималось разделение текстов по жанрам. Детский фольклор рассматривался как составляющая фольклора.
Новый этап в собирании и организации детского фольклора как самостоятельного целого начинается с деятельности В. И. Даля (1801–1872). Начиная с 1842 года исследователь публикует сборники и подборки текстов различных жанров фольклора. Существенное место среди них занимает и детский фольклор. Приводимые в сборниках тексты достаточно разнообразны в жанровом отношении; это сказки, описания игр, детские песни, небылички, скороговорки, пословицы и поговорки[16]. Кроме того, в сборниках В.И. Даля приводятся рассказы из русского быта.
П.В. Киреевский (1808–1856)
В.И. Даль стремился к более простой форме подачи материала. Публикации носят адресный характер и предназначены для детей среднего и старшего возраста. Вместе с тем тексты сказок в детских книгах Даля часто переделываются и в них вводится морализирование, не свойственное народной сказке. В соответствии с взглядами своего времени В.И. Даль создает собственную версию «народного стиля», изобилующего прибаутками, поговорками, с ритмическим, часто рифмованным складом
Осуществляя публикации на протяжении ряда лет, В.И. Даль смог пробудить интерес читателей к народному быту. Отметим его книгу «Картины из быта русских детей» (1869). В сборник «Новые картинки из русского быта для детей» (1875), вышедший уже после смерти Даля, были включены материалы, печатавшиеся с 1870 года в детском журнале «Семейные вечера». Они представляли собой рассказы из русского быта, предназначенные для чтения вслух.
В основной сборник «Пословицы русского народа» (1861) В.И. Даль включил и произведения других жанров, в частности, скороговорки, загадки, игровые приговоры, сечки, считалки. Он также попытался ввести в научный оборот народную терминологию, использовавшуюся носителями текстов: «конанье», «жребий», «скороговорки», «прибаутки».
Существенные изменения в собирательской и исследовательской деятельности наблюдаются во второй половине XIX века под влиянием обострившейся общественно-политической борьбы, нового взгляда на положение народных масс и проблему воспитания крестьянских детей. Развитие светской литературы, потребность в грамотных и образованных людях вызвали необходимость реорганизации учебного процесса.
Общий интерес к народной школе приводит к усилению внимания к детскому фольклору со стороны педагогов, методистов; появляются разнообразные сборники, в которые одной из составляющих входит детский фольклор. Фольклор начинают воспринимать как материал, обладающий большой художественной и педагогической ценностью, через подобные тексты проводятся идеи народности, патриотического воспитания.
Детский фольклор становится органической частью круга чтения ребенка. Его печатают в сборниках, специальных изданиях, книгах для чтения.
Во второй половине XIX века начинают выходить детские журналы («Подснежник», «Звездочка», «Лучи», «Маяк»), на страницах которых печатаются народные сказки, былины, песни, игры, загадки и пословицы.
Публикации предваряют своеобразные пояснения. Так, сказкам «Три зятя» и «Кот и петух» предпосланы следующие Строки: «Предлагаемые русские сказки – сказки народные, народ сложил их. Они живут и передаются от отца к детям. Помещая время от времени в нашем журнале эти сказки без всяких прикрас, и прибавлений, мы заботились единственно о чистоте языка»[17].
Постепенно отрабатывается и методика сбора детского фольклора как профессиональными деятелями, так и теми, кто непосредственно работает с детьми. В педагогическом журнале «Учитель» издатель просит собирателей народных сказок, легенд и загадок «записывать детские игры с их припевами»[18]. Отклики читателей и присланные в редакцию материалы позволили печатать их почти в каждом номере журнала.
Проявление интереса в шестидесятые годы к крестьянскому вопросу активизировало педагогическое движение и привело к изданию целого ряда журналов («Воспитание», «Русский педагогический вестник», «Ясная Поляна», «Педагогический сборник», «Учитель», «Журнал Министерства народного просвещения»), на их страницах и печатались фольклорные материалы. Во многих городах губернские ведомости, сборники (известия) статистических комитетов предоставляли страницы для публикаций детской поэзии.
Отличительной особенностью публикуемых материалов можно считать их педагогическую направленность. Они предназначались родителям и воспитателям. Детским фольклором начинают заниматься педагоги В.Н. Добровольский, И. Голышев, П.Ф. Ефименко, Н.А. Иваницкий, В.Ф. Кудрявцев, А.Ф. Можаровский, И.В. Нечаев, К.С. Рыбинский. Даже в специальном литературно-публицистическом журнале «Современник» публикуются статьи Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова, посвященные вопросам воспитания.
В 1867 году появилась книга К.Д. Ушинского «Родное слово», составленная для чтения детям. Она представляла собой подборку произведений фольклора и отрывков из произведений ведущих писателей. К.Д. Ушинский впервые определил состав книги для чтения, фольклорные и литературные тексты занимали равное место.
В «Родное слово» К.Д. Ушинский включил различные жанровые формы фольклора: сказки, песни, загадки, прибаутки, скороговорки и пословицы. Одновременно с книгой появилось методическое руководство, в котором Ушинский показал педагогическое и художественное значение народной поэзии, приемы работы с текстами. Особое внимание педагог уделил сказке, отдав ей предпочтение: «Я решительно ставлю народную сказку выше всех рассказов, написанных нарочно для детей образованной литературой»[19].
Среди авторских методик следует отметить работы Л.Н. Толстого. В первый период своей педагогической деятельности в Ясной Поляне он уделяет большое внимание фольклору: «Единственные книги, понятные для народа… это сказки, пословицы, сборники песен, легенд, стихов, загадок». Указывая на особый интерес у детей к такого рода произведениям, Толстой в специально организованном им журнале «Ясная Поляна»– печатал сказки, анекдоты, загадки и пословицы[20].
В 1855 году появляется первый выпуск «Народных русских сказок» А.Н. Афанасьева, а все издание завершается в 1863 году. Хотя публикатор основывался на архивных текстах и не выступал в роли собирателя, он выработал научные принципы собирания материала, определил методику обработки и публикации. На материале своего сборника исследователь выпускает книгу «Детские народные сказки»[21].
В 1868 году был опубликован сборник П.А. Бессонова «Детские песни», в котором тексты впервые были распределены по жанрам, в нем приводились колыбельные песни, потешки, прибаутки, песни о животных, колядки, сказки, игры и загадки. Отбор производился по частоте распространения и художественным достоинствам произведений. В предисловии свою задачу составитель определил следующим образом: «Песни, вошедшие в сборник, с раннего детства знал я сам и распевал с голоса и слов дорогой моей кормилицы, а потом долголетней моей няни Василисы Зиновьевны. Выросши, я поверял заученные тексты с образцами, записанными от других, признавая подлинным лишь те, кои явно – по всем отличиям – вышли из самого народа»[22].
А. Н. Афанасьев (1826–1871)
Точная паспортизация текстов отсутствовала, поскольку П.А. Бессонов печатал не только записи, но и тексты, извлеченные из воспоминаний разных лиц. Книга была проиллюстрирована несколькими рисунками на отдельных листах, а сам текст набран крупным шрифтом, что указывало на предназначение книги для чтения детьми младшего возраста. Тексты песен сопровождались нотами, которые записывались с голоса П.А. Бессонова. Редактирование провел известный композитор и музыковед А.Н. Серов. К сожалению, второй и третий выпуски, адресованные детям старшего возраста, не вышли[23]. Вскоре книга П.А. Бессонова вошла в круг учебной литературы и детского чтения. «Крестьянам она нравилась. Интеллигентные семьи изумлялись проникшей к ним «новости» и «странному» восторгу детей», – позже написал П.А. Бессонов[24].
Первым научным изданием детского фольклора считается сборник П.В. Шейна «Русские народные песни» (1870). Детскому фольклору отводится специальный раздел, в который включено 122 текста. В конце века в сборнике «Великорусе» исследователь печатает уже около 300 записей.
П.В. Шейн стал первым этнографом-собирателем, который обратил внимание на детский фольклор, указал на разнообразие его видов и выделил в особый отдел, положив тем самым основание систематическому изучению[25]. Он начал организационную собирательскую деятельность в пятидесятые году и продолжал ее практически до последних дней жизни, объединяя записи, полученные от разных собирателей.
П.В. Шейн вначале напечатал песни в «Чтениях Общества истории и древностей российских при Московском университете» (1859), затем они вышли отдельным сборником под заглавием «Русские народные песни» (1870). В 1892 году вышел его главный труд «Великорусе в своих песнях, обрядах, верованиях, сказках, легендах».
П.В. Шейн (1826–1900)
Главным принципом П.В. Шейн провозгласил собирание детского фольклора в конкретной обстановке. В примечаниях к книге он указал на источники публикации и попытался объяснить происхождение некоторых песен. Заслуга Шейна заключается прежде всего в выделении детского фольклора как особой области науки. Он предложил классификацию жанров детского фольклора, которая сохранялась вплоть до начала XX века. Все песни исследователь разделил на две группы. В первую П.В. Шейн включил песни для детей периода младенчества, колыбельные песни и небольшие песенки и прибаутки, которыми взрослые забавляют детей в первые годы их жизни. К второй группе исследователь отнес песни, «которыми дети, вышедшие из младенческого возраста, уже начинают сами себя забавлять и тешить». Он выделил песни, связанные с явлениями природы, «прибаутки, которыми ребята потешаются друг над дружкой и над взрослыми», грибные песенки, игры с рифмованными приговорами, конанье (считалки).
В приложении давались варианты песен и описания детских игр. Каждому виду детского фольклора предшествовала краткая заметка об условиях его бытования.
Шейн опирался на помощь свыше 300 собирателей, среди которых были как любители, гак и профессионалы (А.Е. Богданович, Н.Я. Никифоровский и др.).
Педагогический и собирательский интерес, проявленный к детскому фольклору, способствовал накоплению записей. Но еще нельзя было говорить о каком-либо научном анализе собираемого материала. Для печати выбирались произведения, отвечавшие педагогическим задачам, личным пристрастиям собирателя, интересные в художественном, но не в этнографическом плане. Поэтому редко фиксировались варианты и выделялись тематические разделы внутри конкретных жанров.
В большинстве случаев записи производились не в бытовой обстановке, от конкретных носителей, а от лиц, оторванных от крестьянской среды, иногда и по памяти. Материал подвергался не всегда мотивированной переработке, вносились изменения и со стороны языка, и со стороны содержания.
Значительное число публикаций детского фольклора оказалось разбросанным по различным специальным изданиям (в «Живой старине», «Этнографическом обозрении», «Губернских ведомостях», «Известиях Географического общества», «Трудах Этнографического отдела Известий Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии», «Памятных книжках земств», «Трудах губернских архивных комиссий»).
Отметим несколько местных сборников детского фольклора, составленных из материалов, ранее печатавшихся в специальных изданиях. Большое место ему отводит В.Н. Добровольский в своем «Смоленском сборнике»[26].
Сборник «Из жизни крестьянских детей Казанской губернии», составленный А.Ф. Можаровским содержит разнообразный и большой материал по детскому фольклору этой местности[27]. Большая часть песен и игр воспроизведены автором по воспоминаниям детства, проведенного в селе Бежбатман, остальной материал получен от народных учителей из разных мест Казанской губернии[28]. Материал разделен на две группы по возрасту: до шести лет и после шести лет; носителями фольклора являются крестьянские дети.
Кроме колыбельных песен, потешек, дразнилок и песен, обычно помещаемых в сборниках, А.Ф. Можаровский приводит детские остроты, шутки и подражания животным. Подобное расширение состава сборника допустимо, если бы оно сопровождалось не только педагогической оценкой, но и бытовыми данными. Некоторые песни подвергались литературной обработке.
Впервые местный игровой репертуар попытался зафиксировать В.Ф. Кудрявцев, начав собирательскую деятельность в шестидесятые годы XIX века. В 1871 году В.Ф. Кудрявцев издает сборник «Детские игры и песенки в Нижегородской губернии». Основную часть сборника составили описания детских игр. Исследователь впервые указал на своеобразие бытования детских счетных песен (считалок), которые не поются, а рассказываются речитативом. Тексты классифицировались по тематике: сказочные, календарные, комические, назидательно-поучительные, колыбельные. В отдельные группы выделялись потешки, считалки и дразнилки. Среди песен помещены и заговоры (например, «Бабушка Соломонида Христа повивала»). Кроме песен в сборнике напечатаны 42 игры, зафиксированные в Нижегородской губернии. Они разделены на группы по месту бытования – уличные, комнатные и школьные. Правда, жанровые границы соблюдались не всегда.
Книга «Детские игры преимущественно русские» (1887) Е.А. Покровского стала как бы продолжением исследования детского фольклора, предложенного В.Ф. Кудрявцевым. Для книги был использован материал, присланный из разных местностей России в ответ на разосланную автором программу. На обращение Е.А. Покровского откликнулись более двух тысяч помощни-
Е.А. Покровский не только напечатал записи игр, но и провел их анализ, выделив общие приемы и структурные элементы. Вначале он приводит приемы, которые существовали у детей для наказания за нарушение правил в той или иной игре, затем способы жеребьевки перед началом игры. Игры классифицируются по возрастным группам, внутри которых распределяются на умственные и физические. В особый отдел выделены игры имитационые (автор называет их символическими) и хороводные. Е.А. Покровский впервые сравнил русские игры с сходными формами игр других народов. Как врач, он видел в детских играх незаменимую школу физического, умственного и нравственного воспитания.
Подводя итог изучения детского фольклора в XIX веке, можно говорить о том, что оно характеризуется интенсивным накоплением фактического материала. С другой стороны, необходимо отметить и первые попытки его теоретического осмысления. Первоначально в изучении детского фольклора доминировал педагогический интерес, фольклор рассматривался в связи с возможностью его использования в воспитательном процессе.
Наиболее изученными оказались игры и колыбельные песни, они печатаются практически во всех сборниках, рассматриваются с разных точек зрения. Одновременно наметились подходы к их классификации. Однако жанровые критерии не всегда были обоснованы. Поэтому среди произведений детского фольклора можно встретить тексты песен самых разных жанров: исторические, свадебные и даже любовные. Сложность унификации определялась общим состоянием науки о фольклоре, отсутствием теории отдельных жанров и определением места детского фольклора в народной культуре.
Процесс систематизации детского фольклора начался в XX веке с разработки научно обоснованной методики сбора материала. Первыми к данной проблеме обратились ученые-этнографы, которые связали изучение детского фольклора с исследование^ других сторон народного быта. Одна из первых этнографических программ была составлена В.Г. Богоразом и помещена в «Сборнике программ для школьных наблюдений».
Г. С. Виноградов (1886–1942)
Детский фольклор стал одним из разделов программы. В сопроводительной статье ученый показал последовательность описания народного быта[29].
С аналогичных позиций подходит к собиранию и фольклорист А.И. Никифоров. В книге, посвященной изучению этнографии в школе, он рассматривает, методику фиксации отдельных сторон детского быта и в приложении приводит программу, посвященную собиранию различных жанров детского фольклора[30].
Особое значение для развития и изучения детского фольклора имело определение методики записи различных жанров. В книге Е.А. Звегинцева «Родиноведение и локализация в школе» (1923) содержатся методические указания по собиранию игр. Автор останавливается на формах привлечения самих детей к записи, считая, что игры необходимо «изучать с детьми и через детей»[31].
В руководстве для собирания произведений устной словесности Б.М. и Ю.М. Соколовы отвели детскому фольклору специальный раздел. Они определили круг проблем, которые следовало учитывать при собирании материала. Основной из них они считали учет возрастных особенностей детей. Исследователи также указывают на важность выявления и фиксации отношений между возрастными группами детей в деревне, степень участия девочек и мальчиков в играх. Не менее важно выявить восприятие детских развлечений и песен взрослыми.
Выделяя виды детского фольклора, авторы характеризуют их, подчеркивая те стороны, которые представляют особый интерес для собирателя[32]. Отмечая необходимость изучения этнографии детства, они писали в своей программе: «Вести изучение произведений устного творчества, оторвав его от этнографической основы, не только не целесообразно, но фактически невозможно». Они считали, что каждый собиратель должен руководствоваться следующими требованиями: 1) описывать предмет или явление в динамике, в процессе; 2) не увлекаться редкостями, собирать типичное, привычное; 3) не торопиться с выводами[33]. Одновременно Б.М. Соколов выпустил специальную программу по изучению быта, где также указал на необходимость собирания детского фольклора[34].
О. И. Капица (1866–1937)
Первым ученым, посвятившим свою жизнь исследованию различных жанров детского фольклора, стал профессор Иркутского университета Г. С. Виноградов. В двадцатые годы с помощью многочисленных корреспондентов он собрал уникальный материал, которым не располагало ни одно научное учреждение того времени.
С 1915 года он начал печатать статьи и материалы по детскому фольклору. Первая статья ученого называлась «К изучению детских народных игр у бурят» (1915). Практически ежегодно выходят в свет его работы «Детская сатирическая лирика» (1924), «Русский детский фольклор: Игровые прелюдии» (1925), «Народная педагогика» (1926), «Детский фольклор в школьном курсе словесности» (1927), «Дiтяча казка» (1929), «Сечки» (1930).
На основании длительных наблюдений, проведенных в нескольких деревнях Иркутской губернии, Г.С. Виноградов составил «Детский народный календарь», где привел календарные песни, игры, прибаутки, загадки и другие виды детского фольклора в сезонной последовательности. В своих трудах ученый создал целостную концепцию мира детства. В книге «Детский фольклор и быт» (1925) Г.С. Виноградов намечает широкую программу наблюдений[35].
Используя собственные материалы, автор рассматривает различные стороны детского быта и выделяет основные виды детского фольклора (календарный фольклор, песенки, не прикрепленные к какой-нибудь дате, потешки, заклинания, стишки-небывальщины, дразнилки и поддевки, считалки, скороговорки, загадки, прозвища, прибаутки и остроты, сказки, колыбельные песни, заговоры, детский лубок). Некоторые идеи ученого стали основой для формирования особого научного направления – этнографии детства[36].
Г.С. Виноградов показал, что изучение детского фольклора имеет не только прикладное значение – для педагога и, в частности, для преподавателя-словесника, но и представляет собой важную научную проблему. Исследователь специально останавливается на фольклоре, созданном взрослыми для детей, вызванном «к жизни педагогическими надобностями»[37]. К ним он причисляет колыбельные, потешки, приговорки, забавы, небылицы и т. п. произведения, иллюстрирует примерами применение их взрослыми в общении с детьми.
В «Детской сатирической лирике» (1924) Виноградов исследует дразнилки, издевки и поддевки. Автор знакомит с происхождением этого жанра, устанавливает и характеризует как сами формы, так и их конкретные особенности. К статье приложен сравнительный материал из разных местностей Сибири[38]. Особое внимание Виноградов уделяет играм. В книге «Игровые прелюдии» (1925) он дает детально разработанную программу их собирания.
Г.С. Виноградов останавливается на методике рассказывания, способе, «прекрасно разработанном и непрерывно используемом до наших дней в народной педагогике и совсем недавно перенесенным в педагогику научную»[39]. Приводя в качестве примера описание рассказывания сказки детям 60-летним стариком, автор анализирует влияние фольклора на формирование мира ребенка.
В статье «Детский фольклор в школьном курсе словесности» Г. С. Виноградов рассматривает возможности использования детского фольклора в качестве составляющей курса словесности[40]. Он полагает, что предлагаемый детям материал не соответствует особенностям и запросам детского возраста. Отмечая возможности использования детского фольклора, автор дает ряд методических указаний и намечает основные вопросы, на которых следует
«Детский быт в целом, детские игры, забавы, развлечения, песни и труд, отношения к миру взрослых, к миру животных и растений и пр. не могут изучаться без знания общих условий детской жизни; их следует изучать не вырванными, а в условиях реальной жизни во всех ее проявлениях. Детская жизнь – не соединение разрозненных частей, а живое единство. <…> Нужно целостное изучение детского быта»[41]. К такому выводу приходит исследователь.
Практически Г. С. Виноградов обосновал существование детской субкультуры, где традиционные нормы поведения, игровые правила, вербальные формулы и тексты передаются внутри группы от старших детей к младшим без посредничества взрослых. К сожалению, научная деятельность Г.С. Виноградова была насильственно прервана в середине тридцатых годов, когда его отстранили от преподавания и вынудили покинуть Иркутск.
В двадцатые годы продолжалась деятельность О.И. Капицы (1866–1937), видного исследователя и педагога, профессора Педагогического института имени А.И. Герцена. Сразу же после Октябрьской революции О.И. Капица приступила к педагогической деятельности в Институте дошкольного образования[42]. Когда в 1925 году Институт дошкольного образования вошел в структуру Государственного педагогического института имени А.И. Герцена, О.И. Капица стала основателем и первым заведующим кафедрой детской литературы[43]. Одновременно она работала в Институте детского чтения, а позже совмещала работу на кафедре с деятельностью в Институте живого слова[44].
О.И. Капица добивается принятия решения о создании первой специальной детской библиотеки, основой которой стала библиотека Учительского общества, в которой было более 2000 томов детских книг. Студенты института помогали отбирать и перевозить книги из других собраний, конфискованных во время революции. Постепенно библиотека становится не только богатейшим хранилищем, но и центром, вокруг которого группировались все, кто интересовался детской литературой.
В ней собираются детские писатели, критики, педагоги. Так, С.Я. Маршак, создавая для Театра юного зрителя детские пьесы, подолгу засиживался в этой библиотеке, подбирая и просматривая нужную ему детскую литературу. В библиотеке работали В.В. Бианки, ЕЛ. Данько, Б.С. Житков, К.И. Чуковский. О.И. Капица предоставляла им материалы из своего обширного архива.
Вместе с С.Я. Маршаком О.И. Капица создала кружок детских писателей, будущих редакторов и сотрудников детских журналов «Воробей» и «Новый Робинзон». Они совершенствовали свои профессиональные навыки, читали и обсуждали новые произведения, написанные для детей, рецензировали книги, изданные для детей в Советском Союзе и за рубежом.
О.И. Капица была «душой и организатором» этого центра изучения и популяризации детской книги. Как вспоминала Е.П. Привалова, «кружку была суждена недолгая, но полная содержания жизнь. С.Я. Маршак шутя называл его «колыбелью нашей детской литературы»[45].
Ежегодно студенты и участники кружка разъезжались в экспедиции, из которых привозили записи новых текстов. Они должны были составить основу задуманного О.И. Капицей свода русского детского фольклора. Но данная идея не была осуществлена, хотя и в наши дни не утратила актуальности[46].
По инициативе Г.С. Виноградова и О.И. Капицы в 1927 году при Российском Географическом обществе была основана комиссия по изучению детского быта, языка и фольклора. Задачу комиссии О.И. Капица обозначила следующим образом: «Хорошо собранный и разработанный материал по детскому фольклору необходим и социологу, и этнографу, и лингвисту, и исследователю словесности, но собирание и исследование этого материала дело очень трудное и сложное, т. к. требует совершенно иных методов, чем изучение фольклора взрослых»[47]. Итогом работы стал сборник статей «Детский быт и фольклор» (1930), в котором был обобщен опыт русских и западноевропейских ученых по изучению жанров детского фольклора.
В трудах членов комиссии учитывались данные русской и зарубежной педологии, этнографии, лингвистики, отрабатывались методики стационарного наблюдения ‘ самых разных явлений «детской культуры». Благодаря многочисленным поездкам в Англию, знакомству с системой местного образования и переписке с учеными того времени, О.И. Капица смогла впервые представить на русском языке исторический обзор английской научной литературы по детскому фольклору.
О.И. Капица опубликовала ряд руководств для собирания детского фольклора. Обратившись к «народным учителям, работникам детских учреждений и вообще лицам, стоящим близко к детям», с просьбой собирать детский фольклор, она отмечала самобытность детского творчества и необходимость его изучения[48].
Вместе со своими студентами О.И. Капица собрала более 8000 тысяч текстов, на основе которых освоила методику их публикации и обработки. Ознакомившись с опытом зарубежных исследователей, она также ввела его в научный обиход.
Многолетние наблюдения О.И. Капицы стали основой книги «Детский фольклор» (1928), которая более пятидесяти лет являлась единственной в русской фольклористике обобщающей работой по детскому фольклору. О.И. Капица смогла разграничить детское творчество и круг детского чтения, что способствовало более четкому определению границ детского фольклора. Некоторые из ее статей составили сборник «Детский быт и фольклор»[49].
К сожалению, с начала тридцатых годов ситуация изменилась. Об этом свидетельствует, в частности, отсутствие раздела, посвященного детскому фольклору, в учебнике Ю.М. Соколова «Русский фольклор» (1941). Ограничение рамок фольклористики текстологической проблематикой, насильственная социологизация привели к тому, что активное изучение и собирание детского фольклора на многие годы практически прекратилось.
Возобновление широкой собирательской деятельности началось в пятидесятые годы. Одной из значимых работ стала публикация И.П. Колпаковой сборника «Сокровище народа» (1957). Несмотря на практический характер издания (преследовались прежде всего публикаторские задачи), в нем содержались ценные наблюдения над бытованием традиционных жанров детского фольклора, зависимости материала от местных условий крестьянского быта, труда, хозяйства.
В том же 1957 году с публикации сборника «Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор» началось последовательное изучение материала профессором Московского университета В.П. Аникиным. В книге содержалась обширная подборка текстов и статья, подводившая итоги изучению детского фольклора в первой половине XX века. В.П. Аникин показал, что исторически сложились три направления – историко-генетическое, филологическое и функционально-педагогическое. Кроме того, он высказал ряд ценных замечаний по генезису отдельных жанров – считалок, колыбельных песен.
Особое значение имело введение в педагогических учебных заведениях фольклорной практики. Еще О.И. Капица ратовала за систематическое привлечение к этой работе студентов. Со временем работа приняла систематический и более последовательный характер и стала проводиться в летних лагерях отдыха, на детских площадках, в детских садах и школах.
В настоящее время существуют обширные архивы в целом ряде педагогических институтов и университетов, а также частные коллекции А.Ф. Белоусова, С.Б. Борисова, Т.В. Зуевой, Б.П. Кирдана, С.М. Лойтер, М.А. Мухлынина, Е.М. Неелова, М.Ю. Новицкой, И.А. Разумовой. Некоторые из них активно публикуются, на их основе ведутся научные исследования, пишутся диссертации[50].
Следует отметить учебники профессора Новосибирского педагогического института М.Н. Мельникова «Русский детский фольклор Сибири» (1970) и «Русский детский фольклор» (1987). М.Н. Мельников подвел итоги изучению детского фольклора.
Подходы Г.С. Виноградова и опыт О.И. Капицы были развиты в интересных работах С.М. Лойтер. Она указывает, что первоначально собиранием фольклора занималась вместе со студентами Карельского педагогического института в фольклорных экспедициях, одновременно обобщались записи, поступавшие из разных мест Карелии. Однако в дальнейшем произошли изменения в методике: «оказалась более продуктивной подготовка к стационарной работе либо заранее сориентированной микрогруппы, либо отдельных людей, обладающих особой расположенностыо к детям, умеющих легко устанавливать с ними контакт, быть, что называется, в их среде своим человеком»[51].
С.М. Лойтер называет подобную работу подвижнической, поскольку часто ею занимаются преподаватели, работники педагогических учреждений, общающиеся с детьми в летнем лагере, на игровой площадке, во дворах. Одна из таких собирательниц, Е. Медведева, сообщает в своем дневнике: «На первый взгляд может показаться, что собирать детский фольклор довольно просто. Однако это ошибочно. Дети чувствуют, когда к ним относятся с душой, с пониманием, и тогда лишь раскрываются перед вами…Не раз пришлось с ними играть в жмурки, скакать в классики, сидеть и думать над их непростыми, забавными ребусами. Недоверие, которое было вначале, стало постепенно исчезать»[52].
В настоящее время одной из актуальных задач становится разработка специальных программ, которые помогли бы собирателям в их конкретной практической работе. В них нужно учитывать как общие принципы методики собирательской деятельности, так и приемы, используемые собирателями именно детского фольклора.
Следует отметить собирательскую деятельность музыковедов: в 70—80-е годы в Москве несколько котированных сборников детского фольклора издал Г.М. Науменко[53].
Отметим, что конец XX века характеризуется интенсивным освоением опыта детского фольклора. Появляются публикации, статьи, регулярно проводятся научные конференции, в частности, ежегодные «Чтения памяти Г.С. Виноградова». Отметим и обращение педагогов к опыту народной педагогики, а также введение народоведческих дисциплин в программы начальной и средней школы
Контрольные вопросы
1. Каковы причины приспосабливания фольклора для детей?
2. Почему первые собиратели не проводили распределение фольклора для детей по жанрам?
3. С чего начался систематический сбор детского фольклора и его публикации? (Перечислить основные причины.)
4. Кто был первым публикатором детского фольклора, какие принципы издания текстов он предложил?
5. Каковы подходы В.И. Даля к детскому фольклору?
6. Как началась работа А.Н. Афанасьева над детским фольклором?
7. Каково значение авторских методик собирания и изучения
8. Когда и кто впервые выделил детский фольклор?
9. В чем заключалась деятельность П.В. Шейна? Почему именно с его деятельности начинается научный подход к изучению детского фольклора?
10. Каким жанрам отдавал предпочтение исследователь и почему?
11. Почему детским фольклором занялись в первую очередь педагоги, детские врачи?
12. Какую роль сыграли детские журналы в отборе детского фольклора?
13. Как нужно публиковать тексты в современных детских журналах?
14. Какую программу вы могли бы предложить по собиранию детского фольклора?
15. Какие принципы должны доминировать в авторской методике по собиранию детского фольклора?
2. Классификация детского фольклора
Проблема классификации детского фольклора рассматривается в двух аспектах – определение границ самого понятия и выделение системы жанров и жанровых разновидностей. Каждый из специалистов, работающих с детским фольклором, решает ее в соответствии с стоящими перед ним задачами. При изучении детского фольклора перекрещиваются интересы фольклористики, этнографии, этнопедагогики, возрастной психологии, что предполагает возможность использования в работе их методов исследования. Тем не менее до сих пор нет единого мнения по генезису отдельных жанров детского фольклора, их поэтике, общепризнанных принципов классификации текстов.
Отсутствие классификации следует объяснить и тем, что не было единой терминологии. Колыбельные песни нередко назывались «байками», считалки – «пересчетками», «конаньем». Исследователи приводили названия, данные теми лицами, от которых были сделаны записи. Неопределенное содержание вкладывалось и в сами термины. Понятия «прибаутки», «присказки», «приговоры» в разных работах имели неодинаковое значение. О.И. Капица впервые написала о том, что в изданиях и научных исследованиях следует пользоваться устойчивой и однообразной терминологией, обязательно указывая местное название данного вида детского фольклора, выявленное при записывании.
Первые попытки дать классификацию детского фольклора были предприняты только в начале XX века в трудах Г.С. Виноградова и О.И. Капицы.
Развивая предложенную П.А. Бессоновым классификацию детского фольклора в зависимости от возраста детей, О.И. Капица отмечает наличие двух групп носителей текстов. К первой она относит взрослых, опекающих и воспитывающих детей с рождения до 5–6 лет. Рассказываемые ими произведения воспринимаются и осмысливаются детьми. К второй группе она относила самих детей в возрасте от 5 до 15 лет. Но все произведения составляют единое целое – детский фольклор. Современный исследователь также видит необходимость выделения в детском фольклоре поэзии взрослых, предназначенной для детей, прежде всего поэзии пестования (колыбельных песен, пестушек, прибауток, докучных сказок)[54].
О.И. Капица полагает, что в зависимости от тех целей, которые ставит исследователь, классификация детского фольклора может быть сделана в разных разрезах: по возрастам, по сезонам, по местностям записей, по назначению данного произведения.
Ее вывод основан на сходстве бытования подобных форм: «Провести грань между пестушками и потешками для маленьких и песнями, входящими в репертуар детей, самостоятельно забавляющихся, почти невозможно. Дети удерживают в памяти то, что воспринимают, что отвечает их запросам и интересам, кроме того, подобные процессы наблюдаются из поколения в поколение. Только песни лирического содержания могут быть выделе-
Вторую группу произведений образуют те тексты, которые бытуют среди детей, когда они уже самостоятельно развлекают себя. Сама же исследовательница признается, что не располагает достаточным материалом для более детального выделения возрастных групп. Современные исследователи выделяют разнообразные группы детей, поскольку многие жанры бытуют в среде с более узким возрастным интервалом[55].
Другим критерием выделения детского фольклора О.И. Капица считает его назначение. Она называет колыбельные песни, поэзию пестования («пестушки»), игровой фольклор, потешки, прибаутки, календарный фольклор, дразнилки, загадки, задачи, вопросы, замечания (типа звуковых игр), заговоры, сказки, считалки (в том числе и жеребьевые прибаутки), детские игры, приговоры.
О.И. Капица теоретически обосновала деление детского фольклора по возрастным группам детей, предложенное в работе П.А. Бессонова. Она учитывала не только возраст носителей детского фольклора, но и его происхождение.
По генетическому принципу строит свою систему В.П. Аникин. Он выделяет три группы произведений: поэзию взрослых для детей, произведения, выпавшие из фольклора взрослых и усвоенные детьми, собственное творчество детей. Внутри них исследователь рассматривает отдельные жанры и их разновидности.
В.А. Василенко, предлагает функциональный принцип классификации, выделяя группы текстов по наличию в них игровых элементов: 1) колыбельные песни, или байки; 2) произведения, связанные с игровыми действиями; 3) произведения, которые занимают детей словесным содержанием и исполняются независимо от игровых действий[56].
Очевидно, что игровое начало можно отметить у всех жанров детского фольклора. Если тот или иной жанр не связан с игровыми действиями ребенка, то игра ведется на уровне смысла, понятия, слова, звука.
Однако деление детского фольклора на игровой и неигровой не приближает нас к пониманию сложной системы жанров. Система, которой наиболее последовательно придерживается В.П. Аникин, точно отражает многосоставность и генезис детского фольклора. Не вызывает сомнений правомерность выделения в детском фольклоре поэзии пестования (колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки), докучных сказок, создателями и носителями которых в первую очередь являются взрослые. Очевидно и наличие в детском устно-поэтическом репертуаре произведений, выпавших из репертуара взрослых, – собственно детского творчества. Но она не может быть основой рабочей классификации, так как многие жанры детского фольклора, отнесенные им к третьей группе – собственному творчеству детей (считалки, жеребьевые приговоры, дразнилки, поддевки, скороговорки), строятся, как показывает анализ, на основе прямых или опосредованных заимствований из фольклора взрослых или литературы.
Классификация М.Н. Мельникова более удачна. Она опирается на наблюдения Г.С. Виноградова, но учитывает принцип возрастной градации детей и некоторые другие положения работы О.И. Капицы. Рассмотрим ее подробнее. По назначению и характеру бытования ученый выделяет лишь основные группы детского фольклора. На основе общности поэтики, музыкального строя и выполняемой в быту функции внутри каждой группы выделяются самостоятельные жанры[57]. В колыбельный период дети могут только слушать и полностью зависят от взрослых. Матери, бабушки, няни создали для них поэзию пестования (материнскую поэзию).
Для детей более старшего возраста предназначен игровой фольклор. Его выделяют практически все современные исследователи, но каждый из них понимает его содержание по-своему. Г.А. Барташевич относит к нему считалки, игровые песни и приговоры. В.А. Василенко прибавляет к ним пестушки и потешки. Все остальные жанры детского фольклора, включая колыбельные песни, он обозначает как «поэзию словесных игр». Детские игры он рассматривает как форму, предшествующую детской народной драме.
Г.С. Виноградов относит к игровому фольклору все разновидности детских ролевых игр и «игровые прелюдии». Этим термином исследователь обозначает считалки, жеребьевые стихи, приговоры. Он считает, что словесные компоненты «не могут изучаться вне драматической игры, компонентом которой они являются»[58].
К другой группе текстов Г.С. Виноградов относит потешный фольклор. Его назначение – развлечь, развеселить, потешить себя и своих товарищей. В него входят «забавы, не связанные с драматическим действием», их игровая основа заключена в словах и вспомогательных действиях (сечки, голосянки) или только в словах (словесные игры, перевертыши, скороговорки, молчанки, поддевки)[59].
Неигровой фольклор исследователь делил на три группы: сатирическую лирику, календарный и бытовой фольклор. Каждая группа включала несколько жанров. К календарному фольклору относились детские обрядовые песни, заклички и приговоры; к сатирической лирике – дразнилки, поддевки; к бытовому фольклору – детские сказки, песни, загадки, страшилки.
О.И. Капица отмечала, что выделение детского бытового фольклора не правомерно, поскольку все жанры «теснейшим образом связаны с детским бытом». Только поэзия пестования с доминирующей воспитательной функцией «привносится» в быт детей взрослыми. Жанры игрового или потешного фольклора естественно объединяются благодаря своей функциональности, приемам исполнения. Вместе с тем у каждого жанра своя функция, своя поэтика, приемы исполнения. По форме одни жанры можно определить как словесно-речевые, другие – как повествовательные, третьи – как песенные. Последние две группы, за отсутствием термина, целесообразно объединить в группу бытового фольклора. Отметим, что с этим согласен и М.Н. Мельников, и многие современные исследователи.
Определение групп детского фольклора по назначению и характеру бытования – лишь первое звено классификации, предполагающее обязательное выделение внутри каждой группы по признаку единства поэтики, музыкального строя, манеры исполнения и бытовой функции составляющих ее жанров. Предложенная выше классификация далеко не совершенна, но может рассматриваться в качестве рабочей. Она последовательно реализована в структуре данного пособия.
О.И. Капица отмечала, что детский фольклор является «арсеналом и почвой» русской детской литературы, постоянно питает и обогащает ее. Творчество каждого литератора, писавшего для детей, тесно связано с детским фольклором, освоением накопленного в нем опыта. В свою очередь, детские писатели оказывают заметное влияние на детский устно-поэтический репертуар. В нем появляются устные реминисценции произведений, особенно малых форм, созданные профессиональными литераторами. В результате происходит расширение жанров детского фольклора. Однако анализ поэтики страшилок, оправдок, садистских стихов, отдельных форм школьного фольклора показывает, что все они являются детскими аналогами тех или иных жанров фольклора взрослых.
Проблема фольклоризма русской детской литературы имеет огромное теоретическое и практическое значение, заслуживает глубокого и всестороннего исследования. Решение этой проблемы не рассматривается в данной книге.
Наша задача – дать общее представление о содержании и объеме понятия «детский фольклор», его классификации, основных жанрах, их функциях, генезисе и художественном своеобразии.
3. Фольклор материнства и детства
Колыбельные песни
Основные понятия: определение жанра, краткая история происхождения, классификация (основные точки зрения), связь с другими жанровыми формами, особенности – композиция, образная система, ритмика, художественные средства.
Славянские названия колыбельных песен восходят к глаголам колыбать, кохать, колебать, качать, зыбать. В северных губерниях России колыбельные песни назывались «байками» от байкать, убаюкивать. По-французски колыбельная песнь называется berceuse (колыбельная), по-немецки – Wiegelied, по-английски – cradlesong (песня у колыбели) или lullaby (буквальный перевод: убаюкивательная песня), по-персидски – лоло.
Создателями и носителями колыбельных песен являются матери, бабушки, няньки, укачивающие ребенка в колыбели или на руках. Одновременно они обращаются к нему с песней. Умение укачивать ребенка считалось настоящим искусством. Об этом свидетельствует запись этнографа В.Н. Харузиной: «Не всякая байкать умеет, – говорят пудожанки, – у другой-то и ребят не бывало в заводе, а лучше сбайкает чем иная»[60].
Колыбель (XIX в.)
Колыбельные песни исполнялись до тех пор, пока ребенок не засыпал. При необходимости песни следовали одна за другой, скрепляясь припевом или повторами (чаще всего обращениями): «спи, младенец», «спи да усни», «спи, Таня», «спи, дите».
Определение. Наименования жанра связаны с назначением колыбельных песен, созданных для того, чтобы с помощью размеренного ритма и монотонного напева укачивать, убаюкивать ребенка. В колыбельный период ребенок воспринимает только ритмичную мелодию и соответствующее ей движение. Заметив, что при ритмичном покачивании ребенок засыпает быстрее, человек создал колыбель. Утилитарно-бытовая функция песен всегда дополнялась воспитательной и эстетической. Исполнитель песен выражал свое отношение к окружающему его миру, сообщал некоторые полезные сведения, выражал и свои потаенные желания.
Происхождение колыбельных песен. Этнографы показали, что тексты колыбельных песен складывались постепенно, вначале они состояли из цепочек междометий и побуждающих слов, повторяющихся в такт с движениями колыбели. К ним присоединялись и ритмичные поскрипывания ее деревянных частей. Подобные записи сделаны в разных частях земли от Африки до Северной Америки. Постепенно развилась словесная составляющая и появились собственно колыбельные песни.
Связь колыбельных песен с заговорами. Древнее происхождение колыбельных песен доказала А.Н. Мартынова[61]. Она считает, что колыбельные песни произошли из охранительных заговоров, входивших в обряд «первого укладывания ребенка в колыбель», которые должны были защитить ребенка от бессонницы, болезней, действий враждебных сил. А.Н. Мартынова показала, что антропоморфные образы Дремы, Сна, Покоя присутствовали в подобных заговорах и потом из них перешли в тексты колыбельных:
- Ходит сон по сеням,
- А дрема по терему,
- Ищет Валю в пологу,
- На гибком качелю.
- Сон говорит:
- «Надо Валю усыпить».
- А дрема говорит:
- «Надо Валю удремить».
- Сон да дрема,
- Накатитесь на глаза![62]
Если младенец не засыпал, то винили Сон и Дрему. К ним обращались с упреками:
- Глупый Сон, Сон!
- Неразумная Дрема!
- Мимо ты ходишь,
- Колыбели не находишь[63].
Тогда Сон и Дрему просили прийти к ребенку;
- Сон да Дрема,
- Приди к Ване в голова.
- Сон да Дрема,
- Накатися на глаза.
В старинной карельской колыбельной песне мы находим и прямо выраженную просьбу. Она воспроизводит древний погребальный обряд:
- Приходи-ко дед-снотворник,
- Дед-снотворник, бабка-дрема,
- Сон с собою принеси,
- Сладкий сон в корзинке медной,
- Дрему в чаше оловянной,
- Лентой шелковою мягкой
- Повяжи ребенку глазки.
- Лентой мягкой, золотою
- Ты прикрой ребенку веки.
- Завяжи ты глазки крохе
- Лентой шелковою мягкой,
- Ты закрой малютке уши
- Золотой своей серьгою[64].
А.Н. Мартынова отмечает, что особенности композиции колыбельных песен напоминают заговоры. В некоторых текстах представлена типичная для заговора схема договора с представителями иного мира: им обещают подношение, а взамен просят сон и благополучие. Жертвой может выступать и ребенок:
- Возьми, возьми маленькую
- Туути, дочку, в край Туони,
- Будет в Манале невеста[65].
В колыбельных песнях присутствуют и такие свойственные заговорам особенности, как обращения к животным: «Курица, возьми бессонницу у (имя), дай свой сон»[66].
Со временем появилось аналогичное обращение к коту: «Кошки, коты, / Принесите дремоты».
Как ночное животное кот считался носителем сна, поэтому его образ заместил курицу, ритуальное значение образа которой было утрачено. Перед тем как ребенка первый раз уложить в колыбель, туда помещали кота, чтобы на него пали возможные козни злых сил. «Спивать кота» – у белорусов и украинцев означает убаюкивать ребенка пением[67].
У народов, живущих в тайге, зафиксированы колыбельные песни, содержащие обращения к медведю и волку – важнейшим тотемным животным. С первых дней жизни ребенка мать просила их оказать покровительство.
После принятия христианства в колыбельных песнях появляются образы традиционных защитников – ангелов, святых, Господа Бога, которых призывают для помощи и благословения.
Чаще всего обращаются к Богородице с просьбой защитить младенца от нечистой силы, уберечь, усыпить:
- Успения Мать,
- Уложи младеня спать
- На тесову на кровать.
В колыбельных песнях встречаются не только благопожелате-льные обращения. Известны тексты, в которых ребенку желают смерти. Они менее распространены, чем песни, содержащие пожелания долгой жизни. А.Н. Мартынова выделяет в подобных песнях три сюжета: описание будущих похорон ребенка, места его погребения, поминок. Некоторые тексты похожи на формулы, в них повторяются одни и те же слова и выражения:
- Господи, благослови,
- Вымылся, выпарился,
- Сердецьное дитятко,
- На сон, на рость,
- На добрую милосъ.
- Спи по ноцям,
- А расти по цясам[68].
Пожелание смерти выражается не только в повествовательной, но и в вопросительной форме: «Нет ли местечка в раю?» (для ребенка).
А.Н. Мартынова считает, что, с одной стороны, подобные тексты представляют собой пережиток древнего обычая, когда слабых, увечных и «лишних» детей убивали, избавляя от мук болезни и голода. «Анализ текстов показывает, что пожелание смерти выражено вполне определенно, почти всегда традиционными устойчивыми формулами и не может быть истолковано как иносказание»[69]. Приведем в качестве примера моравско-силезскую колыбельную песню:
- Баю, дитятко,
- Качаю тебя,
- Чтоб ты спало,
- Не плакало
- И матушке
- Покой дало.
- Бросим тебя в пруд,
- В Дунай реку,
- Хватай его водяной.
Обращение к смерти является одной из традиционных форм охранительной магии. Желая смерти своему ребенку, матери стремились обмануть злые силы[70]. Аналогичную направленность имели и отрицательные охранительные прозвища[71]. Хронология записей показывает, что тексты с подобными сюжетами появлялись в периоды различных бедствий, неурожаев, эпидемий.
В ходе эволюции колыбельные песни утратили магическую функцию, но тексты продолжали сохраняться в памяти. По древнейшим моделям стали создавать новые и новые произведения, носившие чисто практический характер. Ежедневное исполнение песен позволило сохраниться как древним текстам, так и новым, появлявшимся в практике ухода за детьми.
Выделение жанра. Колыбельные песни стали первым жанром, который большинство исследователей отнесли к детскому фольклору. Они представлены в культуре практически всех народов мира. Помогая старшим, крестьянские девочки с шести-семилетнего возраста начинали нянчить своих младших братьев и сестер. Во время укачивания они исполняли колыбельные песни, становясь носителями фольклора. В подобных песнях содержание связывалось с понятными детям реалиями, знакомыми чертами повседневной жизни.
Собирание. С первой половины XIX века десятки фольклористов, этнографов, врачей, педагогов активно начинают заниматься собиранием и изучением колыбельных песен. В настоящее время собрание колыбельных песен можно считать самой обширной частью записанного детского фольклора.
История изучения колыбельных песен. Первые исследователи отметили неоднородность репертуара. В 1889 году В.А. Жуковский выделил несколько групп колыбельных песен: «1) самые простые прозаические причитания, в которых выливается осаждающая женщину дума, 2) полупрозаические, рифмованные двустишия и, 3) приближенные к образцам литературных книжных форм настолько, что некоторые могут быть вдвинуты в рамки условного музыкально-стихотворного ритма»[72].
Исследователь также указал на некоторые особенности колыбельных песен: преобладание двустиший, четкую рифмовку, подражающую равномерному движению колыбели.
Классификация. Первая классификация была предложена О.И. Капицей и Н.М. Элиаш. О.И. Капица разделила колыбельные песни на исполняемые воспитателями (матерями, нянями, бабушками) и самими детьми. Н.М. Элиаш провела классификацию колыбельных по основным темам и образам. Она выделила образы Сна и Дремы, Кота, Гули, Буки. Недостатком классификации можно считать нечеткое выделение разновидностей. К колыбельным песням отнесены как традиционные песни (собственно колыбельные), так и исторические и бытовые.
Наиболее универсальной и научно аргументированной считается классификация, предложенная А.Н, Мартыновой. Она сводит в единую систему наблюдения предшественников, учитывая функциональные, содержательные и типологические признаки колыбельных песен. Классификация основана на выделении в песне двух основных составляющих – мотива и сюжета. Исследовательница впервые разделила песни на две основные группы – императивные и повествовательные, полагая, что к ним примыкают песни, заимствованные из других жанров фольклора и имеющие литературное происхождение. Внутри каждой группы исследовательница распределяет тексты по центральным первые.
Наиболее универсальной и научно аргументированной считается классификация, предложенная А.Н. Мартыновой. Она сводит в единую систему наблюдения предшественников, учитывая функциональные, содержательные и типологические признаки колыбельных песен. Классификация основана на выделении в песне двух основных составляющих – мотива и сюжета. Исследовательница впервые разделила песни на две основные группы – императивные и повествовательные, полагая, что к ним примыкают песни, заимствованные из других жанров фольклора и имеющие литературное происхождение. Внутри каждой группы исследовательница распределяет тексты по центральным персонажам.
Наиболее древняя по происхождению группа императивных песен. По форме они представляют собой монолог, обращенный к ребенку, животным или мифологическим-существам. В них содержатся пожелание сна и просьба не мешать спать, не пугать ребенка. Характерной особенностью императивных песен является употребление глаголов в повелительном наклонении.
Повествовательные песни представляют собой самую большую группу колыбельных песен. Они не имеют ярко выраженной эмоциональной окраски и подчиняются функциональным требованиям. «Мать своим врожденным чувством поняла, что для ребенка нужны именно песни, умиротворяющие, светлые и монотонные»[73]. В них рассказывается об окружающем ребенка мире, о чувствах, заботах и тревогах матери.
А.Н. Мартынова делит повествовательные песни на следующие разновидности: 1) традиционные; 2) импровизационные; 3) произведения иных жанров, исполняемые как колыбельные; 4) тексты, имеющие литературный источник. Подобный подход позволил расширить границы жанра колыбельных песен. Исследовательница полагает, что при отклонении от традиционного исполнения появляется новый текст. Однако большинством исследователей импровизационность отмечается как одна из характерных черт жанра колыбельных песен. Многие собиратели отмечают, что женщины часто отказываются повторять только что исполненные песни, говорят, что каждый раз они поют текст по-новому. Отметим, что колыбельная достаточно нормативна, и различие между первым и вторым текстами чаще всего сводится к замене эпитетов или перестановке строк. Поэтому точнее говорить об вариативности одного и того же текста.
Содержание. В колыбельных песнях матери рассказывали о радостях и горестях своей жизни, о своих хозяйственных заботах, о том, что их занимало в данное время. Одновременно ребенок получал некоторые сведения об окружающем его мире, постигал особенности родной речи. Отвлекаясь от работы из-за ухода за ребенком, мать могла спеть такую песню:
- Спи, поспи,
- А мы потеряли денек,
- А не пряли простыньки.
- Не мотали мотки,
- Не ткали поставки[74].
В колыбельной песне всегда отражались идеалы своего времени. В дореволюционных записях встречаются пожелания богатства, общественного положения:
- Спи, Ванюша, в камке,
- Пробудись в тафте,
- В алом бархате.
- Станешь в Питер ходить,
- Серебро, золото носить.
После пожелания богатства и обеспеченной жизни в колыбельной песне подробно описываются самые разнообразные занятия – рубка дров, приготовление пищи, уход за полем, ткацкие работы. Иногда встречается описание будущей жизни ребенка:
- Вырастешь большой,
- Недосуг будет спать,
- Надо работу работать,
- Орать, боронить,
- Огород городить,
- В лес по ягоды ходить,
- По коровушку ходить.
Под влиянием обрядовых, в частности величальных песен, в колыбельных песнях появляются описания идеальной колыбели, у нее: «огибочка шелкова», «рог золотой», «подушечка перинка», «одеяльце соболье», «очепок вересовый». Часто сравнивают колыбель и вещи кота; понятно, что у ребенка все оказывается лучше, чем у животного:
- У котика, у кота
- Колыбель хороша,
- У моего Сашеньки
- У кота, кота
- Перинушка мягка,
- У моего Сашеньки
- Мягче его.
- У кота, кота
- Подушечка бела,
- У моего Сашеньки
- Соболиная лежит.
Основным приемом становится сравнение, сопоставляются не только предметы, но и окружающие, родственники, например, говорится, что «у кота мачеха лиха».
В колыбельных может содержаться связный рассказ. Повсеместно распространена русская песня о мужике (хозяине, барине, Федоре и т. д.), у которого полна хата ребят. Варьируются начало и конец, но основная часть текста сохраняется:
- Баю-баюшки, баю.
- Живет мужик на краю.
- Он не беден, не богат,
- Полна горница ребят.
- Все по лавочкам сидят,
- Кашку масляну едят.
Концовка существует в двух вариантах, в одном перечисляются ребята:
- Первый Гришка,
- Второй Мишка,
- Третий Ванюшка сынок,
- Сынок милый паренек.
В другом тексте встречаем иную концовку:
- Кашка масляная,
- Ложка крашеная,
- Ложка гнется,
- Нос трясется,
- Сердце радуется.
В колыбельных песнях XIX века встречаются реалии, упоминания, не связанные с крестьянским бытом, называются такие предметы, которые в крестьянской обстановке не встречаются. Дитя качают «нянюшки, мамушки, сенные девушки», они «прилюлюкивают», что ребенок, когда вырастет, будет
- Нянюшкам и мамушкам
- Обновочки дарить,
- Сенным девушкам —
- По платьицу,
- Старым старушкам —
- Подзатыльнички…[75]
Параллельно упоминаются терем, золотое монисто у маменьки, соболи и куницы у папеньки, камка, парча, алый бархат; колыбель ребенка декоративно украшена: «крюки золотые, ремни бархатные, колечки витые». Очевидно, что подобные песни зародились в одной социальной среде и затем перешли в другую.
Анализируя представленный материал, О.И. Капица замечает: «Песни, рисующие идеалы крестьянской жизни, записаны преимущественно в Архангельской, Олонецкой, Вологодской губерниях, где крепостного права не было. В этих же северных песнях мы мало встречаем «мамушек, нянюшек и сенных девушек». Мечта крестьянки-матери ближе к действительности:
- Надо пестунья толкова
- И старушка стогодова.
- Кабы бабушка родна,
- Была б пестунья плотна.
В текстах, записанных в крестьянской среде, редко встречаются мечты о школе и обучении; попадаются редко, практически отсутствуют пожелания типа:
- Станешь в школу ходить,
- Станешь книжки учить,
- Выучисся в книжке,
- Станет батюшка женить…
Они появляются лишь с середины XIX века. Можно предположить, что подобная песенка сложилась среди крепостных, тем более что запись ее относится к 1857 году.
В фольклоре разных народов встречаются колыбельные песни, в которых говорится о работе членов семьи:
- Баю, баиньки-баю,
- Отец пошел за рыбою,
- А матушка дрова рубить,
- А бабушка уху варить.
Аналогичную песню мы находим и среди английских «Nurcery Rhymes»:
- Father's gone hunting,
- Mother's gone milking,
- Sister's gone silking.
(Отец пошел на охоту, мать корову доить, сестра шелк ткать.)
В колыбельных часто встречается описание покупок на ярмарке или в городе, одного из значительных событий в крестьянской семье:
- Байки, побайки,
- Куплю матери китайки
- Братцу бархатцу,
- Сестре ленточку,
- Дедке – сапоги,
- Бабке – коты[76],
- Ей к обедне ходить.
Ребенок всегда получает какой-нибудь подарочек или обновку:
- Купим сынку валенки,
- Наденем на ноженьки,
- Пустим по дороженьке.
Достанутся ребенку и гостинцы:
- Под подушкой калачи,
- В руках прянички,
- В щечках яблочки.
Форма колыбельной песни сложилась постепенно в результате многовекового отбора лучших вариантов. Она представляет собой небольшое по объему произведение, состоящее из восьми строк и коротких (1–2 стиха) строф.
Сюжет колыбельной песни развивается динамично, в каждом стихе развертывается новая картинка, поскольку ребенок не может долго задерживать свое внимание на одном предмете.
Образная система. Для колыбельных песен характерна персонификация предметов и явлений окружающего мира, наделение животных чертами и качествами людей.
Главным персонажем славянских колыбельных песен является кот. Он становится первым объектом наблюдения для ребенка – живет в избе, привлекает внимание своими движениями, игривостью, мягкой шерсткой. Кот изображается весьма подробно, с присущими ему внешними признаками, повадками и привычками:
- Котик, коток,
- Серый хвосток,
- Шейка твоя белогорлистая.
Вместе с тем кот занят своими обычными делами:
- Сирый кит
- На колодку скик,
- Зпиймав мышку,
- Пустив у колыбку,
- Мышка буде грати,
- Ваня буде спати.
Воспринимая кота как помощника матери, его зовут ночевать, ребенка качать и обещают всякие награды: «кувшин молока, конец пирога», «папы в лапы», «склянку вина», «редьки хвост в великий пост», «сошьем тебе чоботы по самые животы», «хвостик вызолочу, лапки высеребрю» и т. д.
Кота уговаривают не ходить к чужим детям:
- Не качай ты, коток,
- Чужих деточек
- Малолеточек.
- Поди к нам ночевать
- Да Ванюшу качать.
- Кот осердился,
- На печку спать ложился,
- Онучи в голову клал
- И Ванюшу не качал.
Приобретая человеческие качества, кот совершает обычные повседневные действия, выполняет традиционную домашнюю работу:
- Кошка лыки дерет,
- Коту лапти плетет.
Или:
- Вымети сени,
- Вымый ложки,
- Погуляй трошки.
Иногда кот ведет себя как воришка, слизывает сметану, творог. Описания проказ кота, напоминающие типичные детские шалости, часто заканчиваются нравоучениями:
- Не лизь на колодку,
- Бо разобьешь головку.
- Кот не послушался,
- Пошел по водицу,
- Тай упал в крыницю.
Во многих песнях говорится о вороватом коте:
- Повадился коток
- По сметану, по творог.
- Как увидели кота
- Два лакея из окна,
- Они хлопнули окном,
- Побежали за котом.
- Ударили чоботом.
Иногда кот оказывается не виноват в случившемся, бывает и так, что
- Повар пеночки слизал,
- На меня, кота, сказал.
В колыбельных песнях также рассказывается о двух лакеях, которые гонят кота, забравшегося в погреб «по сметанку и творог».
Другие животные упоминаются реже, иногда на месте кота оказывается зайчик, а в колыбельных северных губерний можно найти соболей, куниц, лисиц.
Персонажами колыбельных песен могут становиться и птицы. Чаще всего в колыбельных появляются голуби, или, как их называют на детском языке, гуленьки. В песнях рассказывается, как голуби прилетают на колыбель ребенка и думают о том, чем бы его накормить, напоить, утешить и порадовать. Образ кроткого, нежно воркующего голубя олицетворяет нежность и заботу. Обилие уменьшительных префиксов, повторение буквы «л» в словах передают их воркование:
- Люли, люли, люлиньки,
- Сели гули на люлиньку,
- Стали гули ворковать,
- Чем Ванюшу нам питать?
- Чайком, молочком, сахарком,
- Залетели в уголок,
- Зажигали огонек,
- Стали кашку варить,
- Стали Ваню кормить.
Реже в колыбельных упоминаются другие птицы – куры, вороны, грачи:
- Ай качи, качи, качи,
- Прилетели к нам грачи.
- Они сели на ворота
- Ворота-то – скрыл, скрып,
- А Коленька спит-спит.
В колыбельных песнях также встречается персонаж, которым пугают ребенка. В русском крестьянском быту им может стать и медведь, и «серый волк», и «бука», и другие страшные для ребенка существа:
- Придет серенький волчок,
- Схватит Катю за бочок,
- Утащит ее в лесок,
- Закопает во песок.
- Станут Катеньку искать
- По болотам, по мохам…
А.Н. Мартынова полагает, что буку нельзя безоговорочно отнести к мифологическим персонажам. «Возможно, бука – собирательный образ всякого шума, мешающего ребенку спать, или образ, выдуманный взрослыми, чтобы пугать непослушное дитя». Действительно, в текстах бука часто замещает образы Других животных. «Буку» обещают прогнать, если ребенок будет слушаться старших[77].
О.И. Капица приводит описание укачивания ребенка, записанное в 1927 году в Весьегонском уезде Тверской губернии. Мать уговаривает ребенка спать: «Спи, сынок, спи, пёстышек. Спи, а то бука придет». Ребенок плачет. Тогда мать говорит: «Писаный ты мой, спи. И кошка спит, и Жучка спит, и мама спит, и сыночку спать хочется-хочется». Ребенок продолжает плакать: «Сыночек, бука идет. Вон, вон, слушай!» Мать поет грубым голосом:
- Я на липовой ноге,
- На березовой клюке.
- «Слышь, бука идет – спи, спи!»
Опять грубым голосом
- Я на липовой ноге,
- На березовой клюке.
- И земля-то спит,
- И вода-то спит!
Ребенок что-то испуганно спрашивает. Мать: «Спи, спи. А то вон она, букарка-то, идет. Закрой глазки, спи!» Ребенок пытается разговаривать. Мать опять поет грубым голосом:
- Все по селам спят,
- По деревням спят,
- Одна баба не спит
- Да наш Ванюшка,
- И та бабочка не спит,
- Мою шерсть прядет,
- Мое мясо варит.
«Спи, вон, вон бука-то за тобой идет. Не дадим тебе, бука, Вани». Ваня спит. «Иди, бука, прочь. Ванюшка спит»[78]. Бука замещает медведя, поскольку текст колыбельной повторяет часть сюжета сказки «Медведь на липовой ноге»[79]. Описание построено на диалоге между матерью и ребенком.
Обычно к ребенку обращаются к пожеланиями сна, здоровья, роста, иногда содержатся просьбы слушаться окружающих, не ложиться на край, не капризничать, не поднимать головы:
- А баю-баю, баю,
- Не ложися на краю.
- Придет серенький волчок,
- Тебя схватит за бочок
- И утащит во лесок
- Под ракитовый кусток.
- Там птички поют,
- Тебе спать не дают.
К животным, птицам, мифологическим персонажам обращаются с просьбой не пугать ребенка и помочь ему заснуть. Поэтому часто встречаются императивные формы: «Поди, муха, под сарай, / Нашу Маню не пугай. / Бай-бай-бай».
Ритмика. Древние колыбельные песни не имели рифмы, ее заменяли повторы однотипных слов или побудительных междометий («Баю-бай, засыпай / Скоро глазки закрывай»). Позже появились припевы, основанные на междометиях («Баю-бай», «Люли-люленьки», «А-а-а»), придавшие тексту монотонность и размеренность. «Они могут становиться зачином, концовкой, связующим элементом песен, исполняемых последовательно, а также выступать в роли самостоятельных попевок»[80].
С помощью припевов создавался своеобразный ритмический рисунок, усиливаемый переносами, анафорами и эпифорами. Закономерное чередование ударных и безударных слогов отсутствовало. Каждый стих имел по два опорных ударения, вокруг которых свободно группировались безударные слоги. Рифма и размер прежде всего появились в запевах, припевах, концовках песен. Чаще всего в колыбельных песнях используется четырехстопный хорей с мужской или женской рифмой.
В колыбельных песнях XIX века, как правило, употребляется хорей с пиррихием или хорей и ямб. Дактилическая рифма встречается значительно реже. Данная рифмовка сближает песни с разговорной речью, делает их доступными для детей.
К особенностям колыбельных песен можно отнести преимущественное употребление существительных и глаголов.
В колыбельных песнях встречаются различные повторы: аллитерации, ассонансы, синонимы, тавтологические слова и выражения, повторы слов в одном стихе, повторы начальных слов смежных стихов, цепевидных повторений слов смежных стихов, повторений целых стихов, местоимений с предлогами и без предлогов, служебных слов, звукоподражаний. Одни участвуют в создании системы обращений, другие придают повествованию динамику и в то же время обеспечивают однотонный ритм.
Большую группу колыбельных составляют песни книжного происхождения. Поэзия «фольклора материнства», как назвал этот жанр Г.С. Виноградов, вдохновляла многих поэтов и композиторов. Часто их тексты теряли имя автора и исполнялись наравне с народными. Так, в Вологодской губернии записана от неграмотной крестьянки колыбельная песня А.Н. Майкова: «В няньки я тебе взяла месяц, солнце и орла». Встречаются также песни позднейшего происхождения, сочиненные непрофессиональным автором:
- Спи, пока забот не знаешь,
- Когда будешь ты большой —
- Все узнаешь ты тогда.
- Нынче Господу молись,
- Уму-разуму учись.
- В церковь Божию ходи,
- И со всеми мир веди,
- Почитай отца и мать,
- Ближних бойся осуждать.
Рядом с традиционными колыбельными исполняются и другие песни, которым придается характер колыбельных благодаря мелодии и припеву «баю-баюшки» или «люли, лю-ли-лю». Так, в Архангельской губернии записана известная загадка о колоколе, которая используется как колыбельная.
- Утешу царя в Москве,
- Короля в Литве.
- Старца в келье,
- Младенца в люльке,
- Красну девку в терему.
Возможности развития колыбельных песен исследователи видят в использовании как колыбельных семейно-бытовых, социально-бытовых песен, баллад, усилении влияния литературы. «Более половины современного репертуара колыбельных заимствовано из разных жанров – прибауток, потешек, песен, частушек, игровых приговорок, считалок. Можно говорить о контаминации и использовании жанровой структуры народных колыбельных профессиональными поэтами и композиторами», – считает М.Н. Мельников (Мельник., с. 22).
Контрольные вопросы
1. Когда появились колыбельные песни?
2. Почему колыбельные песни часто сравнивают с заговорами?
3. Для какой аудитории предназначались колыбельные песни?
4. Почему их связывают с обрядовой религией?
5. Какие основные классификации существуют? Какой признак и почему доминирует?
6. О чем рассказывается в колыбельных песнях?
7. Можно ли найти в колыбельных песнях элементы крестьянского уклада?
8. Как проникали описания быта в колыбельную песню?
9. Известны ли вам произведения художественной литературы, в которых рассказывается о влиянии колыбельных песен на формирование сознания автора?
10. Охарактеризуйте основных персонажей колыбельных песен.
11. Почему антропоморфизм стал ведущим признаком выделения персонажей?
12. Каковы основные особенности колыбельных песен?
13. Какие повторы вы встретили в колыбельных песнях? Проведите классификацию.
14. Почему колыбельные песни отличают картинность изображения, предопределенность сюжетной схемы, заданный повествовательный ритм?
Пестушки, потешки, прибаутки и песенки
Основные понятия: связь пестушек и потешек с колыбельными песнями, роль в физическом воспитании детей, механизм действия, классификация (основные точки зрения), процесс перехода пестушек в потешки, особенности; прибаутки: происхождение, содержание, особенности (ритм, мелодика, образная система, простота построения, специфика словаря, синтаксис).
Если в колыбельной песне большинство мотивов непонятны ребенку, то поэзия пестования[81] четко связана с интересами, запросами и потребностями ребенка. Поэтому ее считают собственно детским фольклором. Каждая из трех групп текстов предназначена для детей определеного возраста. Самым маленьким адресованы пестушки, детям чуть постарше – потешки. Прибаутки предназначены детям, которые уже могут не только понять обращение, но и ответить на него.
Определение. Пестушками и потешками называют короткие приговорки или песенки, сопровождающие игровые движения или физические упражнения (потягивание, разведение рук, тормошение, поглаживание, подбрасывание, щекотание). Они помогали «установить эмоциональный контакт со взрослым, без чего немыслимо нормальное психическое и физическое развитие ребенка, обучали языку и мелодике, давали первые представления о реалиях окружающей действительности»[82].
Механизм действия. Песенки предназначаются для развлечения и забавы ребенка. Пестушки помогают поддерживать в ребенке в период бодрствования хорошее настроение, удерживают его от слез и капризов. Одновременно проводится массаж или несложные физические упражнения. Практическая медицина и народная педагогика выработали целый комплекс упражнений, сопровождаемых исполнением пестушек с первых недель жизни ребенка.
Движение играет особую роль в развитии ребенка раннего возраста. Еще в XIX веке один из первых собирателей детского фольклора, доктор Е.А. Покровский замечал: «Эти движения имеют некоторый воспитательный смысл как в физическом, так и в духовном отношении для приучения детей к необходимому движению, ловкости, сметливости»[83].
Классификация. «Поэзия пестования» (определение Г.С. Виноградова) встречается у всех народов и представляет собой творчество взрослых для детей. Некоторые исследователи (М.Н. Мельников, М.Ю. Новицкая) разделяют «поэзию пестования» на две группы – потешки и пестушки, другие считают такое разделение условным (Г.А. Барташевич, Г.В. Довженко, П. Иокимайтене).
Содержание пестушек. Каждый этап развития ребенка сопровождался соответствующей пестущкой. Когда проснувшийся ребенок потягивается и расправляет свое тельце, его поглаживают и говорят:
- Потягунюшки, порастунюшки,
- Поперек толстунюшки,
- А в ножки ходунюшки,
- А в ручки фатунюшки,
- А в роток говорок,
- А в головку разумок.
Текст как бы подсказывает нужные движения, помогает точнее дозировать время упражнения. Сводя и разводя ручки ребенка, произносят другую пестушку:
- Тяни холсты.
- Потягивай,
- В коробочку
- Поклалынай
Переваливая головку ребенка с ладони на ладонь, приговаривают:
- Валяй, валяй коровай,
- Пришел к бабе пономарь.
- Дай, баба, теста,
- Нет r печи места.
Когда ребенок пытается встать на ножки, ему помогают:
- Дыбки, дыбок,
- Скоро Сашеньке годок!
Чтобы приучить ребенка стоять без опоры, припевают, взяв его за обе ручки:
- Ай, деточка, попляши
- Твои ножки хороши,
- Нос сучком,
- Голова крючком,
- Спинка ящичком.
Когда ребенок делает первые шаги, то поется следующая потешка:
- «Ножки, ножки,
- Куда вы бежите?»
- В лесок на мошок
- Избушку мшить,
- Чтоб не холодно жить.
Ребенок начинает бегать, делают вид, что догоняют его и приговаривают:
- Я точу, молочу
- На чужом гумне.
- Ко мне курочка пришла,
- Куропаточка пришла.
- Я девушку нагоню,
- Я красную наголю,
- За себя ее возьму.
Большое количество текстов связаны с подбрасыванием ребенка на руках и качанием на коленях. Упражнения помогают воспитывать координацию движений и приучают ребенка владеть своим телом. Сопровождающие их потешки отличаются динамичностью стиха и ритма в соответствии с движениями ребенка.
Пестушки обычно начинаются с звукоподражания: «Скок, поскок», «Чики, чики, чикалочки», «Тюшки, тютюшки». Последнее из этих звукоподражаний дало диалектное название этому виду песенок «тютюшки», отсюда же происходит глагол «тютюшкать», т. е. подбрасывать ребенка. Приведем одну из подобных песенок:
- Тюшки, тютюшки,
- Овсяные лепешки,
- Пшеничный пирожок,
- На опарушке мешон,
- Высокохонько взошел.
Произнося последние слова, ребенка высоко поднимают.
В Тобольской губернии, сажая ребенка на колени и подбрасывая его, напевают «Петровну»:
- Бабушка Петровна,
- Поехала по бревна,
- Вскачь погонила,
- Бревно уронила,
- Ногу изломала,
- Как старику показать.
- Шубной рукав привязать.
Аналогичные песенки имеются в фольклоре каждого народа. У немцев они называются Kniereiterlied (песенка всадника на коленях). Приводим ее текст:
- Норр, hopp, hopp, Reiterlein,
- Wenn die Kinder klein sein,
- Reiten sie auf Stoklein;
- Wenn sie grosser werden,
- Reiten sie auf Pferden;
- Wenn sie grosser wachsen,
- Reiten sie nach Sachsen.
(Гоп, гоп, гоп, всадничек, когда дети малы, они ездят на палочке; когда подрастают, они ездят на лошади, а когда станут большими, ездят на шахматной доске.)[84]
Немецкая песенка почти текстуально совпадает с английской:
- This is the way the ladies ride
- Prim, prim, prim,
- This is the way the gentleman ride
- Trim, trim, trim,
- Presently come the countryfolks.
- Hobbledy gee, hobbledy gee.
(Вот как едет леди – прим, прим, прим, вот как едет джентльмен – трим, трим, трим, атак идет крестьянин – хром, хром, хром.)[85] Данные тексты имеют почти точный русский аналог:
- Поехали с орехами,
- Поскакакали с колпаками,
- Стутшком, ступиком, (3 раза, немного приподнимая колени, лошадь ступает медленно)
- Рысью, рысью, (3 раза, слегка подбрасывая)
- Скок, скок, скок! (3 раза, высоко подбрасывая на колене)[86].
Плачущего ребенка обычно успокаивали, показывая ему «козу», т. е. бодали, наставив на него вытянутые указательный палец и мизинец, при этом приговаривали:
- Идет коза рогатая,
- Идет коза бодатая:
- Ножками – топ-топ!
- Глазками – хлоп-хлоп!
- Кто кашки не ест,
- Кто молока не пьет,
- Забодаю, забодаю.
В данной потешке действие соединено с словесной игрой, основанной на повторах.
К пестушкам иногда относят шуточные заговоры, которые произносят во время купания ребенка («С гуся вода, с Пети худоба»), вытирая его («На кота потягушки, / На дитя порастушки»), если ребенок падает и ушибается:
- У сороки боли,
- У вороны боли,
- У Феденьки заживи.
Особенности. По форме пестушки представляют собой простое распространенное или сложносочиненное предложение. Диалогическая форма встречается редко. Употребляется обычно парная рифма («подушки-подружки», «кыше-выше») или внутренняя («В лесок по мошок»[87]). Созданию звуковой организации пестушек способствуют повторы («Лунь плывет, лунь плывет»). Подобную же функцию выполняют звукоподражания: Вышла кошка: «Тра-та-та, / Вышла кошка за кота!». Текст пестушки состоит из слов с уменьшительными суффиксами, используются различные части речи.
Потешки. Определение. По мере усиления игрового начала, пестушки переходят в потешки, элементарные игры: «Ладушки», «Сорока-ворона», «Коза рогатая». В них создается элементарная игровая ситуация, предусматривающая осознанную ответную реакцию ребенка. О.И. Капица отметила, что «Сорока» – это «настоящая игра со всеми элементами драматического произведения».
Методика исполнения. Потешки обычно начинают рассказывать на втором году жизни, когда ребенок овладевает словарным запасом, произносит первые слова. Во время игры используют пальцы, руки или какие-либо другие части тела ребенка и взрослого. Они обозначают самые разнообразные предметы и действия. Самой популярной игрой, сопровождающейся соответствующим словесным приговором, считаются «Ладушки». Обычно взрослый усаживает ребенка на колени и, взяв его ручки в свои, то сводит, то разводит их, изображая полет птиц. Действие завершалось следующим образом:
- Ладушки, ладушки,
- Где были? У бабушки.
- Что ели? Кашку.
- Что пили? Бражку.
- Бабушка добренька
- Кашка вкусненька,
- Попили, поели
- Шу-у-у! полетели,
- На головку сели!
И.С. Слепцова отмечает, что для детей в возрасте четырех – шести лет придумывали другие забавы, вводили в потешки элемент неожиданности, подвоха, которые ребенок должен был разгадать: Сложив крест-накрест указательные пальцы обеих рук, взрослый предлагал ребенку засунуть пальчик в образовавшийся «колодчик»: «Сунь пальчик в колодчик»! или «Сунь пальчик, там зайчик!» В последнем случае взрослый сжимал руки в «замок» и поджимал большие пальцы, как бы обозначая заячьи уши. Смысл игры заключался в том, чтобы опередить взрослого и вовремя выдернуть палец»[88].
Структура потешек. Потешки представляют собой постепенно разворачивающийся рассказ, в ходе которого происходит вовлечение ребенка в игру.
Потешка «Сорока-ворона» разбивается на отдельные части. Взрослый вертит пальцем по ладони ребенка, изображая помешивание каши. Когда каша «сваривается», следует ее раздача детям, которых изображают пальчики ребенка. Касаясь каждого пальца, взрослый говорит: «Этому дала». В некоторых вариантах называется посуда, в которой дается каша: «Этому на ложке, этому в чашке, этому в поварешке» и т. д. Все детки-пальцы получают кашку, исключая меньшого – мизинчика. Иногда отказ накормить мотивируется: «за водицей не ходил, дров не рубил, каши не варил».
Следующий этап игры – обделенный мизинчик идет искать работу. Теперь действие переходит на всю руку, мизинчик «толчет, мелет, по воду ходит» и т. д. Рука как бы изображает дорогу, по которой идет мизинчик. Ребенка щекочут на сгибе кисти, у локтя и под мышкой, говорится, что мизинчик находит здесь «пень, колоду, криницу и теплую водицу». Игра заканчивается щекотанием ребенка под мышкой, вызывающим смех. Приводим один из наиболее типичных вариантов:
- Сорока-ворона
- Кашку варила,
- На порог скакала,
- Гостей созывала.
- Гости не бывали,
- Кашки не едали.
- Все своим деткам
- Отдала.
- Этому дала (перебираются все пальцы),
- Этому не дала (трогают мизинец).
- Зачем дров не пилил,
- Воду не носил.
- Пошел сам искать,
- Здесь водица холодненькая,
- Здесь тепленькая,
- Здесь горяченькая,
- Здесь кипяток, кипяток.
Приведем еще одну потешку с пальцами, записанную в Новгородской губернии М. М. Серовой. Взрослый по очереди перебирает пальчики ребенка на руке и говорит:
- Большаку дрова рубить (большой палец),
- А тебе воды носить (указательный),
- А тебе пёча топить (безымянный),
- А малышке песни петь (мизинец),
- Песни петь да плясать } 2 раза
- Родных братьев потешать.
Для сравнения приводим немецкую игру с пальцами:
- Das ist der Daumen,
- Der schuttelt die Pflaumen,
- Der liest sie auf,
- Der tragt sie heim,
- Und der klein Spitzbub ist sie allein!
(Вот большой палец, он трясет сливы, этот их подбирает, тот несет их домой, а маленький жулик всё подъедает!)[89]
В других потешках объектом игры являются не пальцы, а нос или спинка ребенка.
Берут нос ребенка и говорят:
– Чей нос?
– Савин.
– Где был?
– Славил.
– Что выславил?
– Копеечку.
– Что купил?
– Калачик.
– С кем съел?
– Один (Вариант: Съел с тобой.)
При первом варианте ответа теребят ребенка за нос, как бы в наказание за то, что он поступил не по-товарищески и не поделился с другими.
Каждая игра содержит наставление: в потешке-сказочке «Сорока-ворона» птица щедро кормит всех кашей, кроме одного, того, кто ленился и не работал вместе со всеми: «Этот мал, не дорос, / Он воды не принес. / Шшу, шшу, полетели!» Так ребенок постепенно приготавливается к самостоятельной жизни в детском коллективе, познает окружающий его мир и приспосабливается к нему.
Своеобразие потешки. Общение с ребенком происходит в виде диалога, подразумевающего непосредственный контакт. Ребенок должен был повторять за взрослым отдельные команды. Во время игры ребенок также обучался элементам счета и подходил к пониманию некоторых абстрактных понятий (аллегории: пальцы – сорочата).
Основной частью речи, способствующей созданию динамики действия, становится глагол, он «выносится в окончание стиха, ставится под логическое ударение, выделяется интонационно, скрепляется рифмой» (Мельник., с. 44).
Насыщенность потешек экспрессивно-эмоциональными словами, рефренами, то и дело возвращающими ребенка к определенной мысли, обуславливает наличие большего количества вариантов (Сл., с. 267–268). В собраниях чаще других представлены варианты сюжетных схем «Ладушки», «Сорока-воровка».
Среди других особенностей потешек можно отметить наличие звукоподражаний, междометий, повторов, постоянный словообразовательный процесс на основе речи ребенка – словотворчество, изобразительность. Потешки, как и пестушки, отличает ритмичность.
Потешки входят как составляющая самостоятельной игры. Похлопывая ребенка по спинке между лопаток, приговаривают:
«Что в горбу?»
– Денежка. «Кто наклал?»
– Дедушка. «Чем он клал?»
– Ковшичком. «Каким?»
– Позолоченным.
Третью группу поэзии пестования составляют прибаутки – небольшие рассказы или сказки, не сопровождаемые движениями и забавляющие ребенка своим содержанием, ритмом, мелодией.
Определение. Прибаутками называют «маленькие, элементарно построенные сказочки, доступные детям в раннем возрасте. В них рассказывается незамысловатая история с элементарным сюжетом: например, «скачет галка по ельничку-березничку, плачет: наехали разбойники, сняли черные сапоги – не в чем теперь скакать по городу, не в чем плясать» (Аникин, Младенч., с. 10). Они могут иметь как прозаическую, так и поэтическую форму. Разные исследователи дают им свои названия. Г.С. Виноградов, например, называет прибаутки «сказочками», А.Н. Мартынова – «забавушками».
Происхождение. «Песенки и прибаутки относятся к тем жанрам фольклора, которые занимают переходное положение между фольклором пестования и детским», – замечает А.Н. Мартынова.
Исследователи связывают форму бытования с функцией прибауток: песенки и прибаутки исполняются взрослыми для детей и самими детьми. «Матери и няни забавляли детей, напевая и приговаривая им перед сном или в часы бодрствования складные, рифмованные забавушки». (Март., с. 24.) Дети также складывали подобные тексты, развлекая и себя самих, и окружающих.
Поскольку песенки и прибаутки часто импровизировались, они не имели ни четко выраженной функции, ни определенного места исполнения, произносились практически в любом месте и в любое время, в одиночку или хором.
Происхождение. Вероятно, песенки и прибаутки вошли в детский фольклор из фольклора взрослых: шуточных, игровых, хороводных, плясовых, сатирических песен, песенок из сказок, загадок, частушек. Сравним игровой приговор и прибаутку:
- Коза, коза, бя,
- Где ты была?
- – Коней стерегла.
- – И где кони?
- – Они в лес ушли.
Из колыбельных песен заимствована образная система, встречаются близкие и знакомые детям животные: кошка, курочка, мышка, барашек и другие. Повсеместно распространена песенка:
- Тили-бом, тили-бом,
- Загорелся кошкин дом.
- Бежит курочка с ведром —
- Заливать кошкин дом.
Чаще других встречаются прибаутки про козу и сороку:
- – Ты коза, коза, коза,
- Лубяные глаза,
- Где, коза, была?
- – Жеребят пасла.
- – Где жеребята?
- – В гору ушли…
Самой популярной О.И. Капица считает сказочку о курочке-рябе и приводит следующий вариант, записанный ею в Новгородской губернии:
- Была себе курочка рябенька,
- Снесла яичко беленько,
- Дедушка бил, бил – не разбил,
- Бабушка била, била – не разбила,
- Только мышка-норушка
- Ударила хвостиком и разбила
- Дед плачет, баба плачет,
- Курочка кудкудахчет,
- А мышка-норушка
- Шмыг в норку и – ушла, ушла, ушла.
Животные часто совершают несвойственные им действия, они поют, плачут, играют на музыкальных инструментах, занимаются хозяйственными делами. Нередко встречаются и фантастические образы.
Содержание. Приписывание животным необычных свойств приводит к появлению нетрадиционных ситуаций:
- Танцевала рыба с раком,
- А петрушка – с пастернаком,
- А цибуля – с чесноком,
- Красна девка – с казаком,
- А морковка не хотела,
- Потому что не умела.
Содержание произведений определено М.Н. Мельниковым следующим образом: прибаутка «призвана маленький, замкнутый мирок ребенка превратить в «разомкнутый» и бесконечно разнообразный мир, подвести ребенка к пониманию социальных проблем, классовых отношений и некоторых философских категорий».
Классификация разновидностей предложена М.Н. Мельниковым. Он относит к прибауткам короткие песенки (без элемента комического):
- Наша доченька в дому,
- Что оладушек в меду,
- Что оладушек в меду,
- Сладко яблоко в саду.
Прибаутки второй группы названы исследователем прибаутками-шутками, таковыми он считает песенки, в которых говорится о нечистой силе, животных и насекомых, занятых повседневной работой:
- Кикиморка на печке
- Ширинку шьет,
- Петух в сарафане
- Овес толчет.
- Курочка в сапожках
- Избушку метет,
- Блоха на пороге
- О три ноги.
Исследователь также отмечает диалогические прибаутки, прибаутки притчи, прибаутки-приговорки. Он видит сходство между ними в построении сюжета по вопросно-ответной схеме, тяготении к стихотворной организации текста (мерность строк, повторы, иногда рифма, ассонансы).
Особенности. Содержание прибауток обусловило и их особенности: «динамично развивающийся сюжет, употребление формул («Как у бабушки козел», «Жили-были», «В некотором царстве»), ограниченный круг действующих лиц, простота фабулы, примитивность построения, незамысловатость словаря, четкость синтаксиса»[90].
Можно также отметить использование риторических вопросов и обращений, обуславливающих особую манеру исполнения, повторы, приемы звукописи, смежную рифмовку. Часто «сказочки» создаются в стихотворной форме:
- Хорош, хорош дворец,
- Соломенный крылец.
- Живет старик да бабушка,
- Паренек да девушка,
- Коровушка с теленочком,
- Лошадь с жеребеночком
- Да семь овечушек.
В английских Nurcery Rhymes приводится следующая песенка о старухе, которая жила в башмаке:
- There was an old Woman, who lived in a shoe,
- She had so many children – she didn't know what to do,
- She gave them some broth without any bread,
- Then whipped them all round and put them to bed.
- (Жила-была старушка, она жила в башмаке.
- У нее было много детей, она не знала, что с ними делать.
- Она кормила их супом без хлеба, секла и отправляла спать.)[91]
Текст сюжетно перекликается с песенкой, записанной в Тотемском уезде Вологодской губернии от неграмотной крестьянки:
- Жила-была бабушка в старом башмаке,
- У нее было деток как песку в реке,
- Она про их щи варила,
- Кашкой масляной кормила,
- А чтоб не смели баловать —
- Отправляла рано спать.[92]
Контрольные вопросы
1. Почему после колыбельных песен начинают исполнять потешки и пестушки?
2. Почему пестушки играют особую роль в развитии ребенка?
3. Что такое «поэзия пестования»?
4. Каково содержание пестушек?
5. Почему пестушки близки к заговорам?
6. Чем пестушки отличаются от потешек?
7. Чему и как обучают потешки?
8. Каковы особенности потешек?
9. Зачем в потешках используют приговоры?
10. Почему прибаутки имеют стихотворную форму?
11. Как прибаутки и песенки соотносятся с «взрослым» фольклором?
12. Каковы особенности прибауток?
13. На основании каких признаков проведена классификация прибауток М.Н. Мельниковым?
14. Почему в песенках ограничен круг действующих лиц?
4. Словесные игры
Большинство исследователей относят к потешному фольклору группу жанров, имеющих общее развлекательное назначение. Словесные игры отличаются от других полным отсутствием внешнего действия, движения[93]. Игровой сюжет проявляется в них только в словесной форме. В нем сохраняется главная цель игры – превзойти партнеров в сообразительности и быстроте реакции. Как в любой игре, для этого надо проявить определенные способности, навыки и умения.
На Руси издавна существовали разные формы словесных игр. Одной из древнейших и наиболее распространенных считается игра «Курилка». Она восходит к древнему ритуалу гадания по пламени, известному по записям этнографов у многих народов мира. Первобытный человек считал пламя источником жизни и его угасание воспринимал как знак близкой смерти. Суть гадания заключается в том, что собравшиеся передавали друг другу источник огня (горящую ветку, уголек, факел, свечу). Угасание огня означало дурное предзнаменование. После утраты магического смысла ритуальное действо превратилось в развлечение, а затем и в детскую игру.
Название игры – «Курилка» восходит к древнему корню кур – уголь[94] и связано с тем, что главным атрибутом гадания у европейских народов являлся горящий уголек.
В первом описании игры, сделанном Е.А. Авдеевой, четко просматривается связь с огнем: «Садились все в кружок, зажигали лучинку и, потушивши, передавали один другому, приговаривая: «Жил-был Курилка, ножки тоненьки, душа коротенька. Не умри, Курилка, не оставь печали, не заставь плясати». Всякий старался скорее передать Курилку другому, приговаривая: «Жив, Курилка!» У кого лучинка гасла, с того брали фант»[95].
Постепенно связь с ритуалом утратилась, но словесное оформление игры– сохранилось. Вместо лучины появился человечек с именем Курилка. Позже его стали называть Захаркой. А.В. Терещенко приводит запись игры с приговором: «Гори, гори жарко, приедет Захарка!»[96]. В тексте проявляется сходство с приговором из игры в горелки: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло».
Параллельно с развлекательной словесные игры выполняли и важную педагогическую функцию. В процессе игры дети постепенно обучались искусству участия в беседе, вовремя вступать в диалог и выходить из него. Словесные игры предполагают обязательную импровизацию, требующую от ребенка быстрой реакции. Несмотря на большое разнообразие словесных игр и четкость их развлекательной функции, они являются важным средством воспитания. С помощью словесных игр ребенок продолжает познание мира, учится речевому общению, умению приспосабливаться к требованиям социума, тренирует память.
В широко распространенной игре «Барыня» общим является только постоянное вступление, которое произносит ведущий:
- Барыня прислала голик да веник, да сто рублей денег.
- Что хотите, то берите, черное с белым не носите,
- «Да» и «нет» не говорите, не смеяться, не улыбаться.
- Вы поедете на бал?
Остальной текст создается в процессе игры. Сравнение текстов и умение их составить с соблюдением всех ограничений свидетельствует об умении пользоваться словом. Играющие должны подчинить эмоции рассудку, воле, не теряться при неожиданном повороте игры, не попадать в ловушки, которые им расставляет ведущий.
Для всех словесных игр характерна ролевая обусловленность поведения играющих, ограниченная строгими рамками правил. Этнографы показали, что данная особенность моделирует отношения внутри социума, членами которого должны стать играющие в будущем[97]. Время игры и тематические рамки диалогов не ограничиваются. Подобная «разомкнутость» структуры позволяет играющим полностью проявить свои способности. Важным стимулирующим фактором является непосредственная реакция сверстников, приветствующих удачные находки и активно подыгрывающих соперникам.
Еще одной особенностью словесных игр является интонационно-мимический компонент, до известной степени компенсирующий отсутствие движения. Еще Т. Морган отмечал, что именно движение помогает созданию особого эмоционально-приподнятого настроения. В словесной игре его роль выполняет интонация и особые устойчивые формулы, придающие тексту ритмичность.
Благодаря высокой адаптивной способности словесные игры живут на протяжении многих поколений практически не меняясь. Почти все игры, известные по записям в XIX веке, продолжали распространяться и в XX веке. Как в городе, так и в деревне записаны игры «Барыня», «Испорченный телефон», «Красочки», «Откровенность», «Садовник».
По традиционным моделям создаются и новые игры, отражающие изменения в жизни детей. В середине XX века получила распространение игра в «Города», требующая определенных географических знаний. В последние десятилетия XX века зафиксированы словесные игры, в которых чтение стишка соединено с хлопаньем в ладоши. По наблюдениям С.М. Лойтер, ритмический рисунок стишка организует разнообразные «перехлопывания» участников игры друг с другом[98].
Скороговорки
Основные понятия: определение, происхождение, особенности, приемы организации текста.
Определение. Скороговорки представляют собой небольшое произведение, состоящее из одной или двух фраз. Оно строится на сочетании (повторении) слов и звуков, затруднительных для произношения, особенно при быстром их произнесении. «Скороговорки отличает предельная уплотненность труднопроизносимых и не всегда благозвучных согласных» (Капица, с. 174). В них специально подбирались слова с скоплением трудно произносимых слогов.
Приведем несколько скороговорок, записанных от детей:
- Сшит колпак, везен колпак, да не по-колпаковски.
- Надо его переколпаковать да перевыколпаковать.
Свинья тупорыла, весь двор перерыла, вырыла полрыла.
Тур туп, тупогуб.
У быка губа тупа.
Сыворотка из-под простокваши.
Приведем аналогичные по звучанию английскую и немецкую скороговорки:
- The rain in the Spain are main in the plain.
- Sechs und sechzig schok sachische sechsige shutz Weke.
Происхождение. Первое собрание русских скороговорок опубликовал В.И. Даль в составе «Пословиц русского народа» (1862). Приведенные им тексты показывают, что в древности скороговорки бытовали в среде взрослых и относились к разновидностям «тайной речи»[99]. Об этом свидетельствуют многочисленные записи этнографов, сделанные в разных концах земли. Освоение тайных языков обычно связывалось с обрядом посвящения в полноправные члены племени. Отсюда происходят такие древние тексты, как «Семь те стрел каленых, страшилище» или «Круг прорублю, мать приведу, сестру выведу». В последнем примере речь идет об обряде инициации, во время которого девушку проводили через разрыв в магическом круге[100].
В другой группе текстов сохранились следы верований в магическое значение некоторых чисел:
- На семеры сани,
- По семеро в сани,
- Летят три пичужки
- Через три пустых избушки.
Со временем тексты утратили ритуальное значение, переходили из взрослой среды в детскую и использовались в качестве инструмента для развития речи ребенка и совершенствования произношения. Не случайно «скороговорки» иногда называют «чисто говорками».
Особенности. Широко распространены скороговорки со «сложным и богатым звуковым оформлением»: аллитерациями, повторами, внутренними рифмами, ассонансами.
- Ехал грека через реку,
- Видит грека в реке рак,
- Сунул грека руку в реку,
- рак за руку греку цап!
- Хохлатые хохлушки
- Хохотом хохотали:
- Ха! Ха! Ха!
В скороговорках часто используется форма ритмизованной прозы, иногда рифмованной. В этом случае аллитерации могут выполнять функцию рифмы:
- Шел Саша по шоссе, сосал Саша сушку.
Развитие жанра. Мельников отмечает, что склонность детей к словотворчеству приводит к обновлению содержания скороговорок:
- Четыре черненьких чумазеньких чертенка
- Чертили черными чернилами чертеж.
Приведем ее английский аналог:
- Three green geese in a green field grazing
- Grey were the geese and green was the grazing[101].
Дети изобретают «несуществующие, хотя и ясные по смыслу слова: «перебелорылить», «перекол паковать», «размокропогодиться», «вылапотничать».
В скороговорках проявляется влияние заумных считалок, используемых для развития артикуляции речевого аппарата. Именно поэтому скороговорки часто и плодотворно используются логопедами для обучения произношению тех или иных звуков: «Жирная жужелица жалобно жужжит».
Каламбуры
Определение. Каламбур придает речи оттенок комизма. Литературоведы называют каламбуром стилистический оборот или самостоятельную миниатюру, основанную «на сходном звучании слов или словосочетаний, имеющих разное значение»[102].
Обычно каламбур становится составляющей различных шуток и вопросов. Происходит такой диалог: «Ты можешь перебросить через заплот огурец соленый? – Конечно, переброшу. – А вот не перебросишь». Оказывается, на самом деле вопрос надо понимать так: «Ты можешь перебросить через заплот огурец с Аленой?»
Подобным образом построены и замечания. Подходя к девочке или мальчику и указывая на швы, говорят: «У тебя вши-то, вши-то» вместо «вшито». Или: «сколько вшей» вместо «сколь ковшей».
Встречаются каламбуры в составе шарады типа «А и Б сидели на трубе. А упал о, Б пропало, кто остался на трубе».
Основная цель подобных текстов одинакова – озадачить и провести собеседника:
– Татарин, Барин, Пощипай
Ехали на лодке.
Татарин, Барин утонули.
– Кто остался в лодке?
– Пощипай.
(Затеявший игру щиплет незадачливого партнера.)
Контрольные вопросы
1. Какой атрибутивный признак скороговорок определяет их особенность как жанра?
2. Почему скороговорки и каламбуры относят к словесным играм?
3. Почему в скороговорке используют звукопись, повторы, внутренние рифмы?
4. Почему скороговорки считаются продуктивным жанром детского фольклора?
5. Каково строение каламбура?
6. Почему каламбур становится основой многих жанров (фольклорных и литературных)?
Считалки
Основные понятия: определение, происхождение считалок, связь считалки с другими формами: заговором, игрой, обрядом; своеобразие жеребьевки; классификация считалки, точки зрения, проблематика заумных считалок; особенности считалок: процесс словотворчества, структура, ритмизация, метрическая система, роль повторов, своеобразие синтаксиса, использование формы диалога, обращений, риторических вопросов; словотворчество в считалке и литературе (сравнительная характеристика).
Определение. Считалка всегда имела практический характер, она использовалась в детских играх для установления очереди и выбора лиц, исполняющих ту или иную роль. Поэтому исследователи относят ее к игровому фольклору наряду с жеребьевыми приговорами, молчанками.
Согласно одному из словарных определений, считалки представляют собой «словесные формы, чаще всего стихотворные (рифмованные) произведения преимущественно юмористического характера, с помощью которых определяется очередность в игре, избираются ее ведущие или участники» (Сл., с. 342). В считалке счет является ритмизующей основой произведения, скандирование обусловливает правильность счета, и нарушение ритма является показателем неправильно проведенной жеребьевки.
Название «считалка» употребляется чаще других, но встречаются и другие определения. П.В. Шейн называл подобные произведения жеребьевыми прибаутками[103]. М.Н. Мельников приводит народные названия: счетушки, счет, читки, пересчет, говорушки.
Поскольку считалки используются наряду с жеребьевками или сговорами (сговорками), возникает необходимость определения данной формы. Формы жеребьевки были самыми разнообразными, чаще всего они проводились с помощью рифмованных стихов. Г.С. Виноградов, опубликовавший подборку подобных текстов, предложил для них название «жеребьевки». В современной науке получил распространение термин «жеребьевые сговорки», введенный М.Н. Мельниковым.
Во время игры в лапту, городки, прятки или жмурки играющие разделяются на две партии, каждый из игроков зашифровывает свое имя и затем, выбрав пару, подходит к вожакам («маткам»), самым сильным и ловким игрокам. Они и должны выбрать члена своей команды, руководствуясь следующим предложением:
- Коня вороного
- Или казака удалого?
- Лисицу в цветах
- Или медведя в штанах?
- Дядю Федю
- Или белого медведя?
В качестве предмета выбора предлагаются и живые, и неодушевленные предметы, наделяемые необычными качествами (определениями), растения, песенные персонажи.
Иногда выбор совершался по характеру действия:
- С колокольни пал
- Али поддерживал?
- Из Томска на лыжах
- Али из Ирбита на ремнях?
- Что тебе надо – сено косить или дрова рубить?
- Коня вороного или седла золотого?
- На печке заблудился или в ложке утонул?
- Тес ломать или деньги воровать?[104]
Процесс отгадывания основывался на антитезе, сравнивались разные предметы, понятия или явления; «матка» должна не только выбрать, но и угадать, кто «прячется» за данным обозначением. Определенной подсказкой служила интонация. В зависимости от выбора вожака играющие отходят в ту или другую сторону.
По данным Г.С. Виноградова (их подтверждает и М.Н. Мельников), наибольшее количество традиционных текстов связано с образом коня. В них предлагается сделать выбор между конем и золотым тарантасом, золотым хомутом и между занятиями – «коня кормить» или «печь топить». Конь занимает одно из центральных мест в древних языческих ритуалах. Он является олицетворением света, удали, силы, огня.
О древности подобных жеребьевочных формул свидетельствуют материалы этнографов. Жеребьевка являлась частью ритуала инициации. Когда кандидаты на посвящение в члены общества собираются вместе, они договариваются о тайных именах, под которыми будут участвовать в обряде. Как правило, таким именем становится наименование духа-покровителя или родового тотема. В дальнейшем при совершении обряда к участнику надлежит обращаться только по этому имени. Имя, которое он носил в детстве, более не существует, поскольку после посвящения кандидат получает новое имя – уже как полноправный член племени[105].
Построение жеребьевки традиционно, она состоит из обращения и вопроса. Обращение может быть простым (Матки, матки, // Дуб или в зуб?) или сложным (развернутым в отдельное четверостишие):
- Матки, матки,
- Чертовы лопатки!
- Бочку с салом
- Или казака с кинжалом?
Смысловая наполненность жеребьевки отмечалась рядом исследователей. Г.С. Виноградов писал, что такого «сжатия элементов речи в предельно тесную форму» нет в других жанрах детского фольклора. Анализируя сговорку
- С маху под рубаху
- Или с разбегу под телегу?
исследователь приходит к следующему выводу: «лаконизм образного языка сговорок может быть сопоставим с малыми формами русского фольклора: пословицами и поговорками. Не случайно пословицы и поговорки выступают подчас в функции жеребьевок: «Грудь в крестах али голова в кустах?», «Вошь на аркане или блоха на цепи?»[106]
Особенности жеребьевок. Выразительность исполнения жеребьевок, как полагает А.Н. Мартынова, отличает их от считалок, «которые произносятся, как правило, невыразительно, монотонно».
Происхождение считалок. Считалки появились благодаря ритуально-бытовой практике. Обычай ритуального пересчитывания предметов известен у большинства первобытных народов. Во время счета выделялись счастливые и несчастливые числа, результат счета хранился в тайне. Приведем пример обрядовой считалки, записанной на Гавайских островах в середине XIX века:
- В Кохале есть дерево хау,
- Не одно дерево, много деревьев,
- И семь, из которых строят каноэ.
- Первое хау – балансир каноэ,
- Второе хау – укосина каноэ,
- Третье хау – корпус каноэ,
- Четвертое хау – обшивка каноэ
- Пятое хау – корма каноэ,
- Шестое хау – мачта каноэ,
- Седьмое хау – парус каноэ.
- Если назовешь еще одно, живи,
- Не назовешь – умрешь[107].
Аналогичный текст, связанный с гаданием, приводит И.П. Сахаров: – «Четыре и более девушек садятся на полу в кружок. Каждая из них кладет на колени соседкам по два пальца. Тогда старшая начинает скороговоркой проговаривать:
- Первенчики, друженчики,
- Трынцы, волынцы,
- Поповы ладынцы,
- Цыкень, выкень.
Произнося каждое из этих слов, она указывает на один из протянутых пальцев. На который достанется слово – «выкень» тот и выкидывается»[108]. Приведенная игра используется во время гадания на близкое замужество.
Эти тексты подтверждают вывод В.П. Аникина о связи считалок с верой в числа: «обыкновение пересчитываться идет из быта взрослых. Перед настоящими, неигровыми делами… было правилом прибегать к жеребьевке и счету» (Аник., Младенч., с. 15).
Считалки можно расценивать как способ сохранения во времени информации сакрального характера, поскольку в результате ее применения выявляется тот, кто будет выполнять в игре особую роль. По этой причине Г.С. Виноградов сближал считалки с гаданиями, поскольку выбор в них зависит не от разумного расчета, а от случая, от воли судьбы. Отсюда и название, бытующее у детей и подростков Куйтунского района – «гадалка», в Барнаульском округе считалку называют «ворожинка».
Английский исследователь детского фольклора Г. Бетт на основании сопоставления обширного английского материала и записей, сделанных у других народов, приходит к заключению, что «числовые песенки отразили на себе те ступени, которые прошло человечество, обучаясь счету»[109].
В ходе развития жанр считалки испытал разные влияния. Г.С. Виноградов считает, что наиболее значительным было воздействие книжной поэзии. Но все книжные тексты сильно приспосабливались к детской среде, «принимая иной вид, иной облик», хотя функция считалок оставалась без изменений.
Исследователь показал, что отражение действительности в считалках происходит не на основе случайных ассоциаций, а в результате своеобразного осмысления происходящего.
Параллельно с развитием образования распространялись заумные считалки. Учебные заведения, в которых преподавались иностранные языки, становились питательной средой для возникновения, бытования и трансмиссии подобных текстов. «Латинские слова проникали в считалки европейских народов прежде всего под влиянием школьного и университетского обучения латыни и из воспринятой на слух католической службы», – полагает исследователь[110]. Поэтому в лексике появлялись такие слова сакральной лексики, как «деус», «доминус», в самих считалках часто упоминалось слово «грамматики». Е.А. Костюхин даже говорит о гипнотическом воздействии заумного языка[111].
Отмеченные два плана лексики, связанные с службой и собственно учебным процессом, встречаются в считалках европейских школьников. Д. Симонидес сравнивает тексты немецкой и польской считалок, отмечая некоторые лексические совпадения:
- Figgi faggi dominus,
- du bist hier und bist duss
- Edydy, medydy, cycymer
- Afel, bafer, dominer
- Al zgot, wryna wrot
- Aja, baja, myka, wun[112].
Некоторые тексты фиксировались с конца XIX века и на протяжении всего XX века у всех славянских народов, в России, на Украине и в Белоруссии.
Первые записи считалок относятся к XVIII веку, исследователи не сразу отделили считалку от игры и увидели в ней самостоятельный вид устного народного творчества. Уже в XIX веке, замечает А.Н. Мартынова, считалки не имели аналогий во взрослом фольклоре.
Сегодня считалки существенно преобладают по количеству записей над другими жанрами и формами детского фольклора. Они встречаются практически у всех народов.
По количеству вариантов первое место среди считалок занимают «Первинчики-другинчики» и «Перводан, другодан».
- Первинчики-другинчики,
- Летали голубенчики
- По божьей росе
- По поповой полосе.
- Там голики, орешки,
- Медок, сахарок —
- Поди вон, королек.
- Перводан —
- Другодан,
- На четыре угадал,
- Пономарь ладья,
- Голубина ножка.
- Прело, горело,
- За море летело,
- За морем церковь,
- Село Куликово.
- Стакан
- Лимон
- Выйди вон.
- Соломине
- Оломино
- Агашка
- Тетерка
- Сокол
- Птица
- Пошел
- Вышел.
- Свистень
- Перстень
- Колокол
- Палка
- Жужжал ка
- Солянка
- Сокол
- Полетай.
Особенностью считалок является предельная сжатость и лаконичность, они практически не содержат сюжетной основы, представляя перечень предметов или описание порядка счета. Стремление к выразительности и мерности стиха обуславливает использование повторов, диалогической формы, простого синтаксиса.
Считалки помогают разучивать большее количество стихотворных строк и, следовательно, способствуют развитию памяти. Кроме познавательной функции, они несут в себе также эстетическую и этическую функции. Дети учатся правильно говорить и выделять голосом необходимые части стихотворения. Обычно правом произнесения считалки наделяется тот игрок, который не станет обманывать своих партнеров и точно и последовательно проведет счет.
Порядок произнесения считалки следующий: участвующие в игре дети становятся в круг или в ряд, один из детей становится в середину и произносит, скандируя, считалку, дотрагиваясь рукой по очереди до участвующих в игре при каждом слове или ударяемом слоге; тот, на кого упал последний слог или слово, считается выбывшим – освобожденным от жребия; постепенно выбывают и другие, кто вышел последним – считается выбранным. В зависимости от условий игры иногда выбирается и первый выбывший.
Характер исполнения считалки, полагает М.Н. Мельников, свидетельствует об их песенном и хоровом исполнении. В свое время П.А. Бессонов писал, что дети «станут в кружок и запоют песню; на кого упадет из песни последнее слово, тому и держать свой черед. Поют вместе, а один, кто постарше, указывает пальцем по ряду»[113].
Изучение. Русские считалки вводились в научный оборот постепенно. Первой обобщающей работой следует считать монографию Г.С. Виноградова «Русский детский фольклор». Кн. I. (Иркутск, 1930). В ней опубликовано 553 текста считалок с вариантами. Из изданий последних лет выделяется сборник «Русский детский фольклор Карелии». Сост. С.М. Лойтер (Петрозаводск, 1991).
Классификация Г.С. Виноградова основана на словарном признаке: выделяются считалки-числовки, заумные считалки и считалки-заменки.
К первой группе относятся произведения, содержащие в себе счетные слова – количественные и порядковые числительные:
Раз, два, три, четыре, пять / Вышли мальчики играть.
Подвижность классификации видна в использовании эквивалентов числительных (Первенчики, другенчики / Летели голу-бенчики) или «озаумленных» числительных (Азы, двазы, тризы, ризы, пята, лата, туни, муни, тупа, укрест).
Рассматривая своеобразие подобных считалок, О.И. Капица предлагала относить их к «заумным считалкам», таким образом обозначив словообразовательную игру с числами: «Перводан, другодан, начетыре угадал», «Пирвошка, другошка», «Рази, двази, тризи», «Одиян, другиян» и т. д.
А.П. Топорков показывает сходство процесса, происходившего одинаково в разных местах у разных народов[114]. Один вариант
- Эни, бэни, рики, факи,
- Турба, урба, синтябряки,
- Дэу, дэу, краснодэу, Бац.
А другой в белорусской деревне:
- Эни-бэни, рики-таки,
- Шорба-урба, сентебряки,
- Дэус, дэус, шахмадаус – Бац.
Дети часто переделывают известные им тексты, упрощая и приспосабливая их к конкретной аудитории, отмеченное свойство можно считать особенностью считалок. «В них нет понятийного смысла, весь интерес заключается в звуковой стороне слов. В считалках как бы обнажается фонетическая сторона слова, давая детям удовлетворение необычайными звукосочетаниями».
- Неро
- Уго
- Теро
- Пято
- Сото
- Иво
- Сиво
- Дуб
- Крест.
- Эники-беники,
- Си колесо,
- Эники-беники,
- Кноп.
- Шилды,
- Бутылды,
- Начеки,
- Чекалды,
- Шишел,
- Вышел.
- Ана-дуна-жесь,
- Кинда-ринда-резь,
- Ана-дуна-раба,
- Кинда-ринда-жаба.
- Обер, бабер,
- Заберэа,
- Обер-бабер,
- Тук!
Очевидно, что для создания ритма подбираются слова или отдельные слоги, которые позволяют заполнить пустоты, придать фразе законченный вид. Приведем пример считалки из сборника А.Н. Мартыновой, где введенные звуки или ряды зауми и счетных слов буквально позволяют преобразить текст:
– Ты куда?
– На базар.
– Зачем?
– За овсом.
– Кому?
– Коню.
Измененный диалог выглядит иначе
- Синти-бринти – ты куда?
- Синти-бринти – на базар.
- Синти-бринти – по ково?
- Синти-бринти – по овес.
- Синти-бринти – ты кому?
- Синти-бринти – я коню.
Традиционно в считалке воспроизводится счет от одного до десяти. Но слова, обозначающие счет, обычно видоизменяли: переставляли слоги, добавляли новые, получалось: ази, двази, тризи, изи, пятам, латам, шума, руба, дуба, крест. Г.С. Виноградов попробовал расшифровать некоторые значения: раз (единица) – ази, анзи, азики, ранцы, разум, разим; два – двази, дванцы, дванцик; первый – первенчики, первелики, первички; другой – другенчики, друженчики, другелики.
В заумных считалках попадаются слова, непонятные для произносящих, но интересные по звучанию. Среди них присутствует немало иностранных слов. Интересна следующая считалка:
- Анки-дранки
- Ликоток
- Фуфци-граци
- Граматок
- Азинота
- Кисловрота
- Шара-вара
- Дух-вон!
В приведенном тексте азот и кислород употребляются в виде заумных слов. Считалки из незнакомого языка перенимаются, искажаются и становятся основой при создании новых считалок. Причем в одной детской среде считалка понятна и наполнена смыслом, в другой она воспринимается и используется как заумная.
Иногда этот процесс можно проследить. Так, в Архангельской губернии записана следующая считалка:
- Ендил
- Брендил
- Цюп
- А цендиль
- Видишь
- Корешь
- Гван.
Подобная считалка, с небольшими отступлениями, записана и от еврейских детей в г. Орше Могилевской губернии:
- Ендл
- Бейндл
- Цуп
- А ценцель
- Аре
- Баре.
- Кан
- Рака
- Журеман
- Капитан
- Помергол
- Путерклац.
Перенесенная в Поморье, она привлекла детей своими необыкновенными для них словами.
Интересный пример приводит О.И. Капица: «В детстве, оно прошло у меня в Тифлисе, во время игры мы, дети, употребляли грузинскую считалку, которую я помню до сих пор, но смысл которой мне и поныне неизвестен»:
- Ата-ты
- Бата-ты
- Санам шури
- Самшураки
- Битам бури
- Бамбухери
- Ворантыс.
В считалке, записанной в Котельническом уезде Вятской губернии в 1927 г., мы находим, по-видимому, искаженную грузинскую считалку:
- Атум-батум
- Гуманчи
- Чумчуемум атамбух
- Бамбахира вом таз
- На горе вечерний час.
Известна считалка, варианты которой записаны в Тверской Псковской, Новгородской губерниях:
- Аты-баты
- Шли солдаты,
- Аты-баты
- На базар,
- Аты баты
- Что купили,
- Аты баты
- Самовар.
Считалки иноязычного происхождения воспринимаются как «заумные», небольшое количество текстов имеет определенное смысловое значение.
Исследователи установили, что некоторые, непонятные на первый взгляд слова и словосочетания, в западноевропейских считалках (например, во французских) являются комическими переделками слов и формул латинских молитв.
У многих европейских народов записана считалка по модели пересчета:
- One, two buckle my shoe,
- Three, four – open the door.
С ним сближается немецкий текст:
- Unus duiis rabbes (Один, два, рабби)
- Quartum quintum sabes (Четыре, пять, суббота).[115]
При переходе считалки в иноязычную среду латинские слова видоизменились, еврейское слово шабес (суббота) превратилось в русское жаба, и текст стал восприниматься как заумный.
Обилие заумных считалок привело О.И. Капицу к выводу о том, что в считалках есть тенденция «обычным словам придавать заумную форму». Г.С. Виноградов соглашался с ней, но подчеркивал, что «слова-образы постепенно вытесняют в считалках заумь»[116].
Третья разновидность считалок обозначена Г.С. Виноградовым как считалки-заменки. В них нет ни числительных, ни заумных слов. Наличие сюжета позволяет некоторым исследователям называть их «сюжетными считалками»:
- Чудный домик трехэтажный,
- Наверху гудок отважный,
- Как гудочек загудит,
- Весь народ к нему бежит.
(Март., 346.)
Вероятно, считалки-заменки появились позже остальных разновидностей.
О.И. Капица приводит пример, в котором соединяются признаки разных групп:
- Чикулай в Москве
- На Михайловке
- Чику-чику-чику
- Чику-чику-блик!
- Эйн цвейн дрейн
- Лидэ, лмдэ лей!
- Оком боком
- Недалеком
- Тик!
Иной признак положен в основу классификации Г.А. Барташевич, выделяющей сюжетные и бессюжетные считалки.
М.Н. Мельников вслед за предшественниками отмечает и другие качества считалок: «В основе композиционного построения заумных считалок лежит звуково-ритмический принцип, сюжетных – повествовательное или драматическое развитие сюжета, кумулятивных – накопление, объединение иногда разнородных образов без видимой логической необходимости» (Мельник., с. 135).
Разновидностью сюжетных считалок М.Н. Мельников считает форму, основанную на диалоге и построенную путем «многократно повторяющихся через определенные промежутки времени звукосочетаний»:
- Шли солдаты
- На базар.
- – Что купили?
- – Самовар.
- – Сколько стоит?
- – Три рубля.
- Аты, баты – шли солдаты,
- Аты, баты – на базар.
- Аты, баты – что купили?
- Аты, баты – самовар.
- Аты, баты – сколько стоит?
- Аты, баты – три рубля.
Хотя подобных текстов немного, исследователь считает, что повторяющиеся звукоряды, несущие основную композиционную нагрузку (подражание звукам балалайки усиливается построением считалки: «Цынцы-брынцы, балалайка»), привлекатю детей и способствует распространению текстов. Косвенная речь практически не используется.
Структура считалки. Традиционно считалка состоит из обращения, основной части, вопроса или обращения и концовки.
Лингвист В.Э. Орел указал на то, что зачин считалки «эне бене» или «эники беники» имеет близкие параллели в немецких считалках, они тоже начинаются со слов: «Enige benige», «Ennege, bennege». В средневековой Германии тексты, близкие современным считалкам, произносили ландскнехты при игре в кости. Зачины типа «эники беники» могут восходить к средне-, верхненемецкому «eines bein(es) doppelte», т. е. «одна (единственная) кость удвоилась». Из Западной Европы в Россию считалка могла попасть через Польшу или с немецкими либо еврейскими переселенцами (аналогичные формы есть и в идише)[117].
Развитие действия в считалке предопределяется конкретным сюжетом или, напротив, возникает благодаря соединению отдельных картин или слов-образов.
Вышеприведенные считалки состоят из отдельных предложений, в которых сохраняется связь между словами. Другой вид считалок состоит из осмысленных слов, ничем не связанных между собой, кроме созвучия.
Обычно в считалках распространена двусложная стопа с хореическим размером. Одно или два числа рифмуются с отдельными словами или предложениями.
- Раз, два,
- Голова;
- Три, четыре,
- Прицепили;
- Пять, шесть,
- Сено весить;
- Семь, восемь,
- Сено косим;
- Девять, десять,
- Деньги весить;
- Одиннадцать, двенадцать,
- На улице бранятся,
- В избе ссорятся. (XLIX)
Похожее содержание встречается в английской считалке:
- One, two – buckle my shoes.
- Three, four – open the door.
- Five, six – pick up stick.
- Seven, eight – lay then straight.
- Nine, ten – a good fat hen.
- Eleven, twelve – I hope you’re well[118].
Другие считалки начинаются строкой со счетом до четырех или пяти:
- Раз, два, три, четыре,
- Жили мошки на квартире.
- К ним повадился сам друг
- Крестовик – большой паук.
- Пять, шесть, семь, восемь,
- Паука мы попросим:
- «Ты обжора не ходи».
- Ну-ка, Мишенька, води.
Похожим образом начинаются известные считалки: «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять» и «Раз, два, три, четыре, меня грамоте учили». Отметим, что встречаются многочисленные варианты данной считалки, Г.С. Виноградов приводит 24 варианта из своего собрания.
Приведем для сравнения немецкую считалку с таким же началом:
- Eins, zwei, drei, fier,
- Auf dem Klavier,
- Steth ein glas Bier,
- Steth ein glas Wein,
- Denn du zolst es sein.
Некоторые считалки заканчиваются вопросом, на который вышедший должен ответить произвольным числом, после чего отсчитывается по порядку соответствующее число детей, последний выходит.
- Ехал мужик по дороге,
- Сломал колесо на пороге,
- Сколько нужно гвоздей?
- Говори поскорей.
Или
- За стеклянными дверями
- Сидит попка с пирогами
- Скажи попочка-дружок,
- Сколько стоит пирожок!
Обилие обращений и риторических вопросов обуславливает использование диалогической формы. Большой популярностью пользуется среди детей такая считалка:
- – Заяц белый (вор. месяц)
- Где ты был?
- – В лесе.
- – Что делал?
- – Лыки драл.
- – Куда клал?
- – Под колоду.
- – Кто брал?
- – Родивон.
- – Поди вон!
Та же считалка встречается и без вопросов, но реже:
- Заяц (месяц)
- Вырвал травку,
- Положил на лавку,
- Кто возьмет —
- Вон пойдет.
Приведем пример другой считалки с устойчивым текстом, также пользующейся большой популярностью среди детей:
- Катилось яблочко
- Вокруг огорода,
- Кто его поднял,
- Тот воевода —
- Воеводин сын.
Есть содержание и в следующей считалке:
- Ехал Ваня из Казани,
- Полтораста рублей сани,
- Двадцать пять рублей дуга.
- Мальчик девочке слуга.
- Ты, слуга, подай карету —
- Я в ней сяду и поеду.
Метрическая система считалок подчинена разговорному ритму, поэтому самым распространенным размером является хорей, хотя встречаются ямб, дактиль, анапест и даже амфибрахий. Устное бытование считалок обуславливает членение стиха в зависимости от ритма, синтаксические паузы также обозначают счет.
Считалка произносится монотонно, размеренно, ритм играет в ней особую роль. «…Нарушение его нигде не имеет таких последствий, как в считалках: обнаружение нарушенного ритма сводит «на нет» исполнение произведения, делает необходимым повторное его произнесение»[119]. Последняя ударная стопа указывает на того, кто будет водить.
Обычно считалки состоят из рифмованных двустиший. М.Н. Мельников отмечает: «Наиболее употребительны четверостишия, шестистишия, восьмистишия. Встречаются трехстишные, пятишные, семистишные и более длинные, но значительно реже. Бывают и нерифмованные стихи. Они чаще употребляются в двустишиях и трехстишиях. Рифмы используются самые разнообразные: парные, перекрестные, охватывающие и т. д. Почти все считалочные тексты дают сочетание мужской и женской рифмы, очень редко встречается дактилическая. Определенного чередования рифмы не наблюдается» (с. 139).
Лексика считалок имеет особое значение, она указывает на их происхождение, в ней встречаются слова, связанные с прямым и завуалированным счетом.
Дети легко употребляют слова из различных областей, включают, в частности, разнообразные термины. Они часто производят «бесчисленные переделки слов, перемещают слова в пределах фразы, меняют ударения, допускают введение зауми и озаумивание слов» (Мельник., с. 137). Часто происходят замены слов, вместо «карета» появляется «ракета»:
- …Посылайте мне ракету.
- А я сяду и поеду.
- Я поеду в Ленинград
- на октябрьский парад.
Происходит видоизменение известной формулы
- Раз, два, три, четыре, пять
- вышли в космос погулять.
Очевидно, что со временем произошла словесная трансмиссия. Можно также говорить о подвижности лексического состава и постоянных заменах.
Словотворчество в считалках подчиняется определенным закономерностям. Особенно для них характерны парные рифмованные слова: рики-пики, цокоты-мокоты, абэр-фабэр и др. Встречаются и сочетания звуков, формально совпадающие с обычными словами: пики, клин, блин, ряба, жаба.
Закономерно, что словесные эксперименты приводят к комическому речевому эффекту – «За черемя, за беремя, за старого, за Петра Петровича, Егорыча, труса».
Считалки насыщены именами существительными, глаголами и междометиями, гораздо реже встречаются другие части речи. Расположение частей речи предопределяется формой считалок, ориентированностью на счет: сказуемое часто ставится впереди подлежащего («Жили мушки на квартире»), относится на конец фразы («Ты, хозяйка, не зевай // Только деньги набирай) или опускается («Один, другой – хомут с дугой»). Отметим и наличие безличных предложений – близость к гаданию по Г.С. Виноградову («Раз, два, три, четыре – меня грамоте учили»).
Считалки сходны с другими формами, встречаются обычные песенки и прибаутки, употребляющиеся как считалки. В них часто используют элементы сказок, загадок, пословиц, песен, детской сатиры. Вслед за Г.С. Виноградовым М.Н. Мельников полагал, что считалки заимствовались прежде всего из материнской поэзии – пестушек, потешек, колыбельных песен. Из игрового приговора:
- Ах, ты зоренька-заря —
- заря утренняя,
- а кто зореньку проспит,
- того выстегаю.
Основой считалок могли становиться частушки:
- Погоди, Ваня жениться
- у тебя изба валится;
- перво избу заведи,
- потом невесту приводи.
Использование некоторых считалок считается обязательным для распределения ролей в игре. Так, в Порховском уезде Псковской губернии при игре в «Лису» произносится следующая считалка:
- Пиврашка, другашка
- Трошка, волышка,
- Тядун, лядун.
- Токан, рохан,
- Дикинь, выкинь.
- Считалка:
- Шишел вышел
- Родивон
- Поди вон
- За вином
- С кувшином
выводит из игры сразу троих, тех, на кого падают слова: «вышел», «вон» и «с кувшином».
В наши дни считалки остаются самым популярным жанром детского фольклора. Они постоянно развиваются, обогащаясь новыми реалиями.
Контрольные вопросы
1. Когда и почему появились считалки?
2. Как традиционно использовались считалки?
3. Почему исследователи связывают их происхождение с обрядом?
4. Как отразилась практическая (обрядовая) предназначенность считалок на их своеобразии?
5. Чем жеребьевка отличалась от считалки?
6. Какие другие названия считалок вам известны?
7. Как в названии отразились особенности считалок?
8. Какая классификация считалок вам кажется наиболее удачной и почему?
9. Почему в считалках такое значение имеет отбор лексики?
10. Как определить процесс словотворчества в считалках? С чем он связан?
11. Можно ли связать заумные считалки с литературным творчеством? Приведите примеры словообразования в модернистской поэзии (футуристами, обериутами).
12. Как можно расшифровать заумные считалки? Что использовалось для организации словообразовательного процесса?
13. Каковы основные свойства считалок?
14. Какие современные считалки вам известны?
15. Как считалки соотносятся с другими жанрами? Почему они легко становятся элементом игры?
16. Почему заумные считалки чаще встречаются в школьном фольклоре?
17 Когда такие считалки начали распространяться и почему?
5. Детский смеховой фольклор
Основные понятия: определение, содержание, основные разновидности, прозвища; происхождение и распространение дразнилок, особенности формы, переделки; поддевки, связь с игрой, носители; заманки, функция, роль, структура; взаимодействие жанровых форм, связь с литературой.
Содержание. Традиционно исследователи полагают, что устная культура детства в основном смеховая: «каждое серьезное явление непременно сопровождается пародией, снижающей, травестирующей его суть. Дети смеются над собой, над своими промахами и недостатками, над своими страхами, увлечениями и заблуждениями, они весело смеются над взрослыми людьми, родителями и учителями, героями кинофильмов и эстрады, политическими деятелями и экстрасенсами, над всей иерархией ценностей, привычных для взрослых, над всем, что для взрослых – истина в последней инстанции»[120].
Определение. Детская сатирическая поэзия разнообразна по форме, традиционно к ней относят прозвища, дразнилки, поддевки (заманки), остроты. Не давая собственного определения, называя то передразниваниями, то прибаутками, П.В. Шейн так писал о свойствах подобных произведений: «Прибаутки, которыми шаловливые ребятишки потешаются друг над дружкою и над взрослыми, издеваясь то над их именами от крещения, над их сословными и даже телесными недостатками, то над их принадлежностью к иной, не русской национальности, часто без всякого повода, ради одной только словесной забавы». Г.С. Виноградов называл все подобные произведения детской сатирической лирикой[121].
Своеобразие разновидностей. Наименование «дразнилки» является наиболее общим и часто употребляется как обозначение всей совокупности детских сатирических жанров. Оно отражает общее для его отдельных форм функциональное предназначение – высмеять явление или подшутить над собеседником. Активное бытование сатирических жанров в детской среде также позволяет говорить о продуктивности форм.
Прозвища и дразнилки
Прозвища являются наиболее ранним по времени появления видом детского сатирического фольклора. В Древней Руси они заменяли фамилии, которые часто и восходят к прозвищам. Обычай давать прозвища сохранялся вплоть до середины XIX века. Важной особенностью прозвищ является ярко выраженная экспрессивность. Она представляет собой сохранившийся до наших дней пережиток охранительной магии.
По-видимому, именно экспрессивно-оценочные прозвища стали основой дразнилок. На них впервые обратил внимание Г.С. Виноградов в статье «Детская сатирическая лирика» (1925). Исследователь показал, что дети используют в основном эпитеты, которые выполняют функцию приложений. Они создаются на основе как внешних созвучий (Петька – петух, Мишка – медведь, Сережка – серый), так и по внутреннему сходству (Верка– вертихвостка).
На их основе в детской среде возникли рифмованные прозвища типа «Дразнило – собачье рыло», которые и стали одним из ранних типов дразнилок. Г.С. Виноградов показал, что ни по содержанию, ни по форме дразнилки и прозвища существенно не отличаются. Различие между ними в том, что прозвище прикрепляется к имени как устойчивый эпитет, а дразнилка не закрепляется за отдельным лицом и применяется в подходящем случае.
Дразнилки по форме представляют собой краткие, «в основном однострофные произведения юмористического, реже сатирического характера» (Сл., с. 67). Комическое строится на абсурдности изображенной ситуации:
- Вася, Васенок,
- Худой поросенок
- Залез в траву,
- Кричит «Мяу!»
Существуют различные взгляды на происхождение дразнилок. Г.С. Виноградов показал, что многие дразнилки произошли из песен юмористического характера, встречавшихся в обрядах и исполнявшихся во время различных ритуалов. Действительно уничижение является одним из видов величания[122].
Дразнилки имели четко выраженный функциональный и однонаправленный характер, они должны были посрамить противника словом. Подобная традиция сохранилась и в наши дни, она используется, когда нужно осмеять представителей других этносов или национальностей, профессий, жителей других мест.
Интересное предположение о происхождении дразнилок содержится в исследовании Б. Сикимич, посвященных сербохорватским народным дразнилкам. Она усматривает в текстах относительно позднего происхождения фрагменты разнообразных текстов: молитв, бранные переделки, представляющие собой трансформацию общеизвестного текста молитвы с элементами проклятия; использование элементов католических молитв, трансформацию праславянской молитвы «Отче наш».
Другим источником исследовательница называет различные религиозные (христианские, мусульманские) тексты, «которые находятся в прямой корреляции с «более старыми» магическими текстами и тем самым, вероятно, продолжают ряд трансформаций этих текстов»[123].
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что, независимо от конкретного материала, ученые едины в мнении о вторичном происхождении дразнилок из фольклора взрослых или литературных источников.
Если предполагать сходство между дразнилками и насмешками, как это делает А.Н. Мартынова, к той же группе произведений можно отнести прозаические и рифмованные ответы на поддразнивания, остроты, мирилки, попрошайки, оправдки, юмористические стихи о днях недели. Очевидно, что основой для их объединения является общий функциональный признак.
Поводом для создания дразнилки может быть не только особенность внешнего облика, физический недостаток, проступок, но и просто встреча или событие из школьной жизни. Рыжих
- Кого я вижу?
- Собаку рыжу!
или:
- Рыжий, красный – человек опасный!
Часто в дразнилках отражаются социальные отношения, характерные для определенной местности или населенного пункта. Так, в Каинском уезде Томской губернии дети православных, или «мирских», – препираются с детьми старообрядцев, или «кержаков», в случае ссоры следующим образом: «Ты кержак-лешак. – А ты – миршина[124]. – На том свете тебя посадят на вершину»[125].
В местностях с разным населением широко распространено поддразнивание лиц другой национальности. В двадцатые годы О.И. Капица отмечала, что больше всего текстов посвящалось татарам и немцам, затем цыганам, молдаванам, украинцам. Татар дразнили следующим образом:
- Татар – якши
- Купи лапши,
- Купи вина —
- Напой меня.
О цыганах сочинили такую дразнилку:
- Цыган поменяй,
- Моя лошадь без хвоста,
- Что ни день – то верста.
«Именные дразнилки» часто использовались, чтобы поддразнить, поиздеваться над их носителями. «Иногда эти песенки бывают невинного характера, в них выявляется естественное для детей, как и для взрослых, желание посмеяться, сострить, но часто они имеют и определенную цель – обидеть и поиздеваться над избранной жертвой», – замечает О.И. Капица. Мальчика по имени Жорж школьники дразнят:
- Вот Жорж Горман,
- Нос оторван,
- Вместо носа – папироса,
- Вместо пуза – два арбуза.
Дразнилка была широко распространена в школе во второй половине XIX века. Школьникам того времени было хорошо знакомо имя Жоржа Бормана, владельца кондитерской фабрики. Школьникам начала XX века оно уже ничего не говорило и подвергалось искажению или замене на созвучное.
Кроме индивидуальных существовали и дразнилки, направленные против определенной группы ребят, например, учеников приготовительного класса: «Приготовишки – мокрые штанишки» или первоклассников, учащихся реального училища: «Первоклассники – колбасники». Соответственно и гимназистов называли «Гимназисты скандалисты» или:
- Синяя говядина по грошу на пуд,
- Которую собаки не жрут.
Кадетов дразнили за военную выправку: «Кадет – на палочку надет». Институток за их известное пристрастие к сладостям и всяким лакомствам:
- Институтки – точно утки,
- Что найдут – то и сожрут,
- А наевшися – не в меру
- Отравляют атмосферу.
Приведенные примеры отражают исконную вражду между учебными заведениями разного типа, существовавшими в царской России.
В одной из ленинградских школ девочки дразнили мальчиков:
- Завтра праздник, воскресенье,
- Дадут девочкам печенье,
- А мальчишкам – кулаки,
- А на второе – червяки.
Основываясь на анализе 200 собранных дразнилок, О.И. Капица отмечает, что больше всего встречается дразнилок на имена, причем мужские преобладают над женскими. Из мужских имен чаще всего в дразнилках встречаются Иван, Егор, Николай, Алексей, а из женских – Катерина и Дуня. Рифмовка имен обычно следующая: «Андрей – воробей», «Антошка – недопечена картошка», «Фома – большая крома», «Мишка – еловая шишка», «Егор – без обор», «Маша – каша», «Зинка – корзинка».
Одно имя в дразнилке легко заменяется другим, требуется только сохранять рифму:
- Васька-Васюк,
- Полезай на сук,
- Там кошку дерут,
- Тебе лапку дадут.
Распространение прежде всего «именных дразнилок» подтверждается и наблюдениями Г.С. Виноградова, полагавшего, что «формулы осмеяния» обычно связаны с созданием имен-прозвищ: маменькин сынок, сорока, плакса. Возникают и другие дразнилки – ябеда-корябеда, жадина-корядина.
Вариативность адресата Б. Сикимич называет одной из важнейших особенностей дразнилок и приводит такой пример: «Латинянин хвостатый, завтра ты у меня сдохнешь, тяжело той руке, которая тебя потащит, тяжело той лопате, которая тебя будет закапывать»[126]. Она также полагает, что дразнилки, связанные с личными именами, «часто включают зоонимический код» («курица», «козленок», «коза», «осел») и строятся на мотивах антиповедения («запачканности», физического наказания). Последние явно перешли из взрослого фольклора: «Кире в палку играет, кобыла у него метнулась, бурдюк у нее лопнул»[127].
Реже осмеиваются физические недостатки или черты характера, поводом создания дразнилки иногда служит внешность. Высокий, малорослый, косой, хромой, толстый, худой, рыжий, плешивый, заика – все эти недостатки вызывают появление в соответствующих случаях дразнилок. Большое количество текстов относится к рыжим. Часто встречается в записях песенка, в основу которой положен сюжет дразнилки:
- Рыжий красного спросил:
- «Где ты бороду красил?»
- – Я не краской,
- Не замазкой,
- Я на солнышке лежал[128].
В ряде случаев воспроизводится утрированный портрет:
- Анна – балана,
- Голова – оловянна.
- Нос крючком,
- Ротик ящичком.
Иногда высмеивается не только один член семьи, но и все родовое сообщество:
- Сидор баню продает,
- Сидориха не дает,
- Сидорята верещат —
- Под угор баню тащат,
В «дразнилке-посрамлении» (термин Г.С. Виноградова) осмеиваются трусость, воровство, неряшество, зависть и другие недостатки, вызывающие осуждение в детской среде:
- Гришка, Гришка,
- Украл топоришко,
- Побег к брату —
- Украл хату.
- Побег к отцу —
- Украл овцу.
Предметом осмеяния становятся и различные свойства характера, вот как подсмеиваются над напыщенными и гордыми:
- Фу-ты, ну-ты
- Сани гнуты,
- Руки в боки,
- Глаза в потолок…
Часто высмеиваются обжоры:
- Требухан, требухан
- Съел корову да быка,
- Пятьдесят поросят,
- Девяносто утят.
Дети не любят, когда их дразнят женихом и невестой. Такое поддразнивание производится хором и часто доводит до слез тех, на кого оно направлено. Обычно оно происходит с помощью особых песенок:
- Тили, тили тилишок,
- Иванушка – женишок.
- Тили, тили тесто,
- Машенька – невеста.
Распространение дразнилок. Настоящие детские дразнилки лишены «национальной или религиозной окраски, что говорит о возможной древности их мотивов». Можно сделать и другой вывод: дразнилки существуют давно, их можно считать традиционными, некоторые исследователи называют их сложившимися, или «готовыми», указывая на формульный характер произведений.
Новые дразнилки появляются по определенным поводам, обычно они свидетельствуют о творческом потенциале его сочинителя. «Едва ли встретится какой-нибудь приметный случай, подходящий повод, который затруднит найти бойкое словцо, легкую рифму, вряд ли выищется интересующее ребят событие дня, отражения которого не нашлось бы в готовой песенной форме или не родилась бы новая». Так, мальчугану, упомянувшему, что к обеду дают щи с картошкой, дают прозвище «пшик-картошки», приехавшего из Псковской губернии прозывают «скопской» и «скоподырь». Мечтавшего стать капитаном мальчика дразнили:
- Палеган, палеган,
- Аржана лепешка.
- Капитан, капитан,
- Рваные штанишки.
Любопытны рассуждения О.И. Капицы о характере дразнилок, посвященных отдельным занятиям и профессиям: «тут достается всем: и сапожнику, и портному, и мяснику, и мельнику».
- Сапожники-безбожники
- Сидят у кабака,
- Оборваны, обшарпаны,
- С бутылкою в руке.
Портных:
- Портной-швец,
- Не хочешь ли щец?
- Портной-портняжка,
- Не хочешь ли кашки?
Посвященные лицам разных профессий дразнилки называются прозвищами-прикладками: столяр – «сосногрыз», лакей – «лизоблюд», паны – «на двоих штаны», баре – «по грошу пара», маляр – «мазун-повозун» и т. д.
Осмеянию подвергались и лица духовного звания. О них говорят:
- У попов глаза завидущие.
- Руки загребущие.
- По Псковской улице
- Едет поп на курице,
- Попадья на петухе,
- Попаденок на свинье.
Переделки дразнилок. Выше говорилось о возможности перенесения некоторых элементов дразнилок в песенки, при котором получается связанный текст. Девочку любительницу кошек, прозвали «Кошкина мать», а к этому прозвищу присоединили строки из известной частушки:
- Кошкина мать
- Собиралась умирать,
- Умереть не умерла —
- Только время провела.
Импровизация дразнилок встречаются у детей во всех социальных группах, как в городе, так и в деревне. Если импровизация «хороша, складна, подходяща, т. е. отвечает общей потребности заинтересованной группы», то она сохраняется, переходя от одних к другим, замечает О.И. Капица.
Песенная форма дразнилок обуславливается манерой исполнения, они произносятся1 (скандируются) речитативом, поэтому строки обязательно рифмуются и подчиняются внутреннему ритму. Возможно развитие рифмованной строки в двустишие:
- Миколай-Николай
- Толоконце подай.
- Мишка-кубышка,
- Около уха шишка.
Затем трех и четырехстишия:
- Иван-болван
- С колокольни упал.
- Три года катился
- И то не убился.
Иногда дразнилка развивается в целую песенку:
- Гриша, Гриша,
- Сидел бы ты дома,
- Точил бы веретена.
- У тебя жена-то пряха,
- По ниточке пряла,
- Корову купила,
- Корова-то с кошку Надоила с ложку,
- Корова-то пропала —
- Кузьму поклепали.
«Приведенная дразнилка, как и многие другие, заимствована детьми у взрослых – содержание таких дразнилок часто выходит из круга детских интересов, большинство же всецело детского содержания», – замечает О.И. Капица. Таковы, например:
- Плакса – Олекса,
- Удой молочка
- Из подойничка.
- Вася, Васенок,
- Худой поросенок,
- Завяз в траву —
- Кричит: «мяу,
- Не вылезу».
Детские дразнилки бывают направлены на решение ряда конфликтных ситуаций, возникающих во время игры. Если ребенок не хочет что-то давать, обычно, ему угрожают, говорят о физическом наказании: «Послала меня мать, чтобы ты дал мне немного мака. Если не дашь немного мака, то станет у тебя рука вот такая»[129].
Б.Сикимич пишет: «Ребенку, который портит игру, адресуется настоящее проклятие». Приводимые ею фольклорные тексты она предлагает считать полноценными магическими формулами, на что указывает и их синтаксис: «Пойдешь вокруг или стороной? Если стороной, пусть тебя муравей убьет веткой. Если вокруг, пусть тебя убьет муравей рукой»[130].
Среди других особенностей дразнилок – использование преувеличений (гипербол), преуменьшений (литот), развернутых сравнений, определений-приложений.
Поддевки введены в научный оборот Г.С. Виноградовым, он же предложил их первую классификацию. Поддевки, по терминологии исследователя, представляют одну из разновидностей произведений детского смехового творчества. Один из детей, шутки ради, чтобы посмеяться, «поддевает» своего собеседника и ставит его в смешное положение, «поддетый» может оказаться неопытным новичком, не знающим этой шутки:
- – Федя, скажи «поп».
- – А че? Ну, скажу: поп.
- – Твой отец клоп.
- – Сто да сто – сколько?
- – Двести.
- – Сиди дурак на месте.
Иногда поддевки сопровождаются действиями. Один мальчуган схватывает другого за нос и настойчиво спрашивает:
- – Дуб или вяз?
- – Дуб.
- – Тяни до губ.
После этого ответа вопрошающий тянет нос книзу, в случае же ответа «вяз» – кверху, «до глаз».
«Витька, у тебя под ногами мох!» – Витька смотрит себе в ноги. Ему говорят: «Не кланяйся, я не Бог».
Определение поддевки мы также находим у Г.С. Виноградова: «поддевка представляет собою или искусственный диалог, где следует ожидать возможности быть пойманным (поддеться на слове) совершенно неожиданно для себя»[131].
Разновидность дразнилок сохранилась и в наши дни, замечает О.Ю.Трыкова. Игровой характер создается диалогической формой, носящей обязательный характер:
- – Скажи: клей.
- – Клей.
- – Выпей баночку соплей! (Трык., с. 40.)
В создаваемой игровой ситуации собеседник заманивается в словесную «ловушку» и своеобразным образом высмеивается. Отсюда и происходит другое название рассматриваемой формы, которую Г.С. Виноградов называет «заманками». Одно лицо направляет разговор, другому остается пассивная роль повторяющего условленную фразу или слово. «Некий мальчик обещает другому что-то рассказать, но с условием, чтобы тот на все, что он будет говорить, отвечал: «и я».
- – Я пойду в лес.
- – И я.
- – Я срублю дерево.
- – И я.
- – Я вырублю колоду,
- – И я.
- – Я замешу свиньям. —
- И я.
- – Они будут есть. —
- И я.
Приведем и другой вариант:
- Говори за много «как».
- – Пошла баба в кабак.
- – Как?
- – Нализалась пьяная.
- – Как?
- – Пришла домой.
- – Как?
- – Мужик стал ее бить.
- – Как?
- – А вот так] (Следует удар в спину.)
В качестве сопоставительного материала О.И. Капица приводит немецкую поддевку:
- Ich bin in der Walde gegangen.
- Ich auch.
- Ich nehme ein Axt mit.
- Ich auch.
- Ich hau ein Eich ab.
- Ich auch.
- Ich mach einem Sautrog draus.
- Ich auch.
- Es fressen sieben Saue.draus.
- Ich auch.
(«Я пошел в лес». – И я. – «Я взял с собой топор». – И я. – «Я срубил дуб». – И я. – «Я сделал из него свинье корыто». – И я. – «Семь свиней стали есть из него». – И я.)[132].
Современные дети называют подобное явление «заманкой», полагая, что завлекают собеседника в словесную игру и насмехаются над ним. Уже четырех-пятилетние дети, вступая в детский коллектив, способны на подобные розыгрыши.
Роль заманок. Традиционно подшучивания и розыгрыши в виде словесной игры достаточно распространены. Они играют важную роль в развитии ребенка. Прежде всего через них происходит обучение речи, повторяются определенные слова и вносятся коррективы, направленные на устранение ошибок произношения или неправильного использования словоформ. Словесная ситуация демонстрируется с разных сторон, как в статике, так и в динамике.
Заманки использовались и для привития определенных навыков. Они являлись элементом общения детей с взрослыми, входили как в повседневный быт, так и в праздничные игры. Взрослый стремился побудить ребенка к активному действию, заставить критически относиться к любому высказыванию или событию. Так, предложив ребенку залезть под стол, затем начинали с ним такую беседу/разговор:
- – Мама у тебя есть?
- – Есть.
- – Папа у тебя есть?
- – Есть.
- – А ум у тебя есть?
- – Есть.
- – Был у тебя ум, не сел бы под стол.
Во время подобных шуток или розыгрышей также прививались некоторые практические навыки; дети обучались отличать животных, имитируя их повадки.
«Структурообразующим элементом диалога «заманки» является рифма к повторяемому слову, преобразующая диалогическую ситуацию, переводящая его в новое качество», – отмечает М.П. Чередникова[133]. Она также устанавливает, что гротесковое начало прослеживается не во всех текстах.
Перспективы развития дразнилок. Стойкость стилистических конструкций, позволяет, по мнению Г.А. Барташевич, создавать новые произведения или варьировать уже известные. Как бы развивая ее наблюдения, О.Ю. Трыкова замечает, что в дразнилку активно проникают новые образы, понятия, иногда даже весьма
- – Скажи: какое небо голубое!
- – Какое небо голубое!
- – У голубых всегда такое!
Часто дразнилки создаются на основе готовых форм для передразнивания.
Взаимодействие жанровых форм. М.И. Мельников отмечает, что под воздействием профессиональной поэзии и частушек в дразнилки проникли элементы считалочной поэтики. Он приводит следующий пример:
- Витя-титя-карапуз
- Съел у бабушки арбуз.
- Бабушка ругается,
- Витя отпирается.
О.Ю. Трыкова усматривает взаимодействие современной дразнилки с народной песней. Б. Сикимич выделяет форму детской песенки, адресованной животным, где содержатся элементы дразнилки и проклятия, она приводит несколько примеров, где встречаются разные птицы и животные: «Проклятая коза, блаженная овца, Бог тебе дал, чтоб хвост у тебя таким и остался»[134].
Приведем пример дразнилки, представляющей собой интересный случай приспособления к новой среде широко распространенной в крестьянском детском обиходе песенки:
- Завтра праздник, воскресенье,
- Нам лепешек напекут,
- И помажут, и покажут,
- А покушать не дадут.
Взаимовлияние дразнилки и считалки часто происходит под воздействием средств массовой информации. Так можно объяснить и использование в считалки строчек из рекламы:
- Кошка сдохла, хвост облез —
- Получился Анкел Бене!
Иногда игра словами встречается в анекдоте: «Крокодил Гена и Чебурашка идут через стройку. Чебурашка говорит: «А вон человеки работают». Крокодил Гена говорит: «Не человеки, а люди». Чебурашка говорит: «А вон один люд в яму упал».[135]
Прояснение вопросов бытования дразнилок и специфики их перехода из взрослой в детскую среду помогут определить некоторые особенности организации детской среды. Так, М.П. Чередникова приводит следующий анекдот, который создается на основе противоречия, возникающего между разными возрастными группами и, следовательно, порождающего комическую ситуацию:
Подходит бабушка к парню и спрашивает:
– Скажи, сынок, как пройти на улицу Ленина?
– Во-первых, не сынок, а хиппи. Во-вторых, не пройти, а прогреметь костями. В-третьих, не на улицу Ленина, а на хипп-штрасс Ленина.
Идет бабушка дальше, подходит к другому парню и говорит:
– Слушай, хиппи, как прогреметь костями на хипп-штрасс Ленина?
– Что, хиппуешь, плесень?[136]
Процесс словотворчества, постоянно происходящий в дразнилках, несомненно может стать предметом изучения лингвистами. Правда, некоторые специалисты неоднозначно относятся к использованию бранных выражений, встречающихся в дразнилках.
Интересны и процессы взаимосвязи с литературными жанрами. Дразнилку активно использовали С.Я. Маршак, С.В. Михалков, Э.Э. Мошковская, К.И. Чуковский, Э.Н. Успенский, Д. Хармс. Широкое распространение в детской среде получают и литературные образы, среди них, как отмечает О.Ю. Трыкова, «лидирует» дядя Степа Михалкова:
- Дядя Степа-великан
- Проглотил подъемный кран,
- А наутро говорит:
- – У меня живот болит.
Контрольные вопросы
1. Какое явление называют «детской сатирической прозой»?
2. Почему современные исследователи считают необходимым выделить дразнилки в отдельные формы? Какой признак можно считать общим?
3. Когда и почему дразнилки выделились из взрослого фольклора?
4. Почему исследователи усматривают следующее движение дразнилок в детский фольклор: из обрядовой магии в религиозные ритуалы?
5. Как дразнилки соотносятся с игрой?
6. Почему возникают сложности при терминологическом определении дразнилок?
7. Какие свойства отмечены в данной модели при попытке их выделения?
8. Какие свойства дразнилок можно считать постоянными?
9. Что необходимо, чтобы создать дразнилку?
10. Какие разновидности дразнилок можно выделить? П. Чем отличаются прозвища?
12. Что такое ответы на дразнилки?
13. Каковы свойства заманок?
14. Почему исследователи видят необходимость изучения дразнилок специалистами разных смежных дисциплин (этнографами, лингвистами)?
15. Какие связи можно установить между фольклорным и литературным текстом юмористического содержания?
Сечки, молчанки и голосянки
Основные понятия. Сечки: механизм действия, различие между сечкой и считалкой, классификация (основные точки зрения), происхождение, содержание, особенности (ритм, мелодика, образная система, простота построения, специфика словаря, синтаксис).
Молчанки: методика организации игры, особенности, функциональное предназначение.
Голосянки: особенности, связь с игрой и потешным фольклором.
Сечки. Сечки представляют собой «стишки, сопровождаемые ударами по дереву каким-либо твердым или острым предметом.
- Секу, секу сечку,
- Высеку дощечку.
- Сек, сек, сек, сек,
- Шесть – шестнадцать.
На дереве остаются зарубки – сечки. В текстах сечек содержится зашифрованный счет. Данная особенность характерна и для считалки.
Термин введен Г.С. Виноградовым, до сих пор остающимся автором единственной работы, посвященной изучению сечки[137]. Название зависит от характера исполнения данных произведений. Сечками нередко сопровождали посильный детский труд в доме.
Само слово сечка обозначает мелко нарезанную солому с добавлением муки и отрубей, подготовленную на корм скоту. Поэтому можно согласиться с исследователем, что сечки – такой же древний жанр фольклора, как трудовые песни. Ритм помогал облегчать труд. Об этом говорит и название формы, и начальные слова «секу, секу сечку». Из взрослой среды они некогда перешли к детям и стали увлекательной игрой. В сечки начинали играть в первые весенние дни, когда таял снег, но из-за грязи еще нельзя еще было играть в подвижные игры. В сечки играют преимущественно мальчики. По форме сечки можно отнести к словесным играм. В них присутствуют все элементы игры: завязка, ход и концовка.
Происхождение сечек. Поскольку в сечках элементы словесных игр разработаны менее, чем в других формах, Г.С. Виноградов относил их к переходным формам. Он выводил происхождение сечек от заговоров. Однако ни один источник (записи В.И. Даля, А. Можаровского, А. Кудрявцева и самого Г.С. Виноградова) не показывает полного соответствия текстов сечек и заговорных формул. М.Н. Мельников даже высказал сомнение в правомерности подобного сближения.
По-видимому, сечки так давно бытуют в русском фольклоре, что их связь с первоисточниками уже практически неощутима. Действительно, наблюдения этнографов, сделанные в некоторых странах Африки выявили существование подобных произведений, входивших в ритуалы инициации. Постоянным компонентом данных обрядов являются различные испытания, которым подвергаются кандидаты. Одним из них и служат словесные игры. А. Хоуитт приводит английский эквивалент, в котором легко угадывается ритм сечки:
- Timothy Titus took two ties
- To tie two taps to two tall trees
- To terrify the terrible Thomas a Tullamees[138]
В настоящее время уже невозможно установить, являются ли подобные стихи творчеством самих детей или перешли к ним от взрослых. Ссылаясь на бытование аналогичных игр у плотников, лесорубов Урала и Алтая, Г.С. Виноградов разделяет второе предположение. Английские исследователи отметили бытование аналогичных текстов у индийских рубщиков сахарного тростника, а итальянский ученый – у резальщиков табачных листьев[139].
Предшественниками сечек можно считать и трудовые припевки, адаптированные к определенным профессиональным условиям. В сечках имитируются движения – резка листьев или перерубание стеблей растений.
Строение сечек традиционно: в них есть завязка, ход игры и концовка. Обычно они строятся в виде четверостиший, реже встречаются шестистишия, восьмистишия и более крупные формы. Каждая сечка имеет счетное число, зашифрованное в количестве ударений. Самым распространенным является 15 ударений. Известны тексты, в которых содержится счет на 22, 23, 26, 31, 41. Четные числа встречаются редко. Видимо, здесь также проявляются следы древних представлений о том, что четные числа приносят несчастье.
Принципиальное различие между сечками и считалками заключается в том, что в считалке счет является вспомогательной частью игры, своеобразной прелюдией к ней. Сечка же составляет саму игру. В считалке результат не известен, он зависит от количества участников игры, а в сечке он предопределен ее текстом.
Изменение повседневного труда крестьян привело к постепенному исчезновению сечек из детского фольклора. М.Н. Мельников приводит тексты, использовавшиеся в качестве забавы школьников, но не выполняющие прежних задач. В них традиционный рефрен «секу, секу…» заменен новым «пишу»:
- Я пишу, пишу, пишу,
- Пятнадцать палок напишу,
- Если вы не верите,
- Возьмите и проверьте.
Молчанки. Название объясняется порядком действий во время самой игры: один из детей начинает читать текст, чаще всего комического содержания:
- Тише, мыши:
- Кот на крыше
- Кошку за уши ведет.
- Кошка драна,
- Хвост облез,
- Кто промолвит,
- Тот и съест.
Обычно во время игры ведущий старается задеть участников определениями, добиваясь, чтобы один из них не выдержал и заговорил или рассмеялся. Сигналом к молчанию становятся следующие формулы: «Кто промолвит», «Кто скажет», «С этих пор молчать», «С этих пор говорить бросим» и др.
Особенности. Рифма усиливает или эмоционально окрашивает значение слов. Наиболее распространена парная рифма, хотя постоянная ритмическая основа встречается не всегда.
В отличие от считалок молчанки не содержат зауми, все тексты имеют ясное и логически построенное содержание. С помощью молчанки вырабатывается умение владеть своими эмоциями, сдерживать желания. Уговор сохранять молчание используется для установления тишины и порядка.
Голосянка, или волосянка также сочетает в себе свойства игры и потешного фольклора. Участники соревнуются в том, кто дольше протянет тот или иной звук, не переводя дыхания. Обычно они повторяют рифмованный текст вслед за водящим:
- Станем ли мы, братцы
- Волосяночку тянуть,
- А кто не дотянет,
- Того самого…
Если кто-то остановится и не сможет протянуть дольше последний звук о, он и считается проигравшим. Игра способствовала формированию навыков правильного дыхания, но со временем практически забылась.
Контрольные вопросы
1. Покажите механизм действия сечек.
2. Объясните различие между сечкой и считалкой.
3. Каково происхождение сечек?
4. Каковы особенности сечек?
5. В чем заключается методика организации игры?
6. Особенности и функциональное предназначение молчанок.
7. Какие особенности отличают голосянку?
6. Детский обрядовый фольклор
Каждый народ обладал своей сложившейся системой обрядов, с помощью которых люди стремились отогнать или отпугнуть враждебные силы, добиться личного благополучия, излечения от болезней, создания благоприятных условий для получения хорошего урожая.
Определение. Обрядом обычно называют традиционный порядок совершения каких-либо действий, выполняемых во время коллективных праздников – Рождества, свадьбы или действий – похорон, строительства нового дома.
Во время обрядов исполнялись соответствующие ритуальные танцы и пляски, делались подношения враждебным силам. "Обычно они проводились в соответствующее время года, складываясь в своеобразный земледельческий календарь. Фольклористы связывают календарные обряды с выполнением конкретных действий – выгоном скота, жатвой, уборкой хлеба. Вторую группу обрядов составляют ритуалы, связанные с конкретными ситуациями – падежом скота, эпидемиями, пожарами.
С раннего возраста дети участвовали в совершении различных календарных обрядов. Так передавались определенные знания и навыки, усваивались многовековой опыт, этика и эстетика бытового и обрядового поведения.
Первые собиратели детского фольклора отмечали, что дети не только повторяют обряды взрослых, но и видоизменяют их, приспосабливая к своему возрасту. Но основные действия сохранялись, хотя могли носить игровой и даже пародийный характер[140]. Детские песенки утратили связь с ритуальной основой, магией слова и стали частью бытового уклада или даже развлечением. Через игру дети приобщались к миру взрослых.
Аналогичные изменения произошли и с жанром рацеи. Дети превратили ритуальное благопожелание в шутку-попрошайку. Утилитарный характер использования обряда обусловил изменение лексического состава: в нем появлялись бранные и просторечные слова. Особую группу текстов составляют обращения детей к стихиям, растениям и животным. Со временем подобные обращения утратили ритуальный смысл и стали составной частью детских игр.
Состав. Детский обрядовый фольклор состоит из двух основных групп текстов. К одной относятся тексты, заимствованные из взрослой среды, к другой – тексты, бытующие только среди детей и созданные детьми. Тексты, придуманные детьми, составляют примерно четверть из известных по записям. Одним из них является «вьюница» – обряд окликания[141] молодых на второй неделе после Пасхи. Дети пародировали величание – обычай, входящий в состав традиционного свадебного ритуала.
Традиционно выделяют следующие формы: заклички, заговоры, гадания, обращения к растениям и животным, детский народный календарь.
Изучение. Одной из первых попыток систематизации детского фольклора, перешедшего из взрослой среды, стала работа В.Н. Харузиной «Об участии детей в религиозной обрядовой жизни». В ней представлен большой фактический материал, позволивший сделать вывод, что основную часть детского репертуара составляют обрядовые песни или их реминисценции.
Обратимся к изучению конкретных жанровых форм.
Детский народный календарь
Базовые понятия: выделение календарного фольклора, содержание, переход календарного фольклора в детскую среду, образование «детского народного календаря», распределение обрядовых песен по земледельческому циклу, приспособление текстов детьми (игровой и пародийный характер обрядов), построение текстов (использование вопросно-ответной системы, повторов, обращений, просьб, припевов), основные жанровые формы (колядки, рацеи, песни).
Впервые календарный фольклор начали рассматривать как единый комплекс текстов в третьей четверти XIX века. Его основой стали обрядовые песни, приуроченные к этапам земледельческих работ, православным праздникам. Они проводились в определенные дни или периоды года и предполагали участие всех жителей деревни.
Распределение обрядов по периодам года неравномерно. В первой половине года, когда земледелец был полон тревоги за судьбу будущего урожая, выполнялось значительное количество обрядов, носивших охранительный характер. Во второй половине года подобных ритуалов совершалось меньше, в основном они носили благодарственный характер. Значительные группы текстов хронологически приурочены к двунадесятым праздникам, с которыми в большинстве районов России связывалось начало важнейших сельскохозяйственных работ.
При переходе от взрослых «календарный фольклор упрощался, обретал формы, привычные для детской среды»[142]. Внешним проявлением процесса стал отбор текстов. Чаще всего детьми исполнялись песни, заклички (приговорки), обращения к растениям, животным и силам природы. Как правило, магическая функция в них лишь подразумевалась. Более четко она выражалась в обращениях к полю или весне, содержащих просьбы о будущем урожае.
Термин «детский народный календарь» был впервые предложен Г.С. Виноградовым и принят современными фольклористами[143].
Содержание календаря. Годичный цикл открывали обряды, связанные с встречей весны. С 9 марта в большинстве районов связывался обычай печь лепешки, имеющие форму птицы. В Курской губернии в этот день пекут «куликов» – ржаные лепешки с загнутыми крыльями и шарообразной головкой, посередине которой проходит гребень. Перед едой дети «закликают» их. О.И. Капица приводит следующее описание обряда в одной из сельских школ:
«В нынешнем (1904) году на большой перемене дети вынесли из класса несколько парт, поставили их в ряд перед окнами школы и, посадив своих «куликов» рядышком по верху парт, начали закликать:
- Кулик-саморог
- Полетел в огород,
- Сломал палку,
- Убил галку.
- Галка плачет —
- Кулик скачет.
Потом дети начали закликать весну:
- Весна красна!
- На чем пришла?
- На сошечке, на бороночке
- На овсяном снопочку,
- На ржаном колосочку.
Подобный обычай встречается и у других народов. В Греции 1 марта дети обходят дома с деревянной ласточкой в руках, возвещая наступление весны. При этом они произносят благопожелания и выпрашивают дары. Приведем текст народной песенки в переводе Майкова:
- Ласточка примчалась
- Из-за бела моря,
- Села и запела:
- Как февраль ни злися,
- Как ты март не хмурься,
- Будь хоть снег, хоть дождик —
- Все весною пахнет[144].
В Костромской губернии на 4-й неделе Великого поста (крестопоклонной) отмечают середокрестье – женщины пекут «кресты», а дети обходят избы и поют:
- Половина говина (поста) преломилася,
- Вторая за овин схоронил ася,
- Третья треснет.
- Подай нам крестик —
- Не режь, не ломай.
- Лучше весь подавай.
Живой и динамичный праздник воспринимался детьми как игра. Иное отношение проявлялось к пасхальным обрядам. В собрании О.И. Капицы собрано не много записей пасхальных песен, поскольку в то время исследовательница считала их нехарактерными для детской среды.
В качестве примера приведем текст песни, распеваемой детьми в Костромской губернии в Егорьев день (23 апреля), когда там впервые выгоняют скот в поле:
- Батюшка Егорий,
- Спаси нашу скотинку
- И в поле и за полем,
- И в лесу и за лесом,
- Волку да медведю
- Пень да колода.
- Ворону, вороне
- Камешек дресвяный!
- Батюшка Егорий, возьми свечку,
- А нам, молодцам, дай по яичку.
Дети ходят по избам, где поют эту песенку и получают дары от хозяев. Сохранение подобного обряда не случайно, поскольку с выпасом скота для детей начиналась повседневная работа в поле.
К второй неделе после Пасхи была приурочена «вьюница» – обряд окликания молодых. Войдя во двор, группа детей исполняла песенку с просьбой подать пирога или хлеба. В.Н. Харузина отмечает, что для подобных текстов характерна определенная двойственность – в календарных песнях появляются элементы иронии и даже сатиры. В качестве примера, она приводит песенку, посвященную Дмитриевской (родительской) субботе:
- Пришла Митрева суббота
- Вам, кутейникам, забота,
- На могилах бабы воют,
- Кутейники блины ловят,
- Через семьдесят могил
- Разорвали один блин[145].
С днем Святой Троицы, когда в средней России начинает колоситься озимая рожь, связан обычай «колосок». Ранним утром дети выходят на поле, идут вдоль посевов и поют:
- Пошел колос на ниву,
- На белую пшеницу.
- Уродися на лето
- Рожь с дикушей (гречихой),
- Со пшеницею.
Основные функции в обряде выполняет девочка, ее проносят на руках по озимому полю, она срывает горсть колосьев. Затем девочку уносят в деревню, где она разбрасывает их около церкви[146].
В обрядах летнего времени обычно принимали участие взрослые. Они же являлись и основными исполнителями данных обрядов. Поэтому от детей записано немного семицких, спожиночных и других песен, связанных с летними праздниками.
Некоторые элементы весенних и летних обрядовых песен отразились в детской игре «Кострома». В собрании О.И. Капицы имеется 20 вариантов игры, записанных во Владимирской, Костромской, Тульской и других губерниях.
Обряд похорон «Костромы» основан на языческом ритуале. Соломенная кукла (Кострома) олицетворяла собой природу, замирающую зимой и воскресающую весной. Обычно кто-то из детей изображал «Кострому», другой – «няньку» или «мать» ее. Игра состояла из диалогов, построенных по вопросно-ответной системе. Дети по очереди подходили к «няньке» и справлялись о здоровье «Костромы». «Нянька» отвечала, что Кострома заболела.
Когда «нянька» объявляла, что Кострома умерла, дети изображали похороны и оплакивание, относили Кострому в сторону и клали на землю. Но она тотчас вскакивала и начинала ловить участников игры. Первый пойманный становился новой Костромой, и игра повторялась.
Большинство текстов календаря связано с зимними праздниками – Новым годом, Рождеством и Святками. Оба праздника сопровождаются обходом домов детьми с пением «колядок» и «щедровок», первые поются на Рождество, вторые – на Новый год.
Колядование. Славильщики пришли.
В этнографических трудах постоянно встречаются указания, что в большинстве районов России уже в середине XIX века данный обычай исчез из бытования среди взрослого населения и перешел к детям. Так, в записях, сделанных в 1883 году в Шуйском уезде Владимирской губернии, указывается, что семь лет тому назад с колядками ходили и взрослые, а теперь ходят только дети. В Вязниковском уезде этот обычай перестал бытовать еще раньше – в конце 1860-х годов[147].
Среди славянских народов колядки и щедровки особенно распространены на Украине. Содержание колядок и щедровок разнообразно. По форме они представляют собой песни. Начало и конец носят формульный характер. Колядка начинается следующим традиционным обращением: «Приходила коляда накануне Рождества», «Коледа, маледа, где была?», «Коледа, маледа, подавай пирога».
Основная часть колядки состоит из вопросов и ответов.
Встречаются колядки, состоящие только из цепочки вопросов и ответов:
Коляда, коляда, Вскочил козел На боярский двор. «Почто вскочил?»
- – Бруска просить.
- «На что бруска просить?»
- – Косу точить.
- «На что косу точить?»
- – Сено косить.
- «На что сено косить?»
- – Коня кормить.
- «На что коня кормить?»
- – Дрова возить.
- «На что дрова возить?»
- – Избу топить.
- «На что избу топить?»
- – Маленьким ребятишкам козульки печь[148]
Распространенная в колядках вопросно-ответная композиция легко запоминалась детьми. Как и щедровки, колядки обычно заканчивались просьбой к хозяевам подать славильщикам что-нибудь съедобное:
- Подавайте пирога,
- Аль оладышков,
- Аль блинчиков.
- Подавайте пирога,
- Али денежку.
Иногда вся песенка состоит из просьбы подать хоть что-нибудь:
- Как подходит коляда
- Под святые ворота, —
- Подай тетушка,
- Подай матушка,
- Блин да лепешку,
- Свиную ножку.
Если хозяева ничего не подавали славильщикам, концовка выглядела следующим образом:
- Как не дашь пирожка,
- Уведем корову за рога
- И за задним воротом
- Привяжем к столбу,
- Ушибем метлой[149].
Скупым желают:
- Ни кола, ни двора,
- Ни милого живота.
По содержанию просьбы различались, например, дети часто просили не держать славильщиков на морозе:
- Прикажите, не держите,
- Наших ножек не знобите.
Щедровки сходны с колядками по содержанию, но сопровождаются припевом «овсень» или «таусень», повторяющимся через каждые одну-две строки. В них содержится приветствие хозяевам, их величание, и благопожелания. Во многих местах новогодние поздравления сопровождаются пожеланиями хорошего урожая, «засеванием» – осыпанием хозяев овсом, рожью, гречихой.
Приведем описание «засевания» – обычая, зафиксированного в Судожском уезде Курской губернии: 7 января утром мальчики ходят «засевать». Они заходят в дома небольшими группами от одного до трех человек. Войдя, дети разбрасывают по полу зерна ржи, овса, проса и другие злаки и говорят:
- Ходит Илья на Василья,
- Носит трубу жестяную,
- А другую просяную.
- Зароди, Боже, жита-пашеницу,
- Всякую пашницу[150].
- В доме – добро,
- В поле – верно,
- В доме – пирожисто,
- В поле – колосисто.
- Васильева мать
- Пошла щедровать;
- Заросилася, замочилася,
- На престоле стояла,
- Златой крест держала.
- А вы, люди, знайте:
- Богу свечку ставьте,
- А нам грошик дайте.
- Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой!
- С новым годом!
- С новым счастьем!
- С новым здоровьем!
Хозяева дают детям лепешку, пирога, кусок сала или копеечку[151].
Приводим еще характерное новогоднее пожелание, записанное от детей в Тульской губернии:
- Сею-вею, посеваю,
- С новым годом поздравляю,
- Со скотом, с животом,
- Со пшеничкой, с овсецом.
- Ты, хозяин-мужичок,
- Полезай в сундучок.
- Доставай пятачок —
- Нам на орешки,
- Вам на потешки.
- Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой
Исполнение песни также сопровождается разбрасыванием зерен.
Обходы домов детьми с песнями и одаривание их, приуроченные к определенным праздничным дням, распространены во всех европейских странах. В них постоянно включаются угрозы и насмешки над скупыми хозяевами. В Голландии в день св. Мартина (2 ноября) дети ходят в деревнях по дворам с зажженными свечами и поют:
- Здесь живет богатый человек —
- Он много даст.
- Если он много даст,
- То счастливо проживет.
- Счастливо умрет
- И наследует царство небесное.
Если детям ничего не подают, то прибавляют:
- Мешок с отрубями,
- Мешок с порохом
- Здесь живет скупой черт[152].
Дети участвуют и в других обрядах зимнего цикла. Во Владимирской губернии дети устраивают сжигание на костре соломенной куклы – Масленицы. Для этого они собирают по дворам солому и дрова. Небольшой группой они приходят на двор и исполняют песенку:
- Масленица – обманщица
- Мимо красного села
- Обманула – провела,
- В закоулок завела.
- Дома редьки хвост
- На великий пост.
Затем следует просьба подать соломки. Все собранное дети сносят в одно место, где разводят костер, посередине которого ставят куклу, сделанную из соломы. Часто в деревне одновременно загорается несколько костров, вокруг каждого из которых собираются дети из ближайших домов. Они водят хороводы и поют песни, подобные приведенной выше. Когда костры догорят, дети вновь ходят под окнами избы и поют:
- Тинь-тинька,
- Подай блинка,
- Последний кусок
- Мочальный усик.
В детском репертуаре присутствуют и тексты духовного содержания. В некоторых областях России во время рождественского христославления дети поют или говорят тропари и кондаки, посвященные празднику, а также исполняют особые праздничные песенки, известные под названием «рацеи», «рацейки», содержание которых связано с отмечаемым праздником. И.А. Морозов замечает, что на севере христославление обычно замещает колядование[153].
Рацеи представляют собой свободные переложения текстов, напечатанных в духовных учебных книгах[154]. Под влиянием народной поэзии в них появились смежные рифмы, двусложные размеры, перехваты. Обычно содержание рацеек составляют евангельские сюжеты: избиение младенцев, появление ангела, возвестившего пастухам о рождении Христа, или волхвов. Как правило рацеи заканчиваются просьбой одарить славильщиков:
- От востока с мудрецами
- Путешествует звезда,
- С драгоценными дарами
- Одарить пришли Христа.
- Мы пришли Христа прославить,
- А вас с праздником поздравить,
- Вам для потешки,
- А нам на орешки[155].
В рацее, записанной в Архангельской губернии, так изображено избиение младенцев Иродом:
- Во всем мире
- Младенцев побили.
- Били, секли, ругали,
- Маткам ручки заломили,
- Волосы дерут и т. д.
Собиратели отмечают, что содержание рацей мало понятно крестьянским детям. Поэтому оно часто искажается и даже иногда представляет собой полную бессмыслицу. Записи, содержащиеся в архиве О.И. Капицы, показывают, что в 20-е годы XX века данный жанр постепенно исчезал из обихода.
Необходимо согласиться с Г.С. Виноградовым, что детский календарный фольклор «имеет законченный цикл существования: сравнительно легко проследить возникновение, распространение и последующие стадии его жизни. На глазах историка он выпал из фольклора взрослых, вошел в детскую среду и теперь окончательно исчезает»[156]. На это же указывает и использование календарного фольклора в прозе таких писателей, как А.М. Ремизов и И.С. Шмелев. Оба писателя рассматривали запомнившиеся с детства игры и тексты как символ безвозвратно ушедшего прошлого.
Контрольные вопросы
1. Что входит в понятие «обрядовый фольклор»?
2. Кто первым определил «детский народный календарь» как самостоятельный раздел детского фольклора?
3. Каковы основные особенности «детского народного календаря»?
4. Какие жанры стали составляющей детского календаря?
5. Почему они сохранились именно в детской среде?
6. Почему наибольшее количество текстов посвящено зимним праздникам?
7. В каких литературных произведениях и почему мы находим эпизоды из детского календаря?
8. Почему календарные песни носят обрядовый характер?
9. По какому принципу вы бы выстроили свой календарный цикл?
10. Как другие народы организуют собственные земледельческие календари и связанные с ними обряды?
11. Какие игры встречаются в «детском народном календаре»?
12. Кто и почему чаше являлся исполнителем обряда?
13. Почему использовалась вопросно-ответная композиция?
14. Какие элементы являлись повторяющимися?
15. Что такое «рацеи»?
16. Чем рацеи отличались от колядок?
17. Когда и почему закончился период бытования «детского народного календаря»?
Заклички
Традиционно к заклинкам относят небольшие песенки или рифмованные приговоры, исполнявшиеся вне праздничного ритуала. Они содержат словесное обращение к силам природы, животным, насекомым и растениям, посвященное определенному случаю или выражающее какую-либо просьбу. И.С. Слепцова отмечает, что тексты активно бытуют среди детей дошкольного и младшего школьного возраста и «продолжают отчасти сохранять магический характер»[157].
Объектами обращения являются олицетворенные стихии – дождь, радуга или времена года, а также персонифицированные праздники (Весна, Коляда, Купала). Из-за четко выраженной функциональной роли некоторые исследователи называют заклички обращениями.
Генетически заклички являлись составляющей обряда. И.П. Хрущов еще в 1885 году отмечал, что «в закличках сохранился древний языческий извод заклинания: «отворяет ворота ключиком-замочком, золотым платочком». Это хорошо известный по заговорам образ девицы-зари с ключами от росы и облаков»[158]. Переход закличек в детскую аудиторию был связан с утратой ими магического содержания.
Сопоставление ряда текстов показывает возможный механизм подобного перехода. Приведем в качестве примера следующие тексты.
1. Дощику, дощику, сварю тебе борщику в новенькому горщику, поставлю на дубочку, дубочек схитнувся, а дощик лынувся цебром, ведром, дойничкою над нашею пашничкою.
2. Дощику, дощику, зварю тебе борщику в маленькому горщику, тоби борщ, мени каша[159].
3. Дождик, дождик, пуще! Дадим тебе гущи!
Первые два текста записаны от взрослых носителей, а последний – от детей. Во втором примере текст сокращен по модели заговора, а в третьем обращение к дождю становится элементом игры.
Произнесение закличек считалось обязательным, если нужно было вызвать желаемое действие или прекратить, отвести нежелаемое. К дождю обращаются тогда, когда он необходим для произрастания растений и злаков. Его просили «припустить», «поливать весь день», «лить пуще», просили «дождю в толстую вожжу»:
- Дожжик, лей,
- Дожжик, лей
- На миня и на людей,
- На папину рожь,
- На мамин ечмень
- Поливай весь день.
- Дождь, дождь,
- Поливай весь день
- На наш ячмень,
- На бабью рожь,
- На мужичий овес,
- На девичью гречу,
- На мальчие просо.
Как и в древних обрядах, дождю обещали награду «горшок гущи» или «кусок пирога», краюшку хлеба. Во многих записях произнесение заклички сопровождается определенным действием: чтобы она «подействовала», нужно было перекувырнуться через голову по направлению к реке[160].
Если дождь шел слишком долго и мог повредить полям, то его просили перестать. Тогда произносили другую закличку:
- Дождик, дождик, перестань —
- Я поеду на Иордань,
- Богу молиться,
- Христу поклониться,
- Отворяю ворота
- Ключиком-замочком,
- Шелковым платоником.
Она также сопровождалась действием:
- Как Христу поклониссе, дождь перестанет.
Со временем общая структура текста песенки почти не изменилась, другими стали лишь отдельные составляющие, например, указание на место поездки: чаще всего встречается «Иордань», а затем «Рязань», «Черностань» «Верестань», «Августань» и т. д.[161]
Затем следуют обращения к радуге и к солнцу с просьбой о хорошей погоде:
- Радуга-дуга,
- Не давай дождя,
- Давай солнышко,
- Колоколнышко[162].
Обращение к солнышку:
- Солнышко-ведрышко,
- Выгляни в окошечко,
- Твои детки плачут,
- Пить, есть хотят[163].
Дети солнышка – это русские люди, о которых в «Слове о полку Игореве» говорится как о «дажьбожьих внуках», ведь Даждь-бог – солнечное божество древних славян.
Чаще всего встречаются заклички, которые должны были повлиять на природные явления, что также подтверждает их происхождение из земледельческой магии.
В восточной Африке распространена закличка для вызывания ветра. Если во время веяния зерна – работы, производимой женской частью населения, – нет необходимого ветра, то девочки призывают его свистом и следующими словами: «Ветер, я возьму твоего ребенка и положу его к себе на колени».
Дети другого африканского народа при приближении дождя радостно кричат: «Манкостане (название божества), принеси нам дождя»[164]. Обращаясь к месяцу, дети говорят, что он убывает, а они растут[165].
Состав предметов, животных и растений, упоминаемых в обращениях разнообразен – это те животные, с которыми дети встречаются в повседневной жизни.
О.И. Капица полагает, что самым распространенным животным в заклинках была улитка, обращение к которой встречается почти у всех европейских народов:
- Улитка, улитка,
- Высуни рога:
- Дам тебе пирога.
Другой вариант был записан в Тверской губернии, Весьегонском уезде, в 1927 году:
- Слизень-близень (улитка),
- Выпусти рога,
- Дам пирога и кувшин молока.
- Как не выкажешь рога,
- Пестом зашибу,
- В острог посажу.
Песенка поется до тех пор, пока улитка не высунется из своей раковины. Приведем тексты такого же обращения к улитке у других европейских народов. Немецкая:
- Schneckhaus, schneckhaus,
- Stecke deine Homer aus,
- Und wenn du sie fiicht stecken willst
- Werf ich dich in Graben
- Fressen dich die Raben.
(Улитка, улитка, высуни рога, если ты не высунешь, я брошу тебя в яму, тебя съедят вороны.)[166]
В Савойе записан следующий вариант обращения к улитке:
- Escargo-virago,
- Montre tes comes
- Avant quejete tue.
(Эскарго-вираго, высуни рога, прежде чем я тебя убью.)[167]
Английское обращение к улитке:
- Snail, snail come out of your hole,
- Or else I'll beat you as black as a coal.
- Snail, snail put out your horns
- Here comes a thief to pull down your walls.
(Улитка, улитка, выходи из своей раковины, или буду бить тебя; ты станешь черной как уголь. Улитка, улитка, высуни рога, идет вор, он разрушит твои стены.)[168]
И.С. Слепцова указывает, что последний тип закличек основан на мотиве обмена: за выполнение просьбы персонажу предлагают какое-либо вознаграждение. В некоторых закличках мотив угадывается с трудом: «Когда купалися да в уши вода попала, дак на одной ноге скачешь да приговариваешь:
- Мышка, мышка,
- Вылей воду
- На дубовую колоду.
- Там кони пьют,
- Там воду льют».
В обращениях к некоторым насекомым и птицам сохранились древние поверья. Увидев божью коровку, говорят:
- Божья коровушка, завтра будет ведро аль ненастье?
Если жучок полетит – будет хорошая погода, если нет дождь.
Проходя мимо ульев, в Харьковской губернии обращаются к пчелам:
- Пчелы гудут,
- В поле идут.
- С поля идут,
- Медок несут[169].
Аналогичные формы обращения к животным мы находим и у первобытных народов. Чаще всего они связаны с охотой. Во время ловли морских крабов девочки африканского племени баронга поют: «Эй вы, с одной клешней! Поднимите ее вверх и опустите ее!» Считается, что в ответ на этот призыв крабы должны появиться на берегу, как бы разрешая себя собрать.
Заметив греющуюся на дереве большую ящерицу вида «Galagata», молодежь становится возле нее и начинает петь, ударяя в ладоши: «Большая ящерица, закинь, закинь назад голову». В ответ на обращение ящерица как бы вытягивает шею и качает головой в то время, пока бьют в ладоши. Движение ящерицы в ответ на обращение означает благоприятный прогноз на будущее[170].
И.С. Слепцова выделяет приговоры, связанные с гадательными ритуалами. Они восходят к древнейшим мифологическим представлениям о том, что птицы приносят вести из иного мира. Прощаясь с улетающими журавлями, их расспрашивали о времени наступления зимы. По «ответам» птиц судили о времени ее наступления: «Если верхняя птица ответит, то зима наступит нескоро, если та, что летит близко к земле – то быстро». Дети превратили обращения в игру:
- Чайца, чайца,
- Продай свои яйца,
- На тебе голыш,
- Куда хошь полетишь.
Увидев летящую гагару, поют:
- Гагара, гагара,
- Обернись назад —
- Твои дети горят,
- На Мати горах (у Холмогор),
- Смолу жгут.
Аналогично построено обращение к ястребу, которого отгоняют от цыплят:
- Ястреб, лети ящичком,
- Твои дети горят —
- Тебя кричат,
- Не таскай цыплят.
Близки к нему по содержанию английская и немецкая песенки, относящиеся к насекомым и птицам. Английская песенка посвящена божьей коровке:
- Ladybird, ladybird,
- Fly away home.
- Your house is on fire,
- Your children will burn[171].
Немецкая песенка адресована ворону:
- Rab, Rab, dein Haus brennt an,
- Deine Kinder shreien alle z'sammen,
- Dein Weib sitzt auf m Herd
- Und shreit wie'n alter Bar[172].
В Харьковской губернии, завидев коршуна или ястреба, дети кричат:
- Гай! гай, на чужой край,
- Там на четверо хватай,
- А моих не замай.
Аналогичные обращения несут и следы лечебной магии: например, формула, произносившаяся при виде пролетающих журавлей, построена по модели заговора: «Когда, первый раз летят [журавли], дак надо говорить: «У журавля спина колом, а у меня колесом!» Токо перевернешься кверху ногам, головою [вниз], штобы спина не болела. Я так часто делала»[173].
Среди насекомых чаще всего дети обращаются к божьей коровке, у которой спрашивают погоду или просят принести урожай:
Коровушка, буренушка,
Завтра дождь или ведро?
Если ведро, то лети,
Если дождик, то сиди.
Божья коровушка,
Полети на небо,
Принеси нам хлеба
Черного, белого,
Только не горелого[174].
Реже встречаются обращения к домашним животным. Приводим тексты песенок, связанные с выгоном скота на пастбище. Так, в Смоленской губернии приговаривают, напутствуя впервые выходящий на пастбище скот:
- Пошли коровушки около дубравушки,
- Овечки – около речки,
- Свиночки – около нивочки,
- А конички – около горычки.
В Ярославской губернии дети обращаются к корове:
- Коровушка, буренушка,
- Подай молочка,
- Покорми пастушка[175].
В Казанской губернии, когда дети встречают теленка, говорят:
- «Телеш, телеш,
- Куда бредешь?» —
- В лес. волков есть.
- – «Смотри, телеш,
- Тебя допреж»[176].
Отметим также и простейшие гадания, которые должны были принести удачу во время сбора ягод и грибов. Так, в Ярославской губернии, когда дети идут за грибами, они просят:
- Никола, Микола,
- Наполни лукошко.
- Стогом верхом,
- Перевертышком[177].
В Смоленской губернии, отправляясь за грибами, дети подбрасывают лукошко, загадывая об удачном или неудачном сборе: «Дай, Бог, полна и ровна, чтобы верх набрать». Когда лукошко станет на донышко – это к прибыли: «А, наберу». Если же опрокинется кверху дном – дурная примета: «Ах, оборотилось лукошко: ничего не наберу, а в донышке ничего не будет». В поисках грибов приговаривают прибаутки и поют песенки:
- Грибы на грибы,
- А мой поверху.
Или
- Жили-были мужики,
- Брали грибы рыжики[178].
Приведем современные записи, показывающие, что подобные приговоры продолжают бытовать среди детей: «Бросали корзинки: «Антошка, Антошка, наполни мне лукошко!» – приговаривали и бросали вверх. Если она стоя станет – наберешь полное лукошко, на бочку – значит, полкорзинки наберешь, а кверхьку дном – значит, ничё не наберешь».
- Идем по ягоды:
- Тимка-Тимошка,
- Наполни лукошко,
- Поставь на окошко,
- Не просыпли, Тимошка![179]
Летнее купанье в реке также связано с определенными приговорками. Перед ныряньем в Смоленской губернии дети говорят:
В Архангельской губернии во время купания дети говорят:
Если во время купания в Ярославской губернии кому-нибудь из детей попадет в ухо вода, то, заложив пальцем ухо и наклонившись вбок, дети, прыгая на одной ноге, приговаривают:
- Оля, Оля,
- Вылей воду на дубовую колоду,
- Чашки помыть —
- Лошадей напоить.
На Мурмане в этом же случае дети приговаривают:
- Кошка-мышка, выливай-ка
- Из единого порогу, из ушей,
- Чтобы не было мышей.
Другой особенностью закличек, также имеющей древнее происхождение, можно считать звукоподражательный характер, например, подражание крикам перепелов: «Миколай (любое имя), под поветь, поветь», пению малиновки: «Бросай сани, возьми воз». К ним примыкает приветствие прилетающих весной птиц – «Журавли закурукают, да и мы закурукаем все маленькие».[180] Приведенные примеры отражают еще одно интересное явление – переход закличек в игру.
Отметим некоторые особенности закличек. В процессе бытования в детской среде в закличках появляются элементы иронии. М.Н. Мельников даже выделяет заклички-пародии: «Эроплан, эроплан, посади меня в карман! А в кармане пусто – выросла капуста»[181].
Отражение реалий времени, появление бытовых подробностей свидетельствует о подвижности жанра и склонности его к определенной эволюции. С течением времени одни тексты исчезают, другие сокращаются или переходят в иные жанры.
Контрольные вопросы
1. Какие особенности закличек позволяют говорить об их связи с обрядовой поэзией?
2. К кому и почему обращались в закличках?
3. Почему в закличках отмечаются элементы юмористического мироощущения?
4. Можно ли говорить о связи закличек с формами игрового фольклора, загадками и приговорами?
5. Являются ли заклички продуктивно развивающимся жанром фольклора?
Небылицы
Основные понятия: определение, особенности бытования, терминология, особенности (образная система, антропоморфизм, композиция, рифмовка), методика рассказывания, формы, жанровые модели.
Бытование жанра. Небылицы, или небывальщины, представляют особый жанр фольклора, встречающийся у всех народов как самостоятельное художественное произведение или как часть сказки, былички, былины, скоморошины[182].
Жанр одинаково распространен как во взрослом, так и в детском репертуаре. Отличие заключается в форме. В произведениях, исполняемых для детей или детьми, «небылица принимает форму песенки, рифмованной приговорки (считалки), молчанки, дразнилки, пестушки и т. д.».
Детей привлекают произведения, где развивались бы совершенно невероятные события; происходила перестановка объекта действия или признаков, характеризующих различные предметы; функции и свойства одного предмета приписывались другому. «Нарушение правильной координации вещей вызывает в детях смех, и чем больше это нарушение, тем ощущение смешного сильнее», – отмечала О.И. Капица.
Определение. Обычно небылицами исследователи считают «произведения различной жанровой принадлежности, изображающие действительность с преднамеренным нарушением хронологической последовательности событий, причинно-следственных связей и т. д. и создающие полную несообразностей художественную картину мира».
Вероятно, название «небылицы» дали сами исполнители:
- Позвольте, братцы, небылицу с пеги,
- Небылицу, да небывальщину.
Или:
- Старину спою, небывалую, да не слыханную.
Важным их свойством является алогизм. Предметный мир, домашние животные, птицы – все в небылицах показано с «абсурдной» стороны.
Второе свойство обусловлено приписыванием одному предмету свойств другого. Оно было отмечено, в частности, К.И. Чуковским, назвавшим подобные произведения «перевертышами» по аналогии с английскими «Topsy-turvy Rhymes» – «стишки навыворот, стишки перевертыши». Название «перевертыши» отчасти совпадает с немецким названием «Verkehre Welt» – «перевернутый мир».
Изучение, Одной из первых в отечественном литературоведении песенки-перевертыши рассмотрела О.И. Капица, ее выводы впоследствии подтвердили английские ученые И. Оупи и П. Оупи в книге «Фольклор и язык школьников», вышедщей в Кембридже в 1959 году. Примерно в то же время В.П. Аникин закрепил двойное название подобной формы.
Вместе с тем некоторые исследователи проводят различие между ними Е.М. Левина полагает, что необходимо разграничивать небылицы и перевертыши. Различие между Ними наблюдается в своеобразии характера действия: в небылице главным принципом становится антропоморфизм (совершение зверями работы людей, приобретение ими человеческих прозвищ и качеств).
В перевертыше имеет место обратная координация, звери выполняют ту же работу, но делают ее необычным образом – косят сено молотками, кафтан зашивают метлой. Неординарностью отличаются и временные характеристики: в небылицах бедствия птиц и насекомых изображаются как мировая катастрофа, в перевертышах герои перемещаются по морю на решете, путают времена года и сезоны[183].
Всякое отступление от нормы помогало ребенку искать и находить свои ориентиры в пространстве. Таковыми становились ассоциативные связи. Перевернутый мир позволял по-иному посмотреть на обыденные вещи, определить их, оттенить и подчеркнуть отдельные качества.
М.Н. Мельников уточняет, что анализ текстов, опубликованных В.И. Далем, позволяет утверждать, что небылицы создавались взрослыми и для взрослых. Поэтому нельзя относить их к творчеству детей, скорее речь идет о своеобразных переложениях или приспосабливании детской аудиторией отдельных форм.
Не случайно перевертыши активно использовала народная педагогика, активизируя познавательную деятельность ребенка и формируя у него умение видеть комическое:
- Кошка на лукошке
- Ширинку шьет,
- Кот на полатях
- Указывает:
- Не так, кошка
- Не так, плошка,
- Не так черепец,
- Наш Иван молодец.
Особенности. Небылицы отличаются игровым характером перевертышей, Чуковский считал их умственной игрой: «Ребенок играет не только камешками, кубиками, куклами, но и мыслями». Научившись складывать бывальщины, ребенок начинает превращать их в собственные истории – «жажда играть в перевертыши присуща чуть ли не каждому ребенку на определенном этапе его умственной жизни»[184].
Круг образов детской небылицы предопределялся условиями крестьянского быта, в них присутствовали знакомые крестьянскому ребенку с детства животные, птицы, насекомые. Только они одевались как люди: «коза в сарафане», «курочка в сапожках», «утка в юбке». Животные выполняли те же обязанности: «курочка избу метет, вымела избушку, положила голичек под порожичек», «кот на печи сухари толчет, кошка ширинку шьет».
Перемещение животных в несвойственную им обстановку, где они были вынуждены действовать несвойственным образом, приводило к созданию комического эффекта. Случалось, что одним животным приписывались свойства других: «по поднебесью медведь летит, ушками, лапками помахивает, серым хвостиком поправливает», «собачка бычка родила», «поросеночек яичко снес».
Основным приемом становится антропоморфизм: животные, насекомые, птицы переодевались в человеческую одежду и наделялись людскими качествами, свойствами и пороками. Они выполняли одинаковые с людьми действия. Люди также работали и действовали в несоответствующей обстановке: «мужики на улице заезки (заколы для рыбной ловли) бьют, они рыб ловят». Животные использовались необычным образом: «Фома едет на курице, Тимошка – на кошке»; «мужик комарами пахал, дубинкою погонял».
По сравнению с сказками антропоморфизм небылиц имеет свои особенности. Сходство проявлялось в очеловечивании животных, однако в сказке животное выступает как носитель определенных качеств: лиса отличалась лукавым нравом, оказывалась изворотливой, способной к воровству; медведь, напротив, всегда неповоротлив и недогадлив.
В небылицах характеристика меняется. Приведем некоторые небыличные песенки, в первой из них представлены переодетые животные, а во второй – ряженые животные пляшут:
- Ульяна, Ульяна,
- Садись-ка ты в сани,
- Поедем-ка с нами
- В нову деревню.
- В новой деревне
- Во старом селеньи
- Много дива увидишь:
- Курочка в сережках,
- Козел в новых портках,
- Коза в сарафане,
- А бык в кожане,
- Утка в юбке,
- Селезень в жерельях,
- Корова в рогоже —
- Нет ее дороже!
- У нашего Данилы
- Разыгралася скотина,
- И коровы и быки
- Разинули кадыки,
- Утки в дудки,
- Тараканы в барабаны;
- Коза в синем сарафане,
- Во льняных штанах,
- В шерстяных чулках,
- Вол и пляшет,
- Ногой машет,
- Журавли пошли плясать,
- Долги ноги выставлять,
- Бух, бух, бух.
Семья коз выполняет крестьянскую работу:
- Козел муку мелет,
- Коза подсыпает,
- А маленьки козляточки
- В амбарах гуляют.
По форме небылица представляет собой краткую сюжетную зарисовку, бытовую картинку с конкретным содержанием без зачина и концовки. Приведем пример небылички, где действующими лицами являются насекомые: тараканы, комар, вошь, блоха:
- Таракан дрова рубил,
- Комар по воду ходил,
- В грязи ноги завязил.
- Блоха поднимала —
- Живот надорвала.
- Вошка баню топила,
- Гнидка щелок варила,
- Вошка париться ходила,
- Со угару-то упала,
- На лохань ребром попала,
- Слава богу околела,
- Всему миру надоела.
Сюжетная законченность описания, насыщенность конкретными деталями, наглядные несообразности обуславливают смысловую емкость, точную и зрелищную передачу действий
Композиционно перевертыш состоит из картин-действий, расположенных цепочкой и слабо соединенных друг с другом. В нем происходит перестановка объекта действия или признаков, характеризующих разные предметы. Иногда эта словесная забава «принимает характер игры в обмолвку»:
- Где это видано,
- Где это слыхано,
- Чтоб курочка бычка родила,
- Поросенок яичко снес,
- Безрукий-то клеть обокрал,
- Нагому за пазуху наклал,
- Безногий вприпрыжку побежал
Концовка в небылицах отсутствует или не влияет на основное содержание, воспринимаясь как законченное резюме:
- Гнида щелок щелочила,
- Вошка париться ходила,
- Со угару-то упала,
- На лохань ребром попала.
- Слава богу околела,
- Всему миру надоела.
Некоторые исследователи полагают, что зачин, напротив, играет важную семантическую роль: «в нем сразу подчеркивается, что речь идет о чепухе, небыли, в которую не верят»[185].
Повествование в небылице ведется от первого или третьего
- У нашего Данилы
- Разыгралася скотина.
Или:
- Жил я у матушки
- В сосновой избушке.
- Спал на подушке,
- На перинушке.
Характер рифмовки в небылице разнообразен. Наиболее распространены смежные рифмы:
- А хозяин на печи обувается,
- А медведь на дороге повивается,
- А свинья под мостом овес толкет,
- А лягушка на дворе песенки поет[186].
Пример перекрестной рифмы в сочетании с внутренней:
- Козел муку сеет,
- Коза подсевает,
- А барашки крутоторожки
- В дудочку играют,
- А сороки-белобоки
- Ножками топ-топ,
- А совища из углища
- Глазами-то хлоп-хлоп[187].
Часто встречаются внутренние рифмы в сочетании с парными
- Скок-поскок,
- Молодой дроздок[188].
Перевертыши различаются по жанровой модели; иногда это коротенькая прибаутка:
- Эх, сапоги у меня на вате,
- А поддевка на скрипах.
- Да я на пегой на телеге
- На сосновой лошади.
Но может быть и целая песенка:
- Лыко мужиком подпоясано.
- Ехала деревня середь мужика,
- Глядь из-под собаки лают ворота;
- Ворота-то пестры, собака-то нова.
- Мужик схватил собаку
- И давай бить палку.
- Собака амбар-то поджала
- Да в хвост и убежала.
- Изба пришла в мужика
- Там квашня бабу месит.
Встречаются перевертыши в форме нарратива:
Я встал поутру, обулся на босу ногу, топор надел, трое лыж за пояс подоткнул, дубинкою подпоясался, кушаком подпирался. Шел я не путем не дорогою; подле лыков горы драл; пошел я в чисто поле, увидал: под дубом корова бабу доит. Я говорю: «Тетенька, маминька, дай мне полтора молока пресного кувшина». Она не дала. Я вышел на улицу: тут лайка собачит (вм. собака лает) на меня; мне чем обороняться? Я увидал: на санях дорога, выхватил из оглобель сани, хлысть лайку и пошел домой.
В данном случае сюжет разворачивается как необычная история, которая приключилась с самим рассказчиком. Е.М. Левина полагает, что даже в том случае, когда присутствуют «мотивы прозаической небылицы, повторы ритмически их организуют».
В качестве примера она ссылается на опубликованный П.В. Шейном текст «былинной» небылицы, исполняемый в детской аудитории, отмечая наличие эмбриональной рифмы и построение по законам силлабо-тонического стихосложения:
- …Да не курица на ступы соягниласе,
- Корова на лыжах прокатиласе,
- Да свинья в ели-то ведь гнездо свила.
- Да гнездо свила да детей вывела.
- Малых деточек да поросяточек.
- Поросяточка всё по сучьям вися,
- По сучьям вися и полететь хотя[189].
- Обоухая свинья
- На дубу гнездо свила,
- Поросила поросят
- Ровным счетом шестьдесят.
- Распустила поросят
- Все по маленьким сучкам.
- Поросята визжат,
- Полететь яны хоцяць[190].
О.И. Капица отметила, что к небылицам примыкают так называемые «большие песни». В большинстве из них действующими лицами являются животные, которые действуют подобно людям. Наиболее распространенными она считает следующие: «Козел», «Сватовство совы», «Война грибов», «Чечотка», «Смерть и похороны комара», «Поедем-ко, женушка, домик наживать», «Жил я у попа».
Подобные песни П.В. Шейн называет сатирическими и скоморошными. «Почти все они, – замечает он, – отличаются явным сатирическим характером, смысл и цель которого с течением времени сгладились, вследствие чего они в значительной степени потеряли совершенно интерес для людей старших поколений. Но, благодаря обилию аллитераций, тавтологий и рифмы, а равно легкости для запоминания их несложных музыкальных мотивов, они, так сказать, сами напросились своими неоцененными услугами матерям, нянькам, пестуньям, для которых они являлись самыми желанными, самым удобным и подходящим средством занимать и забавлять приятным образом своих и чужих малюток. Эти малютки, выросши и возросши до отроческих лет, сами с удовольствием начинают употреблять эти самые песенки и прибаутки»[191].
Отсутствие точной терминологии привело к тому, что в первом собрании «Русских народных песен» П. Шейн поместил эти песни в детский отдел, а в «Великоруссе» перенес их в группу юмористических песен для взрослых.
Среди больших песен в первую очередь укажем на распространенную у русских, белоруссов и украинцев песню о «козле». О.И. Капица приводит более 10 вариантов песни. В ней рассказывается о том, что любимый бабушкин козлик отправился в лес погулять, а там его растерзали волки. Профессор В.Н. Перетц указывает на прототип этой песенки, находящийся в сборнике польских песен Гинтовта и Рудницкого, относящемся к 1713 г.[192]
Приводим начало наиболее распространенного варианта этой песенки:
- Жил-был у бабушки серенький козлик,
- Бабушка козлика очень любила.
- Вздумалось козлику в лес погуляти,
- Напали на козлика серые волки,
- Остались от козлика рожки да ножки.
После каждой строки повторяется припев «Вот как, вот как» и два последних слова. Постепенно простой по структуре текст развивается в наполненную разными событиями песню, где козел встречается с волками и погибает.
В начале бабушкин козел похваляется:
- Семь волков убить
- Бабе шубу сшить.
Козел оказывается трусом и при встрече с заинькой и лисанькой спрашивает:
- Ты не смерть ли моя,
- Ты не съешь ли меня?
На это ему животные отвечают
- Я не смерть твоя,
- Я не съем тебя.
- Уж я заинька,
- Уж я беленькой.
Затем козел встречает семь волков, которые нападают на него. Бабушка находит только его останки и устраивает поминки по своему любимцу. О.И. Капица приводит и вариант с благополучным концом, в котором козел расправляется с волками и возвращается домой невредимым:
- Ах ты, бабушка,
- Ты, Варварушка,
- Отворяй-ко ворота,
- Принимай-ко козла.
Песня попала в детскую книгу и широко использовалась для педагогических целей. О.И. Капица полагала, что она дает материал для подвижных детских игр с пением для маленьких, поскольку «из всех больших песен она по форме и содержанию особенно близка детям, чем и объясняется ее популярность». С.Я. Маршак обработал песню в пьесу для детского театра и для театра Петрушки[193]. Очевидно, О.И, Капица имеет в виду пьесу С. Маршака «Сказка про козла».
Не менее распространена по количеству вариантов песня «Сватовство и свадьба совы», в которой действуют птицы. В ней отчетливо прослеживается сатирическая направленность. Характеристики птиц, которых предлагают снегирю в жены, отличаются изобразительностью. Все, они наделяются человеческими качествами:
- Взял бы я галку – косолапая она.
- Взял бы я ворону – черномазая она.
- Взял бы я ласточку – вертлявая она.
- Взял бы я кукушку – тоскливая она и т. д.
Одновременно жених пытается выяснить и деловые качества своей невесты:
- Умеешь ли ты, совонька, прясть, ткать?
- Умеешь ли пашеньку пахать?
В сборниках детских сказок помещается песня «Война грибов»:
- Заводилася война
- Среди белого дня.
- Уж как начато палить,
- Только дым пошел валить.
- Как сказали на войну
- Всему нашему селу,
- Пораздумал белый гриб —
- Всем грибам полковник,
- Под дубочком сидючи,
- На грибочки глядючи.
Он обращается к разным грибам, но все отказываются идти на войну: рыжики говорят:
- Мы богаты мужики,
- Не повинны во полки
Опенки отвечают:
- У нас ноги очень тонки
- Нейдем мы на войну и т. д.
Соглашаются, наконец, грузди:
- Мы – ребятушки дружны
- Подавайте сабли, ружья,
- Мы – заступники селу,
- Мы идем на войну.
Детские песни представляют собой пародию на исторические песни, сложенные в конце XVIII века под влиянием восстания Пугачева. В тексте песни высмеивались те, кто отказывался идти сражаться.
Песни «Будем-ка, женушка, домик наживать» и «Жил я у попа» построены на ряде звукоподражаний и названий, характеризующих животных. В первой песне перечисляются животные, купленные для хозяйства, во второй – животные, подаренные паном работнику за его службу. Вот как характеризуются животные:
- А телица – хвастувица,
- Мой баран матер-пестер,
- Козинька бела-руса,
- Свинушка пестра-ряба,
- Моя утка – попловутка,
- Моя гуска – водоплюска и т. д.
Приведем пример звукоподражания:
- Козынька – меке-кеке,
- Барашек – бя-бя, бя-бя,
- Свинушка – рюхи, рюхи,
- Индюшка – шулды-булды,
- Гусынька – га-га-гага и т. д.
Взаимодействие небылиц с литературными формами. М.Н. Мельников и Е.М. Левина показывают появление перевертышей на основе книжной традиции: «Плыл по морю чемодан», «Шла изба по мостику…», «Дело было в январе, первого апреля».
Встречаются пародии на современные популярные песни:
- У леса на опушке
- Жила зима в избушке.
- Она людей варила…[194]
В подобных текстах присутствуют мотивы устрашения, органично вошедшие в структуру жанра. Данное обстоятельство сближает песни-пародии с «страшными историями» и показывает, что жанр не утратил популярности в современной детской среде.
Контрольные вопросы
1. Какие произведения относят к небылицам?
2. О чем и почему рассказывается в небылицах?
3. Почему Чуковский назвал жанр нелепицами?
4. Можно ли провести различие между небылицей и перевертышем?
5. Как использовали жанр в народной педагогике?
6. Чем отличается образная система небылиц?
7. Почему основным атрибутивным признаком считается антропоморфизм?
8. Какие используются жанровые модели и почему?
9. Какова рифмовка небылиц?
10. Что такое «небыличные песенки»?
11. Как небылицы связаны с другими жанровыми формами?
12. Как происходит заимствование и по каким атрибутивным признакам?
Загадки
Основные понятия: определение, функции, происхождение, отличие детской загадки от взрослой, композиция/структура, художественные средства, форма, рифмовка, язык, связь с другими жанрами.
Определение. Загадка относится к малым жанрам фольклора, она отличается краткостью и лаконичностью высказывания. Обычно загадки строятся «на иносказании, метафоре, аллегории, описании предметов, явлений, живых существ в замысловатой вопросительно-констатирующей форме (где этот вопрос подразумевается)» и требуют «разгадки, ответа, расшифровки специально закодированной информации» (Сл., с. 76).
Похожее определение мы встречаем и у В. И.Даля, одного из первых публикаторов жанра. Он отмечал, что загадка – это «иносказанье или намеки, окольная речь, обиняк, краткое иносказательное описание предмета, предлагаемое для разгадки»[195].
Современный исследователь дает следующее определение загадки: «Загадка – это поэтическое замысловатое описание какого-либо предмета или явления, сделанное с целью испытать сообразительность человека, равно как и с целью привить ему поэтический взгляд на действительность»[196].
Функциональное предназначение загадки, способствующей «активизации познавательной деятельности, формированию навыков логического мышления, развитию сообразительности, наблюдательности» (Сл., с. 77) обусловило и ее распространение в детской среде. Загадка способствует развитию воображения, стимулирует словотворчество.
На протяжении всей истории бытования загадок сохранялась их воспитательная и обучающая функция, которая также оказалась востребованной в детской среде. Некоторые загадки часто встречаются в книгах и сборниках, они помогают расширить представление ребенка о внешнем мире, показывая ему знакомые предметы с необычной стороны или раскрывая какие-то новые стороны действительности:
- Два стоят.
- Два лежат.
- Один ходит,
- Другой водит. (Дверь)
- Встану я рано,
- Пойду я к Ивану,
- К долгому носу —
- К толстой голове. (Рукомойник)
Другие в игровой форме показывают некоторые грамматические формы: «По какой дороге полгода ездят, полгода ходят?» (По реке). В данном случае загадка пересекается с каламбуром и становится одной из составляющих словесных игр.
Происхождение загадок. Загадки можно считать самым древним жанром фольклора, бытовавшим еще в первобытном обществе. Об этом свидетельствует тот факт, что загадки распространены у всех первобытных народов. Они загадывались, чтобы обеспечить благополучие себе и своему роду, человек верил, что, отгадывая загадки, он подчинит себе природу, животных, растения.
Магическая сила загадок проявлялась в разных обрядах; так, при инициации посвящаемый испытывался с помощью загадок – без знания тайной речи юноша не мог стать мужчиной. Позже загадки встречаются в мифологии древних народов (например, в древнегреческих мифах, «Старшей Эдде») и сказках, их отгадывают герои, соревнуясь со своими противниками. В древнерусских повестях загадками обмениваются жених и невеста.
Русские загадки по происхождению также связаны с условной речью – зашифрованным языком охотников, с обрядами и магическими действиями, направленными на «обеспечение урожая и успеха в скотоводстве и земледелии.
Как уже указывалось исследователями, знаменитый русский путешественник С. П. Крашенинников отметил остатки древней тайной речи у русских охотников на соболя. Артель избирала «передовщика», он назначал себе помощников и наказывал им между прочим, «чтобы по обычаю предков своих ворона, змею и кошку прямыми именами не называли, а называли б верховым, худою и запеченкою».
Дальше С.П. Крашенинников писал: «Промышленные сказывают, что в прежние годы гораздо больше вещей странными именами называли, например: церковь – востроверхою, бабу – шелухою или белоголовкою, девку – простыгою, коня – долгохвостым, корову – рыкушею, овцу – тонконогою, свинью – низкоглядою, петуха – голоногим и прочее…» Крашенинников отмечал, что все эти слова, кроме замены ворона, змеи и кошки, оставили, т. е. не стали употреблять.
Обычно загадка служила средством развлечения на вечеринках, когда молодежь упражнялась в сообразительности и находчивости. Входила загадка и в свадебный обряд. «Выкуп мест» представлял собой диалог, где один (загадчик) спрашивал, а другой (жених и его дружка) старался отгадать.
«Подайте монаха в белой рубахе». – Дружка подает бутылку водки. «Подайте золотой костыль, чтобы невесте было на что опереться». – Дружка указывает на жениха. «Состройте четырехугольную горницу с серебряной крышей». – Дружка кладет на блюдо бумажный рубль и серебряную монету сверху[197].
С течением времени магическая функция загадок постепенно угасла, но сохранились их поэтические особенности, в частности метафоричность. Известно, что Аристотель считал загадку хорошо сформулированной метафорой. В русском фольклоре самый распространенный тип загадок – метафорический. Как отмечала М.А. Рыбникова, сравнение строится на основе традиционных сближений: «Руки – овечки, куделя – стог»[198].
Приведем пример:
- Пять овечек стог подъедают,
- Пять овечек прочь отбегают.
Среди метафорических образов животных преобладают домашние животные и птицы, а среди них – корова, бык и конь (кобыла, жеребец); курица, петух, гусь. Игла – свинка, золотая щетинка; соха – корова, все поле рогами перепорола.
Классификация. Один из первых публикаторов загадок, Д.Н. Садовников, расположил в составленном им сборнике загадки по темам: «Жилище», «Тепло и свет», «Домашнее хозяйство», «Двор, огород и сад», «Домашние животные», «Земледельческие работы». «Лес», «Мир животных», «Люди и строение их тела», «Земля и небо», «Понятия о времени, жизни и смерти», «Грамота и книжная мудрость». В загадках иногда затрагивались и другие темы: человек и части его тела, пища и питье, одежда и обувь, дом, его части и принадлежности хозяйства, природные явления. В настоящее время эта классификация является общепринятой.
- Содержанием загадок становилась как бытовая, так и светская жизнь. Со временем в них появлялись новые реалии: «Без головы, без языка, а говорит на всех языках» (радио), «Белый шкаф купили мы, в нем немножечко зимы» (холодильник), «Висит груша – нельзя скушать» (электролампочка). Ребенок обычно не загадывает загадки о предметах, ушедших из обихода, но именно в его репертуаре быстрее появляются новые загадки о новых предметах быта и технических явлениях.[199]
Записи детских загадок немногочисленны, хотя уже в XIX веке они вошли в детскую среду и начали печататься в качестве учебного материала. Традиционно среди детей «бытовали (возможно, бытуют и в настоящее время) все или почти все разновидности произведений этого жанра: загадки-метафоры, загадки-звукоподражания, шутливые вопросы, загадки – задачи» (Март., с. 26).
Отличие детской загадки прежде всего заключается в избираемом предмете, чаще это бытовые предметы или существа из животного мира, знакомые ребенку, который должен хорошо представлять себе, о чем идет речь. Ребенок способен воспринять и юмор, заложенный в загадке:
- Хоря ходит,
- Вися висит,
- Вися пала,
- Хоря съела. (Свинья и желудь)
Композиционно загадка состоит из двух частей: загадки (вопроса) и отгадки (ответа), которые взаимосвязаны. В загадках отыскивается сходство между самыми отдаленными и, казалось бы, не сравниваемыми предметами, сопоставляется отвлеченное и материальное, существенное и несущественное в предметах.
Отгадка дается на основании признаков по сходству, отыскивается сходство в обыденных предметах. Иногда отгадка зашифровывается в метафоре или другом иносказании. Не случайно известна загадка о загадке: «Без лица в личине».
Многие загадки в первой части не содержат прямого вопроса, а построены на остранении: в них дается замысловатое описание предмета, по которому надо отгадать, о чем идет речь. Тогда первая часть обязательно предполагает ответ: «Без рук, без ног, а ворота открывает» (ветер).
Иногда загадки построены в виде прямого вопроса:
- Что видно только ночью? (Звезды)
- Что за тварь людей питает,
- В церкви освещает? (Пчела)
Некоторые загадки созданы путем изменения отгадки, при этом начальные звуки сохраняются, а конец слова сильно изменен:
- Стоит пендра,
- На пендре лежит дендра
- И говорит кондре:
- «Не лазай на пендру,
- Там не одна кандра —
- И ундра есть». (Печь, дед, кот, каша и утка)
Структура загадки отличается простотой. В них нет сюжета, поэтому динамика создается иным способом. Часто встречаются загадки, построенные на диалоге:
- – Это черная?
- – Нет, красная.
- – А почему белая?
- – Потому, что зеленая. (Красная смородина)
Некоторые загадки строятся на отрицании:
- Кругла, а не месяц,
- Желта, а не масло,
- С хвостиком, а не мышь. (Репа)
Иногда встречаются загадки, в которых описание изложено в
- – Кабы я встала,
- До неба достала,
- Кабы руки да ноги,
- Я бы вора связала,
- Кабы рот да глаза,
- Я бы все рассказала. (Дорога)
В краткой сжатой форме в загадке нередко дается целая кар-
- В середине – алый сахарный,
- Кафтан зеленый, бархатный. (Арбуз)
В большинстве загадок описание признаков предмета, который надо отгадать, дано от третьего лица. Загадки, в которых описание дано от первого лица, построены на олицетворении:
- Меня бьют, колотят, ворочают, режут
- Я все терплю и всем добром плачу. (Земля)
Метонимии распространены в загадках меньше, чем метафоры. Чаще всего материал, из которого изготавливается предмет, заменяет его:
Стоит дерево (стол). На дереве конопля (скатерть). На конопле глина (горшок). На глине капуста (щи). А в капусте свинья (свинина).
В загадках используются и разнообразные сравнения:
- Бел как снег, в чести у всех. (Сахар)
В школьных загадках основой сравнения могут стать образы Священного Писания и старославянская лексика:
Взят от земли, яко же Адам, Ввержен в пещь огненную, яко три отрока; Взят от пещи и возложен на колесницу, яко Илия: Везен бысть на торжище, яко же Иосиф: Ставлен на лобное место и биен по главе, яко же Иисус; Возопи велиим гласом, и на глас его приде некая жена, яко же Мария Магдалина. И, купивши его за медницу, принесе домой; Но расплакался по своей матери, умре, И доныне его кости лежат не погребены. (Горшок)
Встречаются в загадках и антитезы:
Матушкой-весной в платьице цветном. Матушкой-зимой в саване одном. (Поле)
Часто в загадках используются эпитеты.
Форма загадок постепенно стала преимущественно поэтической (стихотворной), поэтому особое значение приобрела рифмовка. Ритм создается не только созвучием слов, но и интонационным рисунком фразы: «Висит груша – нельзя скушать». (Лампочка)
В двустрочных загадках могут рифмоваться строки. В многострочных рифмовка разнообразна. Приведем пример смежной рифмы:
- Вырос в поле дом,
- Полон дом зерном,
- Стены позолочены,
- Ставни заколочены:
- Ходит дом ходуном
- На столбе золотом. (Рожь)
Иногда первая строка не связана с остальными, а строится на внутренней рифме:
- Маленький, горбатенький,
- Все поле обежал,
- Домой прибежал – целый год пролежал. (Серп)
Внешняя и внутренняя рифмы нередко служат подсказкой к загадке: «Без мяса, без костей, а все-таки пять пальцев». (Рука) В загадке возможны экспрессивные выражения:
- Ах, каков Иван Поляков:
- Сел на конь
- И поехал в огонь. (Чугун и ухват)
Языковые особенности, словообразование в загадках близки детской речи, и поэтому также являются причиной распространения подобных текстов. Мельников называет их «педагогическими предпосылками загадок» и считает, что именно эти особенности стали причиной широкого распространения загадок в детской среде.
В ряде случаев появляются новые отгадки к традиционным загадкам: «Сто одежек и все без застежек» предполагает такой ответ: «Брак нашей швейной фабрики»[200].
Связь загадки с другими жанрами имеет двусторонний характер: загадки являются составляющей отдельных жанров и в то же время служат основой для создания нового текста. Загадки вошли в состав произведений многих жанров устного народного творчества. Они представляют собой следы древних верований или отражают более позднее явление фольклорного синтеза. Только специальное исследование каждого факта позволит определить характер вкрапления загадки в текст произведения.
Тексты старинных загадок сохранились в былинах, сказках. Многие подблюдные песни построены в форме загадок, когда описание судьбы человека подменяется указанием предмета или действия.
О.И. Капица приводит интересный пример сохранения загадки в составе детской песенки. В нижеприведенной песенке последние четыре строчки представляют собою загадку на лен.
- Уж ты, тетушка,
- Мое зернышко,
- Топи хату,
- Гляди в печь,
- А я буду блины печь.
- Матушка Волга
- Широка да долга,
- Стул на горах
- О семи головах,
- В нем ядро
- Говорит добро.
Часто загадки возникают на основе быличек:
Едет мужик не путем. Ничего не видит кругом. Заехал в ухаб. не вылезть никак. (Покойник)
Разнообразное использование загадок приводит к появлению смежных форм синтетического характера, вбирающих элементы загадки и других жанровых образований. Прежде всего назовем вопросы, основанные на синонимах, выделенные О.И. Капицей. Они имеют форму числовой задачи; чтобы ответить, надо разобраться в уловке. Приведем пример: «Мужик купил козу за три рубля. Почем коза пришлась?» «Почем» обычно понимается: «сколько обошлась», «сколько стоит», и вместо того чтобы ответить «по земле», следует ответ: «три рубля».
Встречаются и другие подобные вопросы:
«После семи лет что козе будет?» (Пойдет 8-й год.)
«Какой в реке камень?» (Мокрый.)
«Может ли дождь идти два дня сряду?» (Не может, потому что между днями ночь.)
«От чего гусь плавает?» (От берега.)
Иногда бывает сложно отделить загадку от задачи числового характера: «Летели гуси над лесом и надо им сесть отдохнуть. Если они сядут по два на дерево, одно дерево останется, а по одному – гусь останется. Много ли дерев и гусей?» (2 дерева, 3 гуся)
«Сидят четыре кошки, против каждой по три кошки, много ли их?» (4 кошки по углам избы)
- Шли столбцом
- Сын с отцом,
- Да дед с внуком.
- Сколько их? (Трое)
Словесные загадки строятся по принципу шарады или основаны на игре букв и слов: «Какие два животные помещаются в одной бутылке?» (конь, як) «В каком названии города одно имя мальчика и сто имен девочек?» (Севастополь)
Возможен и обратный процесс, переход загадок в пословицы: «Ничего не болит, а все стонет».
В современную загадку активно проникают новые реалии: «С двумя ногами, а ходить не могут» (Колготки). «Две ноги в одной штанине» (Юбка-брюки). Очевиден и юмористический характер подобных загадок.
Впечатления от подмеченного в быту и увиденного по телевизору обуславливают импровизационный характер загадок, не всегда лицеприятны загадки про давно появляющихся героев сериалов:
- Не тонет, не горит,
- В красном платьице сидит,
- Влюбленными глазами
- На Сиси глядит (Джина).
Контрольные вопросы
1. Когда появились загадки?
2. Когда и почему произошел переход взрослой загадки в детскую среду?
3. Каковы отличия детской загадки?
4. Каковы художественные особенности загадок?
5. Как построена загадка?
6. Почему в загадке особое значение имеет рифмовка?
7. Можно ли говорить, что в загадке происходит процесс словотворчества?
8. Что сближает загадку с другими жанрами?
Песни
Основные понятия: определение, состав репертуара, классификация, связь с другими жанрами, система образов, художественные особенности.
Детские песни разнообразны по содержанию, композиции, музыкальному строю и характеру исполнения. По объему различают песни миниатюрные, размером всего в четыре стиха, и большие песни, насчитывающие более сотни стихов. Некоторые песни состоят из повторяющихся звукоподражательных элементов. Они исполняются с целью развлечения и имеют несложную мелодию.
В других песнях изображаются картины повседневной жизни или житейские ситуации. Их мелодика гораздо сложнее, она состоит из постоянно развивающихся и чередующихся мотивов. Песни могут исполняться соло или хором, декламироваться как стихи, произноситься речитативом или скандироваться. Можно выделить песни, содержащие диалог, песни – монологи, кумулятивные песни. Разнообразие форм обуславливает сложность классификации.
О. И. Капица предлагает генетический принцип классификации и выделяет три группы песен. Первую группу составляют песни, заимствованные у взрослых и переработанные детьми в соответствии с их эстетическими вкусами и интересами. Во вторую группу входят «песни-осколки», обрывки песен взрослых, из которых дети создают новые тексты. Третью группу образуют песни, переходящие от взрослых к детям целиком, без изменений.
Процесс перехода песен из репертуара взрослых в детскую среду в разное время определялся совокупностью различных факторов. Некоторые исследователи ввели понятие «отраженных песен», в которых можно проследить первоисточник[201]. Г.С. Виноградов подходил к данному вопросу более осторожно, отметив различие в песенном творчестве детей четырех-пяти лет и более старших[202].
Одним из первых эволюцию детской народной песни показал И.П. Хрущов: «Песни, так названные, – говорит он, – собственно не детские, а веселые песни взрослых, доставшиеся в наследие детям. Это творчество хороводов, посиделок, святочных игр». На примере распространенной детской песни: «Тень, тень, потетень, выше города плетень», он показывает ее изменение в различных регионах. «Хоровод имел повсюду название «плетня». «Заплести плетень» значило: завести хоровод. В Московской губернии «Плетень» с соответствующей пляской поется в темпе andante:
- Заплетися плетень, заплетися
- Ты завейся, трава шелковая.
В Олонецкой губернии andante переходит в оживленное allegro, и танцующие поют:
- Завивай мой, завивай,
- Хорошенький завивай.
За этим припевом идет набор слов, по беглому ходу шутливых фраз напоминающих детские песни. В них постоянно встречается слово «плетень». В Курской губернии под этот припев в хороводах, во время самой пляски, запевалой и двумя, а иногда и тремя лицами, находящимися в кругу, изображаются различные положения, различные сценки домашнего быта. Человек тут является во всех возрастах. Вот детская песня, взятая из «Плетня»:
- На поличке рукавички,
- На приступке калачи,
- Как огонь горячи.
- Подошел мальчик,
- Обжег пальчик.
- Побег на базар,
- Всему миру рассказал.
И в других детских песнях мы видим ряд житейских сцен, взятых из «Завивай» или «Плетня». Так, татары украли шапочки у артели мастеров-швецов (портных); они «кроят шапочки, шьют рубашечки». Тут и шутливое изображение крестин ребенка, которого повезли в Москву:
- Ребенка крестить,
- Поросенка молить.
Такая же юмористическая сценка женитьбы:
- Поеду жениться
- На сивке, на бурке,
- На вещей каурке.
- Сенька-везенька,
- Вези меня на палке,
- А сам пешком,
- Перевертышком.
Вторую фигуру хороводного танца «Плетень» составляет расплетение «плетня». Когда несколько пар кончают свои песни, наступает разрушение «плетня». В Москве он расплетается тихо, в Олонецкой губернии развивается, т. е. разрушается, обратным бегом. В старину плетень «развивался» отдельной группой, не участвующей в хороводе. Во многих детских песнях сохранилось упоминание о разрушении «плетня» чужими ребятами»[203].
Классификация М.Н. Мельникова построена по композиционному признаку. Он выделяет следующие группы песен: 1) диалогические песни; 2) песни кумулятивные, 3) песни с припевом, 4) песни-перегудки. Каждая группа отличается общностью поэтического построения, музыкального строя, происхождения и содержания.
Диалогические песни раньше всего перешли из взрослых игровых песен к детям. Они построены в форме вопросов и ответов или реплик, которыми обмениваются две группы исполнителей.
- – Заяц белый, куда бегал?
- – В лес дубовый.
- – Что там делал?
- – Лыко драл.
- – Куда клал?
- – Под колоду убирал.
Циклический характер песен отметила О.И. Капица, показав, что ответ, оканчивающий строку, позволяет в следующей строке задать новый вопрос, образуя таким образом непрерывную цепочку вопросов-ответов. В одних песнях вопрос начинается со слова «где?», в других «на что?». Обе песни имеют устойчивый текст, меняется только конец и начало. Четкий ритм приводит к тому, что иногда такая песня исполняется как колядка:
- Где коза была?
- – Я коней стерегла.
- Что выстерегла?
- – Коня в седле,
- В золотой узде.
- Где твой конь?
- – Миколай увел.
- Где Миколай?
- – В клети сидит.
- Где клеть?
- – Водой снесло.
- Где вода?
- – Быки выпили.
- Где быки?
- – За бугор ушли.
- Где бугор?
- – Черви выточили.
- Где черви?
- – Гуси выклевали.
- Где гуси?
- – В тростник ушли.
- Где тростник?
- – Девки выжали.
- Где девки?
- – Замуж повышли.
- Где мужья?
- – На войне стоят.
Песенки в форме вопросов и ответов, близкие по содержанию к русским, встречаются у многих народов. О.И. Капица приводит песенку, записанную у народа коми:
- Милый голубок, куда ты ходил?
- – К дяде в погреб.
- Зачем туда?
- – За маслом и за хлебом.
- Где хлеб?
- – Черная собака съела.
- Где собака?
- – Запуталась в изгороди.
- Где изгородь?
- – Сгорела огнем.
- Где огонь?
- – Потушен водой.
- Где вода?
- – Выпита быком.
- Где бык?
- – Его умертвил топор.
- Где топор?
- – Его затупил брусок.
- Где брусок?
- – В крапиву упал.
- Где крапива?
- – Сто жеребцов вытоптали.
- Где жеребцы?
- – Их увели в большую тундру.
- Где тундра?
- – Ее выклевала сорока-ворона[204].
Аналогичная по форме песенка имеется и у африканских детей:
- Кто мне бросит козьего помета?
- – Зачем тебе козьего помета?
- Я брошу его к небу.
- – Зачем ты бросишь его к небу?
- Пусть небо капнет на меня дождем.
- – Зачем тебе дождь?
- Чтоб росла выжженная трава.
- – Зачем тебе трава?
- Чтобы поела моя старая корова и т. д.[205]
Диалогические песни, имевшие широкое распространение в детской среде, опубликованы во многих сборниках XIX и начала XX веков. Популярность «объясняется тем, что детям, имеющим еще ограниченный словарный запас, ближе и понятнее прямая речь, лишенная словесных украшательств, не осложненнная второстепенными членами предложения, – тем, что диалогический стих динамичен, действие развивается стремительно» (Мельник., с. 55).
Некоторые песни до сих пор продолжают печататься в детских книжках, многие слегка изменились и вошли в другие жанры детской поэзии. В работе Г.С. Виноградова опубликовано более 20 считалок, восходящих к приведенной нами песне «Заяц белый, куда бегал?». Диалогический стих динамичен, действие развивается стремительно, прямая речь лишена описаний и непонятных слов.
Заимствования из русских игровых песен чаще всего происходили опосредованно, через прибаутки, сложенные специально для детей. Как свидетельствует И.П. Сахаров, в первой половине XIX века прибаутка «Коза» бытовала в виде девичьей игры (вариант игры в ловитки). Потом появилась соответствующая «словесная прелюдия», и она стала самостоятельной детской игрой. В середине XIX века текст вошел в репертуар пестуний и стал одной из детских песен.
Самую распространенную группу в XIX веке составляли кумулятивные песни. По форме они напоминают сказки в стихах, откуда и происходит название «сказочные песенки», данное некоторыми собирателями. Основным признаком является замедленное развитие сюжета, основанное на многократном повторении отдельных частей:
- Было у вдовушки
- Восемь дочерей.
- Стала их вдовушка
- Замуж отдавать:
- Дает первой дочери.
- Быка да козла,
- Доморощенные.
Затем пять первых стихов повторяются и к ним добавляется рассказ о второй дочери:
- Дает другой дочери
- Два быка, два козла,
- Доморощенные.
Песня выстраивается постепенно из небольших сценок-эпизодов, в каждом из которых использована своя система образов:
- Костромушка, Кострома!
- Чужа-дальня сторона!
- У костромушки в дому
- Ели кашу на полу;
- …
- Костромушка, Кострома,
- Чужа-дальня сторона!
- Зачем в лес забрела?
- В лесу частые пеньки —
- Смотри ногу не сломи,
- Нас по миру не пусти!
Использование повторов, внутренней рифмы, разнообразных синтаксических фигур (риторических вопросов и обращений) придает песням четкую композицию. Песня может состоять из нескольких десятков стихов. В сборнике П.А. Бессонова напечатана песня «Пошел козел за лыками», в которой более 130 стихов. В текстах много заимствований из материнских прибауток или скомороший.
Данная группа песен содержит множество реалий повседневной жизни. Непонятные ребенку слова заменяются, синтаксические конструкции упрощаются. В текстах используются уменьшительные слова, звукоподражания, заменяющие слова («ай-дуду-дуду-дуду», «туру-туру»).
Исполнители учитывают особенность детской психики, дети любят подражать крику (пению) птиц, животных, насекомых, звучанию музыкальных инструментов (рожка, балалайки), дают своеобразную звуковую трактовку многим, казалось бы далеким от музыки предметам и явлениям. «Все, что окружает ребенка, имеет свой голос, иногда открытый, понятный всем, имеющий определенную окраску, иногда скрытый, меняющийся, текучий»[206]. В воспоминаниях В.П. Катаева «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» рассказывается, как во время прогулки он остановил мать и сказал ей, что слышит музыку. Мать называла сына фантазером, поскольку ничего не слышала. Задумавшись над ее словами, он пишет: «Долго я не мог этого понять, но однажды совершенно неожиданно понял: это было нечто, составленное из еле слышного дребезжания извозчичьих пролеток, цоканья копыт, шагов людей, звонкого погромыхивания конок и трамкарет, похоронного пения, военной музыки, стрекотанья оконных стекол, шороха велосипедов, гудков поездов и пароходов».
Особая разновидность кумулятивных песен посвящена крестьянскому труду. В них отразился нелегкий быт крестьянина, упоминаются орудия труда («буду табе служите: у поля саху насити; прийду у поля – сахи нету»); поется о главных трудовых процессах («…узила сярпок, побегла у садок, нажала травицы целинький снапок»), показана нищета подневольного крестьянина («Ягор, Ягор, Ягорушка – не я скачу – няволюшка…»), отношение к детям («Ай, дети, дети, де вас дети…»).
В лексике песен преобладают глаголы, существительные и междометия, прилагательные практически отсутствуют. Отмеченная особенность свидетельствует о связи кумулятивных и трудовых песен и давней их принадлежности к детскому репертуару.
В третью группу М.Н. Мельников выделил песни с припевом. Если в песнях взрослых припев всегда связан по смыслу с текстом, то в детских песнях ситуация иная.
В некоторых текстах припев является лейтмотивом всей песни:
Объектом нападок становятся обжоры, неумехи, неряхи. Осмеянию подвергаются и отдельные действия.
Акцентировка на повествовательное™, необходимость выражения оценки обуславливают использование глаголов, существительных и междометий, разговорных конструкций:
- Мужик песню спел,
- На капустник сел,
- Съел три короба блинов,
- Три костра пирогов,
- Овин киселя,
- А и кадку щей,
- Полну печь калачей.
Перенимая ту или иную песню от взрослых, дети включают в нее самостоятельный припев. Он может употребляться во многих песнях. На данную особенность первым обратил внимание П.А. Бессонов, опубликовавший более двадцати подобных припевов. Он же отметил их подчеркнуто игровой характер:
- Посадил дед редьку
- Ни часту, ни редку.
- Выросла редька,
- Ни часта, ни редка.
Припев:
- Дулась, дулась, первернулась,
- Первернулась передом:
- У Анюты плохой дом.
Здесь в качестве припева использован фрагмент частушки, основанный на каламбуре. Он совершенно не связан с текстом песни, имеет другой размер, иную мелодию.
Иногда припев основан на повторе последнего слова строфы. Он придает песне определенную звучность:
- Рубить, казнить комара,
- Комара, мара, мара.
- Рубить, казнить комара,
- Комара, комара.
Четвертую группу детских песен составляют песенки-пере-гудки. Они, как правило, имеют стройный сюжет или содержат образные’, красочные описания. В отличие от считалок в них практически отсутствует заумь. Тематически они связаны с окружающей детей жизнью, в которой подчеркиваются сатирические и юмористические черты, обыгрываются комические ситуации. Для перегудок характерна четкость ритма, звучность рифмы, богатство приемов звукописи:
- Ти-та-та, ти-та-та,
- Пожалуйте решета.
- Мучки насейте,
- Пирожки затейте.
- Пирожки на дрожжах.
- Не удержишь на вожжах,
- Положили гущи,
- Они еще пуще;
- Поставили на чело —
- Не осталось ничего.
Большинство перегудок заимствовано из фольклора взрослых. Песенки-перегудки насыщены звучными, стремительными, словосочетаниями. Иногда они образуют своеобразные звукоряды. Песенность достигается с помощью звуковых повторов, аллитераций и ассонансов. Чтобы придать тексту необходимую благозвучность, вводится внутренняя или конечная рифма. Отмеченная особенность отличает песенки-перегудки от кумулятивных и диалогических песен, где рифма не обязательна.
Содержание детских песенок различно. Интересны наблюдения исследователей, связанные с бытованием песенок, имеющих четкое практическое назначение. О.И. Капица выделяет песенки с перечислением дней недели, отметив их пограничный характер. Некоторые из них чаще воспринимаются и соответственно используются как считалки. В то же время она приводит песенки с перечислением работы, выполняемой в каждый из дней недели:
- В понедельник – на могильник.
- Во вторник – на кокорник.
- В середу – на переды.
- В четверг – на коты.
- В пятницу – на мельницу.
- В субботу – на работу.
- В воскресенье – на веселье.
Аналогичная песенка, предназначенная для заучивания дней недели, известна и среди английских Nurcery Rhymes:
- How many days my baby plays?
- (Сколько дней в неделю моя детка играет?)
Затем следует перечисление дней недели.
Песенки, распространенные в школьной среде, представляют по форме рифмованную азбуку, где использованы старинные названия букв: аз, буки, веди и т. д. В европейском детском фольклоре количество таких песенок больше, чем в русском. Приведем пример:
- Аз, буки – башки.
- Веди – таракашки.
- Глаголь – кочережки,
- Побег по дорожке,
- Ер, еры – упали с горы.
- Ер, ять – некому поднять.
- Ерь, юсь – сам поднимусь.
- Буки, бабаки Съели собаки.
- Буква ижица —
- К концу близится.
Приведем для сравнения школьную украинскую юмористическую песенку
- Аз, буки, глаголя,
- Веде чорт Василя
- И дубинку несе,
- За чупрынку трясе.
Сохранение песенок в детской среде связано с введением занимательного динамичного сюжета, простотой конструкций; основанной на рифмовке и звукописи; использованием традиционных формул, диалогов, вопросно-ответной системы, повторов.
В детском репертуаре также представлены частушки, веселые, озорные, задорные, или лирические песенки, по форме четырех-или двустрочные. Они отражают бытовые отношения своего времени, отличаются конкретностью содержания. Указанные свойства и определяют их распространение среди детей. Однако нельзя полностью отнести частушки к детскому фольклору, поскольку дети в большинстве случаев механически заимствуют форму. Собственно авторские тексты встречаются гораздо реже и обычно строятся по известным моделям:
- Дал списать я на контрольной
- Все задачи Колечке.
- И теперь у нас в тетрадках у обоих двоечки
Контрольные вопросы
1. На чем основаны современные классификации детских песенок?
2. Как сформировался детский песенный фольклор, под воздействием каких обстоятельств?
3. Можно ли говорить об игровом начале как свойстве детских песенок?
4. Каково содержание детских песенок?
5. Каковы особенности данной разновидности фольклора?
6. Почему частушки бытуют в детской среде?
Детская сказка
Основные понятия: определение детской сказки, классификация, основные разновидности и их особенности, процесс детского сказкотворчества.
Определение. Сказка является одним из основных видов устной народной прозы, ее типическим свойством считается установка на вымысел. Дети проявляют особый интерес к сказке, их привлекают динамично развивающийся сюжет, характерные образы. Поэтому и в детском фольклоре сказка занимает одно из основных мест. К детским сказкам относятся несколько групп произведений: сказки, перешедшие из фольклора взрослых и специально обработанные для детей (прежде всего сказки о животных и волшебные сказки); сказки, специально создаваемые для детей (докучные сказки и кумулятивные сказки), и собственно детский фольклор (сказки, сочиняемые самими детьми). Данная классификация отражает основные части репертуара традиционной детской сказки.
История изучения. До настоящего времени отсутствуют четкие критерии выделения детской сказки. Исследователи не пришли к единому мнению по данному вопросу. В большинстве сборников не указывается, какие из напечатанных произведений предназначены специально для детей, а какие для взрослого читателя.
Первая публикация народных сказок для детей принадлежит Е.А. Авдеевой[207]. С середины XIX века детские сказки печатались в разнообразных сборниках и периодике. Первый сборник, составленный с учетом возрастных особенностей ребенка, был подготовлен А.Н. Афанасьевым. В 1871 году он выпустил книгу «Русские детские сказки», в которой представил подборку текстов, специально адаптированных для детского возраста. Остановимся на принципе отбора сказок, использованном А.Н. Афанасьевым. Он бережно отнесся к их языку и содержанию и впервые поместил подлинную народную сказку в детской книге. По содержанию сказки распределяются следующим образом: 34 сказки о животных, 24 волшебных, остальные по преимуществу бытовые; из них 8 сказок о ворах, разбойниках и плутах, 4 сказки о глупых людях. В сборнике помещено и несколько народных анекдотов.
Сказки подобраны по нарастающей трудности их восприятия. Простые по содержанию и построению сказочки о животных предназначены для детей самого раннего возраста, детям постарше адресованы более композиционно сложные волшебные сказки – «Царевна-лягушка», «Василиса Премудрая и Морской царь», «Несмеяна царевна», «Перышко Финиста ясна Сокола», «Гуси-лебеди», «Никита Кожемяка». Сказки «Горе», «Две доли», «Как судился лещ с ершом» предназначаются для детей старшего возраста, которым интересна не только фабула, но и сатирическая сторона сказок.
Изменения, внесенные А. Н. Афанасьевым в тексты, взятые из его основного собрания, незначительны и, как правило, вызваны педагогическими соображениями. Он не упрощал народного языка, исключал грубые и натуралистические подробности, вульгарные слова и выражения. Почти половина сказок (46 текстов) напечатана без изменений, 15 сказок представляют соединение разных вариантов одного и того же сюжета.
Часть сказок А.Н. Афанасьев дополнил: «Пузырь, соломинка и лапоть», кратко изложенная в «Народных русских сказках», в его сборнике помещена с некоторыми новыми деталями, в сказку «Лиса-плачея» добавлен эпизод встречи лисы с волком. Сказка «Лисичка-сестричка и волк» в «Русских детских сказках» разбита на две отдельные сказки: первая того же названия, вторая – «Лиса-ночлежница». В таком виде сказки Афанасьева включены и в сборники, составленные другими авторами.
Благодаря АН. Афанасьеву детская сказка вошла в круг детского чтения, ее стали использовать в учебной и педагогической литературе как методический материал на уроках. Детскую сказку начинают записывать фольклористы. Собиратели XIX – начала XX века – Н.Е. Ончуков, Д.К. Зеленин постоянно указывают на рассказывание сказок детям и детьми и помещают подобные тексты в своих сборниках.
Предложенное Д.К. Зелениным название «ребячьи сказки» стали употреблять и фольклористы. Первую подробную характеристику детских сказок дала в своей книге О-И. Капица. Она выделила две группы произведений, которые бытуют в детской среде. Большую часть текстов составляют «сказки, которые рассказываются взрослыми, усваиваются детьми и передаются ими друг другу». Вторую группу составляют сказки-импровизации, которые создают сами дети. Вслед за Г.С. Виноградовым О.И. Капица отметила большую педагогическую ценность подобных сказок. В третью группу О.И. Капица включила сказки, предназначенные для самых маленьких. Она считала, что их объединяет несложная структура, ритмичность, адресность аудитории (предназначение для маленьких детей, трех-шести лет, и состав носителей – бабушки, няни, матери, пестуньи). Данную группу О.И. Капица назвала сказками-пестушками.
Научно обоснованные границы понятия «детская сказка» впервые были определены А.И. Никифоровым. Исследователь установил следующие критерии для ее выделения в самостоятельный жанр: 1) способ бытования (четкие возрастные рамки носителей); 2) поэтика; 3) форма исполнения; 4) функции. В состав детской сказки он включил общепринятые жанровые разновидности, а также «детскую драматическую сказку» и «бабушкину» сказку[208]. Практически А.И. Никифоров выделил те же группы, что и О.И. Капица.
Важной особенностью сказок-импровизаций является четко выраженная установка на игру. «Это большей частью сказки ритмически мерные, зачастую рифмованные, то и дело переходящие в песню», – писал Ю.М. Соколов[209]. Действительно, многие исследователи называли прибаутки типа «Пошел козел за рыбою» «стихотворными сказками», «сказочками», «посказульками» и включали их в сборники для детского чтения.
Более широко понимала детскую сказку Э.С. Литвин. Она считала «ребячьими» все сказки о животных и близкие к ним, а также те, которые специально приспосабливались сказителями к детской аудитории[210]. По-видимому, детскую сказку нужно считать не жанром, а жанровой группой, входящей в традиционный состав жанровых разновидностей сказки. На данной позиции стоят и авторы настоящего учебного пособия.
М.Н. Мельников также выделяет указанные группы сказок. Он отмечает, что принадлежность произведения к детской среде сказывается на особенностях сказки. По сфере бытования он выделяет такие сюжеты, как «Колобок», «Волк и коза», «Кот, петух и лиса», «Лиса-плачея». Одновременно он показывает, что выделенные тексты различаются по стилю и поэтике. Первые два сюжета представляют собой забавные рассказы для развлечения ребенка, другие – народную сатиру, построенную на аллегории.
Сочетание интересного сюжета и четко выраженная дидактическая направленность подтверждают, что данные сказки «вызваны к жизни педагогическими надобностями народа».
Методика рассказывания. Как и колыбельные песни, сказки используются в развлекательных и поучительных целях. Обычно сказки рассказывают те лица, которые занимаются воспитанием детей (бабушки, матери, няни, пестуньи). Постепенно у них вырабатываются репертуар и повествовательные приемы. «Рассказывание – старый метод, прекрасно разработанный и непрерывно используемый до наших дней в народной педагогике и совсем недавно перенесенный в педагогику научную», – отмечал Г.С. Виноградов[211].
Начиная с двадцатых годов XX века, стали появляться исследования, в которых рассматривалась специфика рассказывания сказок детьми. В статье «К вопросу о детской сказке» на основе анализа текстов сказок, записанных от детей трех – восьми лет, Н.М. Элиаш пришла к выводу, что существует «несомненное сходство, единообразие в приемах детей-сказочников; они теснейшим образом связаны с особенностями детской психики»[212].
Детям-сказочникам посвятил небольшую статью С.Ф. Елеонский[213]. Рассматривая сказку с педагогических позиций; он указал на влияние книжной традиции, заметив: «то, что зачастую с большим трудом дается на уроках по развитию речи, – легко и живо воспринимается детьми, овладевающими устной народно-поэтической традицией»[214]. С.Ф. Елеонский отметил и ряд особенностей детской манеры рассказывания: преобладание диалогической формы, звукоподражание, простоту сюжета и использование несложных синтаксических конструкций.
Особое внимание сказке в детском исполнении уделял А.И. Никифоров, собравший одну из крупнейших коллекций записей. В экспедициях 1926–1928 годов, в Заонежье, на Пинеге и на Мезене он записал сказки примерно от 87 детей в возрасте от шести до 15 лет. Некоторые сказки были опубликованы, сведения об остальных записях содержатся в подробных описаниях собрания А.И. Никифорова[215].
Одновременно с ним и частично в тех же местностях записывала сказки И.В. Карнаухова (в 1926–1929 годах, Заонежье, Пинега, Мезень, Печора). В сборнике И.В. Карнауховой и описании материалов ее заонежской экспедиции содержатся сведения о 15 юных рассказчиках. Всего в сборнике И.В. Карнауховой опубликовано 23 варианта, записанных от семи детей-исполнителей.
А.И. Никифоров и И.В. Карнаухова достаточно полно охарактеризовали детский сказочный репертуар в то время, когда традиционная сказка активно бытовала на Русском Севере. Проявляя внимание к личности исполнителей, собиратели приводят разнообразные сведения об их жизни, характерах, манере рассказывания. И.А. Разумова полагает, что в северных экспедициях 1926–1927 годов. А.И. Никифоровым и И.В. Карнауховой были сделаны записи сказок от 99 детей-исполнителей, собран 291 текст[216].
Современные собиратели также отмечают, что дети часто рассказывают сказки. Но в настоящее время процесс наблюдается в иной, городской среде. Процесс старения деревни внес свои коррективы в распределение возрастного состава носителей. Записи у городских детей, проводимые в неформальной обстановке, показывают сильное влияние книги и разнообразных средств информации[217].
Разновидности сказок. Обычно выделяют сказки о животных, волшебные и бытовые. Они различаются между собой по характеру вымысла, по героям и по используемым мотивам. Названные группы детских сказок не обособлены и не представляют собой органического единства, аналогичного сказке взрослой. Основным объединяющим признаком для них является «детское видение мира», оценка изображаемого с позиции ребенка.
Сказки о животных рассказываются детям младшего возраста, их привлекают качества животных, наделенных антропоморфными свойствами – теми или иными качествами человека (жадностью, глупостью, хитростью). В сказке осуждаются отрицательные черты животных, обычно они содержат небольшую мораль, концовку, в которой выражается подобное отношение.
Одновременно в сказках о животных раскрываются социальные отношения и место героев в обществе, утверждаются идеи справедливости, взаимопомощи, товариществе и порицается нарушение этих принципов. Сказки о животных помогают знакомить ребенка с окружающим миром, взаимоотношениями между участниками сказки, взаимосвязями между отдельными предметами.
Композиция сказок о животных отличается стройностью и завершенностью, она проста и незатейлива, один и тот же эпизод может повторяться. Подобное построение помогает усвоению основной идеи, способствовует развитию памяти. Отличительной особенностью сказок о животных является антропоморфизм – наделение животных качествами человека.
К особенностям сказки о животных можно отнести организацию текста из развернутых диалогов, что создает возможности для импровизации, подключения детей к процессу рассказывания. Усилению же интереса к сюжету сказки, облегчению процессов понимания и запоминания способствуют звукопись, рифмовка и ритмизация.
В сказках о животных сюжеты часто контаминируют друг с другом, используются элементы других форм, вводятся пословицы и поговорки («Битый небитого везет»).
Особую группу представляют кумулятивные сказки. В.Я. Пропп впервые выделил их в особый разряд по композиционным и стилевым особенностям. Название происходит от латинского annulare – «накоплять, нагромождать, увеличивать и отражает основной принцип построения: повторение одних и тех же или аналогичных действий» (Сл., 318). Многие кумулятивные сказки посвящены животным: «Колобок», «Коза-дереза».
Подобную схему В.А. Бахтина представляет следующим образом: а + b + с; а+(а+ Ь) + (a+b+с). Она развивает свойства, намеченные В.Я. Проппом[218], назвавшим кумулятивную сказку «цепной» и представляет ее как текст, состоящий из многократных повторений одних и тех же действий или элементов. Последовательность и детализация начала пути позволила другому исследователю сблизить сказку «Колобок» с заговором[219]. В.Я. Пропп выделял формульные («Колобок», «Терем мухи», «Репка») и эпические сказки («Петушок и бобовое зернышко»). Первые могут организовываться рифмованно, в виде песни. Вторые строятся на повторе завершенных повествовательных эпизодов.
Действие кумулятивной сказки завершается «расплетением» сюжета в обратную сторону или неожиданной развязкой. Внезапность начала и произвольность конца также считаются ее типологическими особенностями.
Докучной называют сказку, которая представляет собой лаконичную шутливую пародию на «долгую» волшебную сказку. Термин ввел А.Н. Афанасьев. Исследователи полагают, что она рассказывалась для развлечения, в ответ на бесконечные приставания детей «рассказать сказочку», если у рассказчика по тем или иным соображениям нет желания это сделать». Одновременно рассказчик не только исполнял просьбу, но и подшучивал, подтрунивал над слушателями. Сибирская фольклористка М.В. Новоженова даже называла эти произведения «сказочками-издевками»:
- На заборе висит мочало —
- Начинай сказку с начала.
Одну из первых классификаций докучных сказок дал А.И. Никифоров, опубликовавший 150 текстов. Он выделил вопросно-ответные сказки, бесконечные сказки, сказки-коротушки и сказки-издевки.
Тексты докучной сказки несложны, «построены на концовках или начальных формулах фантастических сказок с нагромождением фраз, слов, звукоподражаний». М.Н. Мельников соглашается с контаминационным характером данного произведения, полагая, что по поэтике она «близка к сказке и присказке, по содержанию и назначению – к поддевке».
Элементы приговора исследователь отмечает в следующей докучной сказке:
- Я сел на пне,
- Хлебал крупне.
Докучная сказка часто выстраивается на рифмовке и повторах одного и того же оборота: «У попа была собака», «Жили-были два гуся», «Про белого бычка». Последние строки сцеплены с первыми словами, повторяющимися снова: «Бывало да живало, кулик да журавль, они пили да ели с одного стола и спать отходили с одного крыльца, сказка не долга, баран да овца, опять с конца: бывало да живало, кулик да журавль, они пили и ели с одного стола и т. д».
Издевка часто используется в докучных сказках как своего рода связка между отдельными частями, иногда носящая оценочный характер. О.И. Капица отмечала, что «докучная сказка сохраняет популярность среди детей благодаря звуковой организации стиха, обилию рифм и повторов»:
- Летел ворон, сел на колоду
- Да бух в воду!
- Уж он мок, мок, мок,
- Уж он кис, кис, кис.
- Вымок,
- Выкис,
- Вылез,
- Сел на колоду
- Да бух в воду!
Волшебные сказки пользуются популярностью среди детей благодаря динамичным сюжетам, в которых с героями происходят невероятные вещи: они летают на коврах-самолетах и сказочных животных, превращаются в красавиц или уродин, воскресают из мертвых.
К волшебным сказкам близки героико-фантастические сказки. Они отличаются четкостью композиционной и стилистической формы. Действие происходит в условном мире, где герой должен добиться определенной цели – победить противника, освободить красавицу, добыть волшебный предмет.
Волшебные сказки стали главным объектом дискуссии конца 20-х – начала 30-х годов об использовании сказки для воспитания детей. Многие писатели выступали за активное использование сказок в педагогическом процессе. «Ребенок – свой человек в области чудесного. Ему кажется удивительным не чудо, а отсутствие чуда», – писал, в частности, К.И. Чуковский.
Не учитывая специфики жанра, педагоги выступали против сказочного вымысла. Они считали, что дети боятся злых, страшных персонажей, с которыми герой вступает в поединок. Но ведь сказка всегда заканчивается победой добра над злом, волшебные помощники приходят на помощь главному герою, который отличается добротой, верностью, трудолюбием, готовностью защитить слабого и обездоленного.
Интересное рассуждение встречаем у М.И. Цветаевой: «Разве дети ненавидят Людоеда за то, что он хотел отсечь мальчикам головы? Нет, они его только боятся. Разве дети ненавидят Верлиоку? Змея Горыныча? Бабу-Ягу с ее живым тыном из мертвых голов? Все это – чистая стихия страха, без которой сказка не сказка и услада не услада. Для ребенка в сказке должно быть зло».
Обладая четко выраженной воспитательной функцией, сказка учит ребенка самым разным вещам: доброте, смелости, преодолению трудностей. Поэтому так легко волшебные сказки переходят из взрослого репертуара в детский.
Собственно детские сказки или сказки-импровизации сочиняются сами детьми. Часто они встречаются в воспоминаниях о детстве, автор рассказывает папины или мамины истории («Котик Летаев» А. Белого), сочиняет по известным моделям собственные истории. Обычно процесс связан с одушевлением ребенком мира вещей, попытками объяснить неизвестное, странное, непонятное (рассказ о комнате Леры в воспоминаниях М.И. Цветаевой сопровождается историей о черте). Несомненно подобный материал нуждается в выделении и классификации.
Поводом для создания сказки становится сильное впечатление от увиденного или услышанного, они сочиняются как бы экспромтом. Основной поэтический прием данных сказок – контаминация. Ребенок составляет повествование из многих компонентов. Мотивы традиционных волшебных сказок, запомнившиеся в детстве сказки-пестушки, прочитанное в художественной литературе, соединяются в причудливый сплав и накладываются на картины повседневной жизни.
В другом случае ребенок создает свой рассказ «по готовой модели». Тогда все части сказки – от зачина до формулы концовки оказываются традиционными: в известный сюжет привносятся новые персонажи, действие переносится в наши дни, точнее в обстановку современного города. Приведем пример подобного текста:
«Жил-был Лебедь. У него была большая семья маленьких лебедяток, которых старалась кормить мама-лебедиха с их папой.
Но раз папа не вернулся домой. «Верно, убил его охотник», – сказала лебедиха и заплакала. Дети тоже заплакали, потому что хотели кушать, а дома ничего не было, и уже стала ночь. Тогда лебедиха сделала в печке огонь, налила в горшок воды и стала мешать лапкой, пока она не сварилась. Вышел густой вкусный суп, и лебедиха накормила детей, а сама осталась с одной лапкой навсегда и потому уже или летала, или плавала»[220].
Репертуар детских сказок определяется характером интерпретации сюжетов. Предпочтение обычно отдается волшебным сказкам с увлекательным и занимательным сюжетом..
Дети традиционно упрощают сюжет сказок, сохраняя традиционно-сказочную логику. Они предлагают свои мотивировки, меняют развязку событий, изменяют концовку, делая ее не такой страшной и более занимательной. Иногда, напротив, элементы «страшных историй» специально вводятся в сказку[221]. – Не всегда строго выдерживается обязательный подбор чудесных предметов и помощников. Некоторые детские сказки возникают в ходе игры и представляют собой даже своеобразный комплекс, состоящий из нескольких историй. Они зафиксированы в воспоминаниях[222].
Особенности детской сказки. Прежде всего отметим четкую формульность. Повествование строится на основе нескольких часто встречающихся формул – начальных, существования героев, наличия-отсутствия детей. Присказки и сложные формулы начала не свойственны детской волшебной сказке, потому что они не соответствуют особенностям детского мышления, как бы «запрограммированного» на фантастичность.
Композиционно сказка состоит из присказки, заставки, основной части и концовки. Присказка или прибаутка служит своего рода вводной частью, которая заинтересовывает, вводит слушателей в сказочный мир и создает настроение. Нередко она существует и как самостоятельное целое.
Финальные формулы, как и инициальные, обладают рядом сходных признаков. Самой распространенной формой финала является соединение нескольких типов исхода сказки – мотивов пира, потери подарков, заключительного награждения сказочнику.
Песенные стихотворные вставки присущи детским сказкам всех жанровых разновидностей – кумулятивным, сказкам о животных, волшебным. Чаще они не поются, а рассказываются речитативом. А.И. Никифоров считал, что ритм и рифма помогают запоминанию сказки. Он выделял специфические функции подобных элементов: на текстовом уровне они служат связками частей сказочного действия, выступают элементами повествования. А.И. Никифоров называл их формулами-песенками. Внетекстовая функция формул – эмоционально-экспрессивная, орнаментальная.
Кроме употребления формул в детской сказке представлена и неформульная стереотипия[223]. Текст сказки организуется повторами различных сюжетно-композиционных элементов. Повторы эпизодов, как правило, включают типичные высказывания персонажей, диалоги между ними, а также традиционные медиальные формулы прямой речи.
Основным организующим элементом детской сказки является диалог. Он входит в утроенные повторы, повторы типа «сказано-сделано», повторы прямой речи. Если основным мотивом сказки является испытание, то ему всегда предшествует или сопутствует диалог героя и его антагониста, состоящий из постоянных вопросов и ответов (сказки Ивашки и ведьмы, Морозко и девочки, падчерицы и коровы). Диалог передается сказителем при помощи мимики и жестикуляции, он активизирует восприятие сказки детьми, развивает игровое начало.
Некоторые стереотипы встречаются в разных сюжетах (формула «спи (усни), глазок, спи (усни) другой» отмечена во всех сюжетах, где есть мотив засыпания). Подобные формулы способствуют формированию «поля ожидания»: знакомая формула напоминает ранее слышанный текст, ребенок узнает определенную сказочную ситуацию и легко «входит» в новый для него сюжет.
Сказочные сюжеты иногда встречаются и в песенной форме. В главе о пестушках и потешках упоминаются маленькие сказочки-песенки, которыми развлекают маленьких детей. О.И. Капица приводит такой пример более пространной песни о лисе:
Уж как шла лиса по тропке, Нашла грамотку в охлопке: Она по лесу ходила, Громким голосом вопила.
Влияние литературы. Первоначально ребенок знакомится со сказкой от взрослых, при чтении вслух. Потом он сам начинает читать и, наконец, сочиняет собственные сказки. Следует говорить об изменении традиционного сказочного стиля, отличающегося формульностью, использованием постоянных тропов.
Современные сказочники используют приемы психологической выразительности – внутренние монологи, пейзажные и портретные зарисовки. Профессиональные писатели часто основывают свои произведения на сюжетах и художественных особенностях сказок. Исследователи констатируют стилевой синтез, появление пост-фольклорных форм, развитие литературных сказок по модели фольклорного произведения.
Современные сказки отличаются от классических меньшим количеством разных типов формул, их упрощением. Исчезают и традиционные повторы. Понятно, что сказочники не могут соревноваться с книгой, не говоря о кино и телевидении. Мастерство рассказывания сказок стало достоянием очень немногих. С потерей традиций исполнительского искусства неизбежно происходит обеднение народной сказки.
Контрольные вопросы
1. Когда появились сказки?
2. Каково происхождение сказок?
3. Какие разновидности сказок можно выделить?
4. Кто является носителями сказок?
5. В чем вы видите различие между обработкой, пересказом и стилизацией?
6. Какие сказки относятся к детскому фольклору?
7. Почему сказки о животных и волшебные сказки легко переходят из фольклора взрослых в фольклор для детей?
8. Какие особенности отличают сказки о животных?
9. Почему сказки о животных становятся первыми сказками, рассказываемыми детям?
10. Кто и почему является персонажами сказок о животных?
11. Почему волшебные сказки привлекают внимание детей?
12. Как название «докучные» сказки определило их содержание?
13. Какие сказки называются кумулятивными?
14. Каковы общие особенности сказки?
15. Каким образом происходит взаимодействие сказки и литературного произведения?
16. Каковы особенности волшебных сказок?
17. Почему именно волшебные сказки становятся основой современных фантастических и сказочных историй (жанры «фэнтези» и «литературной сказки»).
18. Каковы особенности методики рассказывания сказок?
Страшные истории (страшилки)
Основные понятия: история появления «страшных историй»; процесс собирания и его своеобразие; специфика использования в литературе; причины отнесения «страшных историй» К словесному творчеству детей; контаминационный характер; своеобразие использования быличек, легенд и сказаний; основные классификации; образная система; пространственно-временная система; связь с современной действительностью; основные мотивы; клишированность и однотипность как типологические свойства «страшных историй»; типы рассказчиков; языковые особенности «страшных историй»; роль цветовой символики; взаимодействие «страшных историй» с фольклорными и литературными источниками.
В литературе XIX века часто встречаются упоминания о страшных историях, бытующих среди детей. Однако фольклористы не располагают соответствующими записями, поэтому приходится опираться на сведения, приводимые писателями XIX века. «Страшные рассказы зимою в темноте ночей» мы находим в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Вероятно, дети, собравшиеся вокруг костра в «Бежином луге» И.С. Тургенева, пересказывают друг другу «страшные истории» типа быличек и легенд.
Приведем свидетельство литературного критика и историка литературы А.И. Скабичевского, описывающего, как это происходило: «По вечерам, когда солнце садилось и сменялось безоблачно-яркою, палевою зарею <…>, – наигравшись, набегавшись и умаявшись за день, мы усаживались в кружок в заветном уголке сада, под плакучею березою и <…> друг перед другом изощрялись в рассказах о чертях, мертвецах, привидениях и тому подобных ужасах»[224].
Литература XX века активно использует «страшные истории», прямые или косвенные указания можно встретить в сочинениях А.С. Макаренко, А.Л. Пантелеева, Л.А. Кассиля, Н.Н. Садур, Л.С. Петрушевской, B.C. Маканина. Одни авторы фиксируют таким образом детские впечатления и наблюдения, другие на основе «ужастиков» формируют свое авторское видение действительности определенного времени. Соответственно отличается и тональность – от объективно нейтральной до нарочито трагической. Иногда встречается и юмористическое отношение к подобным историям.
В качестве иллюстрации приведем детские воспоминания М.М. Зощенко, отраженные в повести «Перед восходом солнца»: «Я вспомнил давний сон. Быть может, даже это был не сон. Быть может, память сохранила то, что когда-то произошло наяву. Но это осталось в памяти как сновидение. Сквозь далекий туман забвения я вспомнил темную комнату <…>. Из темной стены тянется ко мне огромная рука. Эта рука уже надо мной…»[225]
Как жанровое образование страшные истории формируются постепенно, и окончательно оформляются, когда из активного репертуара взрослых выпадают былички и легенды и постепенно исчезает вера в достоверность мифологических существ.
В «страшных историях» трансформировались или типологически проявились признаки многих фольклорных жанров: мифа, заговора, волшебной сказки, животного эпоса, былички, легенды, анекдота, детского игрового фольклора. В них также обнаруживаются следы влияния литературных жанров: фантастического и детективного рассказа, очерка»[226]. Одной из первых М.П. Чередникова отметила контаминационную природу данного жанра.
Исследователи отмечают психологическую потребность появления «страшных историй», которые становятся своеобразным средством разрешения конфликта ребенка с внешним миром, позволяя ему преодолеть, а затем и отбросить свои детские страхи.
М.П. Чередникова относит «страшные истории» к словесному мифотворчеству: «Подобно архаичным мифам, «страшные рассказы» возникают из естественных потребностей ребенка, из необходимости преодолеть психическое и интеллектуальное противоречие. Все сказанное позволяет определить «страшные рассказы» и предшествующий им комплекс представлений о. мире как современную детскую мифологию»[227]. В своем исследовании М.П. Чередникова особое внимание уделяет системе мифологических персонажей, придуманных детьми.
Вероятно, следует согласиться с определением «страшные рассказы», или «страшные истории», распространенным у детей и принять его как рабочий термин. Иногда используется термин «ужастики» по аналогии с термином, используемым для обозначения некоторых фильмов.
Собиратели обращаются к данной форме примерно в середине XX века. Известно, что в Англии, США, Финляндии, Польше, Болгарии «страшные истории» начали записывать и изучать с 1950–1960 годов (публикации А. и П. Опи, М. и Г. Кнапп, Л. Виртанен). В СССР впервые об этом жанре заявили ленинградские ученые О.Н. Гречина и М.В. Осорина на Всесоюзной научной конференции в Новгороде в 1970 году. Публикация статьи О.Н. Гречиной и М.В. Осориной в «Русском фольклоре» в 1981 году подвела своеобразный итог многолетним наблюдениям и позволила включить в научный обиход ранее игнорировавшийся жанр русского фольклора.
Работа, проведенная другими собирателями (А.Ф. Белоусовым, А.А. Усачевым и Э.Н. Успенским, В.Ф. Шевченко) в семидесятые – девяностые годы, позволила появиться не только указанному выше исследованию М.П. Чередниковой, но и обобщающим статьям и монографиям Т.В. Зуевой, С.М. Лойтер, К.А. Рублева, О.Ю. Трыковой[228].
Несмотря на некоторые терминологические расхождения – «страшилки», «страшные истории», детский «страшный» фольклор, оказывается возможным дать общее определение жанра. Детские страшные истории – это мифологические рассказы о страшном и ужасном, которое происходит по воле существ, предметов и явлений, наделенных сверхъестественными свойствами и возведенными в ранг демонологических персонажей. Рассказывание преследует конкретную цель – вызвать у слушателей переживание страха, необходимое для самоутверждения личности ребенка[229].
«Страшные истории» можно считать жанром именно детского фольклора, поскольку влияние взрослых на его формирование и организацию минимально. В «страшных историях» фиксируется обычное, будничное поведение, причем жизнь детей в них отделена от жизни взрослых и поэтому существует разветвленная система запретов.
В «страшных историях» отражаются особенности детского мировосприятия, логика рассуждений, свойственная ребенку, испытывающему тревогу и беспокойство, пережившему когда-то ужас, но все же стремящемуся передать свой опыт сверстникам.
Дети стремятся рассказывать свои истории друг другу, намеренно исключая из круга общения взрослых. Обычно они делятся своими историями вечером с коллективом, лишенным на время опеки взрослых (в лагере, больничной палате, на игровой площадке). Сами дети верят в подлинность историй и начинают рассказ со слов: «Это правда было». Нередко в записях фиксируются особенности словотворчества ребенка (например, заикание), что также усиливает фактографичность истории. Главными героями являются «одна девочка» или «один мальчик». Отмеченные особенности позволяют отнести «страшилки» к устной несказочной прозе.
Рассмотрим некоторые наиболее распространенные классификации.
Г.П. Мамонтова выделяет семантические группы «страшных историй»:
1. Страшилки с трагическим исходом: «зло» побеждает «добро».
2. Страшилки с благополучным исходом: «добро» побеждает «зло».
3. Страшилки эффекта. Обычно конфликт не разрешается, они заканчиваются восклицанием типа: «Отдай мое сердце!»
4. Страшилки наоборот. В них развитие конфликта вызывает противоположный, комический эффект. Ю.Г. Круглов называет подобную разновидность «антистрашилками».
Классификация О.Н. Гречиной и М.В. Осориной основана на типах мотивов, выделяемых так же, как и при анализе сказок:
1. Причинение зла вредителем или предметами – помощниками вредителя в жилище семьи.
2. Нарушение запрета и кара за него.
3. Похищение ребенка-героя вне дома.
4. Мертвец требует обратно свою вещь.
В качестве основы классификации исследователи часто берут функции разных персонажей, поэтому некоторые сюжеты могут строиться на соединении нескольких мотивов. В рассказе нарушается запрет покупать перчатки определенного типа (один мотив) и наказывается носитель зла (другой мотив)[230].
Классификация С.М. Лойтер основана на группировке образов носителей зла. Первую группу «страшных историй» образуют рассказы о мифологических персонажах, придуманных детьми. Они пришли из привычной бытовой среды (перчатка, занавеска, чулки, лента, печенье), сюда же включаются существа-маргиналии (персонифицированные детские страхи): рука, глаза, мясо, зубы.
Во вторую группу входят рассказы о персонажах, которые «генетически восходят к мифологическим рассказам взрослых и традиционным жанрам фольклора»[231]. Их сюжеты заимствуются из быличек, бывальщин, сказок (ведьма, покойник, вампир, женщина в белом/черном/красном, черт, привидения, колдун, духи, голоса). Всего исследователем выделено 30 сюжетных типов[232]. Некоторые из них являются общими для фольклора детей и взрослых.
Образная система «страшных историй» представлена как одушевленными образами (мачеха, старик, ведьма, мать-людоедка), так и неодушевленными (рука, пятно, занавески, голоса, глаза, пианино, портреты, куклы), причем все они совершают одни и те же вредоносные действия. Возможны «смешанные образы» типа «рука-вредитель», «рука-пятно», «рука-занавеска».
Введение мотива превращения и антропоморфных элементов облегчает возможность их оживления. Повинуясь детской фантазии, предметы начинают двигаться, разговаривать, угрожать, предупреждать, душить, убивать.
Появление подобных «существ» нельзя считать случайным, ибо ребенку свойственно одушевлять окружающий его мир. С.М. Лойтер указывает: «две особенности детской психологии – готовность к всеобщей персонализации и игровая воспроизводящая фантазия – объясняют механизм рождения демонологических персонажей, детского мифотворчества»[233].
С.М. Лойтер обозначает первую группу как существа-маргиналии, «представляющие собой часть целого и сохраняющие «симпатическую связь» (Д. Фрезер) с ним и после прекращения физического контакта»[234]. Сюда она относит такие персонажи, как рука, глаза, зубы, голова, копыта. Особую группу сверхъестественных существ составляют предметы одежды и вещи, связанные с «приемами костюмирования» (выражение П.В. Богатырева): перчатки, платок, плащ, туфли, лента, парик и т. д.[235]
Часто традиционными чертами демонического персонажа наделяется кукла. Сверхъестественной силой могут обладать портрет, статуя, картина. Все персонажи страшилок выполняют одну и ту же функцию, они хотят нанести немотивированный вред человеку.
О.Н. Гречина и М.В. Осорина выделяют следующие группы персонажей, соответствующие функциям, о которых писал еще В.Я. Пропп: пострадавшие, вредители или агрессоры, добрые помощники, которые предупреждают о возможном несчастье.
Специфика образной системы. Хотя образная система «страшных историй» разнообразна, развернутые характеристики действующих лиц отсутствуют, представленные персонажи скорее стереотипны и являются носителями определенных качеств (некоторые свойства предметов подробно перечисляются). Мотивировка поступков персонажей также отсутствует, поскольку она изначально задана его функцией в «страшной истории».
По форме «страшные истории» представляет собой законченное произведение со своим собственным сюжетом и образной системой небольшого объема. В страшилке доминирует строгая последовательность событий, развивающихся остро и динамично. С.М. Лойтер определяет схему развития сюжета следующим образом: предупреждение/запрет – нарушение – воздаяние. Она «регламентирует последовательность мотивов», которые в детских страшных рассказах создают свой устойчивый «сюжет-но-композиционный ритм»[236].
Однотипная последовательность развития действия не предполагает появления сложной временной системы, наличия перспективы, часто встречаются «общие места» и повторы, можно даже говорить о клишированности «страшных историй». Обычно действие разворачивается за короткий промежуток времени от трех дней (ночей) до одного (тогда описывается разовый случай или даже мгновение).
Происходящие таинственные и необъяснимые события объясняются результатом действия сверхъестественных сил, предметов, вещей. Подобное качество унаследовано «страшными историями» из быличек и бывальщин, где главным является суеверие, вера в сверхъестественных существ.
Закономерно, что большинство сюжетов связаны с мотивом смерти. С.М. Лойтер даже иногда называет страшилки «рассказами о смерти». По мнению В.Н. Топорова, детство является «зоной повышенной или открытой опасности», «зоной, находящейся под неусыпным вниманием смерти, когда всякая опасность несет угрозу жизни, неотменяемую возможность смерти»[237].
Ребенок рано сталкивается с смертью или ее угрозой, во время болезни он часто слышит, как взрослые беспокоятся о его здоровье, иногда узнает о смерти близких ему людей, чаще всего бабушки или дедушки, иногда матери. Указанные впечатления и находят отражение в содержании страшилок. Иногда рассказ заканчивается гибелью героев или их исчезновением.
Подробное описание предмета и места действия также отсутствуют, обычно они находятся в круге известных ребенку понятий и появляются на основе ассоциативных связей «дом – двор, магазин – дом».
Пространство можно определить внутри оппозиции чужой/свой. Ребенок находится в понятной для него среде, связанной с архетипом «дом» (жилище: комната, квартира). Известно, что по мере познания окружающего мира пространство вокруг ребенка расширяется. В страшилках социальное пространство специально замыкается, ребенок ограждается от опасного чужого мира, закрывает окна, двери, чтобы не проникли агрессоры (дяденьки, бандиты, цыганки; вампиры, мертвецы; одушевленные предметы).
М.Н. Мельников отмечает возможность раздвижения физического пространства с помощью трагического развития действия. «…Путь следования: дом-дорога, кладбище, дом-игрище, дом, дом – подземный ход и т. п.» (Мельник., с. 80). К «опасным» местам можно отнести магазины, рынки, танцплощадки (дискотеки), рестораны. Упоминание данных топосов объяснимо: ребенок боится потеряться или провалиться в колодец (яму, траншею, люк). С ними нередко связываются мотивы перехода в иное пространство.
Очевидна перекличка «страшных историй» с мифологическими рассказами, где четко противопоставлены места обитания людей и укрытия нечистой силы («яма», «подземелье»),
Современная бытовая среда отражается через соответствующую атрибутику: радио, телефон, рояль, механическая кукла, телевизор. В ней действуют следующие персонажи: ученый, милиционер, бандиты.
Последовательность мотивов и их регламентированность создают свой устойчивый сюжетно-композиционный ритм, который влияет и на методику преподнесения материала. «Страшная история» связана с традицией рассказывания, где рассказчик рассчитывает на соучастие собеседника, он хочет поразить и удивить его, поэтому делает паузы, использует риторические обращения, встречаются и вопросительные конструкции.
О.Н. Гречина и М.В. Осорина справедливо утверждают: «При кажущейся непритязательности словесного оформления страшилки отличаются большим эмоциональным воздействием на слушателей… бедность описаний и характеристик компенсируется интонацией»[238].
Классификацию рассказчиков можно встретить у Т.В. Зуевой, предлагающей учитывать динамику словесного текста, обусловленную психологическими причинами. Она показывает, что в зависимости от возраста слушателей меняется отношение к чудесному или восприятие ирреального. Следовательно, следует располагать жанровые типы страшных историй по следующим возрастным группам: первая – от пяти до семи, вторая – от восьми до двенадцати, третья – от тринадцати до пятнадцати лет.
В зависимости от возраста наблюдается активное или пассивное отношение к страшным историям: дети более раннего возраста воспринимают рассказы и высказывают свое к ним эмоциональное отношение. Дети более старшего возраста уже сами являются авторами историй[239].
Нередко в «страшной истории» отражена логика рассуждения ребенка, стремящегося объяснить окружающий его мир в понятных ему реалиях: «Тогда тетенька взяла и вышла замуж, чтобы не оставаться одной. И больше к ней черная рука не влезала».
Легко также проследить разницу мировосприятия, некоторые особенности возрастного видения мира, характер эмоциональных переживаний, присущих детям разных возрастных групп. С изменением сознания рассказчика происходит трансформация текста, системы персонажей и изменение реалий. Иначе проходит и процесс словотворчества.
Создавая собственный язык бытового общения, дети не всегда привносят в него новые элементы, лексика «страшных историй» достаточно однородна.
Язык «страшных историй» не отличается сложными речевыми оборотами, напротив, встречается много слов-паразитов (ну, ну вот; значит), фиксируются отдельные диалектные особенности (ничё, чё-то сказал), неправильное словоупотребление – кода (вместо когда), мама у нее (вместе ее мама), разобился (вместо разбился), у ней (у нее), нету (вместо нет), папа лек, подбежали к рояли. Часто встречаются повторяющиеся вопросы и обращения. Некоторые исследователи видят в подобных словесных выражениях тенденцию к созданию детского языка бытового общения.
М.П. Чередникова отмечает, что эмоциональное воздействие слова усиливается благодаря особой ритмической организации текста: «Анафора, отделяющая каждую фразу от предыдущей, создает напряженный ритм взволнованной, задыхающейся речевой интонации с повышением ударения в начале предложения и понижением в конце»[240].
Особое место исследователи уделяют функции цвета, обычно встречаются семь из них: черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый, голубой. Другие цвета представлены реже, наиболее распространены первые три из перечисленных. Отметим, что они часто встречаются в ритуалах и мифологии различных народов.
Т.В. Зуева обращает внимание на сигнификативное значение цвета, за которым стоит идентификация признака, предупреждающего об опасности. Только обретя цветовое значение, ожившие предметы и демонологические силы начинают проявлять свою вредоносную силу.
Не случайно действие «страшных историй» происходит в основном ночью, когда человек оказывается беззащитным перед демонической силой. В представлении снова нашли отражение ночные страхи ребенка, боящегося темноты и всячески оттягивающего момент засыпания[241].
В страшилках ночью вылезают черные руки, черные перчатки (сапоги, пятно, пианино), они душат детей (рубят на части), черная голова убивает людей. В разных вариантах встречается эпитет черный (черный-черный, черный-пречерный), иногда он заменяется похожим: в темном-темном.
Исследователи также отмечают, что цвет становится своеобразным семантическим знаком, так, красный указывает на обязательный трагический исход.
Функции цвета разнообразны: он не только выступает как атрибутивный признак, но и носит символическое значение, помогая выделить один предмет из множества других.
Необычным можно считать проявление через цвет иронии, обычно она проявляется в неожиданных концовках или своеобразных авторских комментариях: «Вы слышали русскую народную сказку». Макака, появляющаяся из красного пятна на стене, замечает: «Что вы мою задницу трете? Она и так красная».
О.Ю. Трыкова отмечает возможность использования в «страшных историях» цветового контраста: «…там лежит черный покойник в белых тапочках», «а под этим черным-черным покрывалом сидит… маленький розовый поросенок!» Правда, трудно согласиться с другим выводом исследователя о переходе страшилки в страшилку-пародию.
Исследователи фиксируют взаимосвязи страшилок как с фольклорными (прежде всего сказкой), так и литературными произведениями. С.М. Лойтер находит перекличку страшных историй с мифологическими рассказами в сходной установке сказителя и слушателей и использовании отдельных архетипических мотивов. Наиболее распространенным она считает оборотничество (превращение близких людей в оборотней или вампиров, предметов в людей). «Другой архетипический мотив страшных историй основан на том, что «подобное производит подобное или следствие похожее на причину» – «магия подобия»[242] (красная женщина вызывает пожар; девочка покупает красные розы – в шторе появляется красное пятно; зеленое пианино в доме – зеленым становится кто-то в семье)»[243].
Исследовательница также отмечает использование первоэлементов мифических представлений: оберегов, запретов, погонь, превращений, разрубаний, оживлений.
Элементы структуры заговоров М.П. Чередникова усматривает в повторах. Она приводит такой пример: «Вышла из черной пропасти черная вода, за ней черная змея, вышла черная лошадь, за ней виден черный человек»[244].
Многочисленны переклички со сказкой: часто используются инициальная формула сказки («Жили-были мама, папа, брат и сестра»; «Жила-была женщина»), отдельные мотивы (Т.В. Зуева указывает на широкое использование сюжетов «Василисушка» и «Иван Быкович») и образов (феи, Синей Бороды, разбойников).
Переклички с литературными произведениями (фантастикой и романтическими историями) наблюдаются в использовании общих (мировых) сюжетов: ожившей Статуи, переходе отдельных литературных мотивов. Часто встречается структурная схема детективных историй, тогда «страшные истории» начинают отличаться весьма замысловатыми сюжетными ходами.
Обычно это приводит к усложнению повествовательной структуры (расширению пространства, выходу из границ квартиры, дома, появлению двойных сюжетных ходов, увеличению числа персонажей). Однако сохраняются общие установки на коллективность и устность, о чем свидетельствуют стереотипы сюжетов и общие образы.
Иногда встречаются общие архетипы, используемые авторами фольклорных и художественных текстов (ассимиляция образа змеи из сказок, античного мифа о Горгоне Медузе и произведения Р.Киплинга «Рики-тики-тави»).
Подсознание ребенка фиксирует самые разные впечатления (мотив попадания ребенка в телевизор можно сравнить с сюжетом сказки В. Одоевского «Город в табакерке»). Связи с литературными произведениями обусловлены кругом детского чтения, интересный подобный разбор содержится в книге О.Ю. Трыковой[245]. Среди часто встречающихся образов подобного рода чаще всего называют Пиковую даму.
В «страшных историях» также находят отражение впечатления от увиденных фильмов (обычно триллеров) и мультфильмов (появляются образы крокодила Гены, Чебурашки, Карлсона, Винни Пуха).
О.Ю. Трыкова прослеживает взаимосвязь страшилок с произведениями К. Булычева и показывает влияние сначала мультфильма «Тайна третьей планеты», а затем фильма «Гостья из будущего». В частности, отмечается образ отрицательного героя – робота, разобранного на запчасти. Можно согласиться с М.П. Чередниковой, которая рассматривает данные сюжеты как переходные от фольклора к литературному творчеству.
Влияние постфольклорных форм проявилось в упоминаниях в «страшных историях» деятелей кино и шоу-бизнеса: В. Леонтьева, Ю. Никулина, Е. Моргунова, Г. Вицина. О.Ю. Трыкова зафиксировала и появление образа А. Кашпировского.
Страшные рассказы являются одним из средств познания ребенком окружающего мира. Он старается разобраться в его сложности, многоплановых внутренних взаимосвязях. В то же время через «страшные истории» происходит усвоение определенных понятий (смерти, разлуки, одиночества).
Даже воображаемые встречи с страшным, таинственным позволяют не просто преодолевать страх, но моделировать свое поведение, чтобы в реальной обстановке сохранять ясность действий и самообладание. Таким образом, в процессе становления ребенка страшные рассказы выполняют ту же функцию, что древние мифы в становлении человечества (можно сравнить с обрядом инициации).
Контрольные вопросы
1. Когда впервые появились «страшные истории»?
2. Почему «страшилки» первыми стали записывать литераторы?
3. Кто и когда начал записывать «страшные истории»?
4. Как используется в литературе поэтика «страшных историй» (структура, композиция, образы, стилевые приемы, словесные формы)?
5. В каких литературных произведениях вы встречаетесь с образами из «страшных историй?»
6. Почему исследователи связывают потребность рассказывания «страшных историй» с развитием психологии и внутреннего мира ребенка?
4. Как в названии жанра отразилась его специфика?
5. Можно ли отнести «страшные истории» к мифологической культуре?
6. По каким атрибутивным признакам записи «страшных историй» относят к тому или иному десятилетию?
7. Почему «страшные истории» считают контаминационным жанром?
8. Какой словесный жанр и почему доминирует в составе «страшных историй»?
7. Почему образы персонажей «страшных историй» обнаруживают атрибутивные признаки (чаще всего выраженные с помощью эпитета или цветового обозначения)?
8. Известны ли вам «страшные истории»?
9. Можно ли считать однотипность свойством «страшных историй»?
10. Какие предметы встречаются в «страшных историях»? Проведите их классификацию.
11. Какова функция цвета: индексирующая, эмоциональная или символическая? Можно ли говорить о том, что цвет является признаком исключительного свойства» (мнение М.П. Чередниковой)?
7. Игровой фольклор
Основные понятия: происхождение игр, классификация, игровые приговоры, ролевые игры, игровая обрядность, игры-импровизации.
Игра занимает исключительное место в жизни ребенка. Она начинается в ранний колыбельный период и вначале является выражением чисто физиологических потребностей и побуждений. Со временем игра приобретает социальные черты и становится работой, с помощью которой ребенок развивается физически, приобретает знания и опыт, необходимые для его будущей деятельности.
Известны разные теории, в которых определяется роль игр в развитии детской личности. Наиболее значительной является теория К. Гросса, указывающего на роль игры как развивающего фактора. Он полагает, что игра – это подготовительное упражнение к настоящей жизни. «Пока в детскую жизнь не врывается воспитание с присущей ему принудительностью, дети заняты главным образом игрой. Если откинуть общие жизненные отправления, еду, питье и сон, то у нормального, предоставленного самому себе ребенка не окажется почти ничего, кроме игры»[246].
Большинство народных игр унаследовано детьми от взрослых. Сопоставление наблюдений над играми и песнями в трудах И.П. Сахарова (1837), П.А. Бессонова (1868) и А. Можаровского (1882) показывает, что распространенные среди взрослых в первой трети XIX века игры и игровые песни во второй половине XIX века перешли в детский репертуар.
По свидетельству И.П. Сахарова, «Жмурки» или «Слепой козел» являются играми девушек-невест, по данным П.А. Бессонова – относятся к детской среде; «Коршун» определяется И.П. Сахаровым как молодежная игра, П.А, Бессоновым – как детская; «Редьку» И.П. Сахаров считает любимой игрой «женщин, девиц и молодчиков», П.А. Бессонов определяет ее как детскую.
Другие игры подтверждают данную тенденцию. Святочная игра «Коза», описанная Сахаровым в «Сказаниях русского народа» как взрослая, А. Можаровским уже отнесена к детским с указанием, что в нее играют дети семи-восьми лет. Естественно, что в течение некоторого времени эти песни и игры продолжали существовать параллельно и в репертуаре детей, и в репертуаре взрослых. В 1928 году О.И. Капица пишет о том, что данные игры фиксируются исключительно в детской среде.
Детей привлекали прежде всего ролевые игры с хорошо разработанным драматическим действием. Сравним игру «Заинька» в записи И.П. Сахарова (записанную от взрослых) и эту же игру из сборника Е.А. Покровского (запись сделана от детей).
В среде взрослых игра имела четко выраженное обрядовое значение, она использовалась и для гадания. В детской среде игровая песня утратила обрядовый смысл, превратившись в припев, задающий ритм движения участников. О.И. Капица отмечает, что по степени трансформации песенного текста можно сказать, когда та или иная игра перешла от взрослых к детям. Именно ритмическая структура способствовала быстрому приспособлению воспринятого от взрослых песенного материала.
Игры детей разных народов сходны между собой. Дети одного возраста везде играют с одними и теми же игрушками: волчками, куклами, мячиком, веревочкой и т. д. Такое же сходство наблюдается и в темах игр-импровизаций – повсеместно мальчики играют в разбойников, охотников, солдат, а девочки в семью. Игры, которые ведутся по сходным правилам, организуются в формы, которые также имеют много общего.
Рассмотрим известную игру в «Волка и гусей». Вначале из числа играющих избираются ведущий (матка) и волк, остальные дети изображают гусей. Гуси отправляются в поле, мать зовет их домой: «Гуси, домой!» Гуси: «Зачем?» Мать: «Волк под горой». Гуси: «Что он делает?» Мать: «Гуску щипет». Гуси: «Какую?» Мать: «Серую, белую, волосатую. Бегите домой!» – Гуси бегут, волк ловит их.
Немецкая игра «Der bose Wolf» («Злой волк») разыгрывается так же, но вместо матери выбирается «пастух», вместо гусей – овцы. Между пастухом и овцами ведется следующий диалог.
Пастух: «Овечки, овечки, домой!»
Овцы: «Мы не смеем».
Пастух: «Почему?»
Овцы: «Здесь волю».
Пастух: «А что он хочет есть?»
Овцы: «Мясо».
Пастух: «А что он хочет пить?»
Овцы: «Кровь».
Пастух. «Овечки, овечки, бегите домой!»[247].
Аналогично построена английская игра «Короли». Вначале дети делятся на две партии, между которыми происходит следующий диалог:
1-я партия: «Что нейдешь? Что нейдешь?»
2-я партия: «Боимся, боимся».
1-я: «Кого вы боитесь?»
2-я: «Короля, короля».
1-я: «Дома нет, дома нет…» и т. д.
Затем двое детей, взявшись за руки, устраивают ворота, остальные дети проходят под этими воротами, последнего задерживают. Игра продолжается, пока всех не задержат. Во время прохождения ворот дети поют:
- У нашего короля
- Дома нету никого,
- Ни сына его,
- Ни его самого и т. д.
В Германии похожая игра называется «Der schwarze Mann» («Черный человек»), у японских детей она известна под названием «Онигокко». В ней роль «короля» и «черного человека» играет «они», т. е. черт[248].
Игры имеют не только общие черты, но и различия, которые определяются национальными особенностями и культурно-бытовыми условиями. В играх русских детей мы видим отражение земледельческого уклада (показывается, как сеяли, убирали, обрабатывали лен, просо, мак, хмель), крестьянской работы и быта («Коршун», «Утка», игра в горшки и т. д.). В играх детей немецких, английских, французских отражается быт стран с более развитой городской культурой и ремеслом. Так, в английской игре «When I was a schoolgirl» («Когда я была школьницей») дети имитируют движения моряка, солдата, сапожника, портного.
Особенно ярко отражается быт в играх-импровизациях у первобытных народов[249]. Дети эскимосов забавляются тем, что стреляют из маленьких луков в цель, строят маленькие хижины из снега и льда. Австралийские дети делают себе маленькие бумеранги и копья и играют в «похищение невесты», так как обычай похищать себе жен из чужих племен до сих пор существует у некоторых австралийских племен. Киргизские дети изображают конские бега[250].
В пределах одной и той же страны, в зависимости от местных условий, одна и та же игра видоизменяется и приобретает иногда совсем разные черты. Г.Н. Потанин сравнивает записи одной и той же игры: «В деревнях около Никольска Вологодской губернии дети играют в «медведя». Один из детей садится на траву в отдалении от других. Это медведь. Остальные медленно приближаются к нему и приговаривают:
- Дедушка, медведушко!
- Горошек воруешь!
- Тятеньке стаканчик!
- Маменьке стаканчик!
- А тебе ничего!
В других местах они изображают сборщиц ягод. Часть детей сидит где-нибудь у лежащего бревна, обозначающего «деревню». Другие дети ходят вокруг, изображая сбор ягод. Неожиданно медведь рявкает, бросается на собирательниц ягод, ловит одну из них, теребит и валит на землю. Участница изображает мертвую или раненую. Остальные бегут в «деревню» и рассказывают об ужасном событии. Здесь они получают совет, возвращаются в «лес», подкрадываются к своей подруге, поднимают ее и бегут в «деревню». В игре отразился бытовой уклад местных жителей. Когда Никольский уезд обратился в ссыльную область, игра снова изменилась: вместо медведя появлялся бродяга, который хватал и убивал девушек, собирающих ягоды[251].
Классификация детских игр. Этнографы делят игры на одиночные и общественные. Одиночные игры требуют объекта игры, используется игрушка или какой-либо другой предмет. Девочки играют с куклами, мальчики с палочкой, изображающей лошадь, на которую они садятся верхом, играют с мячиком, волчком и т. д. Мальчики берут палку и, стараясь удержать ее вертикально на пальцах, приговаривают:
- Калечино, малечино,
- Сколько часов
- Осталось до вечера,
- До зимнего?
- Раз, два, три…
Участники считают до тех пор, пока палка не упадет.
В совместных или общественных играх объектом игры являются сами участники, такие игры требуют от всех соблюдения известных правил. Одиночные игры позволяют проявиться фантазии отдельных участников.
Игры делятся и по половому признаку участников: играют только девочки или только мальчики. В имитационных играх отражается круг обязанностей мужчины или женщины.
В «Детском народном календаре» Г.С. Виноградова можно проследить смену сезонных народных детских игр. Игры комнатные – это игры зимние; игры подвижные, с бегом, требующие большого пространства, проводятся в летнее и весеннее время[252].
Характер детских игр меняется в зависимости от возраста. В первые годы жизни с ребенком играют взрослые: мать, няня, бабушка и другие лица, забавляющие ребенка несложными потешками и играми с пальцами и руками. Совместные игры начинаются позже, первоначально они носят неорганизованный, беспорядочный характер; затем вносится некоторый ритм и порядок. Тогда появляются игры типа хороводов, когда дети совершают ритмические движения и поют песни.
Наибольшей организованностью отличаются игры, в которых между участвующими распределяются роли, дети должны не только подражать один другому, как это делается в предыдущей стадии, но и оставаться в пределах предоставленной им роли.
К. Гросс разделяет игры на две категории: к первой принадлежат игры, с помощью которых «упражняются общие процессы душевной жизни», к второй – игры, выполняющие специальные функции.
К играм первой категории относятся:
1. Игры сенсорные (упражняющие внешние чувства).
2. Игры двигательные (моторные).
3. Игры психические, подразделяются на:
а) интеллектуальные и
б) аффективные.
К второй категории игр, развивающих специальные функции, относятся:
1. Состязания умственные и физические.
2. Игра в охоту.
3. Игры подражательные (общественные и семейные). Г.А. Покровский предлагает иную классификацию:
а) игры с игрушками (погремушки, волчок, тележки, лошадки и т. д.);
б) игры с движениями (бег, прыганье, вращательные движения), сюда же по признаку движения он относит и игры символические (в разбойники, короли, гуси-лебеди, волка и др.), а также хороводные с пением (лен, метелица, заинька и др.);
в) игры с использованием различных предметов (веревочкой, жгутом, мячиком, палками и т. д.);
г) игры домашние и зимние[253].
Г.А. Покровского интересуют преимущественно физические упражнения, и его классификация построена на различном значении игр в воспитании ребенка. Игра как творческий процесс его практически не интересует.
О.И. Капица подходит к играм прежде всего как фольклорист. Она выделяет игры, связанные со словесным творчеством и содержащие элементы драмы. В них творчество и личность ребенка выявляется многообразно и в разных направлениях. В разных сочетаниях в играх соединяются, встречаются жест и мимика, словесное творчество, песня и пляска.
Исследовательница выделяет игры традиционные или формальные, с устойчивой структурой и словесными формулами, приговорами, прибаутками и песнями. Большая часть этих игр заимствована у взрослых. Они представляют пережиток культовых обрядовых действий, связанных с календарным кругом или бытовыми событиями.
Во вторую группу Капица выделяет игры-импровизации, в которых выявляется творчество детей. Они отражают разные стороны быта взрослого населения и все, что в том или ином виде оставило след в детском внутреннем мире.
Классификацию игр в зависимости от особенностей их формы предлагает В.А. Всеволодский-Гернгросс в сборнике «Игры народов СССР» (1933). Он делит все игры, независимо от их национальной принадлежности и среды бытования, на три типологических группы: игры драматические, спортивные и орнаментальные.
Драматические игры, в свою очередь, подразделяются на производственные и бытовые, в первую группу включает игры охотничьи и рыболовные, скотоводческие, птицеводческие, земледельческие; во вторую – общественные и семейные. Он проводит и более частную классификацию. Семейные игры, например, делятся на девичьи, любовные, в женитьбу, в семью, домашнее хозяйство. Примерно такое же деление проведено в остальных разделах и группах. В результате игры с общей поэтикой оказываются в различных разделах и типологических группах. Так, игры с игровым припевом отнесены к подразделу охотничьих и рыболовных, к скотоводческим и земледельческим.
М.Н. Мельников предлагает рассматривать только детские игры и потому выделяет ролевые игры, которые строятся на приеме олицетворения. Ребенок выражает увиденное, пережитое не словом, а действием. Отсюда возникает стремление «театрализовать» жизнь, которое психологи называют драматическим инстинктом. Едва научившись ходить, ребенок «седлает» палочку, превращая ее в лошадь. Затем он начинает играть «в доктора», «в нашу маму», «в магазин», «в автомобиль»
