Читать онлайн История России в современной зарубежной науке, часть 1 бесплатно
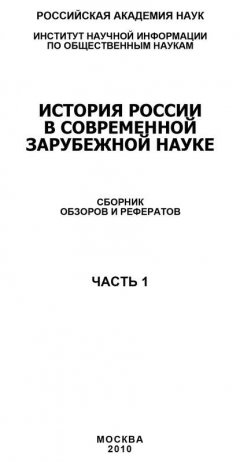
Предисловие
Процесс глубоких изменений в зарубежном россиеведении, начавшийся в 1990-е годы, продолжается и в настоящее время. Этот процесс – результат воздействия двух факторов: «внешнего» и «внутреннего». «Внешний» – неожиданный для многих распад СССР и появление новой России – вызвал взрыв интереса к ее истории, стремление переосмыслить ее прошлое, чтобы лучше понять настоящее, «заглянуть за горизонт», в будущее. Предпосылки для реализации такого стремления имелись. Идеологические барьеры пали. Зарубежные ученые впервые получили беспрепятственный доступ в центральные и местные архивы России и возможность свободного общения с российскими коллегами. Два десятилетия «досягаемости» архивохранилищ не пропали даром: стало своего рода «правилом хорошего тона» строить исследования на фундаментальной основе первоисточников. Неослабное внимание к «фактуре» способствовало необычайному расширению тематики работ, благотворно сказалось на их качестве, сообщив им бо́льшую глубину анализа, обоснованности аргументов и выводов. Этот эффект умножают творческое общение и сотрудничество отечественных и зарубежных историков, проявляющееся во все возрастающем участии в совместных конференциях, публикациях, чтении лекций и т.п.
На зарубежные исследования, помимо последствий «внешнего» фактора – обвала СССР, воздействует и «внутренний» фактор, развитие собственно гуманитарных наук, их «инфильтрация» и взаимодействие. «Внешний» фактор сыграл здесь роль катализатора, ускоряющего и усиливающего действие «внутренних» перемен.
«Внутренний» фактор – новые методологические подходы в исторических исследованиях – обусловил приоритеты в выборе тематики работ и характер анализа различных аспектов минувшего. Ныне в трудах историков широко используются идеи «лингвистического поворота», постмодернизма, возможности междисциплинарных исследований и т.д. Еще недавно господствовавшее социальное направление в западной историографии отступило на второй план, дав дорогу ее другому набирающему силу направлению – «культурной истории». Авторы все более делают акцент на культурную составляющую социальных и других процессов, происходивших в России. Существенно продвинулось изучение идентичностей, в том числе этнической, истории конфессий, значительное развитие получила гендерная история, на новый уровень вышло исследование политической и социальной истории, экономики, предпринимательства, нетривиальные суждения высказываются в ходе дискуссий о модернизации страны. Особое место уделено лингвистике, влиянию языковых процессов на сознание современников и на ход событий. Несмотря на то, что во многих работах подчеркивается уникальность российской истории, она все чаще рассматривается в европейском и мировом контексте. В литературе отмечены успехи и самой российской исторической науки, уходящей от штампов советского времени.
В целом зарубежное россиеведение – это бурно развивающаяся область науки, в которой предпринимаются серьезные попытки переосмысления российской истории. Уже появились монументальные труды, в которых прошлое страны – от истоков и до настоящего времени освещается во многом иначе, чем прежде. Яркий тому пример – трехтомная «Кембриджская история России» (Сambridge, 2006).
Цель настоящего сборника показать это, представив читателям обзоры и рефераты новейших зарубежных исследований. Рассматривается преимущественно англо-американская литература как «флагман» в изучении истории России.
Сборник построен по хронологически-тематическому принципу. Он открывается обзором новых интерпретаций российской истории по многим ее проблемам в широком временном диапазоне – от Киевской Руси до революций 1917 г.
Далее в сборнике – реферат книги С. Франклина и Дж. Шепарда, ведущих западных специалистов по раннему периоду истории России, ответы которых на трудные вопросы, связанные с историей возникновения Руси, весьма востребованы в науке.
Обзор литературы об Иване Грозном, Петре Великом и Екатерине Великой отражает резко возросшее в последние годы внимание иностранных ученых к личностям и деятельности этих выдающихся персонажей отечественной истории и современные западные представления об их роли в судьбе России.
Следующий обзор – о модернизации в России, ее теории и практике, теме, не теряющей своей актуальности. В работах 1990–2000-х годов многое корректируется и дополняется свежими идеями ученых.
Завершают сборник обзор и реферат, в которых показано, что история российского крестьянства – объект традиционно пристального внимания исследователей – обогащается новым видением многих ее аспектов.
Авторам сборника хотелось бы надеяться, что научная информация, которая содержится в нем, окажется полезной для специалистов и всех, кто интересуется российской историей и ее изучением за рубежом.
В.М. Шевырин
Переосмысление российской истории X – начала XX в. в зарубежной историографии
(Обзор)
В.М. Шевырин
Пусть не покажется читателю название этой работы настолько претенциозным или смелым, что он задался бы вопросом: так ли уж фронтально пересматривается в зарубежном россиеведении отечественная история? Да, так оно и есть: пересматривается беспрецедентно и об этом «открытым текстом» заявляют сами исследователи, подчеркивая необходимость «полной переоценки современной российской истории» (194, с. 203; 186, с. 6). И не только заявляют – слова «переосмыслить», «переосмысление» выносятся в названия немалого числа книг и статей (184, 185, 186, 187, 188 и др.). Но ограничиться констатацией этих фактов было бы чрезмерным сужением того громадного историографического поля, на котором идет пересмотр, переоценка прежних идей и представлений, господствовавших в научной литературе, во многих сборниках статей и монографиях. И становится совершенно очевидным, что это явление не какое-то легкое дуновение историографической моды, вызывающей эфемерную рябь на поверхности океана зарубежных исследований, но могучий «вал», порожденный глубинными, поистине «тектоническими» процессами, происходящими в науке.
Из многочисленных публикаций со всей определенностью следует тот факт, что «механизм» этих процессов «запустили» два сильнейших импульса. Первый – обвал СССР, сорвавший идеологические «заглушки», широко распахнувший двери архивов и убравший препоны к сотрудничеству российских и зарубежных ученых (126, 194, 237 и др.). И второй импульс, начавшийся ранее обвала, но мощно сдетонировавший от него, породил разительные метаморфозы в методологии истории. Результаты двух импульсов – качественное изменение историографических исследований.
1991 г. вызвал у исторического сообщества на Западе настоящую эйфорию, взрыв энтузиазма – «тоталитарная империя» рухнула, «кончина марксизма-ленинизма» стала явью, и им казалось, что новая Россия будет быстро интегрироваться в мировую рыночную систему, станет твердой приверженицей принципов и идеалов западной демократии и расстанется, наконец, со своими многовековыми претензиями на некий особый путь развития, с имперскими и мессианскими амбициями (103).
Историческое сообщество на Западе рукоплескало незабываемому 1991-му, который, как писала Г. Янг (ун-т Вашингтона), «мы так чтим». И это сообщество в большинстве своем пустилось пересматривать историю России, чтобы понять прошлое и в свете его увидеть настоящее и то, что «день грядущий нам готовит» (256, с. 95).
Г. Янг – историк советского периода, ее «епархия» начинается там, где кончается хронология нашего сборника. Интереснее поэтому свидетельство специалиста по истории именно дореволюционной России. Один из авторов и редактор первого тома «Кембриджской истории России» проф. М. Перри (Бирмингемский ун-т) авторитетно свидетельствует, что на развитие зарубежной историографии, «в том числе и допетровской России, самое серьезное влияние произвел обвал Советского Союза, знаменовавший конец марксистских подходов к изучению истории» (225, с. 11).
Новые подходы и западных, и российских специалистов к изучению истории настолько сблизили позиции ученых, что, полагает М. Перри, «с 1990-х годов можно даже говорить об определенной степени конвергенции между российской и западной историографией допетровского времени» (225, с. 12). И не только того времени – это свойственно и исследованиям истории России в целом. Произошел, по сути, известный «разрыв» между «старой» и постсоветской историографией. Потому-то, можно сказать, и взорвалась пространной статьей, опубликованной в первом номере «The Russian review» за 2007 г., Г. Янг, призвавшая «не фетишизировать» крах 1991 г., не приписывать его воздействию на этот разрыв – на пересмотр российской истории, исключительного, монопольного значения. По ее словам, многие утверждали, что советский крах был «решающим фактором» для изменения тематики исследований, выработки «новых теорий и концепций» (256, с. 95). И Янг увещевает своих коллег освободиться от этого наваждения, объективно оценить процессы, происходящие в современной западной историографии. Считая, что причины фетишизма, в большой мере, в своеобразном опьянении от свободы пользования российскими архивами, «золотого дна» для исследований, по определению ученых, она убеждает их: не все двери архивов открыты, и не все, найденное в них, может кардинальным образом изменить уже сложившиеся концепции.
Ситуация в историографии печалит Г. Янг и тем, что она вовсе не способствует умиротворению в сообществе историков, которое с 1960-х годов раздиралось острейшими спорами между сторонниками «тоталитарной модели», воплощавшей в себе дух «холодной войны» и ассоциирующейся с именами А. Улама, Б. Вольфа, З. Бжезинского, Р. Малиа, Р. Пайпса и «ревизионистами» или социальными историками, выступавшими против этой модели и в основу своих исследований положившими теорию модернизации, которая, по их мнению, давала возможность наиболее адекватного объяснения хода исторического процесса в России. То, что эта застарелая домашняя ссора разгорелась с новой силой, признает и старейший советолог Р. Дэниэлс (53, с. 231). После краха СССР «тоталитаристы» действительно встали в позу оракулов, чьи предсказания о неизбежной гибели социалистического Левиафана сбылись, и требовали «крови» ревизионистов, их покаяния, чтобы они поставили крест на «модернизации», хотя если 1991 г. кого-то и ударил больнее всего, то именно «тоталитаристов», отбросив, как ненужную «ветошь», некогда процветавшую советологию. Бывшие ревизионисты заняли более примирительную позицию: их появление в науке в 1960-е годы, их стремительный триумф в ней и господство в 1980-е годы – не чья-то прихоть, не случайность и не историографическая аберрация, а само веление времени – таков был и политический климат, и таково состояние науки, которое обусловило акцент на социальных исследованиях.
Само явление «ревизионизма» Г. Янг рассматривает как своего рода «гоголевскую шинель», из которой вышло новое поколение исследователей России, занимавшихся в основном ее культурной историей и впитавших новейшие научные идеи1.
Пытаясь освободить историографию от «фетишизации», Г. Янг упорно твердит, что новая культурная история и другие новации в исторической науке появились в ней раньше, чем произошел сдвиг 1991 г., и их значение для изменения и развития историографии, несомненно, бо́льшее, чем последствия советского обвала.
Однако Г. Янг не претендует здесь на лавры «первопроходца»: сознание того, что коллапс Советского Союза не был единственной или всеопределяющей, всеобъемлющей причиной пересмотра историографии России, давало о себе знать в научном сообществе и раньше. Делая эмфазу на сильном влиянии советского коллапса на исследователей всех периодов российской истории, Г. Янг в то же время признает, что «историки имперской России были менее склонны к тому, чтобы слишком подчеркивать его воздействие на историографию царской России» (256, с. 101). Они обращали внимание на то, что помимо этого воздействия, побуждающего «заново обдумывать» тематику их работ, на пересмотр истории имперской России уже до распада СССР влияли и изменения, произошедшие в других науках, и политические события в мире. Крах СССР существенно ускорил это переосмысление (256, с. 101–102). Тем не менее, по словам Г. Янг, «мы принижали» влияние на исторические исследования таких изменений в науке, как «лингвистический или культурный поворот», происходившие в ней и до краха СССР (256, с. 105). Она фиксирует повышенное внимание исследователей «к новой культурной истории», но констатирует, что нет точного и общепринятого определения термина «лингвистический или культурный поворот». В ее собственном толковании – это внимание к культурному контексту поведения человека, преимущественный анализ культурных форм (символов, ритуалов, дискурсов и т.п.) и понимание в духе постструктурализма того, как язык порождает новые знания, давая иной смысл тому, что мы понимаем как реальность (256, с. 106).
Действительно, обращение ученых к «новой культурной истории», к экспериментам с лингвистикой, «нарративом» и «дискурсом», идеями постмодернизма в 1990-х годах стало массовым явлением в исторической науке.
«Возрождение нарратива», начавшееся в науке еще в 1970-е годы, свидетельствовало о сдвиге на теоретическом уровне исторического мышления, заключающемся в переосмыслении самой природы истории. Для историков главным была выработка критериев для отбора фактов и событий, чтобы создать связность повествования. Суть «нарративной истории» усматривалась поэтому в том, чтобы проследить генетическую связь между историческими событиями. Исходя из этого они рассматривали как истинную историю о человеческом прошлом дискурсивный литературный стиль, часто используемый для изображения последовательности перемен в человеческом былом как способ представить минувшее в специфической форме рассказа. Нарратив здесь – основной путь исторического познания, так как всякий исторический текст является нарративным.
История как теоретическая дисциплина выступает, с точки зрения постмодернистского подхода, классической сферой возникновения и осуществления нарратива. В рамках понимания истории событие обретает смысл не на основе некоей «онтологии» исторического процесса, но в контексте рассказа о событии, связанного с процедурой его интерпретации. История трактуется постмодернизмом в качестве «нарратологии»: рефлексия над прошлым, по оценке X. Райта, – это всегда рассказ, «нарратив», организованный извне, путем внесенного рассказчиком сюжета, организующего повествование как таковое. Дискурс представляет собой необходимую часть социокультурного взаимодействия (11, с. 148, 327).
Современная историография отмечена поистине триумфальным шествием «новой истории» (т.е. истории интеллекта, менталитета, дискурсов и семантики). Это научное направление действительно зародилось давно, но в россиеведении широкое обращение к ней началось со времени развала СССР и именно на ее основе – ее подходов к познанию прошлого и методах его исследования – и происходит интенсивная «реинтепретация» российской истории.
Основополагающие принципы новой истории: тотальная широта охвата тематики, нестесненность догмами позитивизма и марксизма, первостепенное внимание к человеку и его культуре, синтезирующий универсализм – включение в орбиту исследования достижений других гуманитарных наук и, конечно же, особая «техника» работы с источником, с текстом, предполагающая его «дешифровку» изнутри, на «языке» оригинала (отсюда «лингвистический поворот» в социальных науках), – всё это действительно открывает перед учеными широкие горизонты минувшего и объясняет быстрое распространение «новой истории». Ныне все чаще употребляется термин «новая культурная история». Исследователи обращают пристальное внимание на человека и процессы развития культуры, происходящие в «своем времени» и в «своей» обстановке, что дает возможность изучать изменения ментальности, идентичности, материальной культуры, экономической, социальной и политической истории и, таким образом, увидеть в ретроспекции действие «культурной пружины» исторического процесса.
Все чаще в исследованиях по истории России используется и термин «постмодернизм», созвучный «новой культурной истории» прежде всего своим универсализмом, всеохватностью тематики и обращением к культурному измерению социального, к анализу всего многообразия языков культуры. Одно из проявлений перехода историков к постмодернизму – «лингвистический поворот». Зарубежные историки отнюдь не все и далеко не все принимают в постмодернизме, но тем не менее с большим оптимизмом смотрят на использование его методов, полагая, что в ближайшие десятилетия наиболее серьезные труды создадут именно те ученые, которые к дискурсам истории отнесутся как к дисциплине, подчиняющейся воздействию языка. По крайней мере, у его представителей есть убеждение, что постмодернизм – объективно существующая реальность, и необходимо «использовать все лучшее», что есть в нем, позволяющее изучать сюжеты, прежде не затрагивавшиеся в науке, и пересмотреть, по-новому интерпретировать историю (212, с. 261–262, 268).
Имеется и другой аспект современной востребованности «новой культурной истории» – она вобрала в себя то «перепроизводство» специалистов по России, которое вдруг обнаружилось после распада СССР.
У постмодернизма и его идей есть и откровенные противники. У Р. Дэниэлса, например, сама их терминология – «нарратив», «конструкция», «дискурс» вызывает род идиосинкразии – он не приемлет «тарабарщины» и радуется, когда она не очень заметна в работах по истории (53, с. 232). Сами апологеты постмодернизма порой дают повод для такой реакции. Так, во втором номере «The Russian review» за 2009 г. в крохотной рецензии (всего в одну страничку) ее автор, Э. Байфорд (Оксфорд), умудрился употребить слово «дискурс» 13 раз2.
Р. Дэниэлс и журнальный рецензент – это все-таки «антиподы», которые отражают крайности в зарубежной историографии. Большинство же ученых применяют положительные стороны новой методологии в своих исследованиях, в том числе и известные социальные историки – Ш. Фицпатрик, Л. Хеймсон, С. Смит и др. (74, 75, 97, 213). В их новых работах – симбиоз «социального» и того позитивного, что привнесли в науку новая культурная история и методологические новации. С. Смит, например, признает, что есть многое в российской истории, что можно понять, только используя эти новейшие подходы, в частности для определения идентичности – личной, классовой и т.д. В конце концов, считает он, в основе всех политических, экономических, социальных процессов – культурная среда, из которой они произрастают (213). Сам факт широкого распространения новой методологии, изменившихся подходов к исследованию истории – свидетельство объективного характера трансформации и в гуманитарных науках.
Начало постмодернизма датируется 1917 г., когда появилась книга Панновица о кризисе европейской культуры. Его возникновение – это реакция на воцарившийся хаос мировой войны и «классовых битв», приведших цивилизацию почти к краху, «закату Европы». Линейный прогрессизм позитивизма сломался в траншейно-окопной реальности 1914–1917 гг., оказался слишком «наивным» и несостоятельным, чтобы интеллектуальная элита могла дать ему индульгенцию на будущее. А новый торжествующий идол марксизма отпугивал эту элиту своей устрашающей «поступью Командора», своей железной однобокостью. Ни позитивизм, ни марксизм не давали объективного знания. И было ли оно в том хаосе, в той бессмыслице взаимоуничтожения, попрания гуманизма, одичания цивилизации, хлынувших из недр необъяснимого в реальность XX в. и затопивших его? Хаос постмодернизма был почти инстинктивным ответом на этот хаос, ответом растерянности и разочарования, но ответом лишь кажущимся иррациональным, на иррациональность реальности. В нем был и некий «анархизм», и хаотичность движения – внутренний хаос в хаосе безграничного, со временем лишь «упорядочивший» непостижимость истории как отражение непостижимости настоящего и будущего. Но по большому счету тогда это было и безотчетной попыткой выяснить, возможно ли разумное в безусловно иррациональном. Всплеск постмодернизма, его «второе дыхание» в гуманитарных науках в конце XX в., в том числе и в истории, свидетельствует о том, что его рождение в начале XX в. не было случайным. В Новое время постмодернизм стимулировал исследования в этих науках благодаря применению в них методов лингвистики, «нарратива» и «дискурса», обращения к культурной истории и т.д. Постмодернизм во многом и стал востребованным именно потому, что он уже в начале XX в. отразил еще подспудно уже шедший тогда, но теперь всем видимый процесс стремительного развития многообразных и противоречивых цивилизационных взаимосвязей на планете. Проявлением этого стало и то, что Янг назвала «ростом академической глобализации, расширением диалога между учеными» (256, с. 95). В этом же русле происходит и «инфильтрация», взаимопроникновение научных дисциплин. Симптоматично, что ведущий исторический журнал в США – «Slavic review» недавно обрел новое качество – стал журналом междисциплинарных исследований, которые успешно ведутся и в россиеведении3.
Используется весь арсенал имеющихся способов познания для воссоздания российской истории. При этом «мелкотемье», так распространенное ныне в западном россиеведении, отнюдь не огорчает западных ученых. Известный английский историк Д. Ливен убежден в том, что в некотором отношении «микроистория одной русской деревушки за какой-нибудь год в XVIII столетии» больше расскажет о важнейших аспектах российской истории, чем несколько общих работ, хотя и добротных, именно потому, что в этой маленькой теме, как в капле воды, может отразиться вся суть и все богатство и драматизм жизни того времени (226, с. 2).
Большим достоинством в западной историографии считается, если исследование «восстанавливает интимный человеческий контекст», что, например, отсутствовало «в работах по российской интеллектуальной истории». По мнению зарубежных историков, «успешная микроистория через исследование одного маленького сообщества» должна открывать «новое окно на намного более широкий мир»4.
Глубокое познание российской истории, признает Ливен, возможно лишь при тесном сотрудничестве с российскими коллегами. Это мнение разделяется многими зарубежными историками. Ливен однажды выразил то, что высказывается ими, хотя и не в столь яркой, эмоциональной форме, как это cделал он: «Будем молить Бога», чтобы международное сотрудничество с русскими «не стало жертвой изменения политических течений»5.
В целом зарубежные историки проявляют сдержанный оптимизм и в отношении будущего России, и ее исторической науки (2, 20 и др.). Но именно их стремление лучше узнать настоящее России и заглянуть в ее будущее побуждает их глубоко исследовать ее минувшее, пересматривая и отбрасывая все, что мешает теперь ее объективному видению. История России пересматривается тотально: от Киевской Руси до конца советской эпохи. Многие, казалось, еще недавно незыблемые представления подвергаются сомнению и переосмыслению, выдвигаются новые идеи. При этом тематика работ необычайно широка – от возвращения к старым сюжетам истории до еще не затронутых исследованиями, на первый взгляд, совсем незначительных эпизодов, но почти всегда – во всеоружии архивного материала и новой методологии. Появление множества новых по теме и по интерпретации работ во многом обусловлено мощным слоем архивных источников, который накоплен зарубежными учеными в результате их многолетних разысканий в российский архивах. Редко выходят в свет книги по отечественной истории, в которых бы не были привлечены архивные материалы. Порой в рецензиях указывается, какие именно архивные документы не использованы в работе6.
Так, «кирпичик к кирпичику», к настоящему времени построено большое здание современного россиеведения, и теперь история России в зарубежных исследованиях выглядит иначе, чем прежде.
Авторы сборника статей с характерным названием «Россия в европейском контексте. 1789–1914. Член семьи», изданного в 2005 г. (194), поставили своей целью пересмотреть общепринятое положение о России как стране, чья особая исключительность фатальным образом уводила ее в сторону от европейского пути развития и обусловила все проблемы в XX в. (194, с. 8, 97). Они приходят к выводу, что Россия при всех ее особенностях – «типичная европейская страна» (194, с. 6). Авторы сборника высказывают мнение о том, что, может быть, пришло время отказаться и от широко распространенного представления об «отсталости» России. По крайней мере, несмотря на безусловное удобство этого термина, им надо пользоваться осторожно и «четко объяснять, что мы решили обозначать им» (194, с. 9).
По-иному рассматривается и проблема модернизации России. Во-первых, теперь ее историю ведут из глубины российского Средневековья, которое тоже видится западными историками в гораздо более светлых тонах, чем прежде (56, 153). Во-вторых, влияние модернизации на российское общество, полагают современные историки, было более глубоким, чем это считалось раньше. В связи с этим в зарубежной литературе возникла полемика о том, верен ли в принципе прежде не вызывавший сомнения 200-летней давности тезис о расколе России на просвещенную и непросвещенную, отсталую и передовую (36, 85, 205). Культурная история занимает в современной историографии все более видное место, «выходя» на проблемы идентичности и в какой-то степени заменяя собой социальные, политические и экономические исследования (50, 86, 160, 161, 165, 189 и др.).
Первостепенное внимание историков привлекает тема «Россия как империя», рассматриваемая в тесной связи с национальной проблематикой, историей конфессий, внешней политики, дипломатии и войн (13, 111, 112, 132, 163, 173 и др.). Многое из того, что раньше в исследованиях было на первом плане, ушло на второй, в частности, изучение истории рабочего класса, социал-демократии, хотя и здесь появляются новые работы, в которых пересматривается история идей, событий, деятельности вождей (131). Тем не менее и эта тематика отодвинута в историографическую тень модными темами культурной истории, в частности историей гендера (45, 86, 88, 105 и др.), в которой находит свое место и такая «экзотическая» тема, как появление в России женской филантропии (191).
Практически все проблемы минувшего России находятся в «разработке» зарубежной историографии. Появляются и обобщающие труды по российской истории. Самый заметный из них – трехтомная «Кембриджская история России», в которой представлено впечатляющее «панно» российской истории (225, 226, 227).
Основное внимание в этом издании обращено на исследование развития Российского государства и общества – на политические, экономические и социальные проблемы. В нем, как пишет редактор первого тома М. Перри, представлены «современные интерпретации серьезных ученых». Цель книги – «продвинуть знание и понимание» допетровской истории России (225, с. 1).
Этому служит и экскурс М. Перри в историографию. Признавая большое значение последствий 1991 г. для обновления историографии, она отмечает, что «старые привычки умирают трудно», и многие российские историки, особенно старшего поколения, продолжают работать почти в прежнем ключе. Но и положительные особенности советской историографии – детальное изучение источников и их публикация в академических изданиях – живы. И не все то новое, что вошло в жизнь после 1991 г., оказалось позитивным. Экономический кризис начала 1990-х годов неблагоприятно воздействовал на материальные условия и возможности российских архивистов, библиотекарей, ученых. Отмена цензуры вызвала моду на эксцентричные теории о прошлом. Появились публикации, рассчитанные на то, чтобы вызвать сенсацию. Но после того, как худшие последствия экономического кризиса были преодолены, положение стало меняться. Появились новые публикации источников. Вышли в свет интересные монографии российских ученых, переиздан ряд классических трудов историков дореволюционной России, осуществлены переводы серьезных работ зарубежных ученых. Многие российские исследователи, особенно молодые, быстро приобщились к новейшим тенденциям в западной историографии; можно даже говорить об определенной степени конвергенции между российской и западной историографией допетровского периода начиная с 1990-х годов (225, с. 12). Движение новых идей и подходов не было односторонним: в последние десятилетия существования Советского Союза работы московско-тартуской школы семиотики были высоко оценены на Западе – теории некоторых ученых (Б.А. Успенского, М. Бахтина и А.Л. Гуревича) были восприняты не только специалистами по российской истории, но и других наук. В прошлом десятилетии мощное воздействие оказал на российских и западных историков западный постмодернизм. Наряду с новыми подходами разрабатывается и новая тематика, например гендерная история, и такие сюжеты, как ритуал и церемонии.
Характеризуя исторические источники допетровского периода М. Перри находит, что письменные источники разнообразны и информативны. Для изучения самой ранней истории России привлекаются археологические материалы. Ценный источник – монеты и печати. Материальные свидетельства прошлого, включая искусство и архитектуру, все более используются учеными, что дает им новое понимание символики культурных систем. Весьма важные свидетельства о прошлом оставили иностранцы, посетившие Россию, и российские «невозвращенцы» (князь Андрей Курбский в XVI в. и Григорий Котошихин в XVII).
Касаясь дискуссионных проблем, М. Перри отмечает, что некоторые старые дебаты потеряли свою остроту. Критики догматических марксистских подходов теперь почти не слышны, как и российских ламентаций об искажениях и фальсификациях «буржуазной» историографии. «Вечные» же дискуссии, например между «норманистами» и их оппонентами, продолжаются.
Объяснение поведения Ивана Грозного с точки зрения того, был ли он «безумным или плохим», сменяются подходом к оценке его деятельности с точки зрения культуры и семиотики. Некоторые дискуссии, которые, казалось, уже умирали, неожиданно обрели новую жизнь. Дебаты о характере и степени влияния монголов на учреждения Московии были оживлены книгой американского историка Д. Островского (166). Споры о природе Московии в XVI и XVII вв. были пролонгированы М. По, выступившим с критикой гарвардской школы историков по проблеме соотношения деспотических особенностей и неофициальных способов взаимодействия между правителем и элитами.
Дискуссии о природе политической системы Московского государства подняли проблему на уровень сравнительного анализа. В то время как некоторые историки приводят доводы в пользу ее уникальности в допетровский период, другие находят, что она имела немало европейских и азиатских черт.
Советская историография рассматривала развитие России, так же как и историю западноевропейских государств, используя терминологию: «феодализм», «абсолютизм», «сословно-представительная монархия» и т.д. Для советских историков и Киевская Русь, и Московия были феодальными обществами, и хотя они обсуждали проблемы происхождения, характера и уровня развития феодализма в ранней Руси, их основная модель все та же, которую К. Маркс создал, исходя из изучения опыта Западной Европы. Многие западные историки полагают, что и образование абсолютизма в России не обошлось без влияния европейского абсолютизма (по крайней мере, с середины XVII в.). Некоторые представители гарвардской школы также одобряют модель западного абсолютизма, хотя в более современных версиях изображают его как государство менее «абсолютистское» на практике, чем оно было в теории. Есть и сторонники модели абсолютизма Московии как «военно-финансового государства».
Концепция Маркса об «азиатском способе производства» как альтернативном пути развития использовалась редко и только советскими историками. Западные ученые давно обсуждают вопрос о воздействии на Московию Византии и последствий татаро-монгольского завоевания. Термин «восточный деспотизм» применительно к России Д. Островский отвергает, но все же считает, что влияние монголов отразилось на создании военных и гражданских структур администрации Московии.
Другая влиятельная модель – концепция Макса Вебера о «патримониализме». Он применил ее к государствам, в которых за правителем – вся земля. Вебер находил примеры таких государств в различных временах и местах. Известное применение этой концепции к России – в работах Ричарда Пайпса, который нашел самую близкую параллель России в эллинских государствах. Согласно Пайпсу, Северо-Восточная Россия была патримониальна еще до вторжения монголов, и Россия оставалась патримониальным государством в течение всего периода Московского государства.
Часть западных историков рассматривают развитие России как sui generis. Утверждения М. По о Московии как деспотическом государстве имеют много общего с терминологией Ричарда Хелли («гарнизонное», «гипертрофированное» и др.). Но этот подход критикуют А. Клеймола, Р. Уортман, Дж. Крэкрафт и др.
М. Перри особо отмечает, что в первом томе отражены достижения русскоязычной историографии. В издании, действительно, участвуют и современные российские ученые (В.Л. Янин и А.П. Павлов), и чувствуется влияние дореволюционной историографии. И надо сказать, что не только в этом труде, но и в западной историографии в целом. Характерно в связи с этим, что работы российских историков переиздаются, публикуются исследования об их жизни и творчестве (3, 106 и др.).
Но в основном авторы тома – английские и американские исследователи. Первая треть книги – об истории России с возникновения до середины XV в.: о природно-климатических условиях (Д. Шоу), о начале Руси (Дж. Шепард), о государстве и обществе в XI в. (С. Франклин), о династической истории княжеств Руси и возвышении Москвы (М. Димник и Дж. Мартин). Пробел в томе – нет анализа экономической и социальной истории этого периода.
Зарубежные историки склонны объяснять это тем, что интерес англо-американских исследователей к средневековой Руси сосредоточен в основном на изучении истории XVI и XVII вв. По тем же причинам остальная часть издания – о политике, обществе и культуре России этих столетий. Главы, написанные Д. Островским, С. Богатыревым, А. Павловым и М. Перри, охватывают политическую историю от 1462 до 1613 г. М. По анализирует деятельность политических учреждений, исследование Б. Дэвиса охватывает местную администрацию и военную историю. Проблемы культуры и истории церкви излагают профессора Д. Миллер и Р. Крумми (США). М. Флиер (Гарвардский ун-т) пишет об истории политических идей и ритуалов, подчеркивая мысль о Москве как Новом Иерусалиме, а не последнем, Третьем Риме. Заключительная статья Л. Хьюз посвящена искусству и архитектуре, поэзии и другим искусствам.
В западной научной периодике отмечалось, что долгожданным новшеством для зарубежной историографии явились главы о крестьянстве и крепостничестве (Р. Хелли), о городах и торговле (Шоу и Хелли), о праве (Хелли и Н. Коллманн), о народных восстаниях (Перри) и две главы М. Ходарковского о разных народах в составе Московии. В совокупности эти статьи дают картину гораздо более развитого общества и государства, чем это показано в предшествующей литературе.
В работе значительное место отводится историческим лицам, сыгравшим большую роль в истории России. Так, С. Богатырев (Хельсинкский ун-т) показывает, что в результате консолидации княжеств Московия становилась все более сложным и социально, и политически государством, что вело к усилению давления на династию со стороны различных сил – из центра, с периферии и на международной арене. Иван IV решительно отвечал на вызовы времени, хотя его реакция была часто непоследовательной и противоречивой. Историки часто противопоставляют первую половину правления царя, которое было периодом реформ, и второго, когда Иван развязал террор. Его политика во второй половине царствования стала непредсказуемой, вероятно, в результате болезни. Тем не менее действия царя имели логику, основанную на идеях, сформулированных в 1550-х годах: божественная санкция на власть царя и устранение бояр от возможности восстановления их прав. В годы опричнины укрепился образ царя, ответственного только перед Богом.
Социальная и политическая структура Московии при Иване IV никогда не была однородной, как это подразумевает понятие «централизованное государство». Однако Иван изменил Московию: он получил новый статус царя, его политика укрепляла династию. Благодаря реформам органы местной и центральной власти превратились в учреждения, которые облегчили функционирование военно-финансового государства. Ивану Грозному сопутствовал успех в объединении различных территорий в единое государство, несмотря на неудачу в Ливонской войне. Он оставил преемникам опустошенное, но единое государство, которое сохранило свою территориальную целостность, несмотря на бурные события Смутного времени. В результате правления Ивана IV Московия стала самодостаточным государством.
Проф. Р. Хелли (Чикагский ун-т) показывает процесс закрепощения крестьян. Он пишет, что заметные шаги в этом направлении были сделаны уже при Иване IV и Борисе Годунове и продолжались многие годы. Его влияние, несмотря на отмену в 1861 г., сказывалось на сельском хозяйстве до 1991 г. (225, с. 297).
Д. Шоу (Бирмингемский ун-т) рассматривает историю городов в XVI в. Тогда Россия и ее города подверглись многим историческим испытаниям. Города вступили в весьма трудный период после 1560-х годов. Но то, что Россия продолжала расширяться территориально, сопровождалось распространением урбанизации и торговли на новые регионы. Растущая сеть городов играла заметную роль в процессе развития российской государственности. И хотя российские города по сравнению с городами Западной Европы не имели такого динамизма в коммерческом и гражданском развитии, их участие в строительстве могучей империи очевидно.
В статье М. Перри о Смутном времени рассматривается и историография вопроса. Ученые использовали термин «Смутное время» применительно к ряду событий, произошедших в конце XVI и начале XVII в. С.Ф. Платонов датировал Смуту 1584–1613 гг. В советский период этот термин не использовался. Получила распространение концепция «крестьянской войны». К концу советской эпохи российские историки, пишет М. Перри, отказались от этого понятия и вернулись к прежнему термину – «Смутное время». Был выдвинут и новый термин – «гражданская война». Западные историки никогда не разделяли концепцию о «крестьянской войне», предпочитая сохранять словосочетание «Смутное время». М. Перри датирует это время с момента выступления Лжедмитрия I осенью 1604 г.
Наиболее заметным последствием Смуты стал тот факт, что деспотическая монархическая система осталась, а власть царя не претерпела сколько-нибудь существенных ограничений. Это показывает, что конфликты начала XVII в. были скорее борьбой претендентов на трон, чем конкуренцией различных типов монархии. Деспотический характер правления остался незыблемым.
М. По, анализируя работу правительственных учреждений, полагает, что XVII в. для Московского государства был скорее временем развития и роста, чем радикальных перемен, и оно представляло собой сильную автократию, поддерживаемую небольшим служилым классом наряду с государевым двором, Боярской думой, Земским собором, приказами, судами и т.п. Б. Дэвис, однако, считает, что реформы этого периода стали основой Петровских преобразований. Расширение дипломатической деятельности и военной модернизации проложило путь усилиям Петра I сделать Россию ведущим политическим игроком на европейской арене.
Для многих нероссийских народов XVII столетие отметило начало их интеграции в Российскую империю, пишет проф. М. Ходарковский (Чикаго). В то время правительство проводило ненасильственную политику в отношении этих народов, в управлении ими. В XVIII в. после петровской «революции», новые вестернизированные поколения российских чиновников, убежденных в превосходстве российской культуры, стремились изменить жизнь «инородцев». XVII в. был менее травмирующим и разрушительным для аборигенных обществ, чем последующее столетие.
Рассматривая экономику страны и закрепощение крестьян, Р. Хелли подчеркивает, что до XIX в. Соборное уложение 1649 г. было «наиболее важным письменным памятником во всей российской истории, за исключением летописей» (225, с. 551). Несмотря на Уложение, крестьяне продолжали бежать к другим владельцам и на окраины. Их наказывали. Для Петра I этого было недостаточно – он установил смертную казнь для того, кто укрывал беглых крепостных. Производилась ли эта санкция когда-либо – неизвестно.
В XVII в. общество взаимодействовало с законом различными способами, пишет проф. Н. Коллманн (Стэнфордский ун-т). Тенденция была, однако, к бо́льшей рационализации суда и судопроизводства. Законы XVII в. стали для Петра I основой, когда он начал перестраивать государственное законодательство и административную структуру.
Д. Шоу, анализируя вопросы развития городов, показывает, что в XVII в. российские города были многофункциональны и действовали как важные центры организации торговой, административной, военной, культурной и духовной деятельности.
Городской жизни касается и М. Перри в статье о народных восстаниях. По ее мнению, восстания XVII в. были направлены скорее против личностей, чем против учреждений, и их участники были заинтересованы главным образом в «устранении своих обид», а не в защите какой-либо последовательной программы реформы. Только в истории восстания Разина она находит признак более широких целей. Например, обещание свободы крепостным. В Астрахани мятежники уничтожали документы, в которых были записи о крепостных. Подобные действия зарегистрированы в московских выступлениях 1648 и 1682 гг. В некоторых городах, захваченных повстанцами, казацкий круг заменял прежние органы власти. Но из этого было бы опрометчиво делать вывод о том, что мятежники стремились отменить крепостничество как учреждение или ввести какой-то тип демократии. Обычно в народных восстаниях, произошедших при первых Романовых, был протест против расширения функций государства, против нарушения им традиционного положения горожан, крестьян и казаков, против увеличения налогообложения. Эти протесты взывали к хорошему царю с мудрыми советниками, которые защитят их людей против предателей-бояр и мздоимцев (идеализированная версия патерналистской монархии XVI в. (225, с. 617)). Но все это мало способствовало предотвращению дальнейшего роста бюрократического государства при Петре Великом и его преемниках (225, с. 617).
О «бунташном» веке пишет и Р. Крумми (Калифорнийский ун-т), но уже применительно к церкви. XVII в. был временем ожесточенного конфликта православной церкви с правительством и обществом. Этот конфликт отразил противоречия в российском обществе. После успешного строительства «национальной» церкви в XV и XVI вв. ее высшие иерархи столкнулись с серьезными вызовами. Внутри самой церкви росли требования литургической чистоты и морали; представители других ветвей православия оспаривали легитимность русской национальной традиции. В критические моменты, особенно в 1649–1667 гг., сталкивающиеся интересы царского правительства и высших клириков разрушили гармонию, присущую отношениям церкви и государства. Обыватели, в том числе и женщины, все чаще выступали против требований церкви и ее экономической власти и социальной привилегированности. Эти конфликты привели к радикальному изменению отношений между церковью и государством и породили среди верующих ереси.
Культуре и интеллектуальной жизни в России XVII в. посвящена статья английского профессора Л. Хьюз. Современные историки характеризуют XVII в. в России как «переходный» период, когда традиция соперничала с новшествами, местная культура с импортированными тенденциями. Культура высшего слоя общества в особенности претерпела изменения, которые объяснялись вестернизацией, модернизацией и секуляризацией. Одни ученые находили, что изменения в архитектуре и литературе породили московский тип барокко, другие, вслед за Д. Лихачёвым, полагали, что это – нечто близкое к Ренессансу Западной Европы.
Однако к началу XVII в. Ренессанс оказал незначительное влияние на Московию. Не было никакой портретной живописи, натюрморта, пейзажа или городских сцен, исторического или бытового жанра. Были изображения, деревянные печатные издания и рукописи, но не было живописи маслом на холсте. Скульптура практически была неизвестна. Печать только зарождалась. Московия не имела ни театров, ни университетов. У нее не было поэтов, драматургов, философов, ученых и даже богословов. Ощущался недостаток в теоретических концепциях и теории искусств. Большая роль церкви, зависимое дворянство, слабая урбанизация и экономическая отсталость страны создавали климат, который резко отличал российскую культуру от европейской.
Политическая идеология, например, была выражена прежде всего в иконах и ритуалах, а не в трактатах интеллектуалов. Эта культура была консервативна, но она не была закрыта от современных ей событий. В XVII в. «должно было произойти преобразование культурного сознания» (225, с. 641).
«Наше знание русской культуры XVII в. далеко неполно», – признается Л. Хьюз. Датирование источников часто неточно, особенно в иконописи. Сохранилось слишком мало памятников, чтобы делать далеко идущие выводы. Провинциальная культура в особенности требует дальнейшего изучения. Но есть и свидетельства растущей восприимчивости боярской элиты к отдельным аспектам западной культуры. Матвеев и Голицын, однако, скорее исключение. Знать по своей культуре была ближе к остальному населению, чем к европейской элите. Религия доминировала в культуре.
Советские историки преуменьшали или отрицали религиозность искусства, подчеркивая вместо этого его гуманный, народный и жизнеутверждающий характер, реалистические, бытовые детали. Историки архитектуры находили прогресс в строительстве гражданских зданий из камня и кирпича, а не из дерева.
С начала XVIII в. считалось, что Россия должна достигнуть культурного спасения, подражая и ассимилируя западную культуру. Идея, которую российское искусство восприняло с Петровского времени, господствовала в течение полутора столетий, совпавших с периодом распространения классицизма в России и в Европе. Только с середины XIX в. XVII век привлекает внимание художников, архитекторов и т.п. Многие из них работали в псевдорусском стиле. Романтизированный стиль XVII в. стал модой. Это ностальгическое восприятие XVII столетия было далеким от того, чем оно было в действительности. И все же, считает автор, это столетие осталось последним оплотом истинной русской культуры.
Хотя первый том Кембриджской истории и характеризовался в западной литературе как «сборник превосходных статей», «авторитетный и надежный», однако в его адрес были сделаны и некоторые критические замечания.
Издержки издания проф. Йельского ун-та Пол Бушкович7 видит в противоречивом изображении одних и тех же событий у авторов статей, что не объясняется в томе. В нем есть противоречащие друг другу оценки характера Российского государства. Островский считает, что в основу государственной структуры Московии легли монгольские учреждения (взгляд, не имеющий широкого распространения) и что система опиралась на согласие элиты со слабым правителем («великим князем Московии»), власть которого была ограничена (225, с. 215). Хелли рассматривает государство как «гипертрофированное» (225, с. 364) с деспотичным правителем, который вслед за византийским дьяконом Агапетусом (VI в.) считал, что он был наместником Бога на земле. По находит, что через эти два столетия правящие верхи проявили жажду власти и что царь был из этой элиты. Позиция По – между Хелли и Островским. Богатырев и Павлов рассматривают сложный баланс власти между царем и советниками, неустойчивость и непоследовательность в их взаимоотношениях. Такое разнообразие мнений требовало бы редакторского объяснения. Читатель не имеет никакого сведения о том, например, что Островский и Хелли представляют крайние формулировки взглядов, которые существуют и в менее обостренной форме. Это относится и к статьям о праве и обществе. Взгляды Хелли трудно согласовать с взглядами Шоу, а Коллманн предлагает концепцию закона и общества иную, чем Хелли. И как примирить утверждение Хелли, что 85% населения были рабами, с заявлением Коллманн, что многие области России не знали крепостничества? То же можно сказать о подсчетах Ходарковского численности нерусского населения в XVII в., когда он не учитывает украинцев и украинских казаков.
Временные рамки второго тома «Кембриджской истории России» охватывают период от царствования Петра Великого до Февральской революции 1917 г. В начале его говорится, что нет более издания, в котором был бы дан такой цельный и «современный анализ российской истории этого периода» (226, с. 3). Редактор Д. Ливен, как свидетельствует зарубежная научная периодика, на первый план вывел темы, которыми историки пренебрегали в последние десятилетия, – история империи, правительства, экономики, военной и внешней политики. Примерно половина из 31 статьи приходится на эти «немодные», но «традиционные основные темы».
Такое решение отражает и то, что Ливен считает основной задачей издания: обеспечить всестороннее изложение российской истории, представляющее собой как бы энциклопедию. Всесторонность – труднодостижимая цель. Например, глава Д. Муна по истории крестьянства и сельского хозяйства в 1689–1917 гг., будучи достаточно информативной, едва ли может рассматриваться как исчерпывающая. Эта книга охватывает многие темы, иногда в ущерб для исследовательской глубины некоторых из них.
В томе семь разделов (цифра в круглых скобках обозначает число глав): Империя (3); Культура, идеи, идентичности (4); Нерусские народы (3); Российское общество, право и экономика (9); Управление (3); Внешняя политика и вооруженные силы (5); Реформа, война и революция (4). Из 30 авторов книги четыре– российские ученые.
По мнению рецензента этого тома С. Морриссей, недостаток хронологического и концептуального подходов означает, что в издании недостаточно освещены некоторые исторические периоды, есть также проблемы с периодизацией. Отдельная глава посвящена Александру II. Л. Захарова (МГУ) со знанием дела рассказывает о его реформах. Однако читатель вполне может задаться вопросом, почему Петр Великий не заслужил такую же главу? Разве не были бы уместны дебаты об историческом значении его правления?8
Прежде чем перейти от коллективных работ общего характера к монографиям и статьям зарубежных историков, следует заметить, что в последние 10–15 лет существенно возрос их интерес к истории Киевской Руси, и они нередко находят новые темы при исследовании этого периода и высказывают нетривиальные суждения. В 2006 г. в Чикаго была защищена докторская диссертация, пересматривающая историю Киевской Руси (Raffensperger Ch.A. «Reexamining Rus’: The place of Kievan Rus’ in Europa, Ca. 300–1146). Некоторые историки считают, что влияние Византии на Русь было незначительным. Меняется освещение истории княжеских междоусобиц, их роли в поражении князей от монгольского войска в XIII в. (78, 79, 135, 176 и др.).
По-новому интерпретируется возникновение древнего государства, его политические и экономические связи. Об этом пишут С. Франклин и Дж. Шепард, Д. Кристин и др. Д. Кристин, например, стремится доказать, что «Каганат Русь» более ориентировался на Итиль и Багдад, чем на Константинополь (40, с. 21). Зарубежные историки пытаются разгадать и феномен необычайной популярности «житий» Владимира Святославича и Александра Невского и в старой, и в новой России (113, 122, 195).
Шведский историк Й. Грэнберг предпринял попытку по-новому интерпретировать историю веча, специально исследуя те значения слова «вече», которые отразились в исторических источниках (92). В начале книги он приводит цитату из Британской энциклопедии (статья «Вече») как наиболее характерную, на его взгляд, для историографии. В ней говорится, что новгородское вече обладало большой властью (оно могло выбирать князя, заключать с ним договор, ограничивающий его власть и даже сместить его; могло избирать военных и гражданских должностных лиц). Автор отмечает, что это «общепринятый взгляд на Новгородское вече». Исследователям свойственно полагать, что вече было частью структур управления на Руси, а затем таких городов-республик, как Новгород и Псков. Вече рассматривается в литературе как центр политической жизни и как конституционное установление, управляющее Новгородом. По мнению автора, эти положения «не подтверждаются источниками», и он видит главную цель своего исследования в том, чтобы выяснить, «было ли вече конституционным институтом» (92, с. 3–4).
Многие ученые, воссоздавая историю веча, используют косвенные свидетельства о нем, те, в которых не употребляется само слово «вече», что, по мнению автора, снижает уровень исследования, и потому он анализирует все тексты, в которых есть это слово. Он стремится понять смысл, содержание, значение термина в каждом конкретном случае его использования в источниках и, главным образом, в летописях.
Вече функционировало как катализатор интересов и мнений горожан. Его влияние основывалось не на определенных полномочиях властного органа, а на его «физической» силе, которую уважали или боялись, относясь к ней так же, как к сильной власти. Анализ упоминаний веча в источниках раскрыл семантическую область слова «вече». Широкий спектр значения слова «вече» в исторических документах показывает, что оно не обозначало политического института с определенной властью. У новгородцев не было общего восприятия веча как важной составляющей их независимости. Они определенно не считали его и частью своей структуры управления. И автор делает вывод: «Вече было политической силой, но не политическим институтом» (92, с. 224).
По-новому в зарубежной историографии освещается вопрос о причинах роста Московского государства. Так, К. Вудворт9 (Йельский ун-т) пишет, что с 1425 по 1450 г. московские князья жестоко боролись за княжеский престол. Однако это время гражданской войны для Москвы было периодом быстрой территориальной экспансии (при наследнике Василия II Иване III и при Иване IV). Небольшое княжество стало ядром Российской империи. Автор объясняет это следующим образом. Понимание ранней русской культуры зависит от раскрытия символических значений, расшифровки символических действий и грамматического разбора «иностранной» грамматики, какой в сущности была политика. История Софии и золотого пояса симптоматична для политики того времени. Ее определяли не группировки, например, борьба протатарской «партии» против русской «партии» или сторонников централизации против бояр. Московская политика прежде всего зависела от семейных и личных связей, неформальных, но очень реальных связей боярских кланов. Право на трон определялось не законными институтами или национальной преданностью, а скорее родственными отношениями, закрепленными браком. История с золотым поясом Софии показывает, сколь большую роль играли эти отношения в XV в. в связи с практикой создания политических коалиций, вызывавших жестокие династические конфликты. Они усложнялись спорами о наследовании престола в Великом княжестве Литовском после смерти Витовта и фрагментацией наследственной власти в Золотой орде. Эти два внешних обстоятельства отразились и на истории Москвы. Многочисленные претенденты на власть и в Литве, и в Орде стремились добиться успеха, заключая союз с Москвой. Она стала центром, стоящим между раздробленной Литвой и Ордой, раздираемой борьбой за власть. Родственные связи князей дали ей возможность распространить русскую экспансию. Эти связи были сложными, гибкими и прочными. Они соединяли различные общественные положения, географические пространства, поколения, личный политический интерес. Именно связи, а не личная власть, настаивает автор, были сущностью успешной московской политики (254, с. 198).
С. Богатырев, касаясь истории Московского государства XVI-XVII столетий, подчеркивает, что проблема того, как управлять отдаленными землями из столицы, являлась одной из ключевых для российских князей и царей. Не меньший интерес вызывает вопрос о том, как представлялся мир из провинции, с мест, а не только из Москвы, какой виделась система управления.
Центр стремился использовать военный и организационный опыт дворянства и его связи для объединения местного населения. В обмен на лояльность дворянство получало от центра поддержку своего высокого статуса в местных обществах. Действуя в сотрудничестве с разными группами населения на местах, центр создал систему местной администрации. Ее длительное существование дает историкам возможность переоценки вопроса о том, было ли Московское государство слабым или сильным. Способность монархии убеждать или принуждать различные группы общества способствовать укреплению военной мощи государства нельзя недооценивать. Если Иван IV был способен собрать 100 тыс. человек для войны, то его «царство» было совсем не слабым государством. Московские власти преуспели в объединении местных обществ и мобилизации их ресурсов для войны (195, с. 103). Провинциальная администрация стала важным консолидирующим фактором, расширились их полномочия.
Интеграция и локализм в Московском государстве были дополнявшими друг друга процессами. Они возникли одновременно и были неразрывны. «Локализм – не препятствие интеграции. Правящие элиты России объединяли различные территории и народы идеологическими средствами, созданием сложных административных и экономических связей и последовательным стремлением приобрести и сохранить статус великой державы. Различные влиятельные центральные и местные группы продвигали свои собственные интересы через эти механизмы и таким образом взаимодействовали друг с другом и с государством. Все эти политические, культурные и экономические факторы вносили вклад в долговременную сплоченность России» (195, с. 272).
Книга о казаках в Сибири (1598–1725) (252) аттестуется в западной историографии как новационное исследование взаимоотношений органов центральной и местной власти. «Субординация» часто нарушалась: местная власть не торопилась выполнять распоряжения, идущие «сверху», руководствуясь своими, местными интересами. Но власти на окраинах страны неизменно были верны царю10 (252).
Проф. Мичиганского ун-та В. Кивелсон (120) считает, что изучение картографии XVI–XVII вв. дает возможность по-новому рассмотреть многие проблемы этого времени и прежде всего – историю закрепощения крестьянства и завоевания Сибири. Топографические карты свидетельствуют о «динамичном земельном рынке». Наряду с писцовыми книгами они фиксировали складывавшуюся систему крепостничества (120, с. 98). По мнению автора, картографирование новых земель содействовало упрочению колониального господства (92, с. 211).
