Читать онлайн Язык фольклора. Хрестоматия бесплатно
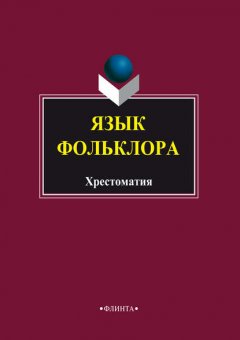
Введение
Художественное и научное освоение языка русского фольклора начинается в XIX веке. Война 1812 года, вызвавшая глубокие сдвиги в сознании русского общества, и декабристское движение с его идеями революционного романтизма обусловили повышенный интерес к устному народному творчеству. Романтики сформулировали принцип народности литературы, в основе которого лежало убеждение, что «национальный дух» хранится только народом и его художественной культурой,
В первой трети XIX столетия формируется современный русский литературный язык, в становлении которого исключительная роль принадлежит А,С. Пушкину, Великий русский поэт, лишенный чувства национальной ограниченности и впитавший в себя лучшие достижения мировой и европейской культуры, постоянно обращался к истокам народного искусства и черпал средства изобразительности и выразительности в художественной практике устного народного творчества. А,С. Пушкин начинает записывать устно-поэтические произведения, он стал первым среди русских писателей собирателем фольклора и убедил П.В, Киреевского начать грандиозное национальное предприятие – составление собрания народных песен. Оно, по мысли Пушкина, должно было стать энциклопедией народной жизни и арсеналом литературного языка. «…Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка», – писал поэт.
Примеру Пушкина последовали I I.B. Гоголь, Л.В. Кольцов, Н.М, Языков, В,И, Даль, П.И, Якушкин, Л.Ф. Писемский, П.И, Мельников-Печерский и др. Записи народной лирики и эпоса, сделанные выдающимися представителями русской культуры, стали ядром Собрания П.В, Киреевского, а язык устного народного творчества через их художественные произведения существенно повлиял на развитие литературного языка. Специальный (79-й) том «Литературного наследства» составили «Песни, собранные писателями», и это показывает роль русской литературы в освоении устной народной традиции, включая устно-поэтическую речь.
Революционные демократы В,Г, Белинский, 11.Г. Чернышевский и 11.Л. Добролюбов, утверждая идею народности литературы, обращались к народно-поэтическому творчеству, давали ему высокую оценку. В своих работах они останавливались и на вопросах формы фольклорного произведения – его языка и стиля. В «Замечаниях о слоге и мерности народного языка» Н.А. Добролюбов отмечает специфичные черты русской фольклорной речи: преобладание полногласия, господство русских слов над старославянскими, обилие уменьшительных форм, повторы, устойчивые сочетания слов, наличие постоянных эпитетов и типических описаний. Высокая оценка русского фольклора, его языка и стиля сочетается со стремлением глубоко, тщательно и широко описать его. Сравнительно небольшая заметка «О поэтических особенностях великорусской народной поэзии в выражениях и оборотах» представляет собой развернутую программу исследования фразеологии русского фольклора, в которой автор намечает объекты описания. Добролюбов первым сформулировал принцип комплексного подхода к изучению фольклорного языка: описание поэтических особенностей нельзя оторвать от лингвистики, исторического элемента, народной философии и быта.
К.Д. Ушинский первым поставил вопрос о природе фольклорного языка и определенно высказался в пользу его наддиалектности: обыденная речь и речь фольклорная – это «два языка совершенно различные».
Филологическое изучение языка русского фольклора началось в 40-е годы XIX в., когда развернулась деятельность по собиранию устно-поэтических произведений. Первый в истории методик преподавания научный труд Ф.И, Буслаева «О преподавании отечественного языка» (1844) содержит наблюдения над отдельными явлениями устно-поэтического языка.
Изучение языка русского устного народного творчества невозможно представить без трудов выдающегося лингвиста, литературоведа, фольклориста, этнографа и философа А,А, Потебни, Начав свой творческий путь магистерской диссертацией «О некоторых символах в славянской народной поэзии», Потебня до конца своих дней постоянно обращался к фольклору, а его лингвистическая концепция строится с учетом большого количества фактов, почерпнутых из устно-поэтических произведений фольклора почти всех славянских народов. Устно-поэтическая речь, по его мнению, является той сферой, где органически сливаются этническое, мировоззренческое, историческое, языковое и эстетическое. Для учёного с широкими научными интересами язык фольклора стал благодатной областью приложения активных исследовательских усилий.
Заслуга Потебни в изучении языка народной словесности в том, что он не ограничился констатацией отдельных фактов, а попытался создать концепцию устно-поэтической речи, К сожалению, он не оставил работы, которая бы полно представляла систему его воззрений на язык фольклора и сконцентрировала бы конкретные наблюдения. Однако большой и разнообразный фактический материал, сопровождаемый лаконичными комментариями и глубокими замечаниями, щедро рассыпан по всем философским, лингвистическим и литературоведческим трудам и заметкам Потебни,
Мысли выдающегося филолога A. I1. Веселовского о языке устного народного творчества концентрируются вокруг нескольких фундаментальных вопросов, органически связанных друг с другом: а) язык фольклора в отношении к другим формам речи, прежде всего к диалектной, иными словами, о наддиалектном характере устно-поэтической речи; б) формульность поэтической речи, генезис, функционирование и эволюция формулы, необходимость «народно-песенной и сказочной морфологии»; в) постоянный эпитет как одно из ярких проявлений формульности устно-поэтической речи.
Данные по фольклорной речи использовались и в диалектологических разысканиях (М, Колосов, Л. Васильев, В, Чернышев и др.) Диалектолог М.А. Колосов «собственным опытом убедился, каким важным пособием для выводов по языку могла бы послужить <…> сказка», и значительную часть зафиксированных особенностей народного языка извлёк из текстов записанных в Каргополе сказок. Современный опыт составителей «Словаря русских народных говоров» показывает перспективность использования фольклорных текстов как базы эмпирического материала для диалектной лексикографии.
Современный этап в изучении языка русского фольклора начинается в 40—50-е годы XX в. Он связан с именами П.Г, Богатырева, А,П. Евгеньевой, И,А, Оссовецкого, А,В, Десницкой и др. Их работы знаменовали новый подход к выяснению природы языка фольклора и определили характер и тенденции последующей исследовательской работы лингвофольклористов.
Постепенно становилось ясно, что изучение языка фольклора должно стать предметом специальной филологической дисциплины, которая и была названа лингвофольклористикой. Термин лингвофольклористика был предложен автором-составителем настоящей хрестоматии в 1974 г., когда в свет вышли две публикации: одна «Проблемы лингвофольклористики (к вопросу о комплексном подходе к изучению языка фольклора)» в сборнике научных трудов кафедры русского языка Курского госпединститута [Хроленко 1974.], другая – «Что такое лингвофольклористика?» в научно-популярном журнале «Русская речь» [Хроленко 1974J, Предложенный термин обозначал суть подхода к изучению устно-поэтической речи – выявление места и функции языковой структуры в структуре фольклорного произведения, использование лингвистических и фольклористических методов исследования [Хроленко 1974.: 13].
Необходимость специальной научной дисциплины, изучающей язык фольклора, виделась не только в том, что она даст новые знания о природе фольклорного слова как элементе народно-поэтического произведения – это её основное, итоговое значение, – но и в том, что специальная научная дисциплина обусловливает поиск иного, интегрированного, методологического и методического подхода к устно-поэтической речи. Чёткая постановка проблем, поиски эффективных методов и методик исследования, необходимая координация творческих усилий тех, кто изучает язык фольклора, – одно это уже оправдывало бы существование лингвофольклористики.
Круг проблем, отнесенных к компетенции новой дисциплины, был обозначен в работах П.Г, Богатырева, А,П. Евгеньевой и И,А, Оссовецкого. Это – природа фольклорного языка в его сопоставлении с другими формами общенародного языка; генетические основы поэтики, характер взаимосвязи языка и поэтики на уровне фольклора; сущность фольклорной стилистики, включая проблемы исторической стилистики; психолингвистический аспект народного творчества; особенное и общее в языке фольклора, вариантное и инвариантное в нем; «явный» и «неявный» уровни в устно-поэтическом творчестве.
Сложились три вузовских центра лингвофольклори-стических исследований – воронежский, петрозаводский и курский. Воронежские лингвофольклористы во главе с Е.Б. Артёменко разрабатывают вопросы фольклорного текстообразования и исследуют народно-поэтический синтаксис. Петрозаводские учёные, возглавляемые З.К. Тарлановым, описывают жанровую дифференциацию языка русского фольклора. Курские лингвофольклористы своё внимание сосредоточили на семантической стороне фольклорного слова (см.: [Хроленко 1992б). К 1992 г. становление лингвофольклористики в основном завершилось, определились её цели, проблемы и перспективы. На передний план выдвинулись такие вопросы, как теория фольклорного слова, поскольку «поэзия пишется не идеями, а словами» (С. Малларме); диахрония в языке фольклора; лексикографическое описание народно-песенного слова [Хроленко 1992.].
Интерес к семантике народно-поэтического слова, разработка основ фольклорной лексикографии, реализация проекта словаря языка русского фольклора, сопоставительный анализ языка фольклора разных народов обнаружили огромный культуроведческий потенциал лингвофольклористики. Оказалось, что в рамках лингвофольклористических исследований возможны оригинальные подходы к решению таких фундаментальных вопросов, как этническая ментальность и культурная архетипика. Выяснилось, что лингвофольк-лористика в состоянии предложить систему эффективных лингвокультуроведческих методик, пригодных не только для продуктивного анализа фольклорных текстов, но и для исследования нефольклорного дискурса.
В ряде педвузов России читаются спецкурсы и проводятся спецсеминары, пишутся курсовые, дипломные работы и защищаются диссертации о лингвистических особенностях народно-поэтической речи. Трудно переоценить значение исследовательской работы в лингво-фольклористике в воспитании учителя-словесника. Изучение языка русского фольклора, прикосновение к истокам народного словесного искусства развивает чувство языка и вырабатывает умение активно пользоваться его неисчерпаемыми возможностями, воспитывает патриотизм, облагораживает эстетический вкус.
«Квинт-эссенцией народного языка является народно-поэтическое творчество народа, фольклор. Устная народная словесность – кристаллизация семантики народного языка. Поэтому народная поэзия нередко рассматривается как воплощение основных тенденций народной речи, основных начал народного духа», – слова эти принадлежат авторитетнейшему знатоку русского языка академику В.В. Виноградову.
Работа над языком требует определенной исследовательской базы – комплекса специальных пособий, в том числе хрестоматии наиболее ценных теоретических работ о языке фольклора, достойно представляющих отечественную науку за полтора столетия. Без постоянного обращения к научному наследию любое исследование грешит дилетантизмом и объективно может оказаться движением на месте. Незнание трудов предшественников – издержка не только морально-этическая, но и теоретическая: их наблюдения, мысли не участвуют в творческом процессе дальнейшего познания, как бы искуственно блокируются.
Необходимость подобной хрестоматии оправдывается ещё и тем, что многие работы XIX и начала XX в. опубликованы в труднодоступных изданиях. К тому же ценные наблюдения над языком фольклора подчас содержатся в работах специалистов различных филологических и – шире – гуманитарных наук.
Думается, что хрестоматия будет полезна не только студентам и аспирантам, приступившим к изучению вопросов устно-поэтической речи, но и для широкого круга лингвистов, фольклористов, любителей народного искусства.
Составитель отдаёт себе отчёт в трудности создания книг подобного рода: здесь неизбежны известный субъективизм отбора авторов и извлечения фрагментов, сомнения в их репрезентативности и оптимума объёма, возможность различных принципов классификации материала и проч. Несомненна только принципиальная необходимость такой хрестоматии.
Литература
Песни, собранные писателями // Литературное наследство. Т. 79. М.: Наука, 1968.
Хроленко А. Т, Что такое лингвофольклористика? // Русская речь. 1974а. № 1. С. 36–41.
Хроленко А,Т. Проблемы лингвофольклористики: К вопросу о комплексном подходе к изучению языка фольклора // Очерки по стилистике русского языка. Курск, 1974б. Вып. 1. С. 9—23.
А.С. Пушкин
Пушкин – критик. М.: ГИХЛ, 1950
Не решу, какой словесности отдать (предпочтение), но есть у нас свой язык; смелее! – обычаи, история, песни, сказки – и проч. [21].
Читайте простонародные сказки, молодые писатели, – чтоб видеть свойства русского языка [186].
Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка. Критики наши напрасно ими презирают [246].
Н.В. Гоголь
О литературе. М.: Гослитиздат, 1952
Самая яркая и верная живопись и самая звонкая звучность слов разом соединяются в них (песнях. – А.Х.) [50].
Преобладание поэтического элемента в глубине славянской души и особенное мелодическое расположение нашего языка были причиною происхождения бесчисленного множества песен в нашей словесности [138].
Струи его (самородного ключа нашей поэзии. – А.Х.) пробиваются в пословицах наших, в которых видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать все своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного изображения, чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимает насквозь природу русского человека, задирая за все ее живое [166].
Наконец, сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, <…> имея возможность, таким образом, в одной и той же речи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанию непонятливейшего человека, – язык, который сам по себе уже поэт… [207],
A.M.Горький
<Фрагменты> // Русские писатели о языке. Л.: Советский писатель, 1954
Я очень рекомендую для знакомства с русским языком читать сказки русские, былины, сборники песен, библию, классиков, <…> Читайте Афанасьева, Киреевского, Рыбникова, Киршу Данилова <…> Кое-что покажется вам скучновато – читайте! Вникайте в прелесть простонародной речи, в строение фразы в песне, сказке, в псалтыре, в песне песней Соломона. Вы увидите тут поразительное богатство образов, меткость сравнений, простоту – чарующую силой, изумительную красотой определений. Вникайте в творчество народное – это здорово, как свежая вода ключей горных, подземных, сладких струй. Держитесь ближе к народному языку, ищите простоты, краткости, здоровой силы, которая создает образ двумя, тремя словами (Из письма к М.Г. Ярцевой) [725].
Писатель, не обладающий знаниями фольклора, – плохой писатель. В народном творчестве сокрыты беспредельные богатства, и добросовестный писатель должен ими овладеть. Только тут можно изучить родной язык, а он у нас богат и славен (Из письма к В. Анучину от 7. 02. 1904) [725].
<…> Пословицы и поговорки образцово формируют весь жизненный, социально-исторический опыт трудового народа, и писателю совершенно необходимо знакомиться с материалом, который научит его сжимать слово, как пальцы в кулак, и развертывать слова, крепко сжатые другими, развертывать их так, чтобы было обнажено спрятанное в них, враждебное задачам эпохи, мертвое.
Я очень много учился на пословицах, иначе – на мышлении афоризмами (О том, как я учился писать) [727].
Я убежден, что знакомство со сказками и вообще с неисчерпаемыми сокровищами устного народного творчества полезно для молодых начинающих писателей. <…> сказки помогли бы сильно развить фантазию писателя, заставить его оценить значение выдумки для искусства, а главное – обогатить его скудный язык, его бедный лексикон… (О сказках) [727].
Народные песни, народные сказки, народные легенды, – вообще все народное устное творчество, которое собственно и называется фольклором, – это должно быть постоянным нашим материалом. <…> И крестьянским писателям следует главным образом устремлять свое внимание на обогащение языка на почве народной русской литературы, прочитать хорошенько сборники старых сказок… (Речь на Первом Всероссийском съезде крестьянских писателей) [728–729].
…Эта бессмертная поэзия, родоначальница книжной литературы, очень помогла мне ознакомиться с обаятельной красотой и богатством нашего языка (О сказках) [730].
Народ наш в части языкового творчества очень талантливый народ, но мы плохо с этим считаемся. Мы не умеем отобрать то, что у него талантливо. Вспомните, как прекрасно делает он частушки… (Речь на Пленуме правления Союза советских писателей от 7.03.1935) [730].
В.Г. Белинский
<Статьи о народной поэзии > // Полн. собр. соч. Т. V. М.: Изд-во АН СССР, 1954
…Автором русской народной поэзии является сам русский народ, а не отдельные лица, – и скудная сокровищница его произведений состоит большею частик) из бесчисленных вариантов слишком немногих текстов [331].
- В тридцать пуд шелепуга подорожная,
- В пятьдесят пуд налита свинцу чебурацкого.
Вопрос: как же шелепуга могла быть в тридцать пуд, если одного свинцу в ней было пятьдесят пуд?.. [358].
Форма народных поэм совершенно соответствует их содержанию: та же исполнительская мощь – и та же скудость, та же неопределенность и то же однообразие в выражениях и образах. Если у князя или гостя богатого пир, – то во всех поэмах описание его совершенно одинаково: «А и было пированье – почестной пир, а и было столованье – почестной стол; а и будет день во полудне, а и будет пир во полу-пире, а и будет стол во полу-столе». Если богатырь стреляет из лука, то непременно: «А и спела ведь тетивка у лука – взвыла да пошла калена стрела». Обезоруженный ли богатырь ищет своего оружия, то уж всегда: «Не попала ему его палица железная, что попала-то ему ось тележная». Если дело идет об удивительном убранстве палат, то: «На небе солнце – в тереме солнце» и пр. Одним словом: все источники нашей народной поэзии так немногочисленны, что как будто перечтены и отмечены общими выражениями, которые и употребляются по надобности.
Форма русской народной поэзии вообще оригинальна в высшей степени, К главным ее особенностям принадлежит музыкальность, певучесть какая-то. Между русскими песнями есть такие, в которых слова как будто набраны не для составления какого-нибудь определенного смысла, а для последовательного ряда звуков, нужных для «голоса». Уху русский человек жертвовал всем – даже смыслом. Художник легко примиряет оба требования; но народный певец по необходимости должен прибегать к повторениям слов и даже целых стихов, чтобы не нарушить требований ритма. Сверх того, в русской народной поэзии большую роль играет рифма не слов, а смысла: русский человек не гоняется за рифмою – он полагает ее не в созвучии, а в кадансе, и полубогатые рифмы как бы предпочитает богатым; но настоящая его рифма есть – рифма смысла: мы разумеем под этим словом двойственность стихов, из которых второй рифмует с первым по смыслу. Отсюда эти частые и, по-видимому, ненужные повторения слов, выражений и целых стихов; отсюда же и эти отрицательные подобия, которыми, так сказать, оттеняется настоящий предмет речи: «Не грозна туча во широком поле подымалася, не полая вода на круты берега разливалася: а выводил то молодой князь Глеб Олегович рать на войну»; или: «Не высоко солнце по поднебесью восходило, не румяна заря на широком поле расстилалася, а выходил то молодой Акундин».
- Не допустят до добра коня,
- До своей его палицы тяжкия,
- А и тяжкия палицы медныя,
- Лита она была в три тысячи пуд;
- Не попала ему ось-то тележная.
Все эти повторения и ненужные слова: своей и его, тяжкия и тяжкия, попала и попала сделаны явно для певучей гармонии размера и для рифмы смысла; для того же сделана и бессмыслица, т. е. в третьем стихе палица названа медною, а в пятом железною: железная была необходима, сверх того, и для кадансовой, просодической (а не для созвучной) рифмы: железная – тележная: [427–428].
Н.Г. Чернышевский
Песни разных народов. Перевел Н. Берг. Москва. 1854 // Полн. собр. соч. Т. И. М.: ГИХЛ, 1949
Иногда случается слышать, что народную поэзию обвиняют в недостатке художественной формы. Это совершенно несправедливо. О чем говорит народная поэзия, говорит она чрезвычайно художественно. Ее недостаток совершенно иного рода; это – однообразие, доходящее до чрезвычайной монотонности. Сущность патриархальной жизни – неподвижность; формы этой жизни – неподвижные, оцепеневшие формы. Точно таковы же они и в народной поэзии. Об этом достаточно говорит уж внешний состав стиха, до чрезвычайности однообразный. Так, все греческие эпические песни сложены гекзаметром; во всех сербских один и тот же стих, десятисложный, разделяющийся на две половины, из которых в первой четыре, а во второй шесть слогов… <…> Точно так же неизменны обычные, так называемые «эпические» выражения, которыми наполнены все песни. У нас, например, всегда добрый молодец, никогда просто молодец, или с каким-нибудь другим эпитетом; красна девица, лютая свекровь матушка, сыра земля и т. д.; у сербов всегда легкие ноги, гибкие ребра, белый двор, холодная вода, боевое копье и т. д. Как бы ни была велика меткость и красота подобных эпитетов, без которых не обходится ни одно часто употребляемое слово в народной поэзии, нельзя, однако же, не признаться, что их беспрестанное повторение чрезвычайно монотонно. Этим не ограничивается монотонность, неподвижность формы; она идет гораздо далее: все фразы, все мысли, все картины имеют один и тот же, раз навсегда установившийся, неизбежный вид. Постоянно повторяются одни и те же стихи, целые отрывки из нескольких стихов. Это каждый может заметить, сличив несколько песен. Потому песни так легко и перемешиваются одна с другою, сливаются, раздробляются; каждая из них – мозаика, составленная из кусков, беспрестанно повторяющихся в других песнях [306–307].
Н.А. Добролюбов
О поэтических особенностях великорусской народной поэзии в выражениях и оборотах // Поли. собр. соч.: В 6 т. Т. 1. ГИХЛ, 1934
Имея намерение собирать только поэтические особенности языка, я не должен, следовательно, касаться ни лингвистических особенностей в народной поэзии, ни исторического элемента, ни народной философии с различными отраслями знаний… Но – развитие языка так тесно связано с развитием народа, в народной поэзии так многое зависит от степени силы и изобразительности языка, что во многих местах необходимы будут замечания, относящиеся чисто к истории языка… С другой стороны – на язык так много ложится черт истории и быта народного, произведения народной словесности заключают в себе столько исторических преданий, в них так отражается миросозерцание народа, его быт, степень его образованности, что необходимо будет касаться и этих предметов, насколько они выразились в народной словесности. Без этого работа моя не имела бы никакого приложения, была бы слишком скучна, холодна, безжизненна… [522].
Какие же факты может представить внешнее выражение народной поэзии? Разбирая внимательно наши песни, сказки и пр., нельзя не приметить, что в них народ создал себе некоторый особенный способ выражения, которого придерживается более или менее неизменно и постоянно. Здесь находим мы обороты и фразы как бы условные, всегда одинаково употребляющиеся в данном случае. Из рода в род, по всей обширной Руси, переходят заветные формы, и в отношении к ним твердо держится русский человек пословицы, что «из песни слова не выкинешь». Каким-то чутьем знает он, что море должно быть синее, поле – чистое, сад – зеленый, мать-земля – сырая; никогда не ошибается он в синонимах и неизменно – верно скажет: красно солнышко, светел месяц, ярки звезды… Ясный сокол, белая лебедь, серая утка, черный соболь, гнедой тур, серый волк, добрый конь, лютая зима – это выражения нераздельные… Как будто неловко слову в песне без своего постоянного эпитета! Но кроме того – эти всегда одинаковые сравнения, положительные и отрицательные, эти условные меры величины и времени, – эти обычные обращения к неодушевленным предметам, эти выражения, показывающие верование в сочувствие с нами внешней природы, эта чувственность в изображении отвлеченных понятий, – все эти явления стоят того, чтобы обратить на них внимание, собрать их и разобрать их смысл и значение. Может быть, некоторые из них идут еще от того незапамятного периода, когда народ, в своем первоначальном возрасте, с своими младенческими воззрениями, находясь еще совершенно под влиянием внешней природы, от всей души верил и сочувствовал тому, о чем теперь говорит и поет часто бессознательно… Другие, может быть, объяснят нам некоторые черты древнего исторического быта Руси, покажут, как смотрел на предметы народ наш, чему он верил, что любил, в чем полагал благо и счастье… [522].
…Изменяясь в устах народа, песни наши не могут быть названы наверное, – те или другие, древними, в том виде, как они существуют ныне, и след. в песне о временах Владимира мы столь же мало имеем права искать понятий X века, как и в песне о заложении Петербурга, или о разорении Москвы [523].
И везде буду я отмечать:
I. Постоянные эпитеты, которых так много рассеяно в русских народных произведениях. Здесь я постараюсь отличить эпитеты необходимые от эпитетов отделяемых, т. е. придаваемых в большинстве случаев, но иногда и пропускаемых или заменяемых, и явно прилагаемых только для определения качества. Например, столы белодубовные, сени косящатые, перстень золотой, и пр. постоянно почти употр. в русских песнях, но тем не менее нельзя не видеть, что качества, выражаемые этими эпитетами, суть качества случайные [523].
II. Условные выражения для определения времени, пространства, величины, и т. п.
III. Сравнения – отрицательные, обыкновенно бывающие в начале песен, и положительные, иногда выражаемые посредством как, иногда просто в названии одного предмета именем другого, иногда же в целой картине, в целой параллели сходных представлений.
IV. Выражение отвлеченных понятий в чувственных образах, в символах.
V. Например, символом брака служит перстень, венец, расплетание косы девушки, и т. п.
VI. Обращение к неодушевленным предметам природы, олицетворение их и предполагаемое сочувствие их чувствам и расположениям человека.
VI., Наконец, те таинственные отношения, которые признаются народом между различными понятиями, и ныне опираются иногда на языке, т. е. созвучии слов, потерявши прежнюю религиозную основу…
При этом везде буду я означать, откуда взято каждое выражение и как часто оно употребляется. Если будет можно, сделаю ссылки на все места, где можно найти то, или другое выражение и оборот.
Касательно расположения всего, что я успею собрать, я могу теперь сказать очень немногое. Я думаю, – полезно было бы отделить выражения явно новейшего образования от древнейших. Им, конечно, нужно дать место в сборнике, потому, что это также придумано, или, по крайней мере, принято народом, который никогда не перестает жить своею особенною, самостоятельною жизнью. Но при этом нельзя же отвергать и того, что вторжение иностранных форм, проникши и в народ, отразилось и на народной поэзии. Песни, в которых употребляются слова французские и немецкие, перешедшие к нам во 2-й половине прошлого века, – в которых ясно виден объевропеившийся уже русский человек, в которых толкуется о тарелочках и каретушках, должны быть, кажется, отделены, так, чтобы их особенности отмечались особо… Трудно будет подобное разделение, но, надеюсь, не невозможно…
После этого – затруднительно решить, в каком именно порядке представить все выражения и обороты, которые будут мною отмечены. Порядку самых песен следовать нельзя, потому, что они будут взяты из разных источников, и притом будут не одни только песни, Об алфавитном порядке и думать нечего… Может быть, можно будет расположить таким образом: показать – понятия русского человека о мире, – небе и земле, – о человеке, его теле и душе, – о разных положениях в жизни, о разных принадлежностях домашних, военных, религиозных, общественных, понятия о боге, о судьбе, и о всем, что выходит из-за пределов мира видимого [524].
Н.А. Добролюбов
Замечания о слоге и мерности народного языка // Полн. собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1934
Народная поэзия не стеснялась правилами школьных реторик и пиитик о высоком слоге, для нее все слова были хороши, только бы они точно и ясно обозначали предмет. Она вносит в свои изображения – и конские копыта, и япончицы, и кожухи, и болота и грязивые места (Слово о полку Игореве), и желчь, разливающуюся в утробе от гнева, и рев рассерженного человека, и разложито оконце в доме (Песня о суде Любаши), даже подворотню рыбий зуб, – пробои булатные, подики кирпичные, помелечко мочальное (Кирша Данилов). Она не боялась называть предмет своим именем; и потому в ней находим множество названий таких предметов, о которых в книгах даже совсем никогда не говорится, из опасения употребить неприличное выражение. При этом видим мы полное господство народных форм над книжными. Например, в русской народной поэзии господствует полногласие и употребление слов русских там, где в книгах ставятся славянские. Нужно также заметить и изобилие уменьшительных форм в народной поэзии, весьма много способствующих живости изображения.
Подбор слов также имеет здесь свои особенности, происходящие опять от той же безыскусственности и стремления к изобразительности и живости впечатления. Весьма часто одна мысль выражается в двух видах; как бы недовольный одной фразой, народ повторяет ее с прибавлением другого определения, нередко усиливая слово другим, имеющим почти то же значение. Высота ли, высота поднебесная, начинаются песни Кирши Данилова… И в них беспрестанно встречаем такого рода выражения: из-за моря, моря синего; по дорогу камени, по яхонту; идет во гридню, в светлую; от славного гостя, богатого; она с вечера трудна, больна, со полуночи недужна вся, и пр. Много подобных примеров также и в чешской поэзии. – Нередко также встречается и такой способ выражения: сначала высказывается общее понятие, а потом берутся частности, например, в зеленом саду, в вишенье, в орешенье. Далее встречаем некоторые соединения слов, постоянно повторяющихся, например, злато-серебро, гусей-лебедей, и пр. Также есть одинаковые, условные фразы для обозначения того или другого понятия, того или другого предмета, например, неоднократно встречаем: земля кровью была полита, костьми посеяна; бились три дня, три часа и три минуточки; между плеч косая сажень, палица в триста пуд и пр. Конечно, народ руководствовался чем-нибудь, подбирая такие образы или слова для обозначения даже таких простых понятий, как измерение места и времени; и, может быть, при собрании большего количества данных, нам удастся уяснить себе миросозерцание народа, выразившееся таким образом в его поэзии.
Периодическая речь решительно не допускается в поэтической речи. Краткие предложения везде заменяют ее. Нечто подобное строю периода можно видеть разве в тех местах, где встречаются сравнения. Но сравнения весьма редко имеют правильную грамматическую форму, т. е. посредством союза как. Обыкновеннее всего название предмета именем другого, например, ясный сокол добрый молодец, конь под ним лютый зверь, и пр., иногда сравнение развивается в целой картине, в целой параллели сходных представлений. Но чаще всего – сравнение отрицательное, до сих пор столь распространенное в наших песнях, которые часто им и начинаются.
В числе особенностей народного слога нужно отметить еще постоянные эпитеты. Между ними особенное внимание нужно обратить на те, которыми характеризуются предметы природы. Например, постоянно читаем мы: море синее, сад зеленый, мать сыра земля, темный лес, чисто поле, также – красна девица, добрый молодец, буйная голова, белы руки, резвы ноги; – лютый зверь, ясный сокол, белый кречет, гнедой тур, добрый конь, и пр. Замечательно, что народ в этих определениях никогда не смешивает понятий даже синонимически и с неизменной верностью говорит, например, красно солнце, светел месяц, ярки звезды, или зелено вино, брага хмельная, пиво крепкое.
Кроме этих эпитетов, показывающих воззрение народа на природу, нельзя оставить без внимания других, в которых отразились понятия его об отношениях житейских и общественных. Таковы, например, описания разных хором, с их принадлежностями – воротами вальящатыми, вереями хрустальными, тыном железным, окошечками косящатыми, столами бело дубовыми, и пр. Описания одежды – кафтанов хрущатой камки, одеял соболиных, шуб барсовых, сапожков сафьянных; описания вооружения – тугих луков, шелковых тетив, булатных мечей, острых копий, каленых стрел, златых шеломов и пр. Повторяясь постоянно, эти названия должны занять наше любопытство тем более, что подобные постоянные эпитеты суть общая принадлежность всякой народной поэзии, и след. могут служить безошибочным указанием на особенности миросозерцания народа.
В народной поэзии встречаются также нередко выражения, которые сохранились потом в устах народа, как поговорки. Это – или правило народной мудрости в нескольких словах (т. е. собственно пословицы); или удачно схваченное изображение предмета, его характеристика, которая потом осталась за ним навсегда и прилагается к целому ряду однородных предметов [525–527].
К.Д. Ушинский
О средствах распространения образования посредством грамотности // Избранные педагогические соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Педагогика, 1974
Серьезный, несколько даже возвышенный слог облекает все первобытные произведения народов. Простой человек любит даже вычурное словцо, и мы никак не можем понять, чтобы Илиада была написана простым народным языком того времени. Если древние греки говорили между собой языком Илиады, то нельзя не сознаться, что греки были престранный народ, исключение изо всех народов. Представьте себе простых людей, земледельцев и пастухов, у которых каждую минуту слетают с уст крылатые слова, которые своих жен, занимающихся мытьем белья или кормом свиней, зовут волоокими, златокудрыми, благороднорожденны-ми, садятся не иначе как на среброгвоздные стулья, обувают свои крылатые ноги или лукавого, опытного человека зовут всякий раз многохитростным мужем. Неужели это простой язык, употреблявшийся в Греции в обыденной речи? Мы думаем, что это скорее тот возвышенный язык, который и в настоящее время любим простым народом и который он охотно употребляет, выходя из обычной колеи. Даже в народных песнях, где живое чувство заставляет брать первое попавшееся под руку меткое слово, и там постоянно употребляются такие слова, которых не употребит человек в обыденной речи. Послушайте, как русский крестьянин говорит с женой, сестрой, братом в домашней жизни и как он обращается к тем же самым лицам в песне или даже в простом письме: два языка совершенно различные [13].
И. Бодянский
О народной поэзии славянских племен. М., 1837
В них (народных песнях, – А.Х.), наконец, язык родной хранится во всей своей чистоте, неподдельности, свежести, силе, прелести и богатстве… [24].
Ревнитель чистоты, силы, богатства и простоты отечественного слова не расстанется с песнями: в них язык народа таков, каков он есть в своей сущности, каков должен быть, со всеми своими природными особенностями, ему лишь свойственными оборотами и извитиями [28–29].
… Песни славян отличаются чрезвычайной простотою изложения, соединенной с самостоятельностью исполнения, простотою средств и полнотою действия, недостатком, или лучше, отсутствием всякого искусства, и несмотря на то, совершенством отделки, незатейливым, но гениальным [148].
Ф.И. Буслаев
О преподавании отечественного языка. Изд. 2-е. М., 1867
Речь народная отличается от искусственной постоянством, неизменностью выражений. Писатели каждый по-своему изъясняют одну и ту же мысль: оттого часто изысканность и неточность. В речи народной мысль, однажды приняв на себя приличное выражение, никогда уже его не меняет: отсюда точность и простота. Выражение, как заветная икона, повторяется всеми, кто хочет сказать ту мысль, для коей составилось первобытно. На этом основывается употребление постоянных эпитетов, в которых особенно очевидно постоянство и единообразие выражений народной речи. Речения с постоянными эпитетами можно уподобить типам греческих божеств, которые, однажды создавшись, никогда не изменялись, потому что грек не находил уже другого лучшего и приличнейшего образа для олицетворения Юноны или Зевеса. Русские эпитеты бывают:
А) Имена прилагательные: не наЬзживали звэря прискучаго 156. не видали птицы перелетныя 156. оставалася матера вдова 72, подломилися ноженьки рэзвыя 8. на крутом красном берегу, «на желтых разсыпных песках 106. нарублю в «в мелкие части пирожные 66. (пирог – мелкая дробь монетная), столы бэлодубовы, столы дубовые 12. терема златоверховаты 6. оружье долгомэрно 108. звончаты гусли 9. уйми своё чадо милое 79 – говорят те, кого оно прибило.
Б) Имена существительные в одинаковом падеже с словом, при коем они эпитетом: выэзжал удача добрый молодец 22. продавали душам красным дэвицам 24. а Владим1р Князь едва жив стоит, «со душой Княгиней Апраксэевной» 359. а зовут меня Михай-лою Казарянин, «а Казарянин душа Петрович млад» 205–206.
В) Имена существительные с прилагательными, несогласующиеся с своим определяемым, и всегда стоящие в именительном: обертываться гнэдым туром – золотые рога 47. Что Добрыня им будет десятой тур, «всэм атаман – золотые рога» 57. однорядочки-то голуб скурлат 156. обвивается любой змЬй около чебота зелен сафьян 45. и на ноги сапоги зелен сафьян 125. в чердаке была беседа – дорог рыбIй зуб 3. стоит подворотня дорог рыбIй зуб 51. а столы дорог рыбIй зуб 109. Словосочинение этого эпитета объясняется эллипсисом.
Г) Родительный определения: кровать слоновых костей 9. покрыта сэдых бобров, «потолок черных соболей 14. пол, середа одного серебра 159.
Надобно отличать эпитет постоянный от эпитета украшающего <…>: последний часто даже во зло употребляется писателями напыщенными и вычурными. Полезно бы собрать все постоянные эпитеты для того чтобы определить, в какие предметы преимущественно вдумывался русский человек, и какие понятия присоединялись к оным [121–123].
Весьма любопытна история постоянных эпитетов нашей народной поэзии: ибо большая часть их идет от глубокой древности… [349].
Ф.И. Буслаев
Русская поэзия XI и начала XII века // Летописи русской литературы и древности. 1859, кн. 1
…Органическая связь между содержанием и художественною формою, которая своими эпическими выражениями не только составляет внешнее украшение речи, но и по преимуществу мелкими подробностями выполняет и завершает поэтическое представление, воспроизводимое содержанием. Изучавшим исследования Я. Гримма вполне понятно, сколько глубины мысли и верования, сколько жизненности народного быта заключается иногда в кратком сравнении, даже в одном эпитете, которым народный певец определяет предмет речи [5].
И.П. Сахаров
Песни русского народа. Ч. 1. СПб., 1838
Гораздо ошибочнее являются у писателей понятия о языке народных песен. Это такая смесь всякой всячины, что доселе никто не думал и исправлять их. Песни наши новы, старых мы не имеем – вот общее мнение. Справедливо ли это? На чем основано? Где доказательства их обновления? Где указания на их новость явления? Об этом никто из русских не думал. Кажется, с первого взгляда, это так легко разгадать, что оно само собою выказывается; но это только будет хорошо для кабинетного занятия, где не нужны опытные суждения, требующие поверки. Труд неимоверный, невероятный предстоит тому, кто хотел бы судить по языку народных песен о времени их произведения. Для этого нужно иметь понятия о состоянии русского языка в разных столетиях; нужно знать до подробности русские областные наречия [CXXIII–CXXV],
Каждый писатель за нужное считает сказать что-нибудь об языке народных песен, но все эти рассказы оканчивалися общими выражениями – старого нет, все вновь составленное. Все ошибки происходили и будут происходить от незнания областных наречий. Песни народные по языку принадлежат к московскому областному наречию, разговорному… [CXXVII–CXXVIII].
И.И. Срезневский
Труд и мнения Н.В. Берга касательно народных песен // ИОРЯС. Т. IV. Вып. 7. 1855
Напрасно было бы говорить о литературной, исторической и филологической важности народных песен, этих, так сказать, естественных произведений словесности, слагаемых в народе без помощи грамотности и учебных правил риторики и пиитики, оценяемых народным чувством без помощи ученых критиков, и тем не менее доходящих иногда до такой степени художественности, до какой не может дойти никогда произведение литературного искусства. Признание важности народных песен в такой же мере выражает успехи науки нашего времени, в какой и признание необходимости исследовать язык только как естественное произведение и пользоваться им только по законам его природы, а не по правилам самовольно придумываемых теорий [381].
…Есть между прочим и народные песни, в списках X–XIII века, подтверждающие наглядно степень отклонения современного народного языка от языка, которым говорили за 900 и за 500 лет [390].
Язык песен у всех Славян есть их обыкновенный, современный язык, что те остатки старины языка, которые замечали в песнях, не принадлежат исключительно языку песен…
Из этого, конечно, еще нельзя выводить, что все нынешние песни Славян без всякого исключения первоначально составлены уже во время, когда язык народа был в современном его положении: песня, сложенная может быть даже в древности, могла мало-помалу измениться в отношении к языку. Но если допустить видоизменения языка песни, то почему не допустить, что в такой же мере видоизменялось и ее содержание разными опущениями и вставками? А допустивши это, мы не можем глядеть ни на одну песню из числа тех, которые сохраняются ныне памятью народной, как на памятник древности или даже и старины, ни в чем неизмененный временем [390].
Тем не менее справедливо, что и песни народные слагались и слагаются лицами, и в народе только улаживаются и перелаживаются… Песня только потому и народна, что единственная личность, в ней рисующаяся, есть сам народ, его поэтическое настроение, его стихотворные обычаи и т. п. [392].
А. Григорьев
Русские народные песни с их поэтической и музыкальной стороны // Отечественные записки. 1860. Т. 129, март
Одна песня наводит на другую, как-то вяжется с другою, как-то растительно цепляется за другую: одно слово в одной песне родит в памяти новую песню, одни общеэпические формы связывают несколько разнородных песен: точно так же и мотивы, по-видимому, совершенно различные, льются один за другим, совершенно раздельные, а между тем связанные между собою общею растительною жизнью [449].
…Песня не только растение, песня – самая почва, на которую ложится слой за слоем, снимая слои, сличая варианты, иногда в песне новой можно добраться до первых, до чистых слоев. Есть песни, тоже и о том совершенно новые, часто даже нелепые до безобразия, но напев их развит с такой полнотою, с таким богатством и могучестью, что невольно приходит в голову мысль, не новый ли слой текста лёг здесь на старый: кто отыскивает только песен постарше, тот отворотится от подобного текста с презрением и будет не прав. Наша песня не сдана в архив: она доселе живет в народе, творится по старым законам его самобытного творчества, новое чувство, новое содержание укладывается иногда в готовые, обычные, старые формы, старое не умирает, оно живёт и продолжается в новом, иногда остаётся совершенно нетронутым, иногда разрастается, иногда, пожалуй, искажается, но во всяком случае живёт [449–450].
А.А. Афанасьев
По поводу VI-го выпуска этнографического сборника // Книжный Вестник. СПб., 1865
Народные загадки сохранили для нас обломки старинного метафорического языка. Вся трудность и вся сущность загадки именно в том и заключается, что один предмет она старается изобразить через посредство другого, какой-нибудь стороною аналогического с первым. Кажущееся бессмыслие многих загадок удивляет нас только потому, что мы не постигаем, что мог найти народ сходного между различными предметами, по-видимому столь непохожими друг на друга; но как скоро мы поймём это уловленное народом сходство, то не будет ни странности, не бессмыслия [58].
Влад. Стасов
Происхождение русских былин // Вестник Европы. 1868. Т. IV. Кн. 7
Народный русский язык, как известно, заключает в себе многие особенности, придающие ему необыкновенную живописность и своеобразную колоритность, и вместе с тем необыкновенную силу и мягкость. Те же самые особенности принадлежат и языку наших былин, и, можно сказать, здесь они получили еще более развития, разнообразия и выпуклости, так как нигде не встречали такого частого и обширного применения [323].
Все эти своеобразные особенности языка былин <…> заключают в себе столько особенности, что, в соединении с оригинальным стихосложением былин и всегдашнею меткостью, силою, образностью и юмором русского выражения, придают былинам совершенно исключительную, самобытную физиономию [325].
П. Глаголевский
Синтаксис языка русских пословиц. СПб., 1873
Грамматика не только могла бы и должна бы многому научиться у пословиц, но должна бы быть по ним, во многих частях своих, вновь переверстана.
(В,И, Даль, Пословицы русского народа. Напутное, стр. XXVIII)
Пословицы создавались, передавались от поколения к поколению и хранятся до сих пор почти исключительно в народе простом, еще не испытавшем на себе влияния европейской образованности. Что же касается образованного класса, то у него – скажем словами г. Даля – «пословиц нет; попадаются только слабые, искалеченные отголоски их, переложенные на наши нравы, или испошленные не русским языком, да плохие переводы с чужих языков» (Напутн., к Пословицам русского народа, V). Притом несомненно, что большая часть пословиц явилась в ту пору, когда еще не выделялся из народа так называемый образованный класс и когда весь народ говорил одним языком. Поэтому язык пословиц по справедливости может быть назван языком в тесном смысле народным. Но если мы сравним народный язык пословиц с языком других произведений народного творчества, как например былин, сказок, песен и т. п., то окажется, что первый одною важною особенностию существенно отличается от последнего. Отличительную черту языка пословиц составляет особенная любовь к эллиптическим выражениям. Пословицы всегда рождались и жили в живой, разговорной речи: они не выдумывались, не сочинялись, а вырывались из уст как бы невольно, случайно, в жару живого, увлекательного разговора. В живой же, разговорной речи многие слова часто не досказываются, заменяясь тоном голоса, выражением лица и телодвижения. Поэтому язык русских пословиц представляет все особенности разговорного языка русского народа.
После этого не нужно доказывать трудность изучения и научного объяснения синтаксических особенностей языка пословиц. К сожалению, выполнение этой задачи в настоящее время еще слишком мало облегчается предшествовавшими трудами по русскому языку. В немногих ученых трудах встречаются пока только отрывочные толкования и заметки по синтаксису народного языка. О практических грамматиках и говорить нечего.
Только г. Стоюнин в своём «Русском синтаксисе» (СПб. 1871 г.), не удовлетворяясь теми бледными, бесцветными, ординарными случаями из русского синтаксиса, в которых наш язык ничем не отличается от родственных языков и на которых обыкновенно только и останавливались наши практические грамматики, собрал, рассортировал и объяснил (как? – это другой вопрос) множество чисто русских оборотов речи, из которых, по преимуществу, выражается дух нашего языка. Но такого труда, который бы специально был посвящен народному языку и, в частности, его синтаксису, в нашей литературе ещё нет. Решаясь изложить результаты изучения в этом отношении русских пословиц, мы утешаемся тою мыслью, что если наш труд сам собою не принесёт большой пользы науке, то, по крайней мере, он вызовет на обсуждение отмеченных нами фактов людей, более нас сведущих в отечественном языке, и может быть побудит кого-нибудь к более обширному исследованию народного языка.
Результаты наблюдений над синтаксисом языка пословиц можно было бы представить в виде «русского синтаксиса на основании пословиц»; но в таком случае пришлось бы отмечать множество таких фактов, которые, нисколько не характеризуя синтаксиса языка пословиц, составляют общее достояние и русского книжного языка, и других, родственных ему языков. Наша задача состоит в том, чтобы отметить характеристические черты синтаксиса языка пословиц, как языка народного. На этом основании, те обороты речи, которые хотя и встречаются в пословицах, но в то же время обыкновенно употребляются и в книжном русском, и в родственных славянских языках, не входят в наше понятие о синтаксисе языка русских пословиц. Но так как, с одной стороны, в книжном языке встречаются иногда и выражения чисто народной речи, то в числе приводимых нами характеристических явлений синтаксиса пословиц читатель найдет и такие обороты речи, которые встречаются в книжном языке. Во всяком случае, наша цель состоит в том, чтобы язык русских пословиц в нашем очерке явился с своими типическими чертами, как язык разговорно-народный. Этой целью и объясняется то, что на одних предметах, как например на употреблении предлогов, мы вовсе не останавливаемся; на других, как на выражении подлежащего и на употреблении некоторых падежей, останавливаемся мало, а на иных, как например на сказуемом, может быть, останавливаемся уже слишком долго [5–7],
К.С. Аксаков
Ломоносов в истории русской литературы и русского языка // Аксаков К.С. Полное собрание сочинений. Т. П. Ч. 1. М., 1875
Чувство человеческое всегда заставляет нас внутренне трепетать при звуках наших песен, а знание, удаляя ложные мнения и осуждения, заставляет нас понимать их глубокое значение [52],
Песни поются на языке чисто народном, на языке, вполне запечатленном всею физиогномиею, всею силою и исключительностью национальности; здесь язык сам не вышел за пределы этого, необходимо тесного определения, и это и составляет характеристику слога песен; он является в них со всеми национальными, характеристическими оборотами, со всеми простонародными фразами, поговорками и словами; вся эта сила народной субстанции, под таким твёрдым определением национальности, со всею, если можно так сказать, своею грубостью, энергически высказывается в языке песен, слоге, являющем нам язык исключительно народный, имеющий на себе, как язык, исключительное национальное определение соответственно с народом, и следовательно вполне выражающий национальную его поэзию. То самое, что мы сказали о национальной поэзии, то самое должны мы сказать и о языке в слоге песен, о языке народном, И так крепость, та печать силы, которая лежит на цельной национальной субстанции, лежит и на языке его, на слоге его поэзии, слоге песен. Энергия этой национальности составляет характеристику слога поэзии национальных песен. Как могуч и крепок его здесь язык, какое сочувствие пробуждают эти простые фразы, в которых слышите вы еще цельный юных дух народа, слышите, как выражается он в слове, которое дрожит, так сказать, всё полное внутренним своим содержанием. Не мимо здесь бывает ни одно слово: лишнего слова, неточного – здесь нет: нация, цельная субстанция не ошибается, а определение её вполне конкретируется в языке, и поэзия её конкретируется в слоге, который исключительно национален; поэтому и язык этот здесь чрезвычайно важен, вообще для уразумения всякого народа, как относительно его сущности, здесь выражающейся, так и его исторического развития. И так слог наших песен исключительно национален, представляя в высшей степени характеристику языка исключительно национальным определением; все обороты, фразы проникнуты им. Такой язык, такие фразы, являя нам непосредственно целую сферу, момент духа народного, возбуждают в высшей степени национальное сочувствие; формы этого слога, совершенно проникнутые единым духом, запечатлены вместе этою народною субстанцией, являющейся здесь еще цельною. Все оттенки, вся особность, словом сказать, вся национальность языка, если так выразиться, являлась здесь со всем своим исторически важным, глубоким значением. Здесь эти свои обороты, эти непереводимые фразы, так доступные вместе с тем для всякого русского; обороты, свойства языка, которые очень важны, до сих пор еще не объяснены и ждут еще живого учёного взора. Сколько таких выражений, на которых отпечатывается вся национальность языка в слоге наших песен. Например:
- Не много с Дюком живота пошло,
- Что куяк и панцирь чиста золота.
Или:
- Что гой еси ты, любимой мой затюшко,
- Молодой Дунай сын Иванович,
- Что нету де во Киеве такого стрельца…
Или наконец:
- Высота-ли, высота поднебесная,
- Глубота-ли, глубота океан море
- Широко раздолье по всей земле
и проч.
Любуясь свободно этим национальными миром, так живо выражающимся в самом слоге языка, мы вместе с тем видим здесь только момент языка, первую ступень, определение, от которого он должен отрешиться, чтобы потом, вместе с народом, в котором пробудится общее значение, стать выражением общего, – на этой ступени, при исключительно национальном определении, ему недоступного [79–80].
В народных песнях высказывается народ; в них он является со всем своим богатством, во всей своей силе; они также изустно повторяются, они поются; и здесь элемент музыкальный, соединяясь с поэтическим созданием, также высказывает дух народа. Они так же простираются над пространством и временем, как всё, что дышит цельною, неразрывною жизнью. Сюда можно отнести сказки народные, как тоже поэтические создания; редкие из них не принимают песенных форм. Это всё мир изустного слова, живого глашения; здесь нет и тени начертанной буквы или бумаги, и в то же время этот мир изустного доказывает, что и без этой внешней помощи пера и бумаги, остаются незыблемыми слова, создания в слове, – живут и сохраняются неизменно и бесконечно; но зато здесь всё, что вырвано из преходящего, всё, что помнится и неизменно ясно сохраняется, уже прекрасно [84].
В древних песнях Кирши Данилова встречаем мы то же употребление, несправедливо принимаемое Калайдовичем за сибирское. Например: хоть нога изломить, а двери вышибить. В народе до сих пор в пословицах и поговорках сохранилась эта старинная форма, например поговорка: рука подать [96].
<…> что народ вообще более сохраняет язык, что речь гласная, произносящаяся, более дружна со звуками, что и естественно, и более удерживает полногласие, тогда как молчаливое письмо враждебно звукам, тем более повторяющимся, по-видимому, без нужды, – враждебно полногласию. Во-вторых, вероятно, что эта полная форма прилагательных шла хорошо к протяжным песням, исчерпывавшим каждый звук слова; в пении не пропадают буквы, звуки; пение не пренебрегает ими, но заставляет раздаваться, – а эта полная форма так кстати и хороша в пении. Поэтому, может быть, и теперь ещё есть песни, в которых раздаётся эта форма песни, в которых поётся, например, про:
- Солдат беглыих, людей бедныих [102]
…Не всякая живая речь народа умирает; выражения, в которые он слагает свои практические заметки, результаты своих наблюдений, – ещё лучше, его песни, также сказки, предания, где поэтически являет он всю глубину своей сущности, не пропадают по произнесении; рождается отзыв, и, повторяясь в течение долгих времен, они доходят до позднейших потомков. Но, во-первых, очень трудно определить время песен и пословиц, если исторические события не помогут положительно; во-вторых, самый язык песен, повторяясь в разные времена, произносясь живыми устами, невольно изменяется и принимает в себе иногда оттенок или слово, современные эпохе их произношения; но это только в отношении к языку, и то скорее в внешней стороне его; поэтический характер и дух языка также, большей частью и почти всегда, не меняется. Черкесы пятигорские, Алюторы в песнях, собранных Киршею Даниловым, явно не изменяют древнейшего этих слов характера песни. Даже в отношении к языку можно устранить многое, неловко приставшее к древнейшему его виду, и если многое прибавилось, изменилось, утратилось, при живом повторении, то также многое сохранилось, потому что песня, и также другие создания народные, передавалась и изменение в ней было разве невольное. Пословица говорит: из песни слова не выкинешь.
Есть песни, мне кажется, очень древние, восходящие, может быть, к баснословному периоду нашей истории; но, как мы сказали, очень трудно определить время живых памятников народного языка; и поздно, очень поздно пишутся они на бумагу [111–112],
Наш язык, наш синтаксис имеет особенный характер, и то, что можно сказать на русском, едва ли можно сказать на каком-нибудь языке. Приведем в пример такие слова нашей песни:
- Я у батюшки в терему, в терему,
- Я у матушки в высоком, в высоком.
Здесь удивительно отношение между словами, удивительная память, так сказать, мысли в языке, при устройстве слова. Две, кажется, фразы, но их проникает синтаксическая связь; можно бы подумать, что говорится про два терема и разделяются слова: у батюшки, у матушки, тогда как напротив они прямо относятся друг к другу, и тесно соединяются; фраза такова: я у батюшки и у матушки в высоком терему; но несмотря на разделение, сохранена связь между словами, и над отдельными формами фраз является сила синтаксиса, соединяющая их в одну; так что если надписать одну фразу над другою, то каждое слово соединяется с написанным под ним словом. Здесь выражается особенная грация, особенная сила и гибкость синтаксиса; здесь видим мы явление, знаменующее полную его свободу. Мы можем привести такие же и подобные тому примеры из древних русских стихотворений, собранных Киршею Даниловым:
- Отстает добрый молодец от отца, сын от матери…
Также:
- Пир на веселе, повел столы на радостях…
- Также нельзя не привести здесь русскую песню:
- Как вечор мне подруженьки косыньку расплетали,
- Они золотом перевели мою,
- Они жемчугом убирали ее [303–304].
П.Н. Рыбников
Заметка собирателя // Песни, собранные П.Н. Рыбниковым: В 3 т. Т. 1. Петрозаводск, 1989
Напев былины был довольно однообразен, голос у Рябинина, по милости шести с половиною десятков лет, не очень звонок; но удивительное умение сказывать придавало особенное значение каждому стиху. Не раз приходилось сбросить перо, и я жадно вслушивался в течение рассказа, затем просил Рябинина повторить пропетое и не хотя принимался пополнять свои пропуски. И где Рябинин научился такой мастерской дикции: каждый предмет у него выступал в настоящем свете, каждое слово получало свое значение! [58]
При ближайшем знакомстве с певцами, я заметил, что они не всегда поют былины совершенно одинаково. Это происходит от разных причин. Сказители не сразу вспоминают иную былину, а старики иногда многое забывают <…> Далее, сказители знают часто одну и ту же былину от нескольких учителей и, разумеется, только тогда различают варианты, когда они резко отличаются один от другого; когда же варианты очень близки между собой, тогда певец поет один раз былину по одному варианту, а другой раз по другому [72].
Наконец, у каждого истинного сказителя заметно его личное влияние на склад былины: он вносит в нее свой характер, любимые слова, поговорки. Чтобы убедиться в этом, стоит сравнить пересказы Рябинина, Романова и Иевлева [72].
Если личное вообще влияние певца на былину неоспоримо, то, как бы ни установился у него пересказ, как бы ни закончились формы, все порою скажется и влияние личного настроения минуты: иногда певец употребит одни из своих выражений и форм, иногда другие. Например, Романов сколько раз пел у меня одну и ту же былину и всякий раз пел с небольшими вариациями: то кое-чего не доскажет, то сократит несколько стихов в один, то вставит новый стих [73–74],
Второй момент развития русской поэзии представляет у нас песня. Она захватывает более или менее весь круг ощущений, свойственных и дорогих русскому человеку. Оттого почти в каждой личности из народа хранится такой запас этих песнопений, что посредством их крестьяне могут отозваться на каждое событие в жизни, на каждое движение в сердце. Но народного творчества тут уже нет, пора его прошла. Бесконечный запас песен большей частью принадлежит прошедшему и потому только доступен каждому крестьянину, что прошедшее это в главных чертах сходно с настоящим. Если заметны некоторые изменения в песнях вследствие условий местности и времени, то новых песен уже не слагается; я, по крайней мере, не знаю таких [78–79].
Некоторые варианты так мало пострадали от времени, что пересказы, записанные в XVII и XVIII столетиях, в существенном не отличаются от тех, которые поются современными нам певцами. Но так как былины сохранились в памяти народа исключительно посредством устного пересказа, то, естественно, иные в форме своей и мелочах, другие в самом содержании подвергались в течение веков постоянным изменениям. Изменения эти разного рода. На одни из них можно смотреть как на естественное развитие былины. Так, многие старины дошли до нас и в первоначальном кратком виде, и в длинных пересказах, в которых предметы отдельных песен стали эпизодами. Некоторые варианты об Илье Муромце и Добрыне разрослись до огромных размеров и обнимают почти все подвиги воспетых ими богатырей. Другого рода изменения составляют анахронизмы, которые неизбежно вкладываются во всякое устное предание. Сюда относятся древние и позднейшие вставки в текст новых обычаев, учреждений, названий оружия, чинов и проч. <…> Третьего рода изменение состоит в том, что подвиги богатыря стушевываются и обобщаются до того, что былина делается безыменною, а образ богатыря общим типом [80—81].
Примечание. Мы видели выше, что от себя лично они (сказители. – А.Х.) вносят только известные обороты и любимые слова и те еще изменения, которые происходят от /их/ забывчивости; остальные же перемены в вариантах следует приписать прежнему естественному развитию былевой поэзии и духу времени [82].
А.Ф. Гильфердинг
Олонецкая губерния и её народные рапсоды // Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Т. 1. М. – Л., АН СССР, 1949
Все прочие сказители всегда утверждали, что то, что рассказывается словами, никоим образом не может быть пето стихом; когда я замечал им, что они пропустили что-нибудь или спели нескладно, то иные старались «выпомнить» лучше это место, но никому в голову не приходило сгладить пропуск или нескладицу собственным измышлением. Обыкновенно же, хотя бы указана была в былине явная нелепица, сказитель отвечал: «так поётся», а про что раз сказано, что «так поётся», то свято; тут, значит, рассуждать нечего. Когда попадалось в былине какое-нибудь непонятное слово и я спрашивал объяснения, то получал его только в том случае, когда слово принадлежало к употребительным местным провинциализмам: если же слово не было в употреблении, то был всегда один ответ: «так поётся», или «так певали старики, а что значит, мы не знаем» [53].
Только благодаря тому, что каждый сказитель считает себя обязанным петь былину так, как сам её слышал, а его слушатели вполне довольствуются тем, что «так поётся», и объяснений никаких не требуют, – только благодаря этому и могла удержаться в былинах такая масса древних, ставших непонятными народу слов и оборотов; только благодаря этому могли удержаться бытовые черты другой эпохи, не имеющие ничего общего с тем, что окружает крестьянина, подробности вооружения, которого он никогда не видал, картины природы, ему совершенно чуждой [54].
Кроме местных влияний, в былине участвует личная стихия, вносимая в неё каждым певцом; участие это чрезвычайно велико, гораздо больше, чем можно бы предполагать, послушав уверенья самих сказителей, что они поют именно так, как переняли от стариков. На Кенозере я встретил двух весьма замечательных сказителей, которые заимствовали былины от одного и того же учителя: это – Иван Сивцев, по прозванию Поромский, который выучился петь былины от своего отца, и Пётр Воинов, ученик того же Поромского, у которого он жил в работниках. Если сличить былины, с их слов записанные, то сейчас заметишь, что они весьма сходны по содержанию, но значительно рознятся в подробностях изложения и оборотах речи. Такое же различие представляют былины кенозерского же певца Андрея Гусева и те же былины, как их поёт его сын Xарлам Гусев,
Можно сказать, что в каждой былине есть две составные части: места типические, по большей части описательного содержания, либо заключающие в себе речи, влагаемые в уста героев, и места переходные, которые соединяют между собою типические места и в которых рассказывается ход действия. Первые из них сказитель знает наизусть и поёт совершенно одинаково, сколько бы раз он ни повторял былину; переходные места, должно быть, не заучиваются наизусть, а в памяти хранится только общий остов, так что всякий раз, как сказитель поёт былину, он её тут же сочиняет, то прибавляя, то сокращая, то меняя порядок стихов и самые выражения. В устах лучших сказителей, которые поют часто и выработали себе, так сказать, постоянный текст, эти отступления составляют, конечно, весьма незначительные варианты; но возьмите сказителя с менее сильной памятью или давно отвыкшего от своих былин и заставьте пропеть два раза кряду одну и ту же былину, – вы удивитесь, какую услышите большую разницу в его тексте, кроме типических мест.
Эти типические места у каждого сказителя имеют свои особенности, и каждый сказитель употребляет одно и то же типическое место всякий раз, когда представляется к тому подходящий смысл, а иногда даже некстати, прицепляясь к тому или другому слову. Оттого все былины, какие поёт один и тот же сказитель, представляют много сходных и тождественных мест, хотя бы не имели ничего общего между собой по содержанию. Таким образом типические места, о которых я говорю, всего более отражают на себе личность сказителя. Каждый из них выбирает себе из массы готовых эпических картин запас, более или менее значительный, смотря по силе своей памяти, и, затвердив их, этим запасом одинаково пользуется во всех своих былинах [56–58].
Каждая былина вмещает в себе и наследие предков и личный вклад певца; но, сверх того, она носит на себе и отпечаток местности. Сколько мне показалось, певцы былин из Олонецкой губернии должны быть разделены, по местности, на две большие группы, из которых каждая имеет, затем, свои подразделения [59].
Группа прионежская характеризуется пространностью былин, северо-восточная группа – относительною их сжатостью. Эти два типические признака являются как в построении самых рапсодий, так и в складе стиха [60].
…Можно прионежских рапсодов разделить на две, так сказать, школы – кижскую и толвуй-повенецкую [61].
В чём же состоит различие этих двух школ? В чертах весьма мелких, но которые дают, так сказать, тон всей рапсодии, а именно в тех беспрерывно повторяющихся вставочных частицах, которые служат как бы подпорками нашего эпического стиха <…> В Кижах такими частицами – кроме общеупотребительных да, а, и, ли – служат обыкновенно: как, ведь и де; у толвуйских сказителей вы никогда не услышите ни как, ни ведь, ни де в смысле простой вставки; они опирают стих на частицах нынь или нунь, же, было и есть или е: это последнее (есть или, сокращенно, е) большею частик) употребляется при глаголах прошедшего времени, так что оно является как бы остатком старинной формы образования прошедшего, но как смысл этого приставочного «есть» или «е» уже потерян, то сказители нередко пользуются им просто для стиха [61].
Преобладающий размер, который я назову обыкновенным эпическим размером, есть чистый хорей с дактилическим окончанием.
Число стоп неопределенно, так что стих является растяжимым. Растяжимость при правильном тоническом размере составляет отличительное свойство русского эпического стиха [66].
Е.В. Барсов
Причитания Северного края, собранные Е.В. Барсовым. Ч. 1. М., 1872
Похоронные плачи в настоящее время представляют единственный род произведений, в которых продолжает жить и сказываться народное, поэтическое творчество. <…> Отсюда само собою понятно значение «Плачей» и в науке о языке. Если важны здесь древние выражения и эпическое построение речи, то не менее драгоценны для науки и те разнообразные видоизменения и сочетания, какие может принимать русское слово, то под влиянием народного творчества, то по требованию местных говоров. Кроме древних выражений и оборотов, указанных нами во Введении, особенности языка издаваемых Плачей относятся: 1. к произношению, 2. словообразованию, 3. словоизменению и наконец 4. к словосочинению [XXII].
I
Произношение
Многие слова и выражения являются здесь своеобразными, единственно, от того, что под влиянием местного говора гласные и согласные буквы легко переходят в них одна в другую [XXII].
II
Словообразование
Не особенности только местных говоров отражаются в плачах; здесь мы встречаемся со множеством таких имён и глаголов, которые обращают на себя внимание особенностями своего образования: народное творчество не только свободно пользуется готовым запасом оборотов и выражений обыденной речи, но, под влиянием известного образа, для точного, единобытного его очертания легко создаёт новые слова или словам обдержным даёт новую форму [XXIV–XXV].
Но самую главную особенность глаголов, встречающихся здесь, составляет то, что большая часть их образована с надставкою предлогов. Эти предлоги, превращая глагольные виды и залоги, вместе с тем служат к более или менее наглядному изображению степени и силы действия. К одному и тому же глаголу иногда наставляется несколько предлогов [XXVI].
III
Словоизменение
В отношении изменения слов в наших причитаниях прежде всего бросается в глаза то, что имена существительные, прилагательные и наречия постоянно превращаются в уменьшительную и сравнительную форму. Областное наречие, удаленное от центров цивилизации, естественно, сохраняет в своей первобытности выражения родственных и приязненных отношений в семье и обществе [XXVII].
IV
Словосочинение
В описательных оборотах количественные числительные употребляются в неопределенном значении:
- Он не гордой был, свет, да разговорной,
- Столько що ста был, свет, да с целой тысящи
(201, 102, 105)
Допускается нередко фигура повторения:
- Богодана буде матушка,
- Не желанна, не ласкова,
- Не ласкова, не упадчива (71, 41–43).
- Стоит тюрма заключевная,
- Заключевная тюрма, подземельная (89, 18–19) [XXXII].
Для большей определительности предмета к одному и тому же существительному прилагается несколько прилагательных:
- Во победном, сиротскоем живленьице.
- Во бобыльной, во сиротской живу жирушке (12, 16–17).
Нередко соединяются два синонимические выражения: путь-дороженька, пора-времечко (14, 56), шутки-шмоночки (280, 33). Ещё чаще соединяются выражения одного и того же корня: единым единешенька (37, 21), молодым молодешенек (71, 36), тиха тишинка (143, 50), глядеть да углядывать (270, 84), трудным трудиться (293, 7), далеким далекошенька (270, 84).
Одно и то же наречие качественное для усиления степени качества повторяется в двух тождественных предложениях; сравните – в одном – в положительной степени, в другом – в страдательной, например:
- Жаль тошнешенько мне братца сдвуродимаго,
- Потошние соколочка златокрылаго (194, 4–5) [XXXIII].
П.В. Евстафиев
Древняя русская литература. Вып. 1 // Устная народная словесность. СПб., 1877
Язык былин всегда простой, тот самый, который ежедневно употребляется народом. В складе речи не видно того, что в литературных произведениях называется слогом, т. е. тою, или другою оригинальною манерою выражения, настолько отличною манерою, что по ней часто можно узнать автора. Былинный язык всегда одинаков, даже если сравнить старинные былины с другими сравнительно новейшего происхождения. Одинаковость слога как в старых, так и в новых былинах объясняется тем, что былины сохраняются в памяти народа, а не в письме, передаются в живой речи, а не в книге, следовательно – при переходе рассказов от поколения к поколению, из местности в местность, слова, выражения и приёмы устаревшие не удерживаются, а заменяются теми, которые принадлежат живой речи последнего поколения. При сравнении с языком литературным язык народных былин естественно отличается многими словами и выражениями не литературными, а чисто простонародными (современными или старинными) [31].
Язык и тон русских народных сказок. И язык, и тон народных сказок имеют все те же качества, какими отличаются другие поэтические произведения народного эпоса. Хотя сказки в прозе, но язык живописен, т. е. всякий предмет и всякое явление рисуется в сказке сообразно с впечатлениями, производимыми ими на душу человека. С внешней стороны язык русских народных сказок представляет те или другие отличия по наречиям: сказки великорусские, малорусские, белорусские. Но эти отличия незначительны, они не мешают всякому русскому человеку понимать их. Тон народных сказок, вообще говоря, отличается таким же светлым спокойствием, как и тон народных былин. В частности же, и язык, и тон народных сказок бывают различны, смотря по тому, принадлежат ли сказки к более древним или к более новым. Наиболее чистым, поэтическим языком и наиболее ровным тоном отличаются сказки древнейшего происхождения, мифического содержания [59].
Кроме тона, лирические песни отличаются от прочих народных песен тем, что представляют наибольшее развитие характеристических особенностей языка народной поэзии. В лирических песнях более, нежели в остальных, язык замечателен нежностью, задушевностью и образным выражением мыслей и чувств. Различные душевные состояния рисуются при помощи красивых и притом совершенно невычурных уподоблений, взятых прямо из природы. Солнце красное, сокол ясный, белая лебедь, кукушечка, травушка-муравушка, ласточка-касаточка и т. п. служат очень удачными способами сразу провести в душу то или другое впечатление человека и его душевных настроений. Постоянные эпитеты и изобилие ласкательных и уменьшительных слов, чем вообще отличается язык народной поэзии, в лирических песнях встречаются в особенном изобилии [78].
С. Шафранов
О складе народно-русской песенной речи, рассматриваемой в связи с напевами. СПб., 1879
В народно-русских песнях оба творчества, музыкальное и поэтическое, действуют с совершенною свободою, не стесняя себя взаимными ограничениями; любой слог текста, при распевании, может быть протянут, сколько то требуется напевом, а в произношении, отдельном от напева, каждый слог произносится снова как в обыкновенной речи [39].
…Главною заботою творца нашей народной песни <…> было не дать напеву заслонить собою текст, а напротив, усилить средствами напева впечатление речи, содействуя тому и различными своеобразными риторическими способами [40].
…В параллелизме, свойственном народно-русской песенной речи почти в такой же мере, как и в библейской, г, Олесницкий не хочет видеть своеобразной поэтической формы, которою, по нашему мнению, существенно отличается от версификаций просодических, движущихся в ритмических оковах (количественной и тонической), версификация стилистическая, основывающаяся на особенностях слога и на своеобразном поступальном движении речи [108–109].
Народно-русский песнеслагатель идёт почти обратным путём: напев творится в душе его под исключительным наитием чувства, следовательно, по одному содержанию речи, в полной независимости от звуковой стороны, и уже самая речь прилаживается напеву, вполне подчиняясь ему, но подчиняясь только при пении. Здесь гласная, в обиходной речи неударяемая, и следовательно, произносимая коротко, может быть выполняема протяжно, и наоборот, гласная ударяемая, и следовательно, произносимая протяжно, может быть пропета короткою нотою [130].
Склад народно-русской песенной речи объясняется самою сущностию двусоставной природы песни, как произведения музыкального и вместе с тем поэтического, в котором и музыка, и речь, сливаясь в дружном действии на слушателя, не стесняют себя взаимно, а сохраняют каждая свою свободу и свои средства [131].
Народно-русский песенный склад речи мы неоднократно уже называли стилистическим, желая тем указать на его отличие от версификаций просодических, и название это само собою оправдается при подробном разборе особенностей песенной речи; собственно же песенный склад речи, как русский, так и всякий другой, всего бы приличнее прямо назвать поэтическим, потому что именно поэтичностью, и только ею одною, ему и следует отличаться от прозы, от склада обиходной речи [137],
…Форма народно-песенной речи есть форма стилистическая, заключающаяся в соразмерении предложения с напевом, в соглашении состава речи с составом мелодии [160].
Приступая к изложению стилистических особенностей народно-русской поэтической речи, мы должны начать с главнейшей из них – с песенных повторений… [164].
…Между тем песенные повторения в устной народной поэзии составляют одну из существенных её форм, и если их выпустить из текста тех песен, в которых они в пении выполняются, то песенные стихи утратят отличительное свойство своей песенности – не могут быть пропеты по данной мелодии [165].
…Возникнув ради удовлетворения стилистической потребности речи, именно для поддержания её вразумительности, форма повторения получила потом более обширное применение, в качестве фигуры усиления речи. Далее увидим, что форма эта стала наконец употребляться уже для одного украшения речи, когда песнеслагатель-певец, как бы любуясь удавшимся выражением своего чувства, повторяет его, как говорится, на все лады, то есть выполняя разными мотивами той же мелодии. Но и помимо того, разного рода повторения речи, задерживающие её течение, доставляют чувству возможность высказаться исподволь, а вместе с тем, как уже выше замечено, задерживают внимание слушателя, не допускают его скользить мыслию по содержанию песни, а заставляют принять в нём участие, вглядеться в каждый песенный образ, продумать каждую мысль певца, прочувствовать каждое его чувство [202–203].
…Форма повторения есть столь излюбленная форма песенного изложения, что в некоторых песнях не ограничивается удвоенным музыкальным выполнением отдельных слов, фраз, колен и стихов, но доходит до повторения самой песни всей целиком, от начала до конца, с изменением только нескольких слов, и даже до двукратного, троекратного и т. д. повторения [204].
Переходим к рассмотрению параллелизма, другой поэтической формы, которою наша народная песенная речь, почти не менее, чем древнееврейская, отличается от склада всех поэзии просодических. Говоря о параллелизме, не следует упускать из виду, что это есть стилистическая форма речи и к ритму, к которому её многие относят, не имеет никакого отношения [207].
Итак, параллелизм, как и повторения, не суть излишние и праздные украшения речи, а возникли из потребности, как это вообще можно сказать об украшениях и во всех других искусствах: начало красоты – потребность, и если не всё, необходимое для разумного существа, прекрасно, то всё прекрасное – необходимо [208].
И.А. Бодуэн де Куртене
Отзыв о сочинении на тему «О языке русских былин» // Известия и учёные записки Казанского ун-та. Казань, 1879, январь-февраль
Случаи, характеристические для языка былин, не всегда поставлены на первом плане, и представляемая автором картина этого языка во многих местах является недостаточно рельефного. Общерусские особенности смешиваются иногда с былинными. А так как не во всех былинах один язык, то, при более тщательном исследовании языка былин, следовало бы разделить его особенности по диалектическим категориям, по говорам и их видоизменениям, пожалуй, даже по личным, индивидуальным оттенкам. В особенности в «Памятниках и образцах», изданных П-м Отделением Императорской Академии наук, есть былины, по свойственному им языку, весьма различного характера [340].
В.А. Воскресенский
Особенности русского народного языка // Семья и школа, 1879, № 2, кн. II
Одну из важнейших особенностей народного языка представляет тавтология (тождесловие). Она обнимает или отдельные слова, или целые предложения [97].
В обоих случаях тавтология представляет: 1) неизменное повторение одного и того же слова или нескольких слов, одного и того же предложения или нескольких предложений; 2) повторение одного и того же корня, входящего в образование различных членов предложения или главных членов двух предложений – главного и придаточного; 3) соединение подобозначащих слов (синонимов) или предложений. Тавтологию первого рода назовём повторением, второго – тождесловием, третьего – подобословием [97–98].
Устранив повторение предлогов, <…> мы внесём туманность и неопределенность в отношения между членами предложения и уничтожим связанную с описанием картинность представления…
Повторение служебных слов, отчасти обусловливаемое и песенным складом былины, служит для более точного выражения отношений между членами предложения…
…Флексии в народном языке не выработались до определенности, свойственной языку литературному, и для народного ума недостаточно ясно выражают управление и согласование членов предложения; порядок последних, важный в литературной речи, в народной не представляет правильности, помогающей усвоению содержания, – по всему этому релятивные (служебные) части речи приобретают в народном языке большую важность, чем в языке литературном: они являются существенно необходимыми дополнениями личных, родовых и падежных окончаний…
Повторение знаменательных слов <…>, равносильное логическому ударению литературной речи, сосредоточивает внимание слушателя на понятии, представляющем особенную важность в ряду других членов предложения [99].
Итак, уважение к преданию, сочувствие к любимым образам и картинам, родственно связанным с народным миросозерцанием, пассивность восприятия и передачи, чувство меры, поддерживаемое напевом, – все это взятое достаточно объясняет естественность и необходимость дословного повторения (тавтологии) частиц и отдельных слов, предложений и целых картин [102–103].
…Не только два сказителя поют неодинаковую одну и ту же былину, несмотря на то что один из них усвоил былину от другого или оба от третьего, но и один и тот же сказитель во второй раз поет несколько иначе, чем в первый; вообще говоря, даже лучший певец не пропоет былины из ноты в ноту одинаково двух раз кряду [103].
Особенности русского народного языка // Семья и школа, 1897, № 3, кн. II
(Тождесловие. – А.Х.) не касаясь суффиксов, выражается в повторении корня, образующего различные члены в одном и том же или двух различных предложениях… [183].
Тавтологию корней… нельзя считать первоначальным явлением в языке; она могла возникнуть только тогда, когда первоначальное понятие расширилось, обняло больший круг явлений и приняло в свое содержание новые признаки, затуманившие и отодвинувшие на задний план тот первоначально главный, корень которого вошел в образование слова [184].
Тавтология, присоединяя признак (определение), утраченный предметом, восстанавливает в последнем то живое впечатление, которое коренится в названии предмета [184–185].
Подобословие есть соединение синонимов, т. е. различных слов, выражающих сходные понятия (дань – пошлина, зелыцица – кореныцица) [187].
…Стосковался – сгоревался – одно душевное состояние, не получившее в сознании народа такой определенности, при которой одно обозначение не допускало бы другого…
Материальное развитие языка выражается, во-первых, в стремлении к точнейшему определению содержания понятия, то есть к ограничению или такому расширению, при котором исчерпывались бы все признаки данного понятия, и, во-вторых, в создании слов для новых, возникших в сознании народа понятий [189].
Тавтологию можно назвать отрицательным выражением анализа, подобословие – положительным: в первом случае указывается на появление нового оттенка в представлении, во втором – новый оттенок находит выражение в слове (синоним). Отрицательная работа должна предшествовать положительной: тавтологию (слов и корней) следует считать особенностью более древней, чем подобословие…
…Синонимическое соединение обнимает внешние и внутренние (субъективные и объективные) признаки представления, односторонне выражаемого каждым из синонимов, отдельно взятым [190].
В двучленной тавтологии нельзя не заметить стремления соединить внутренние признаки представления… с внешними… В трехчленной – рядом с такими является третье, более общее и до некоторой степени соединяющее особенности первых…
Особенное богатство народного языка проявляется в четырехчленной тавтологии:
Закатилося сугревное-меженное-теплое, красное солнышко. (Г. 580) [191].
Особенности русского народного языка // Семья и школа, 1879, № 4, кн. II
Сжатое предложение, образовавшееся вследствие опущения каких-либо членов предложения или союзов, называется эллиптическим, или, короче, эллипсисом…
Если связь и последовательность мыслей ясна сама собою, как это обыкновенно и бывает в безыскусственном языке, необходимость в союзе исчезает: он опускается, речь становится короче, выражение ее – сильнее [273].
Отсутствие союзов в народном языке объясняется простотою и однообразием отношений между представлениями [274].
Тавтология и сравнение принадлежат песенному и былевому языку; описание и эллипсис – языку, как органу мысли вообще. Первые связаны с художественными требованиями, зависят от характера содержания и касаются изложения; последние – с логическими, или, правильнее, с логико-психическими, обусловливаются характером мышления и касаются выражения мысли…
Сжатость в литературной речи – искусственная, в народной – естественная форма представления отношений, пока еще не подвергнувшихся рассудочному анализу [275].
Особенности русского народного языка // Семья и школа, 1879, № 5, кн. II
Определение обыкновенно выражает существенное или высшее качество предмета…
Эпитеты тесно связаны с идеальными воззрениями народа, являются важнейшей, если не единственной, формою последних…
Неподвижность и неизменность определений указывает на устойчивость и неизменность народных идеалов [349].
Тур и золотые рога – два сосуществующие факта: представление первого вызывает представление второго, без всякой мысли о их формальной зависимости. Эпитет златорогий (108 Ай же тур да златорогий. Г. 28) указывает на дальнейшую работу мысли: самостоятельность представления, выраженного приложением, должна утратиться; оно уже мыслится не само по себе, а как данное в другом представлении и без него значения не имеющее [351].
Иногда из именительного является совершенно своеобразная прилагательная форма:
Ты бери-тко земли да сыро-матерой. Г, 820 (Ср. Матьсыраземля).
Прилагательный эпитет (сыра), отделившись от своего определяемого (земля), обратился в составную часть прилагательного относительного, образовавшегося из существительного эпитета (сыро-матерой) [353].
…Слияние (типа купець – жена, стольне – киевской, окиянь – море. – А.Х.), соединяя в одно целое близкие представления, возбуждает более сильное, хотя и менее определенное значение [354].
Эпитеты создают особый, замкнутый в себе, мир, не легко поддающийся влияниям живой действительности [355].
Шаткость эпитетов и их непостоянство указывают на упадок народной поэзии, на ослабление в ней народного, безличного, начала, на большее участие индивидуального… [355].
Особенности русского народного языка // Семья и школа, 1879, № 9, кн. II
Идеальные представления, выразившиеся главным образом в эпитетах, окончательно дорисовываются уменьшительными и увеличительными формами… [138].
…Суффикс, внося большую определенность в представление, низводит его на степень видового понятия по отношению к его первообразному…
Глагольные приставки в данных случаях внешне соответствуют суффиксам уменьшительных: они ослабляют действие, смягчают его губные формы:
- По целой версты конь поскакивал,
- По колен в земелюшку угрязывал,
- Он с земелюшки ножки выхватывал (Г. 507).
Иногда и существительные, кроме суффиксов, принимают обычные в глаголах приставки… – победуш-ка… [140].
Особенности русского народного языка // Семья и школа, 1879, № 10, кн. II
Особенности миросозерцания, ума и чувства народа в изобразительном языке его находят полное и своеобразное выражение. Самое тщательное изучение культурных форм народной жизни не дает нам ясного представления о характере народа, если мы не научимся понимать его живое слово: изучение народного слова должно быть первым шагом к изучению народного духа [227].
В.А. Воскресенский
Об изучении отечественного языка // Семья и школа, 1879, № 1, янв., кн. II
Богатство народного языка в лексическом и формальном отношении изумительно [39].
Общее впечатление, производимое былиной, скорее приведет к мысли о бедности и формальном однообразии народного языка. Тавтология отдельных слов и целых предложений занимает особенно видное место в числе факторов, вызывающих подобное впечатление. Язык Крылова поражает, напротив, богатством и разнообразием форм. Ближайшее рассмотрение факторов представляет дело в ином виде: в былине, не считая фонетических частиц (де, то, та, ту, да), являющихся по требованию стиха, различных слов больше, чем у Крылова (в обоих случаях мы считаем и коренные и производные слова). Разнообразие форм этимологических, а следовательно и синтаксических, – так как с каждою формою связано значение в акте мысли, – значительно превосходит разнообразие языка басни… [39].
Связь и последовательность предложений в народном языке так наглядна, сознается так непосредственно, что язык почти не нуждается в союзах, В былине всего три союза (чтобы, и, а), в басне четырнадцать… [40].
Итак, народный язык, представляя материал богатый в лексическом и грамматическом отношении, отличается от литературного конкретностью, проистекающей из непосредственности всего народного мировоззрения [41].
Все, чего с литературной точки зрения недостает сложному и простому предложению, восполняется обилием форм отдельного слова, в которых преимущественно и выражаются особенности народного слова [41].
Фр. Миклошич
Изобразительные средства славянского эпоса // Древности. Труды славянской комиссии Московского археологического общества Т. 1. М., 1895
Каждая эпическая песня [имеет?] столько же вариантов, сколько певцов, через уста которых она прошла; песня, пока живет, находится в состоянии непрерывного созидания; она и древня, и молода в одно и то же время: древня по первоначальному зерну, так как оно восходит ко времени воспетого события, и молода в своей настоящей форме [205].
Певец не может отступить от формы песни, господствующей в его народе [206].
Народный певец не может быстро отделяться от овладевшего им представления; поэтому он несколько раз повторяет одну мысль или несколько мыслей [208].
Многие постоянные эпитеты не прибавляют никакого признака существительному [219].
Постоянный эпитет делает предмет более наглядным, указывая оживляющий его признак. Он – не простое украшение. Употребление таких эпитетов не может быть представлено произволу и не следует думать, будто певец берет, какой ему вздумается, из эпической запасной кладовой готовых выражений [220].
Два эпитета, по-видимому, не очень часто встречаются в русском эпосе [227].
Вместо сложного прилагательного притяжательного нередко являются его составные части, прилагательные и существительные: кроваточка рыбий зуб; столы дорог рыбий зуб; подворотина рыбий зуб; сапожки зелен сафьян; семь теремов златы верхи; утушка золоты крылья; тур золоты рога. При этом: кровать слоновых костей. Кирша Дан. 9. [227].
А.А. Потебня
Из записок по теории словесности. Харьков, 1905
На относительно первобытной ступени связи музыки и поэзии, напр. в русской народной песне, можно усмотреть, как музыкальный период и его части соответствуют синтаксическому; но тут же усматривается разница в средствах и целях поэзии и музыки [14–15].
По количеству частей музыкального периода можно судить о количестве синтаксических частей размера; но угадать, каковы именно будут эти последние, невозможно, ибо, напр., та же музыкальная фраза соответствует в одном случае определению и определяемому (червоная калинонька), в другом обстоятельству и подлежащему + сказуемое (там дiвчина журилася).
Невозможно точное соответствие напева и лексических значений слов песни [15].
Искусство сводит разнообразие явлений к относительно немногим символическим формам… [62].
Элементарная поэтичность языка, т. е. образность отдельных слов и постоянных сочетаний, как бы ни была она заметна, ничтожна сравнительно с способностью языков создавать образы из сочетания слов, все равно, образных или безобразных [104].
…Форма не есть нечто вполне отделимое от содержания, а относится к нему органично, как форма кристалла, растения, животного к образовавшим её процессам [108].
Мы видим у себя вытеснение народных песен высокого художественного и нравственного достоинства произведениями лакейской, солдатской и острожной музы. Мы должны предположить вместе с этим в той среде, где это происходит, понижение эстетического чутья. Но мы не видим, чтобы это было условлено свойствами самой народной поэзии и самой литературы [110].
Языки создаются тысячелетиями, и если бы, напр. в языке русского народа, письменность коего лет 900 была лишена поэзии, не было поэтических элементов, то откуда взялось бы их сосредоточение в Пушкине, Гоголе и последующих романистах? Откуда быть грозе, если в воздухе нет электричества? [116]
Положение, что цивилизация и народная поэзия противоположны и несовместимы, – ошибочно [122].
Да, это так: народ не может воспевать Венского конгресса или административных и судебных преобразований такого-то царствования; но неужели любовь или печаль и радость стали по нынешним цивилизованным временам так сложны, что воспевающая их народная поэзия стала вообще невозможной? [126]
В известных произведениях народной, т. е. устной и безличной поэзии, мы должны быть готовы встретить подготовку литературных явлений; наоборот, первоначальные продукты литературы должны во многом напомнить настроение мысли, свойственное народной поэзии [1 39].
Отсюда видно нередко неизбежное и непоправимое зло того способа закрепления народно-поэтических произведений письменностью и издания в свет, при коем нам даётся лишь несколько точек движения, недостаточных для определения промежуточного пути. Для истории и теории народной поэзии необходимо возможно большее число вариантов, выхваченных из течения в возможной конкретности и точности [144].
Язык, вероятно, навсегда останется первообразом и подобием такого гуртового характера народно-поэтического творчества [144].
Лишь прозрачность языка даёт содержанию возможность действовать легко, сильно, художественно [146].
И так, и при господстве письменности нормальный рост языка есть незаметное изменение, подобно изменению образов в народной поэзии [146].
В народной поэзии, несмотря на неизвестное множество промежуточных форм, мы большею частью не можем установить разницы между вариантами и новой песней [147].
В народной поэзии, при самом первом появлении произведения в устах одного лица это произведение носит столь слабую печать индивидуальности в выборе содержания, выражений, размера, музыкального мотива, что бессознательно усвояется окружающими и бессознательно же, хотя непременно, варьируется ими в известных пределах [159].
Важность грамматической формы состоит в её функции, которая, конечно, должна иметь место прикрепления [165].
Об эпитетах
Всякое определительное, уменьшая объём и увеличивая содержание понятия, приближает это понятие к конкретности… [211].
Epitheton ornans производит не устранение из мысли видов, не заключающих в себе признака, им обозначенного, а замещение определенным образом одного из многих неопределенных. Поэтому epitheton ornans может означать признак общий всему роду, с точки зрения прозаической ясности, изменений… [211].
Если epitheton ornans означает признак видовой (resp. свойственный предмету не постоянно, а временно), то он не только не запрещает, а напротив побуждает под видом разуметь род, под временным постоянное: «а всядем братие на свои бръзыя комони, да позрим синего Дону» (Дон не всегда представляется синим). Таким образом, epitheton ornans есть троп, синекдоха (от частного к общему, от одного признака к предмету) [212].
Точка зрения синтаксическая, с которой под эпитетом разумеют только прилагательное определительное, удерживаемая в пиитике и риторике, вносит в эти учения чуждую им категорию [215].
С точки зрения пиитической к эпитетам следует отнести всякие парные сочетания слов, изображающие вещи, качества, действия их признаком… [215].
Славянские песни <…> употребляют сравнительные союзы в кратких сравнениях (усочек, як колосочек; брiвоньки тонкi, як шнурочок и т. п.); но общая грамматическая форма развитых сравнений в этих песнях есть <…> бессоюзие. Развитость сравнительных союзов в славянских языках показывает, что бессоюзие в рассматриваемом случае не есть необходимость, вынуждаемая скудостью мысли, как было некогда до образования чисто-формальных союзов во всех арийских языках, а сознательный поэтический приём. Смысл, эффект этого приёма тот, что образ в употреблении представляется не воспоминанием, а наличным впечатлением. Кроме этого, впечатление наличности и конкретности образа может установиться и другими средствами, напр. олицетворением, обращением к нему, как к лицу [277].
Лирика говорит о будущем и о прошедшем (предмете, объективном) лишь настолько, насколько оно волнует, тревожит, радует, привлекает или отталкивает. Из этого вытекают свойства лирического изображения: краткость, недосказанность, сжатость, так называемый лирический беспорядок [531].
Всякое понимание слова есть в известном смысле новое его сознание, и всякое слово, как действительный акт мысли, есть точный указатель степени развития мысли… Пусть те, впрочем умные люди, которые полагают, что наш язык недалеко ушёл от языка дикарей, и что, говоря им, мы как бы продолжаем рубить каменными топорами и с трудом добывать огонь трением <…>, будут хоть последовательны и признают, что и вообще мы недалеко ушли от дикарей. Если же последнее несправедливо, то и первое – лишь следствие недоразумения, принимающего прозрачную глубь языка, которая открывается исследователю, за близость дна [599].
А.А. Потебня
Из записок по русской грамматике. Т. 3. М.: Просвещение: 1968
Дело изменяется, как скоро изображаемые утопичными действия мысли поставить на почву языка.
Со стороны словесного выражения, в котором оставил следы действительный исторический ход мысли, суждения (т. е., между прочим, сочетание подлежащего и сказуемого, определяемого и определения) не тождесловны.
В то время (1861–1862 гг.) и до этого я, под влиянием сочинения Костомарова (Об ист. зн. р. н. п.) и отчасти Буслаева, был занят постоянными выражениями славянской народной поэзии и мог заметить, что обычные сочетания, как «брови – соболь», «лицо – белый снег», «кремень человек», мр. «козаче соболю» (см. Объясн. мр. п., II, 343), «козаче хрещатий барвшку», «дiвчина горлиця», «уроди, боже, серебро стебло, серебро стебло женцев1 зерно», суть суждения вовсе не подходящие под формулу а=а. А между тем едва ли кто решится отрицать то, что подобные выражения важны в развитии мысли, ибо это образцы образного, поэтического мышления [61].
Это – то воззрение, которое доныне господствует относительно тропов и фигур вообще: сначала говорилось просто, прозаически, а потом почему-то стало говориться образно, поэтично, необычно. Это – взгляд потомка, которому свой образ мысли, своя обстановка кажутся так естественны, что уровень мысли и обычая предков он готов считать (и действительно считает, как некоторые учёные – мифы) неправильным, болезненным отклонением от этой естественности [217].
Как вообще в развитии мысли и языка образное выражение древнее безобразного и всегда предполагается им, так, в частности, понятия действия, качества суть относительно поздние отвлечения. По вышесказанному суждения аналитические, состоящие в разделении мыслимого на вещь и её качества и действия, стали возможны лишь в силу того что им предшествовали суждения синтетические, состоящие в сочетании двух равно субстанциальных комплексов. Таким образом, существительное с определительным прилагательным предполагает сочетание двух существительных, притом сочетание паратактическое, ибо подчинение одного из этих существительных другому хотя и не устраняет двойственности субстанций, но направлено к их объединению.
<…> Союз между сопоставляемыми существительными лишь в редких случаях может быть понят как выражение последовательности восприятия вещей, сопоставленных в пространстве. По-видимому, так должно было быть понято и в предполагаемом брови и соболь, очи и сокол (= соболиные, сокольи), чтобы мог возникнуть гиперболический образ:
- У нашей княгини души…
- Со бровей соболь бежит,
- Со очей сокол летит, Шейн, Рус. нар. пес, 518.
С этим ср. песенный приём, который я назвал «овеществлением образа, превращением символа в обстановку» (Объясн. малорус, пес, I и II, указатель), напр. «калина-девица», отсюда – «девица под калиной» [218].
В разных течениях языка, иногда личных, иногда более общих, различна степень потребности этих (с точки позднейшего, преимущественно письменного гипотактического языка) плеонастических частиц, заполняющих собою пробелы мысли, В немерной речи они более бросаются в глаза, чем в мерной, (В начале стиха или полустишия эксплетивные частицы менее заметны с позднейшей точки, чем внутри полустиший: чем теснее ожидается связь, тем более поражает её нарушение.) Чем строже стихотворный размер, напр, серб, десятисложный, чем реже встречаются в нём союзы эксплетивные, напр. в серб, и, тем более выделяются и обособляются, как остатки старины, обороты кита и сватови. Наоборот, тем труднее выделить обороты кита и сватови в особый разряд, чем чаще эксплетивные союзы в случаях, например, атрибутивного сочетания существительного и прилагательного или объективного сочетания падежа с родительным принадлежности.
Такое и плеонастичное в серб, и мр. редко; но оно часто у некоторых певцов свр. былин [219].
Образец хлеб-соль.
Частное значение возводится к общему или так, что одно частное получает значение общее (напр., virtus в значении добродетели вообще, достоинства, качества: (ut)ob еа, quod una caeteris excellebat, omnes nominatae sint, Cic; защита, оборона, praesidium, propugnaculum), или так, что общее означается двумя или несколькими частными. В 1-м случае путь обобщения не указан, во 2-м обозначены посредствующие точки. Этот второй способ считается характеристичным для китайского языка, в коем, напр., нет простого слова для добродетель, но это значение выражается перечислением четырёх главных добродетелей; для значения «соседство» – сочетание: переулки – улицы – соседство – дома; для значения «расстояние» – сочетание противоположных частных: далеко – близко; также для «вес» – тяжело – легко; для «разговор» – вопрос – ответ (Steinthal, Character., 124).
Что этот способ был свойствен славянским языкам в древности, видно из немногих, но древних образцов сложения слов по способу, называемому индийскими грамматистами д вин два: братъсестра, дв. ч. муж. р.; братъсестрома, мужеженъми (Mikl., Сг. И, 378).
- Већ ме боли и срце и душа
- Све за тобом дан и ноћ мислећи,
- Cве за тобом дан – ноћ уздишући,
- ђ. Раjков., Срп. нар. пес.
- СЬ сторила мила майка
- Пуста сина кукавица
- Да ми кукат денє ноще, Милад., 3 1 8.
Хотя эти слова значат не более чем «брат и сестра», как пара, «муж и жена», т. е. не выходят за объём, определённый их сложением, но тем не менее они обобщают входящие в них частные (как несложное geschwister), рассматривая их как одно и располагая приписывать этим частным, как совокупности, лишь общие признаки.
В устной словесности, а отчасти и просторечии довольно часты не сложения, как выше, а сближения грамматически самостоятельных слов, указывающие, как думаю, на то, что некогда и наши языки широко пользовались приёмом обобщения, подобным китайскому.
а) Образец отец-мать (= родители). Частные различны по значению, но не противоположны и не устраняют друг друга в мысли: отец-мать = «отец и мать» с точки зрения общих им свойств и действий, в силу чего сказуемое и определительные, согласованные a potiori с муж. р., стоят в един. ч. отец-мать молодца у себя во любви держал; у чужева отца-матери, Чулк. (Бусл., Ист. гр., § 240, пр. 12).
В мр. Та не знае отец-мати, яка в мене гадка, Голов., II, 254; Нам отець-мати позволяли, Зап. о Ю. Р., 1, 29;
Втець-мати не знали. Голов., II, 402; Отця-матку штнть и поважати, Зап. о Ю.Р., I, 31 [415].
Двандва в прилагательных: древо тонковысоко, Шейн, Рус. нар. пес. 389; Через Дона досочка тонка гибка лежала, ib. 403 (Колядка); бела румяна.
Хлеб-соль, a potiori – людская пища. Атрибут в един, согласуем с муж. р. «моего хлеба-соли», или с жен., если 1-е слово неизменно: моей хлеб-соли, моей хлеб-солью (Бусл., Ист. гр., § 240, пр. 12). Мр. хлiба соли спокойно вживати. Зап. о Ю.Р., 1, 20; Не усе один коку хлiб-сiль бог дае, що пану, що усякому чоловшу? Квит., Ш. Л. (П, 254).
Род-племя – вообще родственники: и весь род-племя отрекалися, Чулк. (Бусл., Ист. гр., § 240, пр. И), причём сказуемое во множ. могло бы стоять при каждом из сложенных слов как при собирательном. Это сочетание не трудно различимых синонимов, как рать-сила (как у Бусл., 1 с), а слов различных по значению, ибо род – ближайшие, племя – дальнейшие родственники: Которого ты рода, коего племени? Кир., 1, 91. Так и в серб. Кажи ми се, moj сужань невольни, Од кога си рода и племена, Н. Беговип, С.н.п., 1, 52.
Бой-грабежъ: похвалился на монастырскихъ служекъ … боемъ-грабежемъ и смертнымъ убивствомъ, Шуйск. ак., 1697 (Бусл., Ист. гр., § 240, пр. 2). Это не атрибутивное сочетание, как трава-ковыль, ворон-птица (как у Бусл., 1. с), а сочетание равно частных: бой (битье без смертоубийства) и грабежъ (насилие над личностью и имуществом).
Его лук-колчан по бедрам бьется, Кир., III, 100. На столах питья-кушанья поплескалися, Кир., IV, 26 (то и другое безразлично, причём из сказуемого видно, что кушанья разумеются жидкие). Один смур кафтан на мне во сто рублей. Кушачок-колпачок (= остальная одежда) во тысячу, А стрел колчан во две тысячи, Кир., 1, 26-7. Князья-бояре собиралися, Кир., 1, 56 (= князья и бояре, ib. 58); Собирал всех князей-бояр и сильных могучих богатырей, Кир, 1, 63; Собиралися князья-бояры, Сильные могучие богатыри и вся поленица удалая, Кир, 1, 66; На многие князи и бояра, Кир, П, 18 (Кирша Дан,), 67 et passum. Все луга-болота вода поняла, Шейн, Рус. нар. пес, 340. Во лесах было во дремучих. Что брала-то девка грибы-ягоды, ib. 341. Пышка-лепешка (что-нибудь в этом роде) в печи сидела, на нас глядела, ib. 370. Кишки-желудки в печи сидят, ib. 371.
Пыль-туман
- Ой не пыль в поле запылилася,
- Не туман с моря подымается:
- Подымалися гуси-лебеди, Кохановская, Неск.р.п., 65.
- Пыль-пыль по дорожке,
- Туман-туман по дубровке,
- Да по этой-то дорожке,
- Да по этой-то широкой, [416].
- Андреян-сударь едет, Шейн, Рус. нар. пес, 412.
- Не пили-тумани вставали,
- Икав повчок малий невеличок, Ант. и Драг., 1, 113.
- Daj-ћeћ wam Boћe – szcziskоe – zdorowie, Kolberg
- Pokucie, I, 97, 98.
Мр. Будут до нei куми-побратими наiжджати, M., 355 (те и другие, безразлично = знакомые, приятели). У чистому полi поховайте, звiру-птищ на поталу не подайте, Ант. и Драг., 1, 114, 128. Дае коню овса-сiна (= оброку), Козаченьку меду-вина, М., 74; Та добреж Toбi, пане, мед-вино кружати, А меш вороному у кола стояти, 4 yб.,V, 871. Перед дiвчиною напитки-наiдки, М., 95. Був ти менi кормилцем-поiлцем, Манжура. Сказки. Ты-ж було сир-сметану пии, а менi сироватки даси, то я iм-iм та ще и напъюся (плаче зять по тещi), Манжура.
Срiбро-злато, деньги, богатство (часто): есть у тебе, сину, срiбла-злата много (s. вм. срибла золотого), купи coбi, сину, коня вороного, Чуб., V, 868.
Рута-мъята, оба растения с одинаковым символическим значением девства и пр.: Ой чому ти рути-мъяти не полеш? Чуб., IV, 70; По садочку хожу я, хожу, руту-мъяту сажу я, сажу, Рута та мъята тай не принялася, Чуб., V, 506.
- Зажурилися гори-й-долини,
- Що не зродили жито-пшеницю,
- Ино зродили виноградонько, Колядки, passim.
Ср. болг.: със свой эжь и пий, ама ззманіє-даваніє не прави, Пам. и Обр., 390 (= серб.: али кашта не мщеъа], не MHJeinaj).
Изредка тот же приём и в других частях речи: Шенк. «торопись, доделывай криво-прямо (так и так, как-нибудь) да и полно», Подвысоц., Словарь. Сюда же мр. так-сяк, как-нибудь. Ох ти сякий-такий! (неопределенная замена различных ругательных слов). Як жив-здоров будеш, Ант. и Драг., 1, 115. Костян-деревъян через гору свині гнав (загадка: гребень). Возьмить мене постріляйте-порубайте, И звіру та птиці на поталу не подайте, Ант. и Драг., 1, 107; орда … моіх братів догонила, Стріляла-рубала, А може живих у полон займала, ib. 130. Ср.: чи моіх братів постреляно, чи іх порубано, чи іх живих у руки забрано, ib. 131. 3-е частное значение: ой вишию вималюю на славу рукавця, М., 21, 20.
(Си одключи шарена ковчега, И си собра малу-многу азно, Мила д., 308. В другом смысле (ни мало ни много?): Що п`рви кяръ (добыча) тіе кяросале? К`де идетъ отъ царя улефе, Малу-многу триста м`ски (мулов) азно, «Си-то си 'и въ ц`рковь навраті'е, Милад., 334; неясно ib.318 (що во мене сЬ к`лнете малу-многу жими Дойка).) [417].
б) Образец калина-малина, красная смородина. Между тем как в случае а) обобщение значения вытекает из отношения соединительного (то и то), здесь – из разделительного: или то, или другое, но нечто в том же роде. В народной поэзии нередки сопоставления слов и оборотов, которые, будучи поняты в смысле атрибутивном, дают contradictionem in adjecto и заставляют предположить в певце большую глупость или большое невежество. Однако невозможно предположить, чтобы здравомыслящий человек не знал разницы между общеизвестными вещами или, зная её, называл известное растение в одно и то же время и калиной, и малиной, и смородиной. Остаётся думать, что сопоставление несовместимых частностей не есть нарушение логического закона, а способ обозначения понятия высшего порядка, способ обобщения, нередко – идеализация в смысле изображения предмета такого рода (напр., дерева, кустарника), но необычайного, чудесного, прекрасного. Ср. Grau, teurer freund, ist alle theorie und дгьп des lebens goldner baum (Gцthе, F), или Хлестаков: «под сень струй». В моем сочинении «Объяснения мр. п.», П, 795 (указатель) этот приём назван сочетанием синонимов, но это неверно, ибо сочетание весьма различимых частных «калина-малина» отлично от таких, как путь-дорога.
- Так: И поехал Константинушка ко городу Угличу.
- …Спрашивает себе сопротивника…
- А Углицки мужики (т. е. угличане) были лукавые,
- Город Углич крепко заперли,
- И взбегали на стену белокаменну,
- Сами они его обманывают:
- «Гой еси удалой доброй молодец!
- «Поезжай ты под стену белокаменну;
- «А и нету у нас царя в орде, короля в Литве,
- «Мы тебя поставим царём в орду, королём в Литву».
- Кирша Дан., Кир., III, 121.
Буквальный смысл образа, именно, что город Углич или княжество Углицкое есть и Орда и Литва, а владетель его есть царь в Орде и король в Литве, – нелепость; но значение его – мы поставим тебя правителем нашего государства, ибо царь-король = государь, правитель, орда-Литва = государство. Выражение «король в Литве» (он же и «король Ляховинский», Кир, Ш, 58) могло возникнуть лишь после 1386 г., т. е. после избрания Ягайла на королевство польское. Т. о., в следующей серб, песне цар-краль – одно лицо, царевина-кральевина – одно царство: Расти, расти, чедо Moje iobo, Да би ли ми до коньа дораст'о, Да отмемо цару царевину И светломе кралу кральевину: Царевина – твoja очевина, Кралевина – твоja дедовина, Б. М., Срп. н. п. у Срему, 7, Цару и кралу hendiadys [418].
(В болгарской песне) мать припевает сыну в колыбели:
- Нани ми нани, сине богоец!
- Ти да му зе'иш на краль – от кральство,
- Ти да му зе'иш на цар – от царство,
- Да му седниш кралю на столнина,
- Да му седниш цару на царщина, Милад., 96.
- …Посылает меня (Добрыню) солнышко
- Солнышко Владимир князь да столен киевский
- Во ту да в матушку (в) каменну Москву,
- Во каменну Москву да в хоробру Литву
- За той меня (за) данью (да) за почлиной, Гильф., Был., 579,
т. е. не в Москву и в Литву, а в (соседнее) государство, или «в такое-то» государство. Но так как нужно назвать как-нибудь определенно владетеля этого государства, то вслед за таким обобщением (Москва-Литва = государство) появляется частное «король храбро-литский» как синекдоха:
- Да и поехали ко матушке к каменной Москвы,
- К каменной Москвы к хороброй Литвы,
- Ко тому ли королю храбро-литскому…
- …Приезжают они в хоробру Литву, Гильф., Был., 587.
Это так, как когда после неопределённого числа (два-три) ставится определённое (три), о чём см. ниже. Отдалённая богатая родина Дюка обозначается так:
- А во той было Индеюшки богатый
- Да во той было Корелы во проклятый,
- А был молодой боярин Дюк Степанович, Гильф., Был., 78,
и в той же былине многократно: 80, 82 (4 раза) и пр., причём, как выше, неопределённое и общее «Индея-Корела» заменяется определённым, синекдохическим «Индея»:
- Я похвастал знать Индеей да богатою,
- Да похвастал я Корелой да проклятою;
- У нас было во Индеи во богатый, и пр., ib. 82-3.
- А подходят под Индею под богатую,
- А подходят под Корелу под проклятую,
- Думали: «Индея перепаласи».
- Ажио их Индея не спугаласи, ib. 85.
- Во ихной во Индеи в богатоей,
- Во ихной во Корелы во проклятоей
- Во ихной во деревеньки во Галичи
- Отходили от заутренье от раннею, ib. 122, [419],
т. е. в отдаленной богатой стороне, в городе (иронически названном деревенькою) Галиче.
Сочетание богатой Индии и Корелы основано на том, что и Корела – богатая:
- Из-за моря, моря синего,
- Из славна Волынца – красна Галичья,
- Из той Корелы богатыя…
- Выезжал удача добрый молодец,
- Молодой Дюк, сын Степановичь, Кирша Дан.,
Кир., Ш, 101; ср. ib, 81.
- Из-за моря, моря синего,
- Из-за Синего моря, из-за Черного
Подымался Батый царь, Кир., IV, 38,
т. е. если Синее море принято в значении собственном (Хвалынское), то = из-за моря вообще.
- Между Кум-реки между Тереку
- Между тех было трёх Кумских отножинок,
Объясн. мр. п., П, 319 (= река вообще).
Таким образом, неопределенная даль, служащая исходною точкою мысли певца, может быть обозначена или чем-либо одним:
- Из-за гор было высокшх, Кир., III, 100;
- Из-за моря, моря синего, ib. 101.
- Из-за лесу, лесу темного, н. п.,
или перечислением многих несовместимых предметов:
- Из-под дуба, дуба было сырого
- Из-под вяза, вяза с-под черленого,
- Из-под кустышка да с-под ракитова,
- С-под ты березы с-под кудрявыя,
- Из-под камешка было из-под белого
- Пала-выпадала мать Непра-река, Гильф., Был., 172.
- Как с-под еланичку да с-под березничку
- Да с-под частого молодого с-под олешничку
- Выходил каликушка немаленький, ib. 584,
т. е. не из-под елового, березового и ольхового лесу, а «из-под лесу» (вообще, ибо не рассмотришь вдали, какой он),
- Из-за лесу, лесу темного,
- Из-за садику зеленого
- Выходила туча грозная, Шейн, Рус. нар. пес, 343.
… родила, Во сыром бору хоронила Что под белою (под) березой, Да под горькою (под) осиной, Шейн, Рус. нар. пес, 403, т. е. не под березой и осиной, а под деревом вообще, причём [420] упоминание горькой осины имеет символическое значение: горе горькое.
- Ох далече, ох далече во чистом поле,
- А еще того подале во раздодьице
- Выбегало тут стадечко звериное,
- Что звериное, звериное-змеиное,
- Наперед то выбегает Скипер-зверь, Кир., П, П, 2.
Стадо звериное-змеиное, потому что (в другом варианте) «Скимен-зверь» – «зашипела, вор-собака, по змеиному», ib. 1.
- Из-за гор было высокиих
- Не ясен сокол тут вылетывал,
- Молодой кречет тут выпархивал;
- Выезжал тут добрый молодец, ib. Ш, 100,
т. е. не сокол-кречет, а …
- Есть у меня (да) ещё бурушка,
- Есть у меня (да) коурушка,
- Трех годов жеребушечка, ib. Ш, 2.
(бур и коур масти различные, см. Даль, Словарь; ещё менее совместимы масти сказочного коня: «сивка-бурка, вещая коурка»).
И я золото хороню, Чисто серебро хороню, Я у батюшки в терему, Я у матушки в высоком (т. е. не золото и серебро, а безразлично – «дорогой перстень»).
- Пал-пал перстень В калину-в малину, В черную смородину,
Шейн, Рус. нар. пес, 373;
- Калинушка-малинушка – лазоревый цвет;
- Веселая беседушка, где миленький пьёт,
Шейн, Рус. нар. пес, 396.
См. также Объясн. мр. п., П, 344.
- (Как чужая-то жена – лебедь белая моя,
- А своя шельма жена – полынь горькая трава,
- Полынь горькая трава, стрекучая крапива,
Шейн. Рус. нар. пес, 353.
- Вспоить-вскормить, Кир., Ш, 14.
Я идете на стара планина, Донесете ледове-снягове, Да и'турим на клето-то сурце… (чтобы испытать, умерла ли?), Милад., 100. На поезд напали «Татари цурни Арапи», Милад., 320)
- А я млада младешенька замешкалася
- За утками, за гусями, за лебедями,
- За вольную за пташечкой за журушкой,
- Шейн, Рус. нар. пес, 396 [421]
(не перечисление, а идеализация, как и часто в вр. и мр. песнях гуси-лебеди, в мр. песне: Ой утята (гуся-та) – лебедята летять до кринищ).
- (Как журушка по бережку похаживала)
- Шелковую лист-травушку защипывала, ib. 396
- Уж ты ель моя елушка, зеленая сосенушка!
- Все ли на тебе сучки веточки? Шейн, ib. 457, 451.
Грушица ты грушица моя, Груш и ца зеленый винограде. Под грушицей светлица стоит…, Шейн, Рус. нар. пес, 163.
Груша-яблонь садовая – кора золотая (Объясн. мр. п., П, 462; чудесное дерево колядки).
Бр. Гапулька … Ситы-рашоты доставала, Мамкину волю рассивала, Шейн, Бр. п., 470. Седлаю (я) … Синца-воронца сам свойго, Шейн, Матер., I, ч. П, 53, А ци яго сивцы-воронцы пристали, ib.l, ч. П, 63.
Мр, В колядке хозяйка посылает слуг поймать «дивноє звiрє тура-оленя» (Объясн. мр. п., II, 325, 337). Так как одни колядки говорят о чёрном (в вр, было гнедом), а другие о сивом олене, та я предполагаю (1.с.), что обобщение «тур-олень» возникло из взаимодействия этих колядок. Подобным образом в серб. одни песни называют чудесное дерево (о коем см. мои Объясн. мр. п., П, гл. XV et pass.) бором (сосною), другие явором, третьи яблоней, и это объясняет появление сложения и обобщения в: Oj jaвope, зелен боре! Диван ти си род родио: На двʼjе гране двʼjе jабуке… (Объясн. мр. п., П, 311). Мр. тур-олень могло бы появиться в колядке, и помимо упомянутого сложения из соединительного сочетания, какое в вр. былине Кирша Дан. (Кир., IV, 79):
- Они соболи, куницы повыловили …
- Туры, олени (по) выстреля(= и)ли …
т. е. и туров, и оленей. Так, я думаю вр. змея-скоропея (Майк., Вр. закл., 486 et pass.), как одно, возникло из змея и скоропея (= скорпий; серб, змиjе и jaкрепи), атаманы-молодцы – наверно из атаманы и молодцы (т. е. старшина и молодь козацкая, чернь). Но в мр. песнях соединительное сочетание тур-олень не встретилось.
Что до того, будто мр. тур-олень есть заимствование из непонятного болг. сур iєлен (Cумцов, Культурн. переживания, 5, 10), то оно и не нужно при существовании в мр. песнях памяти о туре и об олене и, как предположение фантастическое, маловероятное.
- А в Римi, в Римi, в Єрусалимi…
- Божоя мати; в полозi лежить, Г., П, 11, 42,
т. е. в городе, с коим связана мысль о чем-то священном (стр. 422).
Турки-татари, Г., IV, 44; Дунай-море, ib. 44 et pass. Болг. вишни-черешни, Мил., 348.
Ой що вишенька, що черешенька Бiлим цвiтом цвiла, Чуб., IV, 14; Ой вишенька-черешенька – верба кучерява; Дiвчинонька козаченька тай причаровала, нар. пес.
Biтop повiвае, гiлля розхиляе, д moi'mh воротами скрипка дудка грае, Скрипка-дудка грае, мене мати лае, Мене мати лае, гулять не пускае. Киевлянин, 1841, изд. М. Максимовича, 233.
В латыш. Ай цаунит’ – вaверит’. До’ ман саву кажoцiнь, Спр., 114 (куночка-белочка). Прiадэ, прiадэ! Эглэ, эглэ! Таву дайлю аугуминю! Трейл., № 210. (Сосна– сосна! ель-ель! какой у тебя хороший рост.)
Неопределенность числа посредством сопоставления меньшего и большего, всегда в восходящем направлении, как и ныне (2–3, а ненаоборот – 3–2).
С союзом: Та смотрилщица съ тою невеэстою переговариваетъ о всякихъ длахъ, извэдываючи еэ разуму и рэчи… что бъ оказать, прiэхавъ, жениху, какова она есть; и бывъ малое или многое время (= побыв некоторое время) поэдеть къ жениху, Котош., 124.
Без союза разделительного: Бегом побежал по пятидесят верст, Скoком поскакал по осьмидесят верст. В тот ли (то) город Киевский, В Киевский в Володимерский, Кир., П, Ш, 3. Меня мати хочет бити По три утра, по четыре, Шейн, Рус. нар. пес., 373.
(Жил да был Буслав да девяносто лет, Девяносто лет да целу тысящу, И за тым Буслав да переставился, Гильф., Был., 215, 722. Жени ме, майко, жени ме, Дури сум младо-зелено, От двана’есет години, От трина’сет пролета, Милад., 335)
Серб. Мене просе двоjи – троjи просци, Раjков., Cрп. н. п., 82; да ти кажем до две до три речи.
В мр. колядках излюбленное число три встречается множество раз; при этом два-три (= несколько) в случаях, где, по – видимому, не должно бы быть места неопределенности: Господаренько… зострiчає два-три ангели… «Бодай здоровi, два – три ангели!» Г., П, 28.
- Сказав Бiг Петру: «не перечмося,
- Ай зiшлiм coбi два-три ангели
- Та най змiряют небо и землю!
- Та и злетiли два-три ангели, Г., П, 32.
Газдиненька Та зострiчае два-три святи'i «Помай Бiг, май Бiг, гей газдиненька!» – «Бодай здоровi два-три святиi», ib. 49.
- Межи тем стадцем барзо сив коник,
- Ой ходя за ним два-три Панове, Г., IV, 46.
- Ой як шайнули два-три буйни вiтри…
- Ишли ми туди два-три риболови:
- Ой помагай Бiг, два-три риболови, Г., IV, 107 [423].
После этого «два-три» следует иногда перечисление (1-е то то, 2-е то то, 3-е то то), из коего видно, что вещей именно 3:
- Заперезався гей ожинкою,
- За тов ожинков двi-три трубоньки:
- Єдна трубонька та роговая,
- Друга трубонька та мiдяная
- Третя трубонька та зубровая, Г., П, 60 – 1.
- А в тiй церковцi два-три престоли:
- В першiм престолi святое Рiздво,
- В другiм престолi святий Василiй
- В третiм престолi Иван Хреcтитель, ib. IV, 20.
Боже небесный, маем на тебе, Маем на тебе двi-три: улакгi (= д1): Йодну гой уладу – головку снети, Другу й уладу – на хрест розпнети, Трету й уладу – в rpiб положите, Kold. Рок., 1, 113.
- Сiдлай ми коня того моцаря
- Йа впопруж(ъ) его в сiм-девять попруг,
- Йа тов десятое самов дзолотов, Kold. Рок., 1, 101.
Так в серб. после «до три» (вероятно из «до два – до три»), понимаемом еще в cмысле приблизительности, перечисляется именно 3: До три ћу ти биља казат: Право ћу ти биље казат, Да ти љуба роди сина; Друго ћу ти биље казат. Да ти cабља cjече турке; Треље ћу ти биље казат, Да си стиман у дружину, Кар., П, 1, 182.
Может быть, именно вследствие обычности этого приема «до два», «до три» потеряли знаменательность наречного до и стали употребляться в значении определенном, даже без того оттенка, который в мр, «аж три» (удивление говорящего величине числа: целых три): Чуjете л’ме миле ћерке, Кар., П, 52; Град градила три брата рoћена, До три брата, три Мрљавчевиља, ib. 11, 115.
Как в случаях «скрипка-дудка» (нечто в этом роде), так и в «два-три» обобщение есть неопределенность. Сознание хода этого обобщения может быть выражено вопросительными частицами, выражающими недоумение говорящего, остановиться ли ему на том или на другом из предметов, входящих в сознание: аще поэха-ти будяше Обърину, не дадяше въпрячи коня ни вола, но веляше впрячи 3-ли, 4-ли, 5-ли женъ в телэгу и повести о Обърэна, Лавр, лет., 211; аще который брать въ етеро прегрЬшенье впадаше, утэшаху и епитемью (роздэляху) 3 ли 4, за великую любовь, ib. 183, т. е. 3 или 4 мр. три або чотиpi, что в мр. могло бы быть выражено другою не менее древнею частицею чи: 3 чи 4.
Чи и ли, а равно и сложенное из них чили одинаково переходят к значению безразличия (vel, oder) от значения вопросительности: чи три? чи чотиpi? [424].
Другой способ – тот, что в славянских утвердительно-отрицательных сравнениях, где сначала дается образ как положительный, действительно существующий, потом он отрицается и на его месте ставится сравниваемое: Ой у лузi в лузi червона калина. Ой то ж не калина, молода дiвчина. Сравнение есть тоже вид обобщения, так как оно останавливает внимание на сходных чертах сравниваемых образов.
От таких сравнений ведет своё начало переход отрицания (не, литов. ney=ни и не) к значению сравнительной частицы: литов. пйу, пй – как.
Я думаю, что подобным путём ст. – русск. нэ перед числительными получило значение неопределенности (Из запис. по русск. грам, 424)[1] именно «нэ триста» (и «нэ съ триста») в значении около 300, из повторения того же числа с отрицательным не есть = нэ: (есть) «триста, нэ (= не есть) триста», причём это нэ, как в случае нэкто, получило значение такое же, как литов, пйу – как, потому что нэ-кто – как бы кто, нэ-трис-та – как бы триста.
Соединение обоих способов, т. е. вопросительного и отрицательного, дало бы, напр., в мр. форму: «три, чи не три» или «чи три, чи не три», которая сохранилась в значении разделительном (три или не три?), но в значении обобщения и неопределенности, вероятно, вытеснено формами, которые кажутся сокращением предыдущих, возникшим посредством опущения 1-й половины[2]: нашi брати були чи не шiстьма годами старшi вiд нас, Федькович.
К этому сокращению присоединяется выражение приблизительности как вероятности, составляющее результат сочетания (шiстьма чи не шiстьма), именно: трохи чи не шicтьма, мабуть чи не шiстьма (= вр. чуть ли не шестью), хиба чи не; (река) «либонь ворочавши не пьятьдесят млинiв» (Гребенка), точно так же как в случае «трохи (мабуть, хиба) чи не вiн», чуть ли не он (сделал и пр.), «либонь чи не вiн». В «либонь чи не…» не дважды, ибо либонь из л и бо (лю бо) не (из сокращения выражения любо он, любо не он = или. или), почему первоо бразнее употребление без «чи не».
Накривши гарним покривалом, Либонь (= чуть ли не) тим самим одiялом, Що од Дидони взяв Еней, Котляревский; Не вiрь дiвча, козаковi, що вiн тобi каже, Бо вiн либонь (= вероятно) з ума зведе, правдоньки не скаже, М, 41; Про Сагайдачного спiвали, либонь (вероятно) спiвали и про ciч, Котл.; Науме, Науме! либонь старости йдуть! Квит, (= должно быть, чуть ли не); Великий холод був, вiтри шумiли рiзно И била [425] ожеледь, и снiг ишов либонь (postposit.), так мабуть чоловiк бiля богаття грiвся, Гребенка. Л. Вельский (Калевала, Перев, Л. Вельского, СПб., 1889, 11 – 2) указывает на 3 следующих наиболее выдающихся приёма финского эпоса:
Во-первых, «почти постоянное сопоставление синонимов в двух рядом стоящих стихах, напр. в одном стихе дева, в следующем девица, девушка».
Во-вторых, «синонимическое повторение стиха, напр.:
- Если ты вернешь заклятье,
- Злой свой заговор воротишь».
Насколько можно судить по переводу, тут дело не только в синонимичности, не только в параллелизме стихов, состоящем в соответствии слов, означающих различно те же вещи или действия, напр.:
- Псы по берегу бежали,
- Брехуны по острым камням, 207.
- Вот бежит-несется заяц,
- Поспешает длинноухий,
- Скоро скачет кривоногий,
- Быстро мчится косоротый, 59;
или общее и части:
- За крючок схватилась рыбка,
- За крючок железный семга, 63,
но и в том, русские примеры чего приведены мною выше, именно в сопоставлении в смежных стихах названий исключающих друг друга вещей, ради обобщения и идеализации, напр.:
- Он их (зерна) спрятал в куньем мехе,
- В лапке белки желтоватой, 30.
- (Он вынимает зерна) Все из куньего мешочка,
- Из-под (?) лапки векши желтой,
- Из хорьковой летней шкурки, 31-2.
- Вот поёт синица с ветки:
- Не пойдёт ячмень у Осмо
- Не взойдёт овес Калевы, 31
(дело идет о посеве именно ячменя; ср. выше жито-пшеница).
- Из сребра приносят кружку,
- Чашку ставят золотую,
- Но она (это одна посудина) вмещает мало, 91.
(Ср. выше золото-серебро) [426].
- Страсть влечёт меня на битву,
- Пиво битвы буду пить я,
- Испытаю мед сраженья, 130.
(Ср. выше пиво-мед; относительно пир-битва моё Слово о п. Иг., 63.)
Особенность финского эпоса в том, что эти сопоставления всегда в 2 стихах, а не иногда только.
Согласно с этим должно быть изменено и 3-е наблюдение Вельского. «В-третьих, – говорит он, – это стремление почти синонимически разнообразить два рядом стоящие стиха повлекло за собою странное смешение чисел: если в первом стихе указывается какое-либо число предметов, то в следующем эти предметы, оставаясь в том же числе, называются в числе большем» (12).
Это третье не есть следствие двух первых, но все эти приёмы независимо друг от друга вытекают из одного стремления. «Странности» нет, потому что нет «смешения чисел». Числа ставятся, как выше в русском, только чаще.
- Вот четыре девы, видит,
- даже (?) пять невест… 26….
- …топор свой точит…
- На шести кусках кремневых (?),
- На семи точильных камнях, 28;
- Там шесть зернышек находит
- Семь семен он поднимает, 30;
- Все шесть зерен вынимает,
- Семь семен берет поспешно, 31;
- Там (огонь под водою) скрывается два года,
- Там скрывается и третий
- Между пнями двух деревьев,
- Между трёх корней березы, 93;
- Посади и шесть кукушек,
- Семь из (?) птиц голубоватых
- На дуге… 213;
- Видит три сосны лесные,
- Там четыре елки милых (?);
- На сосну в (?) поляне в(з)лезла,
- На ту елку на равнине, 240.
Следует прибавить, что таким образом ставятся не только числа, но и определения величины вообще:
- Вот выходит муж из моря,
- Богатырь из волн поднялся;
- Не из очень он великих, [427]
- Не из очень также малых[3]:
- Он длиною с палец мужа,
- Вышиной с пядень у женщин, 27.
II
Тождесловие, сочетание синонимов
Усугубление в речи одного и того же слова даёт новое значение – объективное или субъективное. Первое – когда при сравнении итога с отдельным слагаемым заметна разница в признаках обозначаемого; второе – когда итог указывает на изменение состояния самого говорящего, именно, когда повторение слова и оборота вызвано чувством, замедляющим течение мысли, напр., гневом, который располагает к тождесловию.
Если это так, то тем более сочетание синонимов, слов различного происхождения должно рассматриваться как средство создать новое значение.
Первоначально, т. е. при своём возникновении, синонимы, как путь и дорога, означали различные вещи, как и слова несинонимичные, как хлеб-соль и т. п. вышерассмотренные сочетания. То же и о синонимичных названиях действий, качеств, отношений. Разница между первыми и вторыми сочетаниями в том, что значения сочетаемых образца хлеб-соль в мысли говорящего не совпадают, а в сочетаемых путь-дорога совпадают в большей или меньшей степени.
К этому совпадению говорящий приведен постепенным ходом своей собственной или унаследованной мысли, и в силу этой постепенности в отдельных случаях бывает трудно сказать, стоит ли перед нами сочетание одного или другого рода. Так, лишь по контексту, не всегда ясно указывающему на мысль говорящего, можно узнать, какого рода сочетания ст. вр. животы и статки. Первоначально значения этих слов не совпадают, затем они обобщаются и сливаются. Животъ первоначально – живое имущество, скот, лошади, овцы и пр. У меня животъ измерлы (= измерлъ с ъ гласным): лошадь и скотина, 1532, А.Ю., 39 (= собирательное по отношению к животине). Так и доныне: «хлеб да живот и без денег живёт» (т. е. при хлебе и скотине можно жить и без денег). Затем это значение поддерживается только эпитетами (рогатый, мелкий), а без них слово переходит в значение движимого имущества и денег, а затем и всего имущества со включением недвижимого: А что осталось… хлэба… и меду… и живота рогатого и мелкого, и всякого запасу, полотно-го мяса и вислые рыбы и всякого моего живота, и игумену N… изъ того моего живота долгъ мой заплатити, 1566, А. Ю., 457. А живота моего осталось … Божья милосердья образовъ окладныхъ и крестовъ серебряныхъ, и книги, и колокола … и хлэбъ, и оброкъ съ крестьянъ …и всякая подворенная рухледь мэдяная и оловяная, и пр., ib. 456; что язъ поставилъ у дочери своие Федоры …коробочку съ животомъ, а въ коробочкэ живота моего: пять рублевъ денегъ да два бобра дэланые, цэна 4 рубли, да шапка наголная черевья лисья цэна два рубли, да аршинъ отласу золотного … да онъ же Шемяка у меня взялъ кормити из-полу шестеро животины рогатые, 1608, А. Ю., 458. Долги изъ вопчего живота намь платити, 1619, ib. 459; ныне: всех животов – одна избенка, Даль.
Обратно этому изменение значений в статъкъ и станъкъ, чаще во множественном числе. Из подходящих сюда значений сл. станъ за исходное следует принять: а) место стоянки, стан, как несколько раз в Ип. лет.: Ятвазэ … зажьгоша колымагы своя рекше станы, Ип. лет., 538; б) жильё: бяхуть же (в Судомири = Sandomierz) станове соломою циненэ и загорэшася самэ отъ огневъ, Ип. лет., 564 (Из запис, по русск. грам., 459)[4]. Na rzekch portowych ha don stanyw nowych stawic i grobel вураж ku przekazie niema, Stat. Zit., 29, Undo, s. v.-stan. Станъкъ есть уменьшительное от станъ. Статъкъ во множ. ч. сначала недвижимое имущество (стоящее, в смысле постоянного; польск. stateczny – постоянный), что ещё заметно в: да что ся у меня оставаетъ животовъ и статковъ: деревня N съ починки… да что у меня святости (= образов) … 1546, А. Ю., 450; с чем ср.: а иные … мои станки (т. е. ближайшим образом), дворъ и хоромы, (затем) хлЬбъ и платье и всякой животъ (скот), и домовой всякой обиходъ, все черно и бЬло – женЬ моей Ирины, 1671, А. Ю., 469; затем и движимое: statek bykyw i drobi = стада, XVI в. Linde s. v.; рухлядь как ремесленная снасть: statek albo caig do rzemie sla nal eћacy; поcуда (= na czynic), судна (statki wodne, ib.); имущество вообще, как и вр, в мр, (не буде статку, не буде й упадку).
Таким образом, животы и статки (1613, А, Ю., 95) уже в смысле сочетания синонимов безразлично об одном движимом: лошади, хлеб, драгоценности, деньги. Ср. в мр, по-видимому, о движимом и недвижимом без различия: нехай отець мату с я статки-маетки збувають, Ант, и Драг, 1, 94 (= majatek); только о недвижимом: нехай … батько добре дбае, Кгрунта и великi маєтки збувае, ib. 95; о движимом (cкарбы, деньги) и недвижимом: не за тобою сi скарби – маєтки збiрала, Метл., 416.
Таким образом, слово путь не позже XII в. (Поуч. Моном.) получило значение и военного похода, а позднее сблизилось [434] с дорога, но в козацкое время (XVI–XVII в.) стали тавтологичны выражения: ой прийшов козак з вшська з дороги, Чуб., V, 533; ой матшко, та не гай мене, та в вшско-дорогу виряжай мене, ib. 873.
- Свалилась ты с меня, с младешеныш,
- Вся цесть-хвала, воля батюшкина,
- Воля батюшкина, нега матушкина,
Шейн, Рус. нар. пес, 482; см. Кир., 1, 4.
Про честь про славочку, Голов., II, 423.
Чтить можно было различно, между прочим, угощая напитком (К истор., 36, IV, стр. VI), почему честь значило и подносимую чару (честь пити, ib. 70), и угощение (ib. Ill, 45). Поэтому сочетания честь-хвала, честь-слава сначала суть определительные по отношению к честь и лишь в конце дают тавтологию.
Слава может быть дурная (мр. поговор., ьЫе Nachrede) и хорошая. Эти значения различаются, с одной стороны: в слави поговору понаб1ралося, М. 53; не бiйсь слави, не бiйсь слави, не бiйсь поговору; я за славу сама стану, ще й виговорюся, н. п.; с другой: Бона (вдова)!х (сишв) з-малку годовала, зросту, слави-памъяти, спрожитку сподiвала, М., 347.
О роскiйш-воля – см, Объясн, мр, п., П, 636-7, Срце-душо, фазли-Беговице! Ристип, С.Н.П., 70.
Мр, до суду-go вшу (суд – смерть); Будеш в мене до смерти-вiку хлiб-соль уживати, М, 346. При исключительном господстве в мысли говорящего того способа обозначения предела жизни самою жизнью, какой в ст. – русск.: до живота моего, Ип. лет., 313, «по моемъ животэ», т. е. после моей смерти, для этого обозначения довольно одного «до-веку», как и в послов, «малая собака до веку щеня», при существовании и другого способа (до смерти, до кончины живота), выражение «до-веку» определяется приложениями: «до суду», «до смерти», как выше или «до живота»: и такихъ людей (раненых)… велятъ поить и кормить и одэвать въ монастырэхъ … до вэку-живота ихь безденежно, Котош., 114.
- Ай пышные-гурные бояре!
- Слышице, видзице, ня скажеце,
- Што моя разлука по вулицэ едзець,
Смол. г. Духовн. у. Шейн., Матер., П, 428.
Пышные-гордые в том смысле, что их просят сказать, а они на это не обращают внимания. Ср.: мнэ ихъ во всемъ слушать и ни въ чемъ не огурятца, 1687, А. до Ю. Б., II, 514 (мр. ох маслина угурна! чому ти одна? Як би тебе сiм недiль, а посту одна! Манжура, Сказ., мр. 169), Ср.: ой Авдотьюшка поупрямилась, Дочъ Григорьевна поспесивилась, Шейн, Рус. нар. пес, 419 (стр. 435)
Вiн каже-говорить, Вже воно ему й каже, вже воно и говорить та знай просить, так нiколи бо ёму, К в.; вр.: ты неправду говоришь и неречь ты кажешь, Шейн, Рус. нар. пес, 455.
Мр. Кохати-любити тавтологично, напр. ой любив та кохав, coбi дiвчину мав, гей як у саду вишня, н. п. (М., 23, 24., 28), но прибавляет новую черту: я любив тебе, я кохав тебе, як батько дитину, М., 12, ибо ко хоти (чего в польск., по-видимому, нет, где коспаж более сильно, чем lubiж: czy ja go lubik? – Kocham go z cafiego serca, Linde) = годувати: (мати синiв) з малих лiт до великого зросту кохала-годувала, Зап. о Ю. Р., 1, 19; доглядa їх, пeстує кохa, до рoзуму доведe, К в ит. II, Щ. Л., 243. (Некто хватает мужика за бороду: – «Не для тебе я її викохав!»)
Честь-хвала. Страсти – ужасти (Кир., III, 40). Как чужой отец с матерью… что без жалости без милости, Шейн, Рус. нар. пес., 485; замуж вышедши ни в чём воли нет, ни в житье – бытье, ни в богатестве, ib. 492; сижу я младешенька при кручине, при великой тоске (при) печали, ib. 353; ростом – возрастом, Кир., IV, 28; не гром… не стук, Кир., 1, 25; Без бою, без драки, ib. 71; шельщина да деревеньщина, Кир., 1, 82; Колыбель-люльку делали, Древ. рус. ст. (Бусл., О препод., 331); при пути – дороженьки, ib.; он пишет письмо грамоту, Шейн., Рус. нар. пес., 461.
Мр. Ой час-пора до курiня; прийшов час-годинонька, Голов.,II, 28; до города Черкаського скорим часом – пилною годиною прибував, М., 387; Шлях-дорога, М., 34; у путь у дорогу, М., 54; стежки-дорiжки; в темнi лiси дуброви, Г., IV, 224 (-214?) Отдав мене мiй батенько та за воеводу у чужий край – сторононьку далеко од роду, М., 252.
- Моiй матерi туски – печали задавати, М., 423.
- За гордостю за пышностю. Зап. о Ю. Р., 1, 30.
- Серб. А и’ у гори три кола играjу:
- Из eдного модар пламен лиже…
- А из трећег огањ – ватра сева, Б. М., Срп. н. п. (Срем.) 33.
- Из уста му (коню) модар пламен лиже
- Из копита огањ-ватра сева, ib. 36.
- Пуцкаjте е (змиjу) двама шибицама…
- Док вам пусти jада и чемера, Беговић, C. Н. П., 41.
Торна – бойка дороженька, где миленький шел, Шейн., Рус. нар. пес., 397.
Мр. Славен – ясен, Объясн. мр. п., П, 673; ясна – красна, ib. П, 440; гордий та пишний пане Иване, Кол.; гидкiй – бридкiй; люба мила размова, М., 241; ты ж менi… люба та мила, М., 82; ой як же менi… веселому буть одрадосному? М., 71; снився-приснився вдовиченку барзо пречуден сон, та ще й предивен, М., 354.
Зла-худа шельма жена, больно некорыстна, Шейн, Рус. нар. пес, 352; ясен-красен мак в огороде, ясней красней на поле снопы; широк-высок – на небе месяц, шире и выше на поле копы… Часты и густы на небе звезды, чащей-гущей на поле бабки, ib. 391, приди проведай меня горькую, несчастную! ib.445; надо быть покорливой, головке поклончивой ib. 456, сонливая дремливая, ib. 461. Она с вечера трудна-больна, со полуночи недужна вся, Кирша Дан.
Што глядят-то смотрят на меня трое сторожев, Шейн, Рус. нар. пес, 341. Он высматривал-выглядывал душу красну-девицу, ib. 505. Как ходил-гулял, разудалый добрый молодец, да ён не имел себе заботушки никакой (точнее определяет 1-е; не за делом ходил); жана… что журит-бранит свово мужа завсегда (ср. ib. 352)… ён стучит-гремит (= громко) в досчатые ворота, ib. 345; ходили-гуляли (ср. ib. 363) коледовщики, сочили-искали боярского двора, ib. 367; сочили и искали, ib. 366. Вы раздайтесь-расступитесь, добрые люди, ib. 347; не видал я тебя, молодость, когда ты прошла, скоро миновалася, ib. 350; молодость ты моя молодецкая, Не видал я тебя, когда ты прошла-прокатилася, Со худою женою с нескорыстною! Мне худую жену все ни сжить ни сбыть, ib. 351.
Спасибо-то, спасибо-то синему кувшину, Разогнал-то раскачал всю тоску кручину, ib. 359 (= размыкал, ib. 358). Она плакала, рыдала, Сама слёзно причитала, ib. 363, 393. Катилось-валилось одонье ржи, ib. 379 (мр. покочуся-повалюся, Ивашкового мъясця наiвшись, сказ.); принадоблюся-пригожуся, ib. 389. Чи спишь-ляжишь, аль спочиваешь? ib. 391. Идуть-бредуть волочебники, Шейн, Рус. нар. пес, 391 (бр. ишли-брели; ишли-цекли, Шейн, Бр. п., 80); целуеть-милуеть, ib. 422, 447; спить-покоится, ib. 424; худою долей меня наделили, Худым счастьем наградили, ib. 445; засохнеть, заблекнеть зеленый сад без меня, ib. 446; купалася-полоскалася, ib. 449; разлилося, разлелеялось синее море, ib. 454; не улыбнешься, не усмехнешься, ib. 459; увидела-усмотрела, ib. 463; повыди повыступи по новой по горенке, ib. 487.
Не пугайся – не страхайся, Кир., II, 1, 28; гуляли-веселилися, ib. 63; пить, гулять тешиться, ib. 64; побиться-подраться поратиться, Кир., III, 121; я сама девица знаю ведаю, Кирша Дан.; про то не знаем, не ведаем, ib.; божился добрый молодец ротился (= клялся-божился), чем мне ко будет князя дарить, чем свата жаловати, ib. Бусл., О препод., 331: «из некоторых выражений видно, что трехчленная тавтология есть развитие двухчленной прибавлением к сей последней треть его понятия: «а и смилуйся, смилосердися, Смилосердися, положи милость», Древ. рус. ст. (так и сущ. и прил.); (розрыть-роскидать по чисту полю, [437]. Гильф., Был., 257; А поди ко ты Марья за замужь, Дак будешь-станешь слыть ты царицею, ib.).
Извъялишь себе, иссушишь, як вiтер билину, М., 12; не суши не въяли чорними… бровами, М., 17; ходить-будить козак по дорозi, н. п.; не ходи, не блуди по над берегами, М., 17; цiлувалися – милувалися, М., 25, 246; ой звiдуєся испитуєся N, Голов., IV, 218, 225; дивується чудується батенько, ib. 223; вздрiли вони тай зобачили, Голов., II, 106; не плакала тай не голосила, Голов., П, 360; плакала-рыдала, pass.
Думай-гадай, Ип. лет., 461; думали та гадали. Зап. о Ю. Р., 1, 30; Бог вятий знає, бог cвятий вiдає, що Хмельницький думає гадає, М., 391; задумав вже й загадав, М., 391; коли б я знала, коли б вiдала, що засватана буду, н. п.; шанувати й поважати, Зап. О Ю. Р., I, 21; будем тебе до смерти вiку почитати й поважати, М., 346; которий чоловiк батькiвську-матчину молитву чтить, шанує, поважає, М., 347; молитов побиває-карає, 3ап. о Ю. Р., 1, 29; Эй шати мои, шати! Пийте, гуляйте: Не мене шанують, А вас поважають, М., 381; голубонько… сядь пади на подвiръi, Ант. и Драг., 1, 94; соколе… полинь ти у города христiяньскi, сядь пади у мого батька и матери перед ворiтьми, ib. 95; ciла пала галка; Тернове вiття верхи у руки бере хапає, ib. 109; бере-хватає, ib. 110; китайку видирає, по шляху cтеле покладає, ib. 116; хорiтимеш болiтимеш, мерти бажатимеш, М., 107.
Серб. коњиц вели и говори (Раjков., 104) узми маjко штаку и навлаку, Па хаjд’ иди у гору зелену, Б. М., Cрп. н. п. (Cрем.), 75.
Наречие. Как нунечьку топеречку зде еще Как нам еще сюда показался бы Как старыи козак здесь Илья Муромец, Гильф., Был., 239; Топерь-то нуньчу, нуньчу топеречку, Не может-то межeнный день, а жить-то быть, А жить-то быть без красного без солнышка, Гильф., Был., 282; А надо нужно мне – ка-ва надо ведь, ib. 261; потихошечку, полегошечку, Шейн, Рус. нар. пес., 381.
Мр. тутечка здесечка, К в.: тяжко важко, н. п.; мало трохи не богато, Зап. о Ю. Р., 1, 54; весьма барзде рано-порано, М., 352; коня… що моя душа козацька весьма барзде улюбовала, М., 416; ци горазд ци добрi… почивали, Г., IV, 399; чи горазд добре на славнiй Українi проживати, М., 381.
- Серб. Сjаj месече моj стари воjниче!
- Много ли сам с тобом путоваo…
- Сила много девет годин’ дана, Б. М., Срп. н. п. (Срем.), 8.
Образец: дьне-дьне. Повторение слова в той же форме, как восхождение от конкретных случаев к разным видам (отвлеченной) множественности, которая в применении ко времени является учащательностью, длительностью.
Потрэбьно намъ дне-дне <…> тайна наказания, Поуч. Кир. Брус, рук. XII–XIII вв. (Опис. Син. Б., П, 2, 47); дьнь дьнь иштоуть <…> 1073, М 1 к 1., Gr., IV, 393. Позднее с предлогами, как в полы: к.: dziec w dziec, гаz w raz, raz po raz, raz po razu. (В церкви, на базаре) народу-народу! (= много) и т. п. Добрый-добрый (очень); далеко-далеко (очень) и т. п., Шейн, Рус. нар. пес, 341, 469, 470; пьет-пьет (много, долго) и т. п. (Еще мало по мало весть на двор, Мез., Тр. этн. отд. Л. E.,V, 2, 93; рано по рану, М., 302; рано-по рано, ib.)
Образец: хвать-похвать, ходит-походит, т. е. на втором месте та же форма глагольного междометия или глагол с предлогом по, означающим последователаность: /Заинька повиляинька! Ты виляй-виляй (уж как ты ни виляй). Не отвиляешься: Вилял-вилял, В тенета попал, Шейн, Рус. нар. пес, 375)/.
- По славному озеру по Ильменю,
- Плавает-поплавает сер селезень,
- Как бы ярой гоголь поныривает.
- А плавает-поплавает червлен корабль
- Как бы молода Василья Буславьевича,
- Кирша Дан., 167; Кир., II, V, 23.
- Как по морю-морю по синему
- Бегут-побегут тридцать кораблей,
- Тридцать кораблей – един Сокол-корабль,
Кирша Дан., Кир., V, 41.
- В нас по морю-морю, морю синему
- Тами плыли-поплыли четыре утёны,
- Одна ли утёна назад повернула, в терем заглянула
(Ст. Оск., Кохановская, Неск. Русск. пес, 81 (Русск. Бес); поплыли – в значении несовершенном, как и «плыли».
- Кто в гусли играет-поигрывает?
- Игры поигрывает NN,
- Тешит-потешит N N-y, Мезень,
Тр. этн. отд. О.Л.Е.п., V, 2, 66.
- Думаю-подумаю, как мне быть?
Шейн, Рус. нар. пес, 465.
- Бр. Ляцu поляцu, ясен сокол ў чистый бор!
- – А хоць поляту, хоць ни поляту – ни дбаю,
- Миж ўсих лябядзёў свою пташку спознаю.
- А едзе-поедзе молодый Иванька к цясцятку! [439]
- – А хоць поеду, (хоць) ни по еду, ни дбаю,
- Миж ўсих дзевачак свою Машеньку спознаю,
Шейн, Бр. п., 322.
- Шло-пошло коровод дзевок в коморы
- Вяли-повяли молодую с собою, ib. 323.
Мр.
- Їздит-поїздит гордое паня,
- Кличе-покличе турского царя, Голов., IV, 128.
- Там крикне-покликне Хвилоне, Корсуньський полковниче,
- Козаків на Черкень-долину ув охотне війско
- викликає, М., 413.
- Ой кликне-покликне да королю Шведьській
- На гарматі стоя: Втікаймо скоріше, гетьмане Мазепо, З
- Полтавського поля, Цертел., Кир. II, VIII, 187.
Ср. болг. Расла Грозданка порасла Голэма мома стан ла, Doz., 17,
- Нани ми, нани, сирак Георгія!
- Ти да ми растиши и да порастиш
- Та ке те пущам на горно земя, Милад., 352, ib. 123.
Мр. Росла-росла дiвчинонька та й на порi стала; = як росла так росла; ходить кiзочка по крутiй горi, Нiжкою як туп, как туп! Сiрому вовку наругається, М., 229.
С другим предлогом и со значением совершенным: (Марья) золотою метелочкой мела-повымела, Мела-повымела трое (= и) сени новые, Шейн, Рус. нар. пес, 463. Снився – приснився вдовиченку… сон, М., 354.
Ходить-похожає – на 2-м месте с по или с другими предлогами – более длительная форма на – ає, а в вр. – ыва.
- Не спала млада не дремала,
- Ничего во сне не видала,
- Только видела-сповидала:
- Со восточную со сторонку
- Подымалася туча грозна, Кир., VIII, 322.
- Синів своїх кляла-проклинала, М., 350.
- Правду святе письмо свідчить-висвідчає, М., 354.
- Землю Турецьку кляли-проклинали, Ант. и Драг., 1, 91.
- Слухає-прислухaється,
- Чи не радиться хто на славне запорожже гуляти?
- Аж тiлки рaдяться-поражaються
- Три дуки сребраники на каба¦ ийти, М., 378 [440].
Кличе добре покликає, М., 389. Гуляє козак Голота погуляє, Зап. о Ю. Р., 1, 15. Слухає-прослухає, чи не судить ёго де козак альбо мужик, ib. 52, Ходить козакъ похожае, Курить люльку, курить-роскуряе; вовки … квилять-проквиляють, Зап. о Ю. Р., 1, 186; у кобзу грае-вигравае, ib.
/И где-ж ты мое дитятко был-побывал, Кохановская, Русск. Бояр, п., 87./
- Я вечор в торгу был-побывал, ib. 90.
- Как по сеням … ходила похаживала молодая боярыня,
- Будила побуживала сваво друга милова,
Шейн, рус. нар. пес, 460.
- Знаць и познаць по вясельлейку
- Дзевочку сироточку, Мин. г., Мин. V.,
Шейн, Матер., П, 194.
- И где ты, дзевонька едзиш пояжзжаешь? ib. 241.
- Гукала яна да перевозчикоу:
- «Уж вы гой погой перевощики!»
- А нихто да ей не откликнецца. Смол, г.,
Пореч. у., ib. 421.
Соловьюшка, соловей… Куда летал-отлетал… Андреян сударь не женат… Он и ездил, отъезжал, От села до села, Шейн, Рус. нар. пес, 414. Вышла выходила Авдотьюшка душа… Становилась на новое на крыльцо, ib. [415].
Повторение (собственно удвоение, утроение, в отличие от анафоры и пр.) слова, как средство синекдо-хического представления продолжительности действия, интенсивности качества, множества вещей… [441].
А.Н. Веселовский
Историческая поэтика. Л.: Художественная литература, 1940
О методе и задачах истории литературы как науки
Нового языка мы не создаём, мы получаем его от рождения совсем готовым, не подлежащим отмене; фактические изменения, приводимые историей, не скрадывают первоначальной формы слова или скрадывают постепенно, незаметно для двух следующих друг за другом поколений. Новые комбинации совершаются внутри положенных границ, из обветрившегося материала: я укажу в пример на образование романского глагола. Но каждая культурная эпоха обогащает внутреннее содержание слова новыми успехами знания, новыми понятиями человечности. Стоит проследить историю любого отвлеченного слова, чтоб убедиться в этом: от слова дух, в его конкретном смысле, до его современного употребления так же далеко, как от индейского Прамата до Прометея Эсхила.
Это внутреннее обогащение содержания, этот прогресс общественной мысли в границах слова или устойчивой поэтической формулы должен привлечь внимание психолога, философа, эстетика: он относится к истории мысли. Но рядом с этим фактом сравнительное изучение открыло другой, не менее знаменательный факт: это ряд неизменных формул, далеко простирающихся в области истории, от современной поэзии к древней, к эпосу и мифу. Это материал столь же устойчивый, как [51] и материал слова, и анализ его принесёт не менее прочные результаты [52],
Из истории эпитета
Если я скажу, что история эпитета есть история поэтического стиля в сокращенном издании, то это не будет преувеличением, И не только стиля, но и поэтического сознания от его физиологических и антропологических начал и их выражений в слове – до их закрепощения в ряды формул, наполняющихся содержанием очередных общественных миросозерцании. За иным эпитетом, к которому мы относимся безучастно, так мы к нему привыкли, лежит далёкая историко-психологическая перспектива, накопление метафор, сравнений и отвлечений, целая история вкуса и стиля в его эволюции от идей полезного и желаемого до выделения понятия прекрасного [73].
Эпитет – одностороннее определение слова, либо подновляющее его нарицательное значение, либо усиливающее, подчёркивающее какое-нибудь характерное, выдающееся качество предмета. Первый род эпитетов можно бы назвать тавтологическими [73]: красна девица, например, в сущности тождесловие, ибо и прилагательное и существительное выражают одну и ту же идею света, блеска, причём в их сопоставлении могло и не выражаться сознание их древнего содержательного тождества. См. ещё: солнце красное, жлуто злато (сербск.), белый свет, грязи топучие и др.
Второй отдел составляют эпитеты пояснительные: в основе какой-нибудь один признак, либо 1) считающийся существенным в предмете, либо 2) характеризующий его по отношению к практической цели и идеальному совершенству. По содержанию эти эпитеты распадаются на целый ряд групповых отличий; в них много переживаний, отразились те или другие народно-психические воззрения, элементы местной истории, разные степени сознательности и отвлечения и богатство аналогий, растущее со временем.
Говоря о существенном признаке предмета, как характерном для содержания пояснительного эпитета, мы должны иметь в виду относительность этой существенности [74].
Две группы пояснительных эпитетов заслуживают особого внимания: эпитет-метафора и синкретический, сливающиеся для нас в одно целое, тогда как между ними лежит полоса развития: от безразличия впечатлений к их сознательной раздельности [76].
История эпитета, к которой и перехожу, укажет, как и под какими влияниями совершалась эволюция его содержания.
В связи с его назначением: отметить в предмете черту, казавшуюся для него характерной, существенной, показательной, стоит, по-видимому, его постоянство при известных словах. Греческий, славянский и средневековый европейский эпос представляют обильные примеры [78].
…За их (обрядами. – А.Х.) постоянством лежат тысячелетия выработки и отбора. Так и с эпитетом: по существу он так же односторонен, как и слово, явившееся показателем предмета, обобщив одно какое-нибудь высказанное им впечатление, как существенное, но не исключающее другие подобные определения.
При деве – блестящей возможен был, например, не один, а несколько эпитетов, разнообразно дополняющих основное значение слова; выход из этого разнообразия к постоянству принадлежит уже позднейшему подбору на почве усиливавшейся поэтической традиции, песенного шаблона, школы: иные эпитеты понравились по той же причине, по которой пошла в ход и перепевы та или другая песня, а с нею и её образы и словарь… [79].
Очень может быть, что в пору древнейшего песенного развития, которую мы отличаем названием лирико-эпического или синкретического, это постоянство ещё не установилось, лишь позднее оно стало признаком того типически-условного – и сословного миросозерцания и стиля (отразившегося и в условных типах красоты, героизма и т. д.), который мы считаем, несколько односторонне, характерным для эпоса и народной поэзии.
И здесь представляются отличия: народные или исторические – это может разъяснить только частичное исследование, распространенное и на эпические или эпико-лирические песни народов, стоящих на низшей степени культуры. Мне сдаётся, что у них мы не найдём того обилия повторяющихся эпитетов, каким отличается, например, русский и сербский эпос; что последнее явление, как и повторение стихов и целых групп стихов, и богатство общих мест не что иное, как мнемонический приём эпики, уже не творящейся, а повторяющейся, или воспевающей и новое, но в старых формах. Так поют киргизские певцы: их творчество – в комбинации готовых песенных формул; так пели скоморохи и шпильманы, [80].
В истории этого развития отметим несколько моментов,
К одним из них принадлежит забвение реального смысла эпитета с его следствиями: безразличным употреблением одного эпитета вместо другого… [81]. Мы могли бы назвать это явление окаменением; в русском, греческом и старофранцузском эпосах оно вырастает за пределы собственно эпитета, когда оценка явлений известного порядка переносится на явления другого, враждебного или противоположного, когда, например, царя Калина обзывают собакою не только враги, но и его собственный посол в речи, которую он держит к князю Владимиру… [81].
Дальнейшим развитием такого употребления объясняется, что в болгарских: сивъ соколъ, бэлъ голубь, синьо седло, вранъ конь, руйно вино эпитеты не ощущаются более, как цветовые, и прилагательное и существительное сплылись, и значение нарицательного, вызывающего новое определение, иногда подновляющее прежнее, порой в противоречии с ним: сл. руйно вино червено, чрна врана коня, но сивъ бэлъ соколъ, сиви бэли голуби, синьо седло алено.
В иных случаях можно колебаться, идёт ли речь об окаменении или об обобщении эпитета, о чём речь далее. «Малый», «маленький» может не вызывать точной идеи величины, а являться с значением ласкательного, чего-то своего, дорогого… [82].
Другое явление, которое мы отметим в истории эпитета, это его развитие, внутреннее и внешнее. Первое касается обобщения реального определения, что даёт возможность объединить им целый ряд предметов [82].
Белый день, лебедь белая – реальны, но понятие света, как чего-то желанного, обобщилось: в сербской народной поэзии все предметы, достойные хвалы, чести, уважения, любви – белые; сл. в русских и малорусских песнях: белый царь, бiлий молодець, бьел сын, бiла дiвка, бiлое дитя, белая моя соседушка, болг. бэли сватове, бэли карагрошове (то есть чёрные гроши) – под влиянием ли белых «пари» или в обобщённом значении, в котором участвует и литовское battas, являющееся, в свою очередь, в состоянии окаменения в песне, где большие мосты наложены из «белых братцев»; сл. латыш, белая (милая) матушка, доченька, сестрицы, деверья белые братцы – и белые, то есть счастливые дни. Белый, здесь, очевидно, обобщён: реальное, физиологическое впечатление света и цвета служит выражением вызываемого им психического ощущения и в этом смысле переносится на предметы, не подлежащие чувственной оценке. На такой метафоре основана отчасти символика цветов; я разумею символику народную. В северной литературе, например, зеленый цвет был цветом надежды и радости… в противоположность серому, означавшему злобу; чёрный вызывал такие же отрицательные впечатления, рыжий был знаком коварства. Характер обобщения зависел от эстетических и других причин, иногда неуловимых… [83].
К числу распространенных принадлежит обобщение зеленого цвета в смысле свежего, юного, сильного, ясного… [83].
Если в сербской поэзии зелёный является эпитетом коня, сокола, меча, реки, озера, то, очевидно, не под влиянием этимологии (зелен и жёлт, золото), а по указанному обобщению понятия [83], что не исключает в иных случаях (конь зеленко сербск., сив-зелень болгарск.) оттенок цветового порядка… [84].
…Постоянные эпитеты сгладились, не вызывают более образного впечатления и не удовлетворяют его требованиям; в их границах творятся новые, эпитеты накопляются, определения разнообразятся описаниями, заимствованными из материала саги или легенды. Говоря о накоплении эпитетов, я разумею не те случаи, когда при одном слове стоит несколько определений, дополняющих друг друга (сл. русский удалый добрый молодец, и т. д.), а накопление эпитетов однозначущих или близких по значению… [84].
Позднему времени отвечают сложные эпитеты, сокращенные из определений (болгарск. кравицы бэло-бозки, коньовци лЬвогривки и др.) и сравнений, как у Гомера (волоокая, розовоперстая)… [85].
Накопление эпитетов и их развитие определениями я объясняю себе наступлениями личной череды эпического творчества [86].
Когда в былое время создавались эпитеты: ясен сокол и ясен месяц, их тождество исходило не из сознательного поэтического искания соответствия между чувственными впечатлениями, между человеком и природой, а из физиологической неразборчивости нашей, тем более первобытной психики [88–89].
Но помимо личной школы, есть ещё школа истории: она отбирает для нас матерьялы нашего поэтического языка, запас формул и красок… [91].
…Что до нас дошло формулой, ничего не говорящей воображению, было когда-то свежо и вызывало ряды страстных ассоциаций.
Эпитеты холодеют, как давно похолодели гиперболы. Есть поэты целомудренной формы и пластической фантазии, которые и не ищут обновления в этой области; другие находят новые краски и тоны. Здесь предел возможного указан историей: искать обновления впечатлительности и эмоциональной части человеческого слова, выделившегося в особую область музыки, не значит ли идти против течения? [92]
Эпические повторения как хронологический момент
Я различаю повторение-формулу, известное греческому эпосу, встречающееся и во французском, но особенно развитое в славянском и русском: постоянные формулы для известных положений, неотделимые от них, приставшие к ним, как пристал к слову характеризующий его эпитет; с повторением известного положения в течении рассказа возвращаются и соответствующие формулы, [94],
Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля
Язык поэзии продолжает психологический процесс, начавшийся на доисторических путях: он уже пользуется образами языка и мифа, их метафорами и символами, но создаёт по их подобию и новые. Связь мифа, языка и поэзии не столько в единстве предания, сколько в единстве психологического приёма… [133].
…Параллелизм народной песни покоится главным образом на категории действия, что все остальные предметные созвучия держатся лишь в составе формулы и вне её часто теряют значение. Устойчивость всей параллели достигается лишь в тех случаях, 1) когда к основному сходству, по категории действия, подбираются более или менее яркие сходные черты, его поддерживающие, или ему не перечащие; 2) когда параллель приглянулась, вошла в обиход обычая или культа, определилась и окрепла надолго. Тогда параллель становится символом, самостоятельно являясь и в других сочетаниях, как показатель нарицательного [147].
…Отложились путём подбора и под влиянием бытовых отношений, которые трудно уследить, параллели, – символы наших свадебных песен: солнце – отец, месяц – мать; или: месяц – хозяин, солнце – хозяйка, звёзды – их дети; либо месяц – жених, звезда – невеста… [148].
Язык народной поэзии наполнился иероглифами, понятными не столько образно, сколько музыкально, не столько представляющими, сколько настраивающими; их надо помнить, чтоб разобраться в смысле [155].
За смешениями явились созвучия, довлеющие сами по себе, как созвездия: коса – роса – краса; текст некоторых из наших инородческих песен лишён всякого смысла, слух ласкает рифма [155].
Точки зрения, установленные в предыдущей главе, побуждают меня видеть в бессмысленности и бродячести refrains, запевов явление позднее, отвечающее той же стадии развития, которое вызвало явление музыкального параллелизма, игру в рифму и созвучия, обобщило символы и разметало их в призрачных, настраивающих сочетаниях по всему песенному раздолью [156].
Когда такая формула обобщалась, её реальный смысл бледнел, но она уже успела стать выразительницей известного настроения в составе той песни, которую она открывала или к которой вела. В запевах наших песен: Ходила калина, ходила малина, или: Калинушка, малинушка, лазоревый цвет! как и в припеве: Калина, малина! исчезли всякие следы реального символизма.
Этим объясняется перенесение таких обобщенных формул в другие песни сходного тембра и новая роль, в которой начинает выступать запев: он не поддерживает память певца, не вызывает песни, а приготовляет к её впечатлению, приготовляет и слушателей и певца своею метрическою схемой [157],
…Сокол, калина и т. п. прошли несколько стадий развития, прежде чем стать символами жениха, девушки, и этих стадий позволено искать в отражениях народнопоэтического стиля [160].
Но развитие песни не остановилось в границах её основного мотива: психологической параллели запева; она нарастала новым содержанием, общими местами, эпизодическими чертами и оборотами, знакомыми из других песен. Порой они являются у места, иногда вторгаются механически, как вторгался символ, развившийся в другом круге представлений. Иные стихи, группы стихов западали в ухо, как нечто целое, как формула, один из простейших элементов песенного склада, и лирическая песня пользуется ими в разных сочетаниях, как эпическая тавтологией описаний, сказка определенным кругом постоянных оборотов. Изучение подобного рода обобщенных, бродячих формул положит основы народно-песенной и сказочной морфологии [169].
…Многочленный параллелизм принадлежит к поздним явлениям народно-поэтической стилистики; он даёт возможность выбора, аффективность уступает место анализу; это такой же признак, как накопление эпитетов или сравнений в гомеровских поэмах, как всякий плеоназм, останавливающийся на частностях положения. Так чувствует себя лишь успокоившееся чувство; но здесь же источник [176] песенных и художественных loci communes [177].
Не всё, когда-то живое, юное, сохранилось в прежней яркости, наш поэтический язык нередко производит впечатление детритов, обороты и эпитеты полиняли, как линяет слово, образность которого утрачивается с отвлеченным пониманием его объективного содержания. Пока обновление образности, колоритности остаётся в числе pia desideria, старые формы всё ещё служат поэту, ищущему самоопределения в созвучиях – или противоречиях природы; и чем полнее его внутренний мир, тем тоньше отзвук, тем большею жизнью трепещут старые формы [194],
Три главы из исторической поэтики
I
Синкретизм древнейшей поэзии и начала дифференциации поэтических родов
В древнейшем сочетании руководящая роль выпадала на долю ритма, последовательно нормировавшего мелодию и развивавшийся при ней поэтический текст. Роль последнего в начале [200] следует предположить самою скромною: то были восклицания, выражение эмоций, несколько незначащих, несодержательных слов, носителей такта и мелодии. Из этой ячейки содержательный текст развился в медленном ходе истории; так и в первобытном слове эмоциональный элемент голоса и движения (жеста) поддерживал содержательный, неадекватно выражавший впечатление объекта; более полное его выражение получится с развитием предложения [201].
Когда импровизация ограничивалась двумя-тремя стихами, подсказанными случайным впечатлением, наполняющими мелодию бесконечными повторениями, их смысл должен был утратиться тем быстрее. Оттуда явление, довольно распространенное на первых стадиях поэтического синкретизма: поют на слова, которых не понимают; либо это архаизмы, удержавшиеся в памяти благодаря мелодии, либо это слова чужого, соседнего языка, переселившиеся по следам напева. В торжественной умилостивительной пляске карокских индийцев (Калифорния), в которой участвуют одни мужчины, начинают два или три певца, импровизируя воззвание к духам, а затем все поют установленный хорал, текст которого лишён всякого значения. В песнях диких, например, патагонцев, папуасов, северо-американских индийцев, слова столь же бессмысленны; на островах Тонга поются песни на языке Hamoa, которого туземцы не понимают; то же явление наблюдается в Австралии и северной Америке: мелодия передаётся с словами от одного смежного племени к другому и переживает понимание текста. Язык «змеиной песни» индийцев Passamaquoddy непонятен самим певцам, как слова военной песни ирокезов: его словарь либо архаичен, либо принадлежит к тайным и условным; австралийцы нередко не понимают текста песен, [205] сложенных на их же диалекте, адамнанский певец бывает принужден объяснять хору и слушателям значение им же сложенной песни.
При таких отношениях текста к мелодии первый является в роли стропил, лесов, поддерживающих здание: дело не в значении слов, а в ритмическом распорядке; часто поют и без слов, и ритм отбивается например барабаном, слова коверкаются в угоду ритма: в устах негров тексты Св. Писания и хорошо им знакомых церковных песнопений искажаются на все лады, лишь бы подогнать их под условия ритма. Это явление можно проследить и далее: Миклошич объяснял его в сербских песнях в связи с «усилением», обычным в турецком языке, например: U rjega mi bijajbe bri hjegova britka sallja; или в заговоре: ustu, ustupite, anatemnici. Так, наоборот, в песенном исполнении русских духовных стихов Федосовой стих обрывался, в уровень с концом музыкальной фразы, на последнем ударяемом слоге; следующий, неударяемый, умалчивался. Это невольно поднимает вопрос: в каком хронологическом отношении находится текст и размер стиха к сопровождающему его напеву? Что к чему прилажено?
Слова вообще не крепки к тексту: индийцы Navajos поют подряд несколько песен на тот же сюжет, но на разные мелодии и с разными припевами; маорисы, поэзия которых стоит уже на степени значительного содержательного развития, подбирают слова к знакомым напевам; когда об этих песнях говорится, что они не только держатся в памяти, но и унаследуются, то понятен вопрос: что подлежит традиции, текст или мелодия? Ещё в средние века мелодия почиталась важнее связанного с нею слова и могла распространяться отдельно.
Преобладание ритмическо-мелодического начала в составе древнего синкретизма, уделяя тексту лишь служебную роль, указывает на такую стадию развития языка, когда он ещё не владел всеми своими средствами, и эмоциональный элемент в нём был сильнее содержательного, требующего для своего выражения развитого сколько-нибудь синтаксиса, что предполагает в свою очередь большую сложность духовных и материальных интересов. Когда эта эволюция совершится, восклицание и незначащая фраза, повторяющаяся без разбора и понимания, как опора напева, обратятся в нечто более цельное, в действительный текст, эмбрион поэтического; новые синкретические формы вырастут из среды старых, некоторое время уживаясь с ними, либо их устраняя. Содержание станет разнообразнее в соответствии с дифференциацией бытовых отношений, а когда у народа явится и раздельная память прошлого, создастся и поэтическое предание, чередуясь с старой импровизацией; песня станет переходить из рода в род, от одной народности к другой, не только как мелодия, но и как сам по себе интересующий текст [206].
Рядом с общими местами содержания, отвечая им, развилось такое же явление в области стиля: он стал типическим, тем, что я выше назвал эпическим схематизмом. У певцов свой песенный Домострой, отражение, иногда застывшее, бытового: герои определенным образом снаряжаются к бою, в путь, вызывают друг друга, столуют; один, как другой; всё это выражается определенными формулами, повторяющимися всякий раз, когда того требует дело. Складывается прочная поэтика, подбор эпитетов, стилистических мотивов, слов и эпитетов: готовая палитра для художника. При данных условиях продукция певца напоминает приёмы commedia dell'arte дан коротенький libretto, знакомы типы Арлекино, Коломбины, Панталоне; актёрам представлен определенный всем этим диалог и свобода lazzi. Певец знает песни, характерные черты действующих лиц, всё остальное доскажет его поэтика; тот же или другой певец пропоёт ту же песню в другой раз иначе, разница будет в подборе некоторых общих мест, в забвении того или другого эпизода libretto, но существенное повторится. Устойчивость такого стиля – в певческом, я бы сказал, школьном предании. Когда на финских свадьбах и других народных празднествах раздаются руны, тот, кто в таких случаях услышит незнакомую песню, старается её запомнить, но, повторяя её перед другими, скорее держится её содержания, чем буквальной передачи: то, чего он не запомнит слово в слово, он споет своими словами, и часто даже лучше, чем сам слышал. За него говорит сложившаяся стилистика [268].
…Что мы зовём народною лирическою песней, не что иное, как разнообразное сочетание тех же простейших мотивов, стихов или серий стихов: вы встретите их там и здесь, как общее место; порой они накопляются, видимо, бесцельно, подсказанные мелодией и темпом, как во французских motets, порой развиваются содержательно, один мотив вызывает другой, сродный, как рифма вызывает рифму. Всё это бывает связано незатейливо, диалогом, либо каким-нибудь положением: кто-то ждет, задумался, плачется, зовёт и т. п., и стилистические формулы служат к анализу психологического содержания: формулы печали, расставания, привета, как в эпической песне есть формулы боя, столованья и т. д.; тот же стилистический Домострой [272].
II
От певца к поэту. Выделение понятия поэзии
Слова переживали, возникали и обновлялись на путях развития, и значение перерастало этимологию [328].
Из таких формул состоит весь наш поэтический язык; в этом интерес его изучения [343].
III
Язык поэзии и язык прозы
Язык поэзии, подновляя графический элемент слова, возвращает его, в известных границах, к той работе, которую когда-то проделал язык, образно усваивая явления внешнего мира и приходя к обобщениям путём реальных сопоставлений [355].
На степени, видимо, более отдаленной от требований чисто физиологического порядка, стоит наша любовь к параллельно построенным формулам, части которых объединены одинаковым падением ударения, иногда поддержаны созвучием <…>, рифмой или аллитерацией и содержательно-психологическим параллелизмом членов предложения [356].
Ударение выдвигало известные слова над другими, стоящими в интервалах, и если такие слова представляли ещё и содержательное соответствие, то, что я разобрал под названием «психологического параллелизма», к риторической связи присоединялась и другая.
Так выделялись формулы, пары или группы слов, объединенных отношениями не только акта, но и образов и вызываемых [356] ими понятий. Формулы могли быть разнообразные; полюбились те, которые были или казались суггестивными; от них пошло дальнейшее развитие. Сокол унёс лебедь белую, молодец увёз, взял за себя девушку; вот схема, части которой объединены параллелизмом образов и действий; равномерное падение ритма должно было закрепить совпадение сокола – молодца, девицы – лебеди, унёс – увёз и т. д. Части этой формулы и других, ей подобных, так крепки друг другу, так соприсущи сознанию, что одна часть может идти за другую: сокол-лебедь может вызвать представление о молодце и девушке; сокол становится показателем молодца, жениха; либо части схемы сплетаются так причудливо, что действие или образы одной переносятся в другую, и наоборот. Так из психологического параллелизма, упроченного ритмическим чередованием, развились символы и метафоры песенного, поэтического языка, и становится понятным специальный источник его образности. Она должна была поднять вообще образный элемент слова там, где он успел уже стереться в обиходе обыденной, немерной речи: оживали в новом окружении старые слова – метафоры; обилие эпитетов, давно отмеченное как признак поэтического стиля, отвечает тому же требованию: в слове подчеркивались реальные черты образа или одна какая-нибудь черта, которая выделяла его и часто становилась неотделимой от слова.
Основы поэтического стиля – в последовательно проведенном и постоянно действовавшем принципе ритма, упорядочившем психологически-образные сопоставления языка; психологический параллелизм, упорядоченный параллелизмом ритмическим.
Наблюдения над песнями разных народов, стоявших вне круга обоюдных влияний, приводят к заключению, что некоторые простейшие поэтические формулы, сопоставления, символы, метафоры могли зародиться самостоятельно, вызванные теми же психическими процессами и теми же явлениями ритма. Сходство условий вело к сходству выражения; отличия бытовых форм, фауны и флоры и т. п. не могли не отразиться на подборе образов, но качества отношений, источник символизма, являлись те же. Где не знали сокола, другой хищник мог быть символом жениха, девушка – другим цветком там, где не цветёт роза.
Если относительно легко представить себе условия зарождения поэтического стиля, то историю его древнего развития и обобщения можно построить разве гипотетически. Можно представить себе, что где-нибудь, в обособленной местности, в небольшой группе людей, раздаётся, пляшется и ритмуется простейшая песнь и слагаются зародышные формы того, что мы называем впоследствии поэтическим стилем. То же явление повторяется, самозарождается по соседству, на разных пунктах [357] того же языка. Мы ожидаем общения песен, сходных по бытовой основе и выражению. Между ними происходит подбор, содержательный и стилистический; более яркая, выразительная формула может одержать верх над другими, выражавшими те же отношения, как например, в области гномики одно и то же нравственное положение могло быть выражено различно, а понравилось в одной или двух схемах-пословицах, которые удержались. Так на первых же порах из разнообразия областных песенных образов и оборотов могло начаться развитие того, что в смысле поэтического стиля мы можем назвать <койне>… [358].
…Обратим внимание на некоторые с виду загадочные явления в области западной народной песни: народ поёт не на своих диалектах, а на литературном языке, либо на языке повышенном, близком к литературному [358].
Наблюдения над языком песни оттеняются наблюдениями над стилем сказки. Тогда как французские сказки сказываются на диалектах и лишь в редких случаях употребляется литературный язык, в песнях наблюдается обратное явление, и не только во Франции, но и в Норвегии (по замечанию Мое) и на Литве. Язык литовских сказок сильно отличается от песенного, говорит Бругман: последний держится, так сказать, высокого стиля, словарь и грамматика во многих [358] случаях разнятся от обычной разговорной речи, суффиксы не дают возможности заключить о характере местных говоров [359].
Оказывается, что в областях, отдаленных от большой исторической дороги либо живших когда-то самостоятельною политическою жизнью, в песне господствуют местные диалекты: так в Дитмарше, у семиградских немцев, в немецких же поселениях, включенных в иноязычную среду, например в Kuhlndchen, в Италии, Провансе, Гаскони. Иначе в средней Германии и на Рейне: здесь уже с XV-го века происходило песенное общение между отдельными областями, и диалекты настолько сближались, что усвоение народом песни на общелитературном языке не представляло особых затруднений. Либо наблюдается отличие по категориям песен: в Нормандии, Шампани, в области Меца и французской части Бретани песни необрядового, балладного и т. п. характера поются на общефранцузском языке, тогда как другие, раздающиеся во время празднеств, процессий, – на диалектах; при этом интересно отметить, что древние и наиболее поэтичные песни последней категории, например майские, также отличаются общефранцузским типом языка, тогда как новые и более грубые предпочитают местный говор. В Швабии, Баварии, Фогтланде импровизированные четверостишия, песни на случай, сатирические, принадлежат диалекту; большинство других поются на языке, близком к литературному.
Мне думается, что эти факты можно обратить к освещению занимающего нас вопроса: об образовании народно-поэтического <койне> на больших исторических дорогах и вообще в благоприятных условиях соседства и взаимных влияний диалекты общались, сближались формы и словарь, получалось нечто среднее, действительно шедшее навстречу литературному языку, когда он сложился в том или другом центре и стал районировать. Общались в тех же условиях и народные областные песни, и я объясняю этим общением подбор и выбор тех мелких стилистических форм и приёмов, которые мы предположили самозарождающимися в начале всякой поэзии. Так сложились, выделившись из массы частных явлений, основы более общего [359] поэтического стиля; его образность и музыкальность повышали его над неритмованным просторечием, и это требование повышенное™ осталось в сознании, даже когда выражалось нерационально: французские и немецкие песни на «литературном» языке могли быть занесены из города и сохранить лингвистическую окраску центрального, не местного говора, но могли и впервые сложиться в его формах, потому что для западного крестьянства язык горожан, литературный, естественно казался чем-то особым, повышающим песню над серым колоритом диалекта.
Повышенный язык литовских песен в сравнении с сказками исключает ли возможность литературных воздействий? Специалистам решать, чем объяснить это отличие: повышением ли песенного языка и стиля над окружающими говорами или архаизмом. Сказка более свободна, постоянные формулы являются враздробь, не связывая изложения; из песни, говорят, слова не выкинешь, что несправедливо, но формула крепче держит в ней слово под охраной ритма.
Остановлюсь мимоходом на отношениях обрядовой – диалектической и балладной, литературной песни. Язык второй – продукт общения, язык первой крепок местному обычаю, формам быта, довлеющим самим себе, не переносимым, потому что они коренятся в жизни. Можно ли заключить из этого, что и соответствующие поэтические формулы не переносились из одного района в другой, где существовали те же условия быта? Я говорю о формулах несколько сложных, о которых нельзя поднять вопрос самостоятельного зарождения. Они также могли переноситься, оттесняя другие, сходные и водворяясь в переходных и новых формах языка, участвуя в том общении, которое приходило постепенно к поэтическому <койне>. Так некоторые запевы проходят по всем говорам русского и польского языков, повторяясь и видоизменяясь. Где-нибудь они слышались впервые и повлияли заразительно. Если символ овладевающей любви = срывание цветка объясняется самозарождением, то запев: Зеленая рутой ькн и т. д., раскинувшись далеко, дело заражения, то есть общения местных поэтических стилей.
Чем больше расширялись границы общения, тем более накоплялось матерьяла формул и оборотов, подлежавших выбору или устранению, и поэтический <койне> обобщался, водворяясь в более широком районе. Его отличительная черта – это условность, выработавшаяся исторически и бессознательно обязывающая нас к одним и тем же или сходным ассоциациям мыслей и образов. Из ряда эпитетов, характеризующих предмет, один какой-нибудь выделялся как показательный для него [360], хотя бы другие были не менее показательны, и поэтический стиль долго шёл в колеях этой условности, вроде «белой» лебеди и «синих» волн океана. Из массы сопоставлений и перенесений, выразившихся уже в формах языка, отложившихся из психологического параллелизма песни, впоследствии обогащенных литературными влияниями, отобрались некоторые постоянные символы и метафоры, как общие места <койне>, с более или менее широким распространением. Таковы символы птиц, цветов-растений, цветов-окрасок, наконец чисел; упомяну лишь о широко распространенной любви к троичности, к трихотомии. Таковы простейшие метафоры: зеленеть – молодеть, тучи – враги, битва – молотьба, веянье, пир; труд – печаль; могила – жена, с которой убитый молодец на веки обручился и т. д. Сопоставления народной песни, в которых образы внешней природы символически чередуются с человеческими положениями, отлились в условность средневекового немецкого Natureingang, Источником другого рода общих мест являлись повторения, объясняемые захватами песенного исполнения; ритмические приёмы, свойственные возбужденной речи, как, например, в южнославянских, малорусских, новогреческих, немецких песнях формула вопроса, вводящая в изложение, часто отрицающая вопрос: Jbto se beli u gori zelenoj? Was zoch si ab irem haubet? Was zog er abe vom finger? и т. д. К общим местам относятся формулы: вещих сновидений, похвальбы, проклятия, типические описания битвы; всё это нередко тормозит развитие, но принадлежит к условностям народной поэтики. Условность классических и псевдоклассических жанров не отличается по существу; протест романтиков во имя более свободных форм народной песни в сущности обратился от одной условности к другой.
Когда в поэтическом стиле отложились таким образом известные кадры, ячейки мысли, ряды образов и мотивов, которым привыкли подсказывать символическое содержание, другие образы и мотивы могли находить себе место рядом с старыми, отвечая тем же требованиям суггестивности, упрочиваясь в поэтическом языке либо водворяясь не надолго под влиянием переходного вкуса и моды. Они вторгались из бытовых и обрядовых переживаний, из чужой песни, народной или художественной, наносились литературными влияниями, новыми культурными течениями, определявшими, вместе с содержанием мысли, и характер её образности. Когда христианство подняло ценность духовной стороны человека, принизив плоть, как что-то греховное, подвластное князю мира сего, понятие физической красоты потускнело и повышалось лишь под условием одухотворения; вместо ярких эпитетов должны были явиться полутоны: color di perla – окраска жемчужины – [361] таково впечатление красавицы у Данте и в его школе. К символам, выработанным на почве народно-поэтической психологии, подошли другие, навеянные христианством… [362].
Статистика общих мест и символических мотивов поэтического стиля, возможно широко поставленная, дала бы нам возможность приблизительно определить, какие из них, простые и далеко распространенные, могут быть отнесены к формулам, везде одинаково выразившим одинаковый психический процесс, в каких границах держатся другие, не влияя и не обобщаясь, показатели местного или народного понимания; в какой мере, наконец, и на каких путях литературные влияния участвовали в обобщении поэтического языка. В такой статистике всегда будут недочёты, явятся и новые категории вопросов, по которым распределится материал, смешения и переходные степени, определимые лишь частичным анализом [362].
Образ птицы встретится нам в группе формул, типически отвечающих разным стадиям любви. Отвлеките от народной [363] лирической песни её часто несложный сюжет, и в остатке получится условная символика языка (любить = склоняться, виться, пить, замутить, топтать, срывать и т. д.), результат психологического процесса, и столь же условные формулы – положения, результат стилистических наслоений [364].
Я коснулся лишь немногих мотивов, символов и образов и их сочетаний, свойственных поэтическому языку, то выработавшихся самостоятельно в той или другой песенной области и народности, то рассеянных по художественной или народной песне из одного определенного источника. Все они произошли или были усвоены на почве музыкально-ритмических ассоциаций и составляют специальность поэтического словаря; все они испытывают в течение времени известное обобщение, приближаясь к значению формул, как в процессе, которому подлежит человеческое слово вообще на пути от его древней образности к отвлечению; но в минуты возбуждения, на крыльях ритма, в руках действительного поэта, они могут быть по-прежнему определенно суггестивны. Говоря о поэтическом стиле, Уланд подчеркнул явление обобщения, но, по-моему, не достаточно остановился на суггестивности формул, именно как формул [375].
…Поэтический язык состоит из формул, которые в течение известного времени вызывали известные группы образных ассоциаций положительных и ассоциаций по противоречию; и мы приучаемся к этой работе пластической мысли, как приучаемся соединять со словом вообще ряд известных представлений об объекте. Это дело векового предания, бессознательно сложившейся условности и, по отношению к той или другой личности, выучки и привычки. Вне установившихся форм языка не выразить мысли, как и редкие нововведения в области поэтической фразеологии слагаются в её старых кадрах. Поэтические формулы – это нервные узлы, прикосновение к которым будит в нас ряды определенных образов, в одном более, в другом менее; по мере нашего развития, опыта и способности умножать и сочетать вызванные образом ассоциации.
Мы можем перенести этот вопрос и в область более сложных поэтических формул: формул – сюжетов, о чём будет речь в следующих главах поэтики. Есть сюжеты новоявленные, подсказанные нарастающими спросами жизни, выводящие новые положения и бытовые типы, и есть сюжеты, отвечающие на вековечные запросы мысли, не иссякающие в обороте человеческой истории. Где-то и кем-нибудь таким сюжетам дано было счастливое выражение, формула, достаточно растяжимая для того чтобы воспринять в себя не новое содержание, а новое толкование богатого ассоциациями сюжета, и формула останется, к ней будут возвращаться, претворяя её значение, расширяя смысл, видоизменяя её. Как повторялась и повторяется стилистическая формула «желания», так повторяются на расстоянии веков, например, сюжеты Фауста и Дон-Жуана; религиозные типы подлежат такому же чередованию пересказов: картина Репина, которую мне удалось видеть в его мастерской, представляет блестящее доказательство того, что евангельский рассказ об искушении Христа ещё далеко не исчерпан художниками и способен вызвать новое поэтическое освещение. Как в области культуры, так, специальнее, и в области искусства мы связаны преданием и ширимся в нём, не созидая новых форм, а привязывая к ним новые отношения; это своего рода естественное «сбережение силы». К числу многих парадоксов, наполняющих статью гр. Л. Толстого об искусстве, принадлежит и следующий, особенно яркий, едва ли имеющий вызвать даже полемику: будто так называемые поэтические [376] сюжеты, то есть сюжеты, заимствованные из прежних художественных произведений, – не искусство, а «подобие искусства». Пример – сюжет Фауста. Пушкин уже ответил на это: «Талант не волен, – писал он, – и его подражание не есть постыдное похищение… признак умственной скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые миры, стремясь по стезям гения». Иных, менее оригинальных поэтов возбуждает не столько личное впечатление, сколько чужое, уже пережитое поэтически; они выражают себя в готовой формуле. «У меня почти всё чужое, или по поводу чужого, и всё, однако, мое», писал о себе Жуковский [377].
Исторически поэзия и проза, как стиль, могли и должны были появиться одновременно: иное пелось, другое сказывалось. Сказка так же древня, как песня; песенный склад не есть непременный признак древнего эпического предания… [377]
Язык поэзии всегда архаичнее языка прозы, их развитие не равномерно, уравновешивается в границах взаимодействия, иногда случайного и трудно определимого, но никогда не стирающего сознания разности. «Белый свет» нашей народной песни такая же тавтология, как «белое молоко»; Аристотель считает последнее сочетание возможным в поэзии, неуместным в прозе… [379]
Из лекций по истории лирики и драмы
Так что наш язык есть сколок с древнего мифического языка; но старая форма наполнилась новым содержанием жизни. Этому отвечает то, что я называю параллелизмом [401].
Если разобрать все эти примеры, то вы получите ряд параллелей: лес – парень, вишня – Марися, калина – девица, явор – милый, рябина – дивчина, черемуха – девица, ель – Маланья и т. д. Параллель касается не только субъекта, но и объекта действия и даже некоторых признаков субъекта.
Так: явор шумит, милый журит; вишня клонится до корня, Марися – до батьки; зеленый – весёлый (параллель между признаками) и т. д. Исходя из единичных черт сравнение могло быть распространено и на целое, так что часто можно народную поэтическую символику объяснять как результат древнейшего поэтического параллелизма. В самом деле, уже в приведенных примерах вы могли заметить целый ряд растений, цветов, являющихся носителями какой-нибудь идеи, показателями известного настроения, символами. Мифологи, встречаясь с ними, решают дело просто: они аподиктически утверждают, что этим цветам давалось прежде особое значение, что рута, например, означала девственность. Но почему возник этот символ, на этот вопрос они не дают ответа. Таким образом, ничего в сущности не объясняя, они объясняют всю символику и решают себе дело так: первоначально в песне фигурировал параллелизм образов, но в силу вещей одна из параллелей выпадала, и за цветком утверждалось символическое значение. Такого рода воззрение устраняет ряд ненужных гипотез о данном сверху, необъяснимом значении цветка. Для решения этого вопроса наша славянская поэзия даёт богатый материал… [403].
К 3-й группе параллелизмов я отношу ряд фактов, представляющих искажение древнего параллелизма. Изучая народную поэзию, вы часто встретитесь с рядом формул, которые как-то не клеятся с последующим ходом песни. Формула становится общим местом, которым начинают орудовать, как материалом поэтического языка. Так некоторые песни начинаются вопросом: гром ли гремит? земля ли трясётся? Ни то, ни другое, ни третье, а вот то-то. Здесь певец орудует параллелизмом, который некогда имел реальное значение, орудует как ритмической формулой, обветрившейся, утратившей прежний смысл. Формула стала ни больше, ни меньше как топиком. В моей рецензии на «Материал и исследования, собранные П.П. Чубинским», я выбрал и изучил несколько песен со стороны их структуры, и оказалось, что можно выделить ряд общих мест, которые новейший певец переносит из одной песни в другую [405].
Русская песня пошла ещё дальше в забвении символизма, заменив руту – сосною. Затем символический образ руты вёл к идеям разлуки, удаления; они лежали в нём потенциально; я представляю себе, что под влиянием аффекта певица могла нарушить их последовательную ассоциацию и что воспоминание о руте вызвало непосредственно идею удаления, дальней дороженьки; тогда она начинала свою песнь таким образом:
Далёкая дороженька, жовтiй цвiт!
Логическая связь видимо нарушена, психическая остаётся: она не спета, а додумана [412],
Затем следует упомянуть о косности эпитета. Эпитет остаётся, а слово между тем развивается и в конце оказывается противоречие между словом и эпитетом. Так в сербском эпосе говорится о белых руках мавра… [451].
Поэтика сюжетов
Задача исторической поэтики, как она мне представляется, – определить роль и границы предания в процессе личного творчества [493].
Так сложился ряд формул и схем, из которых многие удержались в позднейшем обращении, если они отвечали условиям нового применения, как иные слова первобытного словаря расширили свой реальный смысл для выражения отвлеченных понятий. Всё дело было в ёмкости, применяемости формулы: она сохранилась, как сохранилось слово, но вызываемые ею представления и ощущения были другие; она подсказывала, согласно с изменившимся содержанием чувства и мысли, многое такое, что первоначально не давалось ею непосредственно; становилась, по отношению к этому содержанию, символом, обобщалась. Но она могла и измениться (и здесь аналогия слова прекращалась) в уровень с новыми спросами, усложняясь, черпая матерьял для выражения этой сложности в таких же формулах, переживших сходную с ней метаморфозу. Новообразование в этой области часто является переживанием старого, но в новых сочетаниях [493].
Под мотивом я разумею формулу, отвечавшую на первых порах общественности на вопросы, которые природа всюду ставила человеку, либо закреплявшую особенно яркие, казавшиеся важными или повторявшиеся впечатления действительности. Признак мотива – его образный одночленный схематизм… [494].
…История поэтического стиля, отложившегося в комплексе типических образов-символов, мотивов, оборотов, параллелей и сравнений, повторяемость или и общность которых объясняется либо а) единством психологических процессов, нашедших в них выражение, либо б) историческими влияниями… Поэт орудует этим обязательным для него стилистическим словарём (пока не составленным); его оригинальность ограничена в этой области либо развитием (иным приложением: суггестивность) того или другого данного мотива, либо их комбинациями; стилистические новшества приурочиваются, применяясь к кадрам, упроченным преданием [498].
Н.М. Лопатин, В.П. Прокунин
Сборник русских народных лирических песен. М., 1889
Насколько обрядовая песня подвержена косности, настолько лирическая почти совсем не остаётся в покое, а, как сама жизнь, разнообразно изменяется. Она прилагается к различным эпохам народной жизни, применяется к известному месту, к различным положениям человека и к его занятиям, которые часто кладут на неё свою печать. Часто одна песня порождает из себя другую; одна и та же песня поётся в одной губернии одним образом, в другой совсем другим. Из лирических песен одни составляют наследие древности, другие возникли в недавнее время и продолжают возникать и изменяются теперь. Это всё производит разнообразие лирических песен и большое количество их вариантов [2].
…Народная песня представляет полное единение слов песни и её напева. Отступление от правильного расположения текста их влечёт за собой изменение в напеве; измененный напев часто требует иного расположения слов. Это обусловливает то, что народный певец хоть и поёт песню, делает и сложные переходы голосом, а вместе с тем всегда как будто рассказывает её… Здесь пропуск повторенного слова, иногда частицы ах или: да, и, уж – разрушает весь текст песни, т. е. весь её склад. Лад песни, т. е. её напев и склад – песенная речь, друг от друга неотделимы [3].
Со стороны стилистики эти песни («Горы», «Поле», «Лес». – А.Х.) весьма замечательны по древней чистоте языка, силе и краткости. В них нет почти ни единого выражения, которое не составляло бы обще-эпических выражений народно-песенной речи [80].
Эти древние песни представляют собой строгий классический тип напевов, вероятно, потому, что они, закаменев, так сказать, на одних и тех же музыкальных оборотах и поэтических образах, сделавшихся эпическими местами, сами менее дают раздолья выражению лирического чувства, чем песни позднейшие [86].
…В Орловской губернии не упоминается ни об ельнике, ни об березнике и осиннике, а говорится о траве мураве: окружающая действительность часто отражается в описательной части песен, и часто, под влиянием личного творчества, производятся изменения там, где выражения песен не сделались эпическими местами [96].
Но таково свойство народной поэзии, что в ней определенные чувства выражаются всегда более или менее однообразными оборотами речи, откуда и возникают известные, твёрдо устанавливающиеся формы народно-поэтического изображения и выражения, впоследствии делающиеся эпическими местами в образовании позднейших песен. Многие песни расставания именно выражаются этими последними словами «Дороженьки» [97].
Часто лирическая народная песня сохраняет в себе древнейшие воспоминания, но в то же время она служит и живым источником выражения чувств поющих, которые песню непосредственно применяют к себе и к своей обстановке [109].
В лирических песнях остаются древнейшие исторические воспоминания в виде эпических мест песни, её картины, общего её тона и колорита, иногда подробностей в дальнейшем развитии песни, как и здесь, – упоминается атаман и есаул, – но не удерживаются непосредственные обращения к лицам, не имеющим живого интереса, и к вставкам, не связанным органически с общим смыслом песни [159].
Определенные факты по большей части, если не всегда, бывают настолько скрыты в лирических песнях, что не представляется возможным указывать на них, и интереса особенного в них нет. В лирической песне важно общее её значение… [220].
Вс. Миллер
Очерки русской народной словесности. М., 1897
В так называемых типических местах, указываемых Гильфердингом, я на основании его же слов различил бы два разряда: во-первых, общие места (loci communes), т. е. эпические описания, которые отлились исстари в определенную форму (напр., описание процесса седлания) и переносятся свободно из одного сюжета в другой, если есть для этого какой-нибудь случай. Эти места составляют такую же принадлежность эпического склада, как постоянные эпитеты в народной поэзии. Как сказитель всякий раз при упоминании поля прибавит к нему эпитет чистого, так он же при описании седлания каждый раз воспользуется готовою, давно установленной картинкой.
Во-вторых, типические места, как видно из приведенного Гильфердингом примера, это – «речи, влагаемые в уста героев». Такие речи уже не шаблоны, а в собственном смысле типические, т. е. из них, главным образом, слагается тип, духовный облик того или другого действующего лица. Они важны для характеристики того или другого богатыря и потому заучиваются наизусть или, по крайней мере, твёрже усваиваются в деталях, так как на них сосредоточен психологический интерес [15].
…Раз введено сказителем махание татарином, оно обыкновенно сопровождается известными традиционными словами («А и крепок татарин – не изломится, а и жиловат, собака, – не изорвется») [17].
Не имея в виду исчерпать наблюдений над былинными зачинами, я укажу только на значение, которое они имеют для критики былин и, быть может, для их хронологии и истории сложения. Известный зачин мог принадлежать вначале одной былине или группе былин об одном богатыре. Затем, как мы видели, тот же зачин мог быть усвоен другими былинами, как удобный исходный пункт для слагателя, имевшего в виду обделать в виде былины какой-нибудь новый сюжет… Если мы вспомним при этом, что с известным зачином был связан известный напев и что напев запоминается скорее слов и помнится твёрже, то поймём, какое значение получают зачины при сложении «новых погудок на старый лад» [42].
Помимо нескольких стереотипных зачинов, слагатель новой былины имеет перед собою целую массу старых эпических материалов, годных для новой постройки. Я говорю о давно установившихся описаниях, представляющих ряд передвижных картинок, которые могут быть расходуемы по мере надобности при каждом подходящем случае [42].
…Слагатели имели в своём распоряжении наследованные исстари типические стихотворные места. Такой фонд поэтических формул, выкованных долгим употреблением, существовал уже у слагателей (певцов) самых древних, достижимых нашему анализу, песен, и они усвояли его памятью при тщательном изучении наизусть [47].
Кроме отдельных эпических картинок или поэтических формул, бывших в распоряжении наших слагателей, они располагали и запасом красок, которыми окрашивали отдельные предметы, входившие в описание и рассказ. Я разумею готовый фонд постоянных, искони утвердившихся эпитетов. Собственно говоря, постоянные эпитеты составляют принадлежность вообще языка народных произведений и не относятся специально к языку былин [47–48].
П.В. Шейн
Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. Т. 1, вып. первый. СПб., 1898
Мне казалось, что чисто народная песня, хотя и не древнего склада, непременно знакомит нас, и очень близко, со многими сторонами быта русского человека, с его верованиями и т. п., и во всяком случае с неисчерпаемым богатством его языка, которым он так творчески умеет пользоваться [V].
С этой стороны, мне сдавалось, собиратель не должен пренебрегать песней, даже не занимательной по содержанию. Он должен непременно внести в своё собрание, если только она отличается некоторыми замечательными особенностями по языку [V].
Местный говор сохранен почти везде. Я говорю почти везде, потому что некоторые из лиц, обязательно доставивших мне песни своей родной местности, не обратили достаточное внимание на это главное требование науки [VI].
М. Сперанский
Русская устная словесность. М., 1917
…Что касается языка устно-народных произведений (морфологии, отчасти фонетики), то как в виде творчества традиционном, скованном определенной формой речи, он, естественно, будет в общем отличаться от языка обыденной речи носителей этих произведений: если язык этих произведений воспринимает диалектические особенности местности, где поётся или сказывается то или иное произведение, то рядом с этим в них мы найдём (особенно в стихотворных произведениях) ряд особенностей сравнительно с живой речью: это будут отчасти архаизмы языка, иногда восходящие ко времени создания произведения, иногда изменения, обусловленные потребностями формы произведения. Нагляднее это можно представить себе, взявши самый развитой вид творчества – былины – и присмотревшись к языку их сравнительно с нашей литературной речью… [150].
Ф.П. Филин
Очерк истории русского языка до XIV столетия // Учёные записки ЛГПИ. Т. 27, 1940
Язык народной поэзии был теснейшим образом связан с племенными, позже областными феодальными диалектами, но он не был тождественен диалектной разговорной речи… Широкая распространенность языка эпоса ставила его над диалектными расхождениями, выдвигала его на ступень своеобразного народного речевого койнэ [92],
В.В. Виноградов
Великий русский язык. М., 1945
Квинт-эссенцией народного языка является словесно-поэтическое творчество народа, фольклор. Устная народная словесность – кристаллизация семантики народного языка. Поэтому народная поэзия нередко рассматривается как воплощение основных тенденций системы народной речи, основных начал народного духа [98].
Л.Н. Толстой считал, что язык, которым говорит народ, есть «лучший поэтический регулятор» [99].
Русский литературный язык на протяжении всей своей истории пользовался этим народно-поэтическим регулятором. Устная языческая словесность широким потоком вливалась в древнерусский письменный язык ещё в период его формирования. Почти вся древнерусская письменность проникнута отражениями, отзвуками и языком старорусской эпики и лирики. В сказаниях, летописях, повестях и многих других видах древнерусского литературного творчества заключается огромное количество цельных произведений и фрагментов, непосредственно и посредственно восходящих к народной творческой стихии. Изучение, впрочем, далеко ещё не полное, этого материала обнаруживает целую цепь географических и хронологических этапов в развитии того, что мы условно называем народной словесностью.
Богатство и свежесть красок языка народной поэзии, сила её проникновения в древнюю литературу ярко обнаружилась в поэтическом языке «Слова о полку Игореве». В XIV в, под напором книжно-славянской струи поток народно-поэтической речи несколько сузил свои пределы в русском письменном языке, во всяком случае, в его высоких стилях. Но даже в период феодальной раздробленности, когда на роль государственно-деловых языков отдельных княжеств претендовали поместно-территориальные диалекты, устная народная поэзия и её язык выступали как великая культурно объединяющая сила, как фактор национального сплочения. Именно в недрах устного народного творчества закладывался фундамент будущего национального языка. Стили народной поэзии (особенно былины, исторической песни, сказки, пословицы) были чужды местной, областной исключительности. Они развивались как общерусский народно-поэтический язык. Их усилившееся влияние на русский письменный язык в XIV–XVII и в начале XVIII в. было симптомом роста национального самосознания. Оно отражало напряженный процесс образования общерусского национального языка.
Любопытно, что сборники пословиц и поговорок, идущие от XVII в., отражают в основном ещё до сих пор не выветрившийся, не вышедший из употребления фонд народной фразеологии. Это является доказательством того, что связь между системами общерусского языка на разных ступенях его развития, самая крепкая и жизненная, создаётся с помощью элементов и форм народной речи, народной поэзии. Словесное творчество народа служит непоколебимым и не подверженным разрушению фундаментом русского литературного языка [99—101].
Таким образом, язык народной поэзии был источником и опорой развития древнерусского языка. Он же стал основным цементирующим элементом в системе русского национального языка. Связь русской языковой культуры XVIII в. с фольклором общепризнана. Специфически-дворянская и тем более придворная культура была в России XVIII в. достоянием сравнительно небольшого слоя населения, окруженного морем народной стихии, – в искусстве – фольклора. Впрочем, и двор не терял вкуса к народной поэзии [101–102].
Фольклор оставался в быту всех слоев общества, более или менее признанный, в течение всего XVIII столетия. Близость к фольклору вносила характерные черты в облик русского классицизма, чуждые и классицизму Буало и Расина и немецкому классицизму Готшеда. Эта близость к стихии народной речи отразилась и в метком, остром реалистическом слове Фонвизина, и в не организованной никакими учёными канонами речи Державина со всеми её «неправильностями», с точки зрения школьной грамматики литературного языка дворянства, и даже в свободных рифмах его поэзии [103].
С эпохи Пушкина язык народной поэзии становится семантическим центром разных стилей литературной речи [104].
Стиль народной поэзии представляется Пушкину воплощением духа русского языка, тем бродильным началом национальности, которое несёт новую жизнь и движение в литературную речь. «Изучение старинных песен, сказок и т. п., – говорил Пушкин, – необходимо для совершенного знания свойств русского языка». В пушкинском языке была впервые найдена общенародная норма русского языка. После Пушкина русский литературный язык всё шире и разнообразнее использует фонды народно-поэтической речи. Гоголь заявлял, что до 20—30-х годов XIX в. русская языковая культура «ещё не черпала из самой глубины» словесного творчества народа, из его песен и «многоочитых пословиц». Фольклор для Гоголя – «сокровище духа и характера народа», основа русского национального стиля. Недаром гоголевский стиль с его тяготением к живой народной речи, к крестьянскому языку, к областным диалектам, к разнообразным жаргонам городского просторечия, носивший на себе яркую печать демократизма, стал, наряду со стилем Пушкина, знаменем новой русской реалистической школы XIX в.
Это погружение в глубину народно-поэтического языка особенно ярко сказалось в творчестве Некрасова, Л. Толстого и М. Горького.
Некрасов по преимуществу является истинным поэтом в тех случаях, когда он излагает народные темы народным языком («В дороге», «Зелёный шум», «Коробейники», «Влас», «Кому на Руси жить хорошо», «Крестьянские дети» и т. п.) [104–105].
Усердно изучая язык крестьянства, язык народной поэзии и придавая ему громадное общечеловеческое значение, Л.Н. Толстой не раз высказывал свой взгляд на отношение русской литературы и русского литературного языка к фольклору. В письме к Н.Н. Страхову от 3 марта 1872 г. он писал: «Заметили ли вы в наше время в мире русской поэзии связь между двумя явлениями, находящимися между собой в обратном отношении: упадок поэтического творчества всякого рода – музыки, живописи, поэзии, и стремление к изучению русской народной поэзии всякого рода – музыки, живописи и поэзии? Мне кажется, что это даже не упадок, а смерть с залогом возрождения в народности. Последняя волна поэтическая – парабола была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы, грешные, и ушла под землю. Другая линия пошла в изучение народа и выплывет, бог даст… Счастливы те, кто будет участвовать в её выплывании» (Письма Л.Н. Толстого. 1848–1909. Под ред. П.Л. Сергеенко, стр. 97–98) [106–107].
Глубина горьковского проникновения в язык и дух народной русской поэзии выражается в том, что сам
Горький в совершенстве владел стилями устного народного творчества. Он сам создавал подлинно народные произведения, и специалисты-фольклористы тщетно разыскивали их источники [107].
В.Я. Пропп
Русский героический эпос / Изд. 2-е. М.: ГИХЛ, 1958
4. Поэтический язык былин
Вопрос об эпосе как коллективном создании народа тесно связан с вопросом о языке былин как средстве художественной изобразительности. Этот вопрос неоднократно рассматривался, но эстетическая ценность народного языка в былинах недостаточно понята и оценена.
Язык произведений народной поэзии, как и язык любых других литературно-художественных произведений, служит не только средством общения, но средством художественного способа выражения миросозерцания их создателей.
Поэтический язык былин настолько богат и разнообразен, что здесь могут быть указаны только наиболее общие и важные признаки его, разработка же их должна стать предметом специальных трудов… [519].
…Необходимо в первую очередь установить специфические отличия поэтического языка эпоса от языка других видов народной поэзии.
Поэтическая система эпоса коренным образом отличается от поэтической системы народной лирики. Один из основных приёмов художественной выразительности народной лирики (включая все виды её, в том числе свадебные и похоронные причитания) состоит в метафоричности [519–520].
Более плодотворным окажется определение метафоричности народной поэзии, как некоторого вида иносказания, как замены одного зрительного образа другим. Так, образ плачущей девушки может быть сам по себе поэтическим, но может им и не быть. Но если образ плачущей девушки будет заменен образом березы, опустившей ветки к воде, он будет восприниматься поэтически. В этом смысле русская народная лирика метафорична в высшей степени, причём большинство образов почерпнуто из окружающей певцов природы.
Если с этой точки зрения подойти к поэтическому языку былин, окажется, что язык эпоса почти полностью лишен метафоричности. Это не значит, что певец не владеет искусством иносказания. Отсутствие в эпосе метафор не недостаток, а показатель иной системы. И метафоры и сравнения в эпосе есть, но они встречаются весьма редко и не составляют основного художественного принципа эпоса [520].
Сравнение не представляет собой явления, специфического для эпоса, хотя в нём и можно найти целый ряд прекрасных сравнений. Через сравнение, например, абстрактное превращается в конкретное, вернее – приобретает видимость. Певцы знают средства, чтобы в видимых образах представить, например, течение времени.
- Опять день за днём – будто дождь дождит,
- Неделя за неделей – как трава растет,
- А год за годом – как река бежит [522].
Отрицательное сравнение принадлежит к наиболее характерным и типичным поэтическим приёмам русского героического эпоса. Оно в одном приёме соединяет образность с высшей степенью реалистичности описания [523–524].
Слово – есть средство отчеканки образа, и певец им дорожит в высшей степени. Этому стремлению к точности отвечает другой приём художественной изобразительности, а именно эпитет. Можно сказать, что эпитет есть одно из основных изобразительных средств эпоса. В то время как метафорические обороты представляют редкое явление, эпитетами обильно пересыпана художественная речь решительно всех певцов! [524],
Изучение эпитетов народной поэзии приводит к заключению, что эпитет во всех случаях есть средство уточнения, хотя и предметы и цели уточнения могут быть весьма различны. Эпитет придаёт существительному точную зрительную или иную определенность, заставляя слушателя или читателя видеть или воспринимать предмет так, как этого хочет певец, как это нужно для данного повествования.
Эпитеты свойственны не только одному героическому эпосу. Как показала А.П. Евгеньева, ими чрезвычайно богаты похоронные причитания[5]. Но подбор эпитетов, выражаемое ими мировоззрение или эмоции для каждого из жанров будут совершенно различны. Большинство эпитетов причитаний совершенно невозможно в эпосе и наоборот [524–525].
Но эпитет не только заставляет видеть предмет во всей его яркости. Художественный эпитет даёт возможность выразить, например, чувства действующих лиц, их отношение друг к другу и тем самым характеризовать их [527].
Эпитет выражает мировоззрение народа, его отношение к миру, его оценку окружающего [527].
Постоянный эпитет применяется для признаков, которые народ считает постоянными и необходимыми и которые он повторяет не вследствие творческого бессилия, а потому, что вне данного признака предмет для эпической поэзии невозможен. Там же, где этого требования нет, возможны, как мы видели, самые разнообразные эпитеты [530].
Обилие ласкательных выражает необычайную доброту народа по отношению ко всему, что достойно любви, признания, расположения. Вероятно, ни один язык мира не обладает таким богатством и такой гибкостью и выразительностью ласкательных или уменьшительных форм, как язык русский. В эпосе это сказывается чрезвычайно ярко [531].
Один из способов подчеркнуть значение слова состоит в том, что нужное слово или группа их повторяется [533].
Все наблюдения над поэзией былин говорят, наоборот, о чрезвычайной экономичности языковых средств, о сжатости, немногословности, чёткости [536].
Пора и время, путь и дорога, кручиниться и печалиться, стыд и срам и т. д. с точки зрения певца и на самом деле разные понятия. Они взаимно дополняют одно другое. Они вызваны не медлительностью речи и не стремлением к усилению значения, а так же, как и эпитеты, свидетельствуют о стремлении к величайшей точности выражения, к тончайшей дифференцированное™ в придаваемом словам значении. Так, слово «стыд» выражает чувство по отношению к говорящему (стыд – стыдиться), срам – по отношению к окружающей среде (срам – осрамиться). «Путь» означает факт передвижения вообще безотносительно к формам его осуществления, «дорога» означает конкретно те места по земле, ту линию, по которой следует передвигающийся. Можно отправиться в путь по местам, где нет дороги, можно проложить путь и построить дороги. Подобные же отличия могут быть установлены во всех случаях таких сочетаний [537–538].
…Закон симметрии есть один из законов народного искусства. Симметричностью пронизано народное изобразительное искусство, как вышивки, кружева, наличники и пр.; симметричны крестьянские постройки, как гражданские, так и церковные. Можно говорить о симметрии речи, как об одном из художественных приёмов народного стиха [539].
Все приведенные примеры и наблюдения говорят об одном: о наличии совершенно определенных и очень строгих требований, о наличии ярко выраженной народной эстетики. Одно из основных требований этой эстетики состоит в таком выборе слова или сочетания слов, который давал бы максимально ясный и чёткий зрительный образ. Здесь всё требует величайшей, тончайшей отделки. На эпосе можно видеть, какое значение придаётся в народном искусстве деталям. Вне этих деталей певец не мыслит себе своего искусства.
Основные особенности поэтического языка былин относятся к области лексики. Это и понятно, так как именно слово есть тот строительный материал, из которого создаётся и человеческая речь и художественное произведение.
Но художественное значение имеют в эпосе не только явления лексики, но и некоторые явления морфологии и синтаксиса.
Так, например, обращает на себя внимание та свобода, с которой певцы обращаются с глагольными видами и временами.
Можно заметить, что в эпосе предпочитается несовершенный вид, и употребляется он там, где в общерусской речи или в прозе требовался бы вид совершенный. Несовершенный вид выражает не только незаконченность действия, но и его повторяемость, а также и длительность его. Однако законченность или незаконченность, единократность или многократность не имеют в эпосе того решающего значения, какое имеет длительность, протяженность <…> действия. Несовершенный вид применяется для явно однократных и законченных действий, если только действие изображается как длительное.
- Налагал он стрелочку каленую,
- Натянул тетивочку шелковеньку.
В современном литературном языке такое употребление видов было бы невозможно. Требовалось бы в обоих случаях применить одинаковый вид, притом совершенный: наложил стрелочку, натянул тетиву. Но певец распоряжается иначе: «налагал» обозначает некоторую длительность действия, «натянул» – мгновенность его.
Такие случаи показывают, что виды употребляются не с точки зрения завершенности или незавершенности действия; можно наблюдать, что предпочитается вид несовершенный. Постоянно говорится: «сам говорил таковы слова» (вместо «сказал»), «поезжал жениться» (вместо «поехал»), «садилась Василиса Микулична на добра коня» (вместо «села»), «что же будешь брать о собой» (вместо «возьмёшь») и т. д.
Несовершенный вид предпочитается потому, что он лучше соответствует всей эстетике эпической поэзии, чем совершенный. «Оказал», «вошёл», «сел», «наложил» и т. д. представляют собой простую констатацию факта; наоборот: «говорил», «входил», «садился», «налагал» не только устанавливают факт, но рисуют его. Изображённое как длительное, действие лучше представляется воображению, чем краткое, оборванное, однократное, законченное. Такие стихи, как «а писал ярлык, скоро написывал» полностью выдают художественные стремления певца. Одно установление действия путём применения слова «писал» не удовлетворяет ещё художественным требованиям. Певец видит пишущего перед глазами, причём его, как неграмотного, поражает быстрота, с которой пишут грамотные. Поэтому к бесстрастной констатации факта «писал» прибавляется картина этого письма: «скоро написывал».
В сцене поражения Тугарина Алешей все моменты схватки даны в несовершенном виде, факт же его приканчивания – в совершенном.
- Он на улицу-де скоро нонь выскакивал,
- Кабы на пол Югарища не уранивал,
- На подлетике его да нонь подхватывал, —
- На одну его ногу ступил, другу оторвал.
Несовершенный вид применяется даже в настоящем времени с такими глаголами, которые его обычно не образуют: «да вставает Добрынюшка Никитич млад», «они взяли вина, подавают тут удалу добру молодцу».
Относительную свободу можно также наблюдать в употреблении времен. Певец, конечно, понимает, что события песни относятся к прошлому. Об этом свидетельствует то, что народ называет такие песни «старинами», об этом свидетельствуют такие начала, как «кто бы нам сказал про старое, про бывалое», и преобладание в песнях прошедшего времени. Тем не менее вопрос этот не так прост, как это может казаться на первый взгляд. Искусство эпоса до некоторой степени родственно искусству драматическому. Когда зритель смотрит на сцену, он, конечно, знает, что изображаемые на сцене события в преобладающем большинстве случаев относятся к прошлому, воспринимаются же они как события, происходящие перед нашими глазами в настоящем.
Нечто сходное имеется и в эпической поэзии. Относя воспеваемые события к прошлому, певец, вместе с тем, видит их перед глазами. Они для него совершаются в настоящем. Этим можно объяснить, что прошедшее время перемежается в былинах с настоящим.
- Стал он по чисту полю поезживать,
- Сердце в нём разгорается,
- Кровь-то в нём распылалася.
В описании прибытия корабля Соловья Будимировича в исполнении Кривополеновой мы имеем такую последовательность времен: бежит, выбегает тридцать насадов (кораблей); опускали паруса; сходенки мечут; пришёл Соловей; берет подарки; пришёл к Киеву, В дальнейшем сцена одаривания даётся в настоящем времени, постройка терема и выход к теремам Забавы рассказывается сплошь в прошедшем; в дальнейшем повествовании времена перемежаются с преобладанием времени прошедшего.
Это показывает, что певец не делает принципиальной разницы между повествованием и описанием. Повествование трактуется как описание. Время выражает не только временные, но – и пространственные отношения. Благодаря применению настоящего времени события, относящиеся к прошлому, переносятся в то пространство, которое раскидывается перед умственным взором слушателя в настоящем. Слушатель видит происходящие события.
Это перенесение событий из прошлого в временно-пространственное настоящее сказывается не только в применении и чередовании времен. Можно наблюдать, что в повествование вносятся такие слова, как «нонче», «нынь», «тут», «теперь», «вот». Все эти слова обозначают либо настоящее время, либо наличие перед глазами. Для отдельных местностей характерны отдельные слова («нонче» характерно для Печоры), но суть дела от этого не меняется: «вот заходят они да на червлен корабль», «вот прощаются на четыре дальни стороны», «да пошла она теперече наугад домой», «говорил-де тут да таково слово», «наливала тут Авдотья да зелена вина», «он схватил нонче ножичек за черешок, он до ся нонче ножик не допускивал». Певцы иногда даже злоупотребляют этим приёмом:
- Они стали молодца нонче побуживать,
- Кабы стали молодца нонь потрясат нонь.
В отнесении действия к прошлому или настоящему можно наблюдать интереснейшее противоречие. Перенесение действия в настоящее способствует изображению художественного вымысла как реальности. Но певец не отождествляет реальность художественного вымысла с реальностью эмпирически его окружающей жизни. Выдавая вымысел за действительность, певец вместе с тем ставит этому известные границы. Этим можно объяснить, что, например, на Печоре текст песен пересыпается словом «кабы», которое в этих случаях служит не союзом, а наречием. Примеры чрезвычайно многочисленны,
- У ласкова князя у Владимира
- Кабы было пированье-столованье.
- Обычно слово «кабы» стоит в начале строки.
В былине о Василии Игнатьевиче кабатчик по приказанию Владимира возвращает без выкупа заложенное вооружение, после чего Василий снаряжается в бой.
- Кабы отдали всё Васеньке безденежно,
- Кабы стал-то Василий снаряжатися,
- Кабы стал-то Василий сподоблятися,
- Кабы седлал он, уздал-де коня доброго,
- Как тугой-от-де лук да принатягивал.
В других местностях предпочитается «-де», сокращенное «дескать», чем выражается характер модальности действия:
«Забегали во тихи во гавани, опускали-де паруса полотняные»; «Он клал-де ведь сходни да концом на землю». В такой же функции выступает слово «ле»: «Выходил ле народ да вон на улицу».
Противоречие состоит в том, что к словам, обозначающим модальность действия (кабы, ли), прибавляются слова, обозначающие его реальность (нонь, тут), сочетание этих слов показывает, что вымысел, оставаясь вымыслом, вместе с тем, понимается как реальность: «Кабы тут молодец да пробужается»; «Они взяли кабы тут нонь зелена вина».
- Как во том ле было прежде городе Муроме,
- Кабы жил, кабы был тут нонь стар казак,
- Кабы стар, пишут, казак Илья Муромец.
В первой строчке значится, что всё это было «прежде» во второй оно происходит «нонь». Оно происходит «кабы», об этом пишут, но вместе с тем оно совершается «тут».
Пушкин прекрасно чувствовал художественное значение подобных сочетаний и, пользуясь народным поэтическим языком, начал свою песнь о вещем Олеге словами:
- Как ныне сбирается вещий Олег.
Этим выражается единство вымысла (кабы, как) и действительности (ныне, тут), прошлого и настоящего, искусства и жизни [539–542].
И.А. Оссовецкий
Об изучении языка русского фольклора // Вопросы языкознания. 1952. № 3
…Понятие «язык фольклора» весьма неоднородно и многогранно; оно включает в себя далекие друг от друга факты. Если одни жанры, например, былины, представляют собой большие стихотворные произведения с развёрнутой системой образов и чрезвычайным богатством изобразительных средств, то дру
