Читать онлайн Универсальная хрестоматия. 4 класс бесплатно
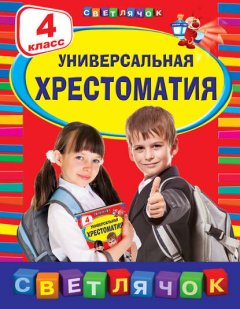
Древнерусская литература и Устное народное творчество
Русские народные сказки
Пётр I и мужик
Наехал царь Пётр на мужика в лесу. Мужик дрова рубит.
Царь и говорит: «Божья помощь, мужик!»
Мужик и говорит: «И то мне нужна божья помощь».
Царь спрашивает: «А велика ли у тебя семья?»
– У меня семьи два сына да две дочери.
– Ну не велико твоё семейство. Куда ж ты деньги кладёшь?
– А я деньги на три части кладу: во-первых – долг плачу, в-других – в долг даю, в-третьих – в воду мечу.
Царь подумал и не знает, что это значит, что старик и долг платит, и в долг даёт, и в воду мечет.
А старик говорит: «Долг плачу – отца-мать кормлю; в долг даю – сыновей кормлю; а в воду мечу – дочерей рощу».
Царь и говорит: «Умная твоя голова, старичок. Теперь выведи меня из лесу в поле, я дороги не найду».
Мужик говорит: «Найдёшь и сам дорогу: иди прямо, потом сверни вправо, а потом влево, потом опять вправо».
Царь и говорит: «Я этой грамоты не понимаю, ты сведи меня».
– Мне, сударь, водить некогда: нам в крестьянстве день дорого стоит.
– Ну, дорого стоит, так я заплачу.
– А заплатишь – пойдём.
Сели они на одноколку[1], поехали.
Стал дорогой царь мужика спрашивать: «Далече ли ты, мужичок, бывал?»
– Кое-где бывал.
– А видал ли царя?
– Царя не видал, а надо бы посмотреть.
– Так вот, как выедем в поле – и увидишь царя.
– А как я его узнаю?
– Все без шапок будут, один царь в шапке.
Вот приехали они в поле. Увидал народ царя – все поснимали шапки. Мужик пялит глаза, а не видит царя.
Вот он и спрашивает: «А где же царь?»
Говорит ему Пётр Алексеевич: «Видишь, только мы двое в шапках – кто-нибудь из нас да царь».
Бой на Калиновом мосту
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь с царицею; детей у них не было. Стали они бога молить, чтоб создал им детище во младости на поглядение, а под старость на прокормление; помолились, легли спать и уснули крепким сном.
Во сне им привиделось, что недалеко от дворца есть тихий пруд, в том пруде златопёрый ёрш плавает, коли царица его скушает, сейчас может забеременеть. Просыпались царь с царицею, кликали к себе мамок и нянек, стали им рассказывать свой сон. Мамки и няньки так рассудили: что во сне привиделось, то и наяву может случиться.
Царь призвал рыбаков и строго наказал поймать ерша златопёрого.
На заре пришли рыбаки на тихий пруд, закинули сети, и на их счастье с первою ж тонею попался златопёрый ёрш. Вынули его, принесли во дворец; как увидала царица, не могла на месте усидеть, скоро к рыбакам подбегала, за руки хватала, большой казной награждала; после позвала свою любимую кухарку и отдавала ей ерша златопёрого с рук на руки.
– На, приготовь к обеду, да смотри, чтобы никто до него не дотронулся.
Кухарка вычистила ерша, вымыла и сварила, помои на двор выставила; по двору ходила корова, те помои выпила; рыбку съела царица, а посуду кухарка подлизала.
У царицы родился Иван-царевич, у кухарки – Иван, кухаркин сын, у коровы – Иван Быкович.
Стали ребятки расти не по дням, а по часам; как хорошее тесто на опаре поднимается, так и они вверх тянутся. Все три молодца на одно лицо удались, и признать нельзя было, кто из них дитя царское, кто – кухаркино и кто от коровы народился. Только по тому и различали их: как воротятся с гулянья, Иван-царевич просит бельё переменить, кухаркин сын норовит съесть что-нибудь, а Иван Быкович прямо на отдых ложится. По десятому году пришли они к царю и говорят:
– Любезный наш батюшка! Сделай нам железную палку в пятьдесят пудов.
Царь приказал своим кузнецам сковать железную палку в пятьдесят пудов; те принялись за работу и в неделю сделали. Никто палки за один край приподнять не может, а Иван-царевич, да Иван, кухаркин сын, да Иван Быкович между пальцами её повёртывают, словно перо гусиное.
Вышли они на широкий царский двор.
– Ну, братцы, – говорит Иван-царевич, – давайте силу пробовать; кому быть большим братом.
– Ладно, – отвечал Иван Быкович, – бери палку и бей нас по плечам.
Иван-царевич взял железную палку, ударил Ивана, кухаркина сына, да Ивана Быковича по плечам и вбил того и другого по колена в землю. Иван, кухаркин сын, ударил – вбил Ивана-царевича да Ивана Быковича по самую грудь в землю; а Иван Быкович ударил – вбил обоих братьев по самую шею.
– Давайте, – говорит царевич, – ещё силу попытаем: станем бросать железную палку кверху; кто выше забросит – тот будет больший брат.
– Ну что ж, бросай ты!
Иван-царевич бросил – палка через четверть часа назад упала, Иван, кухаркин сын, бросил – палка через полчаса упала, а Иван Быкович бросил – только через час воротилась.
– Ну, Иван Быкович, будь ты большой брат.
После того пошли они гулять по саду и нашли громадный камень.
– Ишь какой камень! Нельзя ль его с места сдвинуть? – сказал Иван-царевич, уперся в него руками, возился, возился – нет, не берёт сила.
Попробовал Иван, кухаркин сын, – камень чуть-чуть подвинулся. Говорит им Иван Быкович:
– Мелко же вы плаваете! Постойте, я попробую.
Подошёл к камню да как двинет его ногою – камень ажно загудел, покатился на другую сторону сада и переломал много всяких деревьев. Под тем камнем подвал открылся, в подвале стоят три коня богатырских, по стенам висит сбруя ратная: есть на чём добрым молодцам разгуляться!
Тотчас побежали они к царю и стали проситься:
– Государь-батюшка! Благослови нас в чужие земли ехать, самим на людей посмотреть, себя в людях показать.
Царь их благословил, на дорогу казной наградил; они с царём простились, сели на богатырских коней и в путь-дорогу пустились.
Ехали по долам, по горам, по зелёным лугам и приехали в дремучий лес; в том лесу стоит избушка на курячьих ножках, на бараньих рожках, когда надо – повёртывается.
– Избушка, избушка, повернись к нам передом, к лесу задом; нам в тебя лезти, хлеба-соли ести.
Избушка повернулась. Добрые молодцы входят в избушку – на печке лежит Баба-яга, костяная нога, из угла в угол, нос в потолок.
– Фу-фу-фу! Прежде русского духу слыхом не слыхано, видом не видано; нынче русский дух на ложку садится, сам в рот катится.
– Эй, старуха, не бранись, слезь-ка с печки да на лавочку садись. Спроси: куда едем мы. Я добренько скажу.
Баба-яга слезла с печки, подходила к Ивану Быковичу близко, кланялась ему низко:
– Здравствуй, батюшка Иван Быкович! Куда едешь, куда путь держишь?
– Едем мы, бабушка, на реку Смородину, на калиновый мост; слышал я, что там не одно чудо-юдо живёт.
– Ай да Ванюша! За дело хватился; ведь они, злодеи, всех приполонили, всех разорили, ближние царства шаром покатили.
Братья переночевали у Бабы-яги, поутру рано встали и отправились в путь-дорогу. Приезжают к реке Смородине; по всему берегу лежат кости человеческие, по колено будет навалено! Увидали они избушку, вошли в неё – пустёхонька, и вздумали тут остановиться.
Пришло дело к вечеру. Говорит Иван Быкович:
– Братцы! Мы заехали в чужедальную сторону, надо жить нам с осторожною; давайте по очереди на дозор ходить.
Кинули жеребий – доставалось первую ночь сторожить Ивану-царевичу, другую – Ивану, кухаркину сыну, а третью – Ивану Быковичу.
Отправился Иван-царевич на дозор, залез в кусты и крепко заснул. Иван Быкович на него не понадеялся; как пошло время за полночь – он тотчас готов был, взял с собой щит и меч, вышел и стал под калиновый мост.
Вдруг на реке воды взволновалися, на дубах орлы закричали – выезжает чудо-юдо шестиглавое; под ним конь споткнулся, чёрный ворон на плече встрепенулся, позади хорт[2] ощетинился. Говорит чудо-юдо шестиглавое:
– Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воронье перо, трепещешься, а ты, пёсья шерсть, ощетинилась? Аль вы думаете, что Иван Быкович здесь? Так он, добрый молодец, ещё не родился, а коли родился – так на войну не сгодился; я его на одну руку посажу, другой прихлопну – только мокренько будет!
Выскочил Иван Быкович:
– Не хвались, нечистая сила! Не поймав ясна сокола, рано перья щипать; не отведав добра молодца, нечего хулить его. А давай лучше силы пробовать: кто одолеет, тот и похвалится.
Вот сошлись они – поравнялись, так жестоко ударились, что кругом земля простонала. Чуду-юду не посчастливилось: Иван Быкович с одного размаху сшиб ему три головы.
– Стой, Иван Быкович! Дай мне роздыху.
– Что за роздых! У тебя, нечистая сила, три головы, у меня всего одна; вот как будет у тебя одна голова, тогда и отдыхать станем.
Снова они сошлись, снова ударились; Иван Быкович отрубил чуду-юду и последние головы, взял туловище – рассёк на мелкие части и побросал в реку Смородину, а шесть голов под калиновый мост сложил. Сам в избушку вернулся. Поутру приходит Иван-царевич.
– Ну что, не видал ли чего?
– Нет, братцы, мимо меня и муха не пролетала.
На другую ночь отправился на дозор Иван, кухаркин сын, забрался в кусты и заснул. Иван Быкович на него не понадеялся; как пошло время за полночь – он тотчас снарядился, взял с собой щит и меч, вышел и стал под калиновый мост.
Вдруг на реке воды взволновалися, на дубах орлы раскричалися – выезжает чудо-юдо девятиглавое; под ним конь споткнулся, чёрный ворон на плече встрепенулся, позади хорт ощетинился. Чудо-юдо коня по бёдрам, ворона по перьям, хорта по ушам:
– Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воронье перо, трепещешься, ты, пёсья шерсть, щетинишься? Аль вы думаете, что Иван Быкович здесь? Так он ещё не родился, а коли родился – так на войну не сгодился: я его одним пальцем убью!
Выскочил Иван Быкович:
– Погоди – не хвались, прежде богу помолись, руки умой да за дело примись! Ещё неведомо – чья возьмёт!
Как махнёт богатырь своим острым мечом раз-два, так и снёс у нечистой силы шесть голов; а чудо-юдо ударил – по колена его в сыру землю вогнал.
Иван Быкович захватил горсть земли и бросил своему супротивнику прямо в очи. Пока чудо-юдо протирал свои глазища, богатырь срубил ему и остальные головы, взял туловище – рассёк на мелкие части и побросал в реку Смородину, а девять голов под калиновый мост сложил.
Наутро приходит Иван, кухаркин сын.
– Что, брат, не видал ли за ночь чего?
– Нет, возле меня ни одна муха не пролетала, ни один комар не пищал!
Иван Быкович повёл братьев под калиновый мост, показал им на мёртвые головы и стал стыдить:
– Эх вы, сони, где вам воевать? Вам бы дома на печи лежать!
На третью ночь собирается на дозор идти Иван Быкович; взял белое полотенце, повесил на стенку, а под ним на полу миску поставил и говорит братьям:
– Я на страшный бой иду; а вы, братцы, всю ночь не спите да присматривайтесь, как будет с полотенца кровь течь: если половина миски набежит – ладно дело, если полна миска набежит – всё ничего, а если через край польёт – тотчас спускайте с цепей моего богатырского коня и сами спешите на помочь[3] мне.
Вот стоит Иван Быкович под калиновым мостом; пошло время за полночь, на реке воды взволновалися, на дубах орлы раскричалися – выезжает чудо-юдо двенадцатиглавое; конь у него о двенадцати крылах, шерсть у коня серебряная, хвост и грива – золотые. Едет чудо-юдо; вдруг под ним конь споткнулся; чёрный ворон на плече встрепенулся, позади хорт ощетинился. Чудо-юдо коня по бёдрам, ворона по перьям, хорта по ушам:
– Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воронье перо, трепещешься, ты, пёсья шерсть, щетинишься? Аль вы думаете, что Иван Быкович здесь? Так он ещё не родился, а коли родился – так на войну не сгодился, я только дуну – его и праху не останется!
Выскочил Иван Быкович.
– Погоди – не хвались, прежде богу помолись!
– А, ты здесь! Зачем пришёл?
– На тебя, нечистая сила, посмотреть, твоей крепости испробовать.
– Куда тебе мою крепость пробовать? Ты муха передо мной!
Отвечает Иван Быкович:
– Я пришёл с тобой не сказки рассказывать, а насмерть воевать.
Размахнулся своим острым мечом и срубил чуду-юду три головы.
Чудо-юдо подхватил эти головы, чиркнул по ним своим огненным пальцем – и тотчас все головы приросли, будто и с плеч не падали! Плохо пришлось Ивану Быковичу; чудо-юдо стал одолевать его, по колена вогнал в сыру землю.
– Стой, нечистая сила! Цари-короли сражаются, и те замиренье делают; а мы с тобой ужли будем воевать без роздыху? Дай мне роздыху хоть до трёх раз.
Чудо-юдо согласился; Иван Быкович снял правую рукавицу и пустил в избушку. Рукавица все окна побила, а его братья спят, ничего не слышат. В другой раз размахнулся Иван Быкович сильней прежнего и срубил чуду-юду шесть голов; чудо-юдо подхватил их, чиркнул огненным пальцем – и опять все головы на местах, а Ивана Быковича забил он по пояс в сыру землю.
Запросил богатырь роздыху, снял левую рукавицу и пустил в избушку. Рукавица крышу пробила, а братья всё спят, ничего не слышат.
В третий раз размахнулся он ещё сильнее и срубил чуду-юду девять голов; чудо-юдо подхватил их, чиркнул огненным пальцем – головы опять приросли, а Ивана Быковича вогнал он в сыру землю по самые плечи.
Иван Быкович запросил роздыху, снял с себя шляпу и пустил в избушку; от того удара избушка развалилася, вся по брёвнам раскатилася.
Тут только братья проснулись, глянули – кровь из миски через край льётся, а богатырский конь громко ржёт да с цепей рвётся. Бросились они на конюшню, спустили коня, а следом за ним и сами на помочь спешат.
– А! – говорит чудо-юдо, – ты обманом живёшь; у тебя помочь есть.
Богатырский конь прибежал, начал бить его копытами; а Иван Быкович тем временем вылез из земли, приловчился и отсёк чуду-юду огненный палец. После того давай рубить ему головы: сшиб все до единой, туловище на мелкие части разнял и побросал всё в реку Смородину.
Прибегают братья.
– Эх вы, сони! – говорит Иван Быкович. – Из-за вашего сна я чуть-чуть головой не поплатился.
Поутру ранёшенько вышел Иван Быкович в чистое поле, ударился оземь и сделался воробышком, прилетел к белокаменным палатам и сел у открытого окошечка. Увидала его старая ведьма, посыпала зёрнышков и стала сказывать:
– Воробышек-воробей! Ты прилетел зёрнышков покушать, моего горя послушать. Насмеялся надо мной Иван Быкович, всех зятьёв моих извёл.
– Не горюй, матушка! Мы ему за всё отплатим, – говорят чудо-юдовы жёны.
– Вот я, – говорит меньшая, – напущу голод, сама выйду на дорогу да сделаюсь яблоней с золотыми и серебряными яблочками: кто яблочко сорвёт – тот сейчас лопнет.
– А я, – говорит середняя, – напущу жажду, сама сделаюсь колодезем; на воде будут две чаши плавать: одна золотая, другая серебряная; кто за чашу возьмётся – того я утоплю.
– А я, – говорит старшая, – сон напущу, а сама перекинусь золотой кроваткою; кто на кроватке ляжет – тот огнём сгорит.
Иван Быкович выслушал эти речи, полетел назад, ударился оземь и стал по-прежнему добрым молодцем. Собрались три брата и поехали домой.
Едут они дорогою, голод их сильно мучает, а есть нечего. Глядь – стоит яблоня с золотыми и серебряными яблочками; Иван-царевич да Иван, кухаркин сын, пустились было яблочки рвать, да Иван Быкович наперёд заскакал и давай рубить яблоню крест-накрест – только кровь брызжет!
То же сделал он и с колодезем, и с золотою кроваткою. Сгибли чудо-юдовы жёны.
Как проведала о том старая ведьма, нарядилась нищенкой, выбежала на дорогу и стоит с котомкою. Едет Иван Быкович с братьями; она протянула руку и стала просить милостыни.
Говорит царевич Ивану Быковичу:
– Братец! Разве у нашего батюшки мало золотой казны? Подай этой нищенке святую милостыню.
Иван Быкович вынул червонец и подаёт старухе; она не берётся за деньги, а берёт его за руку и вмиг с ним исчезла. Братья оглянулись – нет ни старухи, ни Ивана Быковича, и со страху поскакали домой, хвосты поджавши.
А ведьма утащила Ивана Быковича в подземелье и привела к своему мужу – старому старику.
– На тебе, – говорит, – нашего погубителя!
Старик лежит на железной кровати, ничего не видит: длинные ресницы и густые брови совсем глаза закрывают. Позвал он двенадцать могучих богатырей и стал им приказывать:
– Возьмите-ка вилы железные, подымите мои брови и ресницы чёрные, я погляжу, что он за птица, что убил моих сыновей?
Богатыри подняли ему брови и ресницы вилами; старик взглянул:
– Ай да молодец Ванюша! Дак это ты взял смелость с моими детьми управиться! Что ж мне с тобою делать?
– Твоя воля, что хочешь, то и делай, я на всё готов.
– Ну да что много толковать, ведь детей не поднять; сослужи-ка мне лучше службу: съезди в невиданное царство, в небывалое государство и достань мне царицу – золотые кудри, я хочу на ней жениться.
Иван Быкович про себя подумал: «Куда тебе, старому чёрту, жениться, разве мне, молодцу!»
А старуха взбесилась, навязала камень на шею, бултых в воду и утопилась.
– Вот тебе, Ванюша, дубинка, – говорит старик, – ступай ты к такому-то дубу, стукни в него три раза дубинкою и скажи: «Выйди, корабль! Выйди, корабль! Выйди, корабль!» Как выйдет к тебе корабль, в то самое время отдай дубу трижды приказ, чтобы он затворился; да смотри не забудь! Если этого не сделаешь, причинишь мне обиду великую.
Иван Быкович пришёл к дубу, ударяет в него дубинкою бессчётное число раз и приказывает:
– Всё, что есть, выходи.
Вышел первый корабль; Иван Быкович сел в него, крикнул:
– Все за мной! – и поехал в путь-дорогу.
Отъехав немного, оглянулся назад – и видит: сила несметная кораблей и лодок! Все его хвалят, все благодарят. Подъезжает к нему старичок в лодке:
– Батюшка Иван Быкович, много лет тебе здравствовать! Прими меня в товарищи.
– А ты что умеешь?
– Умею, батюшка, хлеб есть.
Иван Быкович сказал:
– Фу, пропасть! Я и сам на это горазд; однако садись на корабль, я добрым товарищам рад.
Подъезжает в лодке другой старичок:
– Здравствуй, Иван Быкович! Возьми меня с собой.
– А ты что умеешь?
– Умею, батюшка, вино-пиво пить.
– Нехитрая наука! Ну да полезай на корабль.
Подъезжает третий старичок:
– Здравствуй, Иван Быкович! Возьми и меня.
– Говори: что умеешь?
– Я, батюшка, умею в бане париться.
– Фу, лихая те побери! Эки, подумаешь, мудрецы!
Взял на корабль и этого; а тут ещё лодка подъехала; говорит четвёртый старичок:
– Много лет здравствовать, Иван Быкович! Прими меня в товарищи.
– Да ты кто такой?
– Я, батюшка, звездочёт.
– Ну, уж на это я не горазд; будь моим товарищем.
Принял четвёртого, просится пятый старичок.
– Прах вас возьми! Куды мне с вами деваться? Сказывай скорей: что умеешь?
– Я, батюшка, умею ершом плавать.
– Ну милости просим!
Вот поехали они за царицей – золотые кудри. Приезжают в невиданное царство, небывалое государство; а там уже давно сведали, что Иван Быкович будет, и целые три месяца хлеб пекли, вино курили, пиво варили. Увидал Иван Быкович несчётное число возов хлеба да столько же бочек вина и пива, удивляется и спрашивает:
– Что б это значило?
– Это всё для тебя наготовлено.
– Фу, пропасть! Да мне столько в целый год не съесть, не выпить.
Тут вспомнил Иван Быкович про своих товарищей и стал вызывать:
– Эй вы, старички-молодцы! Кто из вас пить-есть разумеет?
Отзываются Объедайло да Опивайло:
– Мы, батюшка! Наше дело ребячье.
– А ну, принимайтесь за работу!
Подбежал один старик, начал хлеб поедать: разом в рот кидает не то что караваями, а целыми возами. Всё приел и ну кричать:
– Мало хлеба, давайте ещё!
Подбежал другой старик, начал пиво-вино пить, всё выпил и бочки проглотил.
– Мало, – кричит. – Подавайте ещё!
Засуетилась прислуга, бросилась к царице с докладом, что ни хлеба, ни вина недостало.
А царица – золотые кудри приказала вести Ивана Быковича в баню париться. Та баня топилась три месяца и так накалена была, что за пять вёрст нельзя было подойти к ней. Стали звать Ивана Быковича в баню париться; он увидал, что от бани огнём пышет, и говорит:
– Что вы, с ума сошли? Да я сгорю там!
Тут ему опять вспомнилось:
– Ведь со мной товарищи есть! Эй вы, старички-молодцы! Кто из вас умеет в бане париться?
Подбежал старик:
– Я, батюшка! Моё дело ребячье.
Живо вскочил в баню, в угол дунул, в другой плюнул – вся баня остыла, а в углах снег лежит.
– Ох, батюшки, замёрз, топите ещё три года! – кричит старик что есть мочи.
Бросилась прислуга с докладом, что баня совсем замёрзла, а Иван Быкович стал требовать, чтоб ему царицу – золотые кудри выдали. Царица сама к нему вышла, подала свою белую руку, села на корабль и поехала.
Вот плывут они день и другой; вдруг ей сделалось грустно, тяжко – ударила себя в грудь, оборотилась звездой и улетела на небо.
– Ну, – говорит Иван Быкович, – совсем пропала! – Потом вспомнил: – Ах, ведь у меня есть товарищи. Эй, старички-молодцы! Кто из вас звездочёт?
– Я, батюшка! Моё дело ребячье, – отвечал старик, ударился оземь, сделался сам звездою, полетел на небо и стал считать звёзды; одну нашёл лишнюю и ну толкать её! Сорвалась звёздочка со своего места, быстро покатилась по небу, упала на корабль и обернулась царицею – золотые кудри.
Опять едут день, едут другой; нашла на царицу грусть-тоска, ударила себя в грудь, оборотилась щукою и поплыла в море. «Ну, теперь пропала!» – думает Иван Быкович, да вспомнил про последнего старичка и стал его спрашивать:
– Ты, что ль, горазд ершом плавать?
– Я, батюшка, моё дело ребячье! – Ударился оземь, оборотился ершом, поплыл в море за щукою и давай её под бока колоть. Щука выскочила на корабль и опять сделалась царицею – золотые кудри.
Тут старички с Иваном Быковичем распростились, по своим домам пустились; а он поехал к чудо-юдову отцу.
Приехал к нему с царицею – золотые кудри; тот позвал двенадцать могучих богатырей, велел принести вилы железные и поднять ему брови и ресницы чёрные. Глянул на царицу и говорит:
– Ай да Ванюша! Молодец! Теперь я тебя прощу, на белый свет отпущу.
– Нет, погоди, – отвечает Иван Быкович, – не подумавши сказал!
– А что?
– Да у меня приготовлена яма глубокая, через яму лежит жёрдочка; кто по жёрдочке пройдёт, тот за себя и царицу возьмёт!
– Ладно, Ванюша! Ступай ты наперёд.
Иван Быкович пошёл по жердочке, а царица – золотые кудри про себя говорит:
– Легче пуху лебединого пройди!
Иван Быкович прошёл – и жёрдочка не погнулась; а старый старик пошёл – только на середину ступил, так и полетел в яму.
Иван Быкович взял царицу – золотые кудри и воротился домой; скоро они обвенчались и задали пир на весь мир. Иван Быкович сидит за столом да своим братьям похваляется:
– Хоть долго я воевал, да молодую жену достал! А вы, братцы, садитесь-ка на печи да гложите кирпичи!
На том пиру и я был, мёд-вино пил, по усам текло, да в рот не попало; тут меня угощали: отняли лоханку от быка да налили молока; потом дали калача, в ту ж лоханку помоча. Я не пил, не ел, вздумал утираться, со мной стали драться; я надел колпак, стали в шею толкать!
Петух и жерновки
Жил да был себе старик со старухою, бедные-бедные! Хлеба-то у них не было; вот они поехали в лес, набрали желудей, привезли домой и начали есть. Долго ли, коротко ли они ели, только старуха уронила один жёлудь в подполье. Пустил жёлудь росток и в небольшое время дорос до полу. Старуха заприметила и говорит: «Старик! Надобно пол-то прорубить; пускай дуб растёт выше; как вырастет, не станем в лес за желудями ездить, станем в избе рвать». Старик прорубил пол; деревцо росло, росло и выросло до потолка. Старик разобрал и потолок, а после и крышу снял; дерево всё растёт да растёт и доросло до самого неба. Не стало у старика со старухой желудей, взял он мешок и полез на дуб.
Лез-лез и взобрался на небо. Ходил, ходил по небу, увидал: сидит кочеток[4] золотой гребенёк, масляна головка, и стоят жерновцы[5]. Вот старик-от долго не думал, захватил с собою и кочетка и жерновцы и спустился в избу. Спустился и говорит: «Как нам, старуха, быть, что нам есть?» – «Постой, – молвила старуха, – я попробую жерновцы». Взяла жерновцы и стала молоть; ан блин да пирог, блин да пирог! Что ни повернёт – всё блин да пирог!.. И накормила старика.
Ехал мимо какой-то барин и заехал к старику со старушкой в хату. «Нет ли, – спрашивает, – чего-нибудь поесть?» Старуха говорит: «Чего тебе, родимый, дать поесть, разве блинков?» Взяла жерновцы и намолола: нападали блинки да пирожки. Приезжий поел и говорит: «Продай мне, бабушка, твои жерновцы». – «Нет, – говорит старушка, – продать нельзя». Он взял да и украл у ней жерновцы. Как уведали старик со старушкою, что украдены жерновцы, стали горе горевать. «Постой, – говорит кочеток золотой гребенёк, – я полечу, догоню!» Прилетел он к боярским хоромам, сел на ворота и кричит: «Кукуреку! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые, голубые! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые, голубые!» Как услыхал барин, сейчас приказывает: «Эй, малый! Возьми, брось его в воду». Поймали кочетка, бросили в колодезь; он и стал приговаривать: «Носик, носик, пей воду! Ротик, ротик, пей воду!» – и выпил всю воду. Выпил всю воду и полетел к боярским хоромам; уселся на балкон и опять кричит: «Кукуреку! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые, голубые! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые, голубые!» Барин велел повару бросить его в горячую печь. Поймали кочетка, бросили в горячую печь – прямо в огонь; он и стал приговаривать: «Носик, носик, лей воду! Ротик, ротик, лей воду!» – и залил весь жар в печи. Вспорхнул, влетел в боярскую горницу и опять кричит: «Кукуреку! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые, голубые! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые, голубые!» Гости услыхали это и побёгли из дому, а хозяин побёг догонять их; кочеток золотой гребенёк схватил жерновцы и улетел с ними к старику и старухе.
Сказка о молодильных яблоках и живой воде
В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь, и было у него три сына: старшего звали Фёдором, второго Василием, а младшего Иваном.
Царь очень устарел и глазами обнищал. Слыхал он, что за тридевять земель, в тридесятом царстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой. Если съесть старику это яблоко – помолодеет, а водой этой умыть глаза слепцу – будет видеть.
Царь собирает пир на весь мир, зовёт на пир князей и бояр и говорит им:
– Кто бы, ребятушки, выбрался из избранников, выбрался из охотников, съездил за тридевять земель, в тридесятое царство, привёз бы молодильных яблок и живой воды кувшинец о двенадцати рылец? Я бы этому седоку полцарства отписал.
Тут больший стал хорониться за среднего, а средний за меньшего, а от меньшего ответу нет. Выходит царевич Фёдор и говорит:
– Неохота нам в люди царство отдавать. Я поеду в эту дорожку, привезу тебе, царю-батюшке, молодильных яблок и живой воды кувшинец о двенадцати рылец.
Идёт Фёдор-царевич на конюший двор, выбирает себе коня неезженого, уздает узду неузданную, берёт плётку нехлёстанную, кладёт двенадцать подпруг с подпругою – не ради красы, а ради крепости… Отправился Фёдор-царевич в дорожку. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился…
Ехал он близко ли, далёко ли, низко ли, высоко ли, ехал день до вечеру – красна солнышка до закату. И доезжает до росстаней[6], до трёх дорог. Лежит на росстанях плита-камень, на ней надпись написана:
«Направо поедешь – себя спасать, коня потерять.
Налево поедешь – коня спасать, себя потерять.
Прямо поедешь – женату быть».
Поразмыслил Фёдор-царевич: «Давай поеду, где женату быть».
И повернул на ту дорожку, где женату быть.
Ехал, ехал и доезжает до терема под золотой крышей. Тут выбегает прекрасная девица и говорит ему:
– Царский сын, я тебя из седла выну, иди со мной хлеба-соли откушать и спать-почивать.
– Нет, девица, хлеба-соли я не хочу, а сном мне дороги не скоротать. Мне надо вперёд двигаться.
– Царский сын, не торопись ехать, а торопись делать, что тебе любо-дорого.
Тут прекрасная девица его из седла вынула и в терем повела. Накормила его, напоила и спать на кровать положила.
Только лёг Фёдор-царевич к стенке, эта девица живо кровать повернула, он и полетел в подполье, в яму глубокую…
Долго ли, коротко ли, царь опять собирает пир, зовёт князей и бояр и говорит им:
– Вот, ребятушки, кто бы выбрался из охотников привезти мне молодильных яблок и живой воды кувшинец о двенадцати рылец? Я бы этому седоку полцарства отписал.
Тут больший стал хорониться за среднего, а средний за меньшего, а от меньшего ответа нет. Выходит второй сын, Василий-царевич:
– Батюшка, неохота мне царство в чужие руки отдавать. Я поеду в дорожку, привезу эти вещи, сдам тебе в руки.
Идёт Василий-царевич на конюший двор, выбирает коня неезженого, уздает узду неузданную, берёт плётку нехлёстанную, кладёт двенадцать подпруг с подпругою.
Поехал Василий-царевич. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился… Вот он доезжает до росстаней, где лежит плита-камень, и видит:
«Направо поедешь – себя спасать, коня потерять.
Налево поедешь – коня спасать, себя потерять.
Прямо поедешь – женату быть».
Думал, думал Василий-царевич и поехал дорогой, где женату быть. Доехал до терема с золотой крышей. Выбегает к нему прекрасная девица и просит его откушать хлеба-соли и лечь почивать:
– Царский сын, не торопись ехать, а торопись делать, что тебе любо-дорого…
Тут она его из седла вынула, в терем повела, накормила, напоила и спать положила.
Только Василий-царевич лёг к стенке, она опять повернула кровать, он и полетел в подполье.
А там спрашивают:
– Кто летит?
– Василий-царевич. А кто сидит?
– Фёдор-царевич.
– Вот, братан, попали!
Долго ли, коротко ли, третий раз царь собирает пир, зовёт князей и бояр:
– Кто бы выбрался из охотников привезти молодильных яблок и живой воды кувшинец о двенадцати рылец? Я бы этому седоку полцарства отписал.
Тут больший стал хорониться за среднего, а средний за меньшего, а от меньшего ответа нет. Выходит Иван-царевич и говорит:
– Дай мне, батюшка, благословеньице с буйной головы до резвых ног ехать в тридесятое царство – поискать тебе молодильных яблок и живой воды, да поискать ещё моих братцев.
Дал ему царь благословеньице. Пошёл Иван-царевич в конюший двор – выбрать себе коня по разуму. На которого коня не взглянет, тот дрожит, на которого руку положит, тот с ног валится…
Не мог выбрать Иван-царевич коня по разуму. Идёт, повесил буйну голову. Навстречу ему бабушка-задворенка.
– Здравствуй, дитятко Иван-царевич! Что ходишь кручинен-печален?
– Как же мне, бабушка, не печалиться – не могу найти коня по разуму.
– Давно бы ты меня спросил. Добрый конь стоит закованный в погребу, на цепи железной. Сможешь его взять – будет тебе конь по разуму.
Приходит Иван-царевич к погребу, пнул плиту железную, свернулась плита с погреба. Вскочил ко добру коню, стал ему конь своими передними ногами на плечи. Стоит Иван-царевич – не шелохнётся. Сорвал конь железную цепь, выскочил из погреба и Ивана-царевича вытащил. И тут Иван-царевич его обуздал уздой неузданной, оседлал седельцем неезженым, наложил двенадцать подпруг с подпругою – не ради красы, ради славушки молодецкой.
Отправился Иван-царевич в путь-дорогу. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился… Доехал он до росстаней и поразмыслил:
«Направо ехать – коня потерять. Куда мне без коня-то? Прямо ехать – женату быть. Не за тем я в путь-дорогу выехал. Налево ехать – коня спасти. Эта дорога – самая лучшая для меня».
И поворотил он по той дороге, где коня спасти – себя потерять.
Ехал он долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли, по зелёным лугам, по каменным горам, ехал день до вечеру – красна солнышка до закату – и наезжает на избушку.
Стоит избушка на курьей ножке, об одном окошке.
– Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом! Как мне в тебя зайти, так и выйти.
Избушка повернулась к лесу задом, к Ивану-царевичу передом. Зашёл он в неё, а там сидит Баба-яга старых лет. Шёлковый кудель[7] мечет, а нитки через грядки бросает.
– Фу, фу, – говорит, – русского духу слыхом не слыхано, видом не видано, а нынче русский дух сам пришёл!
А Иван-царевич ей:
– Ах ты, Баба-яга, костяная нога, не поймавши птицу – теребишь, не узнавши молодца – хулишь! Ты бы сейчас вскочила да меня, добра молодца, дорожного человека, накормила, напоила и для ночи постель собрала. Я бы улёгся, ты бы села к изголовью, стала бы спрашивать, а я бы стал сказывать – чей да откуда.
Вот Баба-яга это дело всё справила – Ивана-царевича накормила, напоила и на постель уложила. Села к изголовью и стала спрашивать:
– Чей ты, дорожный человек, добрый молодец, да откуда? Какой ты земли? Какого отца, матери сын?
– Я, бабушка, из такого-то царства, из такого-то государства, царский сын Иван-царевич. Еду за тридевять озёр, в тридесятое царство за живой водой и молодильными яблоками.
– Ну, дитя моё милое, далеко же тебе ехать: живая вода и молодильные яблоки – у сильной богатырки, девицы Синеглазки, она мне родная племянница. Не знаю, получишь ли ты добро…
– А ты, бабушка, дай свою голову моим могучим плечам, направь меня на ум-разум.
– Много молодцев проезживало, да не много вежливо говаривало. Возьми, дитятко, моего коня. Мой конь будет бойчее, довезёт он тебя до моей середней сестры, она тебя научит.
Иван-царевич поутру встаёт ранёшенько, умывается белёшенько. Благодарит Бабу-ягу за ночлег и едет на её коне.
Вдруг он и говорит коню:
– Стой! Перчатку обронил.
А конь отвечает:
– В кою пору ты говорил, я уже двести вёрст проскакал…
Едет Иван-царевич близко ли, далёко ли. День до ночи коротается. И завидел он впереди избушку на курьей ножке, об одном окошке.
– Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом! Как мне в тебя зайти, так и выйти.
Избушка повернулась к лесу задом, к нему передом.
Вдруг слышно – конь заржал, и конь под Иваном-царевичем откликнулся. Кони-то были одностадные.
Услышала это Баба-яга – ещё старее той – и говорит:
– Фу, фу, русского духу слыхом мне не слыхано, видом не видано, а нынче русский дух сам пришёл!
А Иван-царевич ей:
– Ах ты, Баба-яга, костяная нога, встречай гостя по платью, провожай по уму. Ты бы моего коня убрала, меня бы, добра молодца, дорожного человека, накормила, напоила и спать уложила…
Баба-яга это дело справила – коня убрала, а Ивана-царевича накормила, напоила, на постель уложила и стала спрашивать, кто он да откуда и куда путь держит.
– Я, бабушка, из такого-то царства, из такого-то государства, царский сын Иван-царевич. Еду за живой водой и молодильными яблоками к сильной богатырке, девице Синеглазке…
– Ну, дитя милое, не знаю, получишь ли ты добро. Мудро тебе, мудро добраться до девицы Синеглазки!
– А ты, бабушка, дай свою голову моим могучим плечам, направь меня на ум-разум.
– Много молодцев проезживало, да не много вежливо говаривало. Возьми, дитятко, моего коня, поезжай к моей старшей сестре. Она лучше меня знает, что делать.
Вот Иван-царевич заночевал у этой старухи, поутру встаёт ранёшенько, умывается белёшенько. Благодарит Бабу-ягу за ночлег и едет на её коне. А этот конь ещё бойчей того.
Вдруг Иван-царевич говорит:
– Стой! Перчатку обронил.
А конь отвечает:
– В кою пору ты говорил, я уже триста вёрст проскакал.
Не скоро дело делается, скоро сказка сказывается. Едет Иван-царевич день до вечера – красна солнышка до закату. Наезжает на избушку на курьей ножке, об одном окошке.
– Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом! Мне не век вековать, а одну ночь ночевать.
Вдруг заржал конь, и под Иваном-царевичем конь откликнулся. Выходит на крыльцо Баба-яга, старых лет, ещё старее той. Поглядела – конь её сестры, а седок чужестранный, молодец прекрасный…
Тут Иван-царевич вежливо ей поклонился и ночевать попросился. Делать нечего! Ночлега с собой не возят – ночлег нужен каждому: и пешему и конному, и бедному и богатому.
Баба-яга всё дело справила – коня убрала, а Ивана-царевича накормила, напоила и стала спрашивать, кто он да откуда и куда путь держит.
– Я, бабушка, из такого-то царства, из такого-то государства, царский сын Иван-царевич. Был у твоей младшей сестры, она послала к средней, а средняя сестра к тебе послала. Дай свою голову моим могучим плечам, направь меня на ум-разум, как мне добыть у девицы Синеглазки живой воды и молодильных яблок.
– Так и быть, помогу я тебе, Иван-царевич. Девица Синеглазка, моя племянница, – сильная и могучая богатырка. Вокруг её царства – стена три сажени вышины, сажень толщины, у ворот стража – тридцать богатырей. Тебя и в ворота не пропустят. Надо тебе ехать в середину ночи, ехать на моём добром коне. Доедешь до стены – и бей коня по бокам плетью нехлёстанной. Конь через стену перескочит. Ты коня привяжи и иди в сад. Увидишь яблоню с молодильными яблоками, а под яблоней колодец. Три яблока сорви, а больше не бери. И зачерпни из колодца живой воды кувшинец о двенадцати рылец. Девица Синеглазка будет спать, ты в терем к ней не заходи, а садись на коня и бей его по крутым бокам. Он тебя через стену перенесёт.
Иван-царевич не стал ночевать у этой старухи, а сел на её доброго коня и поехал в ночное время. Этот конь поскакивает, мхи-болота перескакивает, реки, озёра хвостом заметает.
Долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли, едет и доезжает Иван-царевич в середине ночи до высокой стены. У ворот стража спит – тридцать могучих богатырей. Прижимает он своего доброго коня, бьёт его плетью нехлёстанной. Конь осерчал и перемахнул через стену. Слез Иван-царевич с коня, входит в сад и видит – стоит яблоня с серебряными листьями, золотыми яблоками, а под яблоней колодец. Иван-царевич сорвал три яблока, а больше не стал брать да зачерпнул из колодца живой воды кувшинец о двенадцати рылец. И захотелось ему самому увидать сильную, могучую богатырку, девицу Сине-глазку.
Входит Иван-царевич в терем, а там спят по одну сторону шесть полениц – девиц-богатырок и по другую сторону шесть, а посредине разметалась девица Синеглазка, спит, как сильный речной порог шумит.
Не стерпел Иван-царевич, приложился, поцеловал её и вышел…
Сел на доброго коня, а конь говорит ему человеческим голосом:
– Не послушался ты, Иван-царевич, вошёл в терем к девице Синеглазке! Теперь мне стены не перескочить.
– Ах ты, конь, волчья сыть, травяной мешок, нам здесь не ночевать, а голову потерять!
Осерчал конь пуще прежнего и перемахнул через стену, да задел об неё одной подковой – на стене струны запели и колокола зазвонили.
Девица Синеглазка проснулась и увидала пропажу:
– Вставайте, у нас покража большая!
Велела она оседлать своего богатырского коня и кинулась с двенадцатью поленицами в погоню за Иваном-царевичем.
Гонит Иван-царевич во всю прыть лошадиную, а девица Синеглазка гонит за ним. Доезжает он до старшей Бабы-яги, а у неё уж конь выведенный, готовый. Он – со своего коня да на этого и опять вперёд поскакал. Иван-то царевич за дверь, а девица Синеглазка – в дверь и спрашивает у Бабы-яги:
– Бабушка, здесь зверь не прорыскивал ли?
– Нет, дитятко.
– Бабушка, здесь молодец не проезживал ли?
– Нет, дитятко. А ты с пути-дороги поешь молочка.
– Поела бы я, бабушка, да долго корову доить.
– Что ты, дитятко, живо справлю…
Пошла Баба-яга доить корову – доит, не торопится. Поела девица Синеглазка молочка и опять погнала за Иваном-царевичем.
Доезжает Иван-царевич до средней Бабы-яги, коня сменил и опять погнал. Он – за дверь, а девица Синеглазка – в дверь:
– Бабушка, не прорыскивал ли зверь, не проезжал ли добрый молодец?
– Нет, дитятко. А ты бы с пути-дороги поела блинков.
– Да ты долго печь будешь.
– Что ты, дитятко, живо справлю…
Напекла Баба-яга блинков – печёт, не торопится. Девица Синеглазка поела и опять погнала за Иваном-царевичем.
Он доезжает до младшей Бабы-яги, слез с коня, сел на своего коня богатырского и опять погнал. Он – за дверь, девица Синеглазка – в дверь и спрашивает у Бабы-яги, не проезжал ли добрый молодец.
– Нет, дитятко, а ты бы с пути-дороги в баньке попарилась.
– Да ты долго топить будешь.
– Что ты, дитятко, живо справлю…
Истопила Баба-яга баньку, всё изготовила. Девица Синеглазка попарилась, окатилась и опять погнала. Конь её с горки на горку поскакивает, реки, озёра хвостом заметает. Стала она Ивана-царевича настигать.
Он видит за собой погоню: двенадцать богатырок с тринадцатой – девицей Синеглазкой – ладят на него наехать, с плеч голову снять. Стал он коня приостанавливать, девица Синеглазка наскакивает и кричит ему:
– Что ж ты, вор, без спросу из моего колодца пил да колодец не прикрыл!
А он ей:
– Что ж, давай разъедемся на три прыска лошадиных, давай силу пробовать.
Тут Иван-царевич и девица Синеглазка заскакивали на три прыска лошадиных, брали палицы боевые, копья долгомерные, сабельки острые. И съезжались три раза: палицы поломали, копья-сабли исщербили – не могли друг друга с коня сбить. Незачем стало им на добрых конях разъезжаться, соскочили они с коней и схватились в охапочку.
Боролись с утра до вечера – красна солнышка до закату. У Ивана-царевича резва ножка подвернулась, упал он на сыру землю. Девица Синеглазка стала коленкой на его белу грудь и вытаскивает кинжалище булатный – пороть ему белу грудь, Иван-царевич и говорит ей:
– Не губи меня, девица Синеглазка, лучше возьми за белые руки, подними с сырой земли, поцелуй в уста сахарные.
Тут девица Синеглазка подняла Ивана-царевича с сырой земли и поцеловала в уста сахарные. И раскинули они шатёр в чистом поле, на широком раздолье, на зелёных лугах. Тут они гуляли три дня и три ночи. Здесь они обручились и перстнями обменялись. Девица Синеглазка ему говорит:
– Я поеду домой – и ты поезжай домой, да смотри никуда не сворачивай… Через три года жди в своём царстве.
Сели они на коней и разъехались… Долго ли, коротко ли, – не скоро дело делается, скоро сказка сказывается, – доезжает Иван-царевич до росстаней, до трёх дорог, где плита-камень, и думает:
«Вот хорошо! Домой еду, а братья мои пропадают без вести».
И не послушал он девицы Синеглазки, своротил на ту дорогу, где женатому быть… И наезжает на терем под золотой крышей. Тут под Иваном-царевичем конь заржал, и братьёвы кони откликнулись. Кони-то были одностадные…
Иван-царевич взошёл на крыльцо, стукнул кольцом – маковки на тереме зашатались, оконницы покривились. Выбегает прекрасная девица:
– Ах, Иван-царевич, давно я тебя поджидаю! Иди со мной хлеба-соли откушать и спать-почивать.
Повела его в терем и стала потчевать. Иван-царевич не столько ест, сколько под стол кидает, не столько пьёт, сколько под стол льёт. Повела его прекрасная девица в спальню:
– Ложись, Иван-царевич, спать-почивать.
А Иван-царевич столкнул её на кровать, живо кровать повернул, девица и полетела в подполье, в яму глубокую.
Иван-царевич наклонился над ямой и кричит:
– Кто там живой?
А из ямы отвечают:
– Фёдор-царевич да Василий-царевич.
Он их из ямы вынул – они лицом черны, землёй уж стали порастать. Иван-царевич умыл братьев живой водой – стали они опять прежними.
Сели они на коней и поехали… Долго ли, коротко ли, доехали до росстаней. Иван-царевич и говорит братьям:
– Покараульте моего коня, а я лягу отдохну.
Лёг он на шёлковую траву и богатырским сном заснул. Фёдор-царевич и говорит Василию-царевичу:
– Вернёмся мы без живой воды, без молодильных яблок – будет нам мало чести, нас отец пошлёт гусей пасти…
Василий-царевич отвечает:
– Давай Ивана-царевича в пропасть спустим, а эти вещи возьмём и отцу в руки отдадим.
Вот они у него из-за пазухи вынули молодильные яблоки и кувшин с живой водой, а его взяли и бросили в пропасть. Иван-царевич летел туда три дня и три ночи.
Упал Иван-царевич на самое взморье, опамятовался и видит: только небо и вода и под старым дубом у моря птенцы пищат – бьёт их непогода.
Иван-царевич снял с себя кафтан и птенцов накрыл, а сам укрылся под дубом.
Унялась погода, летит большая птица Нагай. Прилетела, под дуб села и спрашивает птенцов:
– Детушки мои милые, не убила ли вас погода-ненастье?
– Не кричи, мать, нас сберёг русский человек, своим кафтаном укрыл.
Птица Нагай спрашивает Ивана-царевича:
– Для чего ты сюда попал, милый человек?
– Меня родные братья в пропасть бросили за молодильные яблоки да за живую воду.
– Ты моих детей сберёг, спрашивай у меня, чего хочешь: злата ли, серебра ли, камня ли драгоценного.
– Ничего, Нагай-птица, мне не надо: ни злата, ни серебра, ни камня драгоценного. А нельзя ли мне попасть в родную сторону?
Нагай-птица ему отвечает:
– Достань мне два чана – пудов по двенадцати – мяса.
Вот Иван-царевич настрелял на взморье гусей, лебедей, в два чана поклал, поставил один чан Нагай-птице на правое плечо, а другой – на левое, сам сел ей на хребет. Стал птицу Нагай кормить, она поднялась и летит в вышину.
Она летит, а он ей подаёт да подаёт… Долго ли, коротко ли так летели, скормил Иван-царевич оба чана. А птица Нагай опять оборачивается. Он взял нож, отрезал у себя кусок с ноги и Нагай-птице подал. Она летит, летит и опять оборачивается. Он с другой ноги срезал мясо и подал. Вот уже недалеко лететь осталось. Нагай-птица опять оборачивается. Он с груди у себя мясо срезал и ей подал.
Тут Нагай-птица донесла Ивана-царевича до родной стороны.
– Хорошо ты кормил меня всю дорогу, но слаще последнего кусочка отродясь не едала.
Иван-царевич ей показывает раны. Нагай-птица рыгнула, три кусочка вырыгнула:
– Приставь их на место.
Иван-царевич приставил – мясо приросло к костям.
– Теперь слезай с меня, Иван-царевич, я домой полечу.
Поднялась Нагай-птица в вышину, а Иван-царевич пошёл путём-дорогой на родную сторону.
Пришёл он в столицу и узнаёт, что Фёдор-царевич и Василий-царевич привезли отцу живой воды и молодильных яблок и царь исцелился: по-прежнему стал здоровьем крепок и глазами зорок.
Не пошёл Иван-царевич к отцу, к матери, а собрал он пьяниц, кабацкой голи и давай гулять по кабакам.
В ту пору за тридевять земель, в тридесятом царстве сильная богатырка Синеглазка родила двух сыновей. Они растут не по дням, а по часам.
Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается – прошло три года. Синеглазка взяла сыновей, собрала войско и пошла искать Ивана-царевича.
Пришла она в его царство и в чистом поле, в широком раздолье, на зелёных лугах раскинула шатёр белополотняный. От шатра дорогу устелила сукнами цветными. И посылает в столицу царю сказать:
– Царь, отдай царевича. Не отдашь – всё царство потопчу, пожгу, тебя в полон возьму.
Царь испугался и посылает старшего – Фёдора-царевича. Идёт Фёдор-царевич по цветным сукнам, подходит к шатру белополотняному. Выбегают два мальчика:
– Матушка, матушка, это не наш ли батюшка идёт?
– Нет, детушки, это ваш дяденька.
– А что прикажешь с ним делать?
– А вы, детушки, угостите его хорошенько.
Тут эти двое пареньков взяли трости и давай хлестать Фёдора-царевича пониже спины. Били, били, он едва ноги унёс.
А Синеглазка опять посылает к царю.
– Отдай царевича!
Пуще испугался царь и посылает среднего – Василия-царевича. Он подходит к шатру. Выбегают два мальчика:
– Матушка, матушка, это не наш ли батюшка идёт?
– Нет, детушки, это ваш дяденька. Угостите его хорошенько.
Двое пареньков опять давай дядю тростями чесать. Били, били, Василий-царевич едва ноги унёс. А Синеглазка в третий раз посылает к царю:
– Ступайте, ищите третьего сынка, Ивана-царевича! Не найдёте – всё царство потопчу, пожгу!
Царь ещё пуще испугался, посылает за Фёдором-царевичем и Василием-царевичем, велит им найти брата, Ивана-царевича. Тут братья упали отцу в ноги и во всём повинились: как у сонного Ивана-царевича взяли живую воду и молодильные яблоки, а самого бросили в пропасть.
Услышал это царь и залился слезами. А в ту пору Иван-царевич сам идёт к Синеглазке, и с ним идёт голь кабацкая. Они под ногами сукна рвут и в стороны мечут.
Подходит он к белополотняному шатру. Выбегают два мальчика:
– Матушка, матушка, к нам какой-то пьяница идёт с голью кабацкой!
А Синеглазка им:
– Возьмите его за белые руки, ведите в шатёр. Это ваш родной батюшка. Он безвинно три года страдал.
Тут Ивана-царевича взяли за белые руки, ввели в шатёр. Синеглазка его умыла и причесала, одежду на нём сменила и спать уложила. А голи кабацкой по стаканчику поднесла, и они домой отпра-вились.
На другой день Синеглазка и Иван-царевич приехали во дворец. Тут начался пир на весь мир – честным пирком да за свадебку. Фёдору-царевичу и Василию-царевичу мало было чести, прогнали их со двора – ночевать где ночь, где две, а третью и ночевать негде…
Иван-царевич не остался здесь, а уехал с Синеглазкой в её девичье царство.
Тут и сказке конец.
Хитрая наука
Жили себе дед да баба, был у них сын. Старик-то был бедный; хотелось ему отдать сына в науку, чтоб смолоду был родителям своим на утеху, под старость на перемену, а по смерти на помин души, да что станешь делать, коли достатку нет! Водил он его, водил по городам – авось возьмёт кто в ученье; нет, никто не взялся учить без денег.
Воротился старик домой, поплакал-поплакал с бабою, потужил-погоревал о своей бедности и опять повёл сына в город. Только пришли они в город, попадается им навстречу человек и спрашивает деда:
– Что, старичок, пригорюнился?
– Как мне не пригорюниться! – сказал дед. – Вот водил, водил сына, никто не берёт без денег в науку, а денег нетути!
– Ну так отдай его мне, – говорит встречный, – я его в три года выучу всем хитростям. А через три года, в этот самый день, в этот самый час, приходи за сыном; да смотри: коли не просрочишь – придёшь вовремя да узнаешь своего сына – возьмёшь его назад; а коли нет, так оставаться ему у меня.
Дед так обрадовался и не спросил: кто такой встречный, где живёт и чему учить станет малого? Отдал ему сына и пошёл домой. Пришёл домой в радости, рассказал обо всём бабе; а встречный-то был колдун.
Вот прошли три года, а старик совсем позабыл, в какой день отдал сына в науку, и не знает, как ему быть. А сын за день до срока прилетел к нему малою птичкою, хлопнулся о завалинку и вошёл в избу добрым молодцем, поклонился отцу и говорит: завтра-де сравняется как раз три года, надо за ним приходить; и рассказал, куда за ним приходить и как его узнавать.
– У хозяина моего не я один в науке; есть, – говорит, – ещё одиннадцать работников, навсегда при нём остались – оттого, что родители не смогли их признать; и только ты меня не признаешь, так и я останусь при нём двенадцатым. Завтра, как придёшь ты за мною, хозяин всех нас двенадцать выпустит белыми голубями – перо в перо, хвост в хвост и голова в голову ровны. Вот ты и смотри: все высоко станут летать, а я нет-нет да возьму повыше всех. Хозяин спросит: узнал ли своего сына? Ты и покажь на того голубя, что повыше всех.
После выведет он к тебе двенадцать жеребцов – все одной масти, гривы на одну сторону и собой ровны; как станешь проходить мимо тех жеребцов, хорошенько примечай: я нет-нет да правой ногою и топну. Хозяин опять спросит: узнал своего сына? Ты смело показывай на меня.
После того выведет к тебе двенадцать добрых молодцев – рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо и одёжей ровны. Как станешь проходить мимо тех молодцев, примечай-ка: на правую щеку ко мне нет-нет да и сядет малая мушка. Хозяин опять-таки спросит: узнал ли своего сына? Ты и покажь на меня.
Рассказал всё это, распростился с отцом и пошёл из дому, хлопнулся о завалинку, сделался птичкою и улетел к хозяину.
Поутру дед встал, собрался и пошёл за сыном. Приходит к колдуну.
– Ну, старик, – говорит колдун, – выучил твоего сына всем хитростям. Только, если не признаешь его, оставаться ему при мне на веки вечные.
После того выпустил он двенадцать белых голубей – перо в перо, хвост в хвост, голова в голову ровны, и говорит:
– Узнавай, старик, своего сына!
Как узнавать-то, ишь все ровны! Смотрел, смотрел, да как поднялся один голубь повыше всех, указал на того голубя:
– Кажись, это мой!
– Узнал, узнал, дедушка! – сказывает колдун. В другой раз выпустил он двенадцать жеребцов – все, как один, и гривы на одну сторону.
Стал дед ходить вокруг жеребцов да приглядываться, а хозяин спрашивает:
– Ну что, дедушка! Узнал своего сына?
– Нет ещё, погоди маленько.
Да как увидал, что один жеребец топнул правою ногою, сейчас показал на него:
– Кажись, это мой!
– Узнал, узнал, дедушка!
В третий раз вышли двенадцать добрых молодцев – рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо, словно одна мать родила.
Дед раз прошёл мимо молодцев – ничего не заприметил, в другой прошёл – тож ничего, а как проходил в третий раз – увидал у одного молодца на правой щеке муху и говорит:
– Кажись, это мой!
– Узнал, узнал, дедушка!
Вот делать нечего, отдал колдун старику сына, и пошли они себе домой.
Шли, шли и видят: едет по дороге какой-то барин.
– Батюшка, – говорит сын, – я сейчас сделаюсь собачкою; барин станет покупать меня, ты меня-то продай, а ошейника не продавай; не то я к тебе назад не ворочусь!
Сказал так-то да в ту ж минуту ударился оземь и оборотился собачкою.
Барин увидал, что старик ведёт собачку, зачал её торговать: не так ему собачка показалася, как ошейник хорош. Барин даёт за неё сто рублёв, а дед просит триста; торговались, торговались, и купил барин собачку за двести рублёв.
Только стал было дед снимать ошейник – куда! – барин и слышать про то не хочет, упира-ется.
– Я ошейника не продавал, – говорит дед, – я продал одну собачку.
А барин:
– Нет, врёшь! Кто купил собачку, тот купил и ошейник.
Дед подумал-подумал (ведь и впрямь без ошейника нельзя купить собаку!) и отдал её с ошей-ником.
Барин взял и посадил собачку к себе, а дед забрал деньги и пошёл домой.
Вот барин едет себе да едет, вдруг – откуда ни возьмись – бежит навстречу заяц.
– Что, – думает барин, – али выпустить собачку за зайцем да посмотреть её прыти?
Только выпустил, смотрит: заяц бежит в одну сторону, собака в другую – и убежала в лес.
Ждал, ждал её барин, не дождался и поехал ни при чём.
А собачка оборотилась добрым молодцем.
Дед идёт дорогою, идёт широкою и думает: как домой глаза-то показать, как старухе сказать, куда сына девал? А сын уж нагнал его.
– Эх, батюшка! – говорит. – Зачем с ошейником продавал? Ну, не повстречай мы зайца, я б не воротился, так бы и пропал ни за что!
Воротились они домой и живут себе помаленьку. Много ли, мало ли прошло времени, в одно воскресенье говорит сын отцу:
– Батюшка, я обернусь птичкою, понеси меня на базар и продай; только клетки не продавай, не то домой не ворочусь.
Ударился оземь, сделался птичкою, старик посадил её в клетку и понёс продавать.
Обступили старика люди, наперебой начали торговать птичку: так она всем показалася!
Пришёл и колдун, тотчас признал деда и догадался, что у него за птица в клетке сидит. Тот даёт дорого, другой даёт дорого, а он дороже всех; продал ему старик птичку, а клетки не отдаёт; колдун туда-сюда, бился с ним, бился, ничего не берёт!
Взял одну птичку, завернул в платок и понёс домой.
– Ну, дочка, – говорит дома, – я купил нашего шельмеца!
– Где же он?
Колдун распахнул платок, а птички давно нет – улетела, сердешная!
Настал опять воскресный день. Говорит сын отцу:
– Батюшка! Я обернусь нынче лошадью; смотри же, лошадь продавай, а уздечки не моги продавать; не то домой не ворочусь.
Хлопнулся о сырую землю и сделался лошадью; повёл её дед на базар продавать.
Обступили старика торговые люди, всё барышники: тот даёт дорого, другой даёт дорого, а колдун дороже всех.
Дед продал ему сына, а уздечки не отдаёт.
– Да как же я поведу лошадь-то? – спрашивает колдун. – Дай хоть до двора довести, а там, пожалуй, бери свою узду: мне она не в корысть!
Тут все барышники на деда накинулись: так-де не водится! Продал лошадь – продал и узду. Что с ними поделаешь? Отдал дед уздечку.
Колдун привёл коня на свой двор, поставил в конюшню, накрепко привязал к кольцу и высоко притянул ему голову: стоит конь на одних задних ногах, передние до земли не хватают.
– Ну, дочка, – сказывает опять колдун, – вот когда купил, так купил нашего шельмеца.
– Где же он?
– На конюшне стоит.
Дочь побежала смотреть; жалко ей стало добра молодца, захотела подлинней отпустить повод, стала распутывать да развязывать, а конь тем временем вырвался и пошел вёрсты отсчитывать.
Бросилась дочь к отцу.
– Батюшка, – говорит, – прости! Грех меня попутал, конь убежал!
Колдун хлопнулся о сырую землю, сделался серым волком и пустился в погоню: вот близко, вот нагонит!
Конь прибежал к реке, ударился оземь, оборотился ершом и бултых в воду, а волк за ним щукою.
Ёрш бежал, бежал водою, добрался к плотам, где красные девицы бельё моют, перекинулся золотым кольцом и подкатился купеческой дочери под ноги.
Купеческая дочь подхватила колечко и спрятала. А колдун сделался по-прежнему человеком.
– Отдай, – пристаёт к ней, – моё золотое кольцо.
– Бери! – говорит девица и бросила кольцо наземь.
Как ударилось оно, в ту ж минуту рассыпалось мелкими зёрнами. Колдун обернулся петухом и бросился клевать; пока клевал – одно зерно обернулось ястребом, и плохо пришлось петуху: задрал его ястреб!
Тем сказке конец, а мне водочки корец.
Русская литература XIX века
Проза
Александра Осиповна Ишимова (1804–1881)
Александра Осиповна Ишимова родилась в 1804 году в Костроме. На следующий год отца перевели на службу в Санкт-Петербург. До семи лет девочку ничему не учили, даже азбуке, давая ей полную свободу. А в восемь лет Александру отдали в пансион. За четыре месяца обучения она выучилась читать по-русски, по-французски и по-немецки. В 1818 году Александра окончила пансион и готовилась поступать в Екатерининский институт, но из-за интриг богатого и влиятельного помещика её отец был выслан из Петербурга в Вологду, затем – в Усть-Сысольск и Никольск. Семья на годы осталась без средств к существованию. В 1825 году отца планируют выслать в Соловецкий монастырь.
В 1825 году Александра Ишимова приежает в Санкт-Петербург и отправляется к царю вымолить прощение для отца. Встреча состоялась, и дела семьи наладились. Вскоре Ишимова открывает частную школу, занимается литературными переводами. В это время она завязывает знакомство с Вяземским, Жуковским, Пушкиным и другими писателями.
С августа 1834 года Александра Осиповна работает над «Историей России в рассказах для детей» – главной книгой писательницы, принёсшей ей всероссийскую славу. В 1838 году Александре Ишимовой была присуждена Демидовская премия.
Ишимова издавала два ежемесячных журнала для детей младшего и среднего возраста: «Звёздочка» и «Лучи» (первый журнал «для девиц»). Она много переводила с французского и английского языков: в частности, именно ей принадлежат первые переводы на русский язык приключенческих романов Фенимора Купера.
История России в рассказах для детей (Славяне. До 862 года христианского летосчисления)
Милые дети! Вы любите слушать чудесные рассказы о храбрых героях и прекрасных царевнах, вас веселят сказки о добрых и злых волшебницах. Но, верно, для вас ещё приятнее будет слышать не сказку, а быль, т. е. сущую правду? Послушайте же, я расскажу вам о делах ваших предков.
В старину в отечестве нашем, России, не было таких прекрасных городов, как Петербург и Москва. На тех местах, где вы любуетесь теперь красивыми строениями, где вы так весело бегаете в тени прохладных садов, некогда были непроходимые леса, топкие болота и дымные избушки; местами были и города, но вовсе не такие обширные, как в наше время. В них жили люди, красивые лицом и станом, гордые славными делами предков, честные, добрые, ласковые дома, но страшные и непримиримые на войне. Их называли славянами. Верно, и самые маленькие из вас понимают, что значит слава? Славяне старались доказать, что недаром их называли так, и отличались всеми хорошими качествами, которыми можно заслужить славу.
Они были так честны, что в обещаниях своих вместо клятв говорили только: «Если я не сдержу моего слова, да будет мне стыдно!» – и всегда исполняли обещанное, так храбры, что и отдалённые народы боялись их, так ласковы и гостеприимны, что наказывали того хозяина, у которого гость был чем-нибудь оскорблён. Жаль только, что они не знали истинного Бога и молились не ему, а разным идолам. Идол – значит статуя, сделанная из дерева или какого-нибудь металла и представляющая человека или зверя.
Славяне разделялись на разные племена. У северных, или новгородских, славян не было и государя, что бывает у многих необразованных народов: они почитали начальником своим того, кто более всех отличался на войне. По этому вы видите, как они любили войну и всё соединённое с ней. На поле, где сражались они и потом торжествовали победу или славную смерть погибших товарищей, можно было всего лучше видеть истинный характер славян. Жаль, что до нас не дошли песни, которые обыкновенно пелись в это время певцами. Мы хорошо узнали бы тогда их самих, потому что в песнях народных выражается народ. Но я могу предложить вам здесь несколько строк, из которых вы всё-таки получите понятие о славянах. Это отрывок из «Песни барда над гробом славян-победителей» Жуковского:
- Ударь во звонкий щит!
- стекитесь, ополченны!
- Умолкла брань —
- враги утихли расточенны!
- Лишь пар над пеплом сел густой;
- Лишь волк, сокрытый нощи мглой,
- Очами блещущий,
- бежит на лов обильный;
- Зажжём костер дубов;
- изройте ров могильный;
- Сложите на щиты поверженных во прах.
- Да холм вещает здесь векам о бранных днях,
- Да камень здесь хранит могущих след священной!»
- Гремит… раздался гул в дубраве пробужденной!
- Стеклись вождей и ратных сонм;
- Глухой полнощи тьма кругом;
- Пред ними вещий бард,
- венчанный сединою,
- И падших страшный ряд,
- простёртых на щитах.
- Объяты думою, с поникнутой главою;
- На грозных лицах кровь и прах;
- Оперлись на мечи; средь них костёр пылает,
- И с свистом горный ветр их кудри воздымает.
- И се! воздвигся холм, и камень водружён;
- И дуб, краса полей, воспитанный веками,
- Склонил главу на дёрн, потоком орошён;
- И се! могущими перстами
- Певец ударил по струнам —
- Одушевленны забряцали!
- Воспел – дубравы застенали,
- И гул помчался по горам…
Эта картина из жизни древних славян представлена прекрасно и верно.
Но эта самая воинственность, охраняя землю их, была причиной и большого зла для неё. Вы слышали уже, что, не имея государей, они почитали начальником своим того, кто более других отличался на войне, а так как они все были храбры, то иногда случалось, что таких начальников было много. Каждый из них хотел приказывать по-своему; народ не знал, кого слушать, и оттого были у них беспрестанные споры и несогласия. А ведь вы знаете, как несносны ссоры! И вам в ваших маленьких делах, верно, случалось уже испытать, какие неприятные последствия имеют они.
Славяне также видели, что во время несогласий их все дела шли у них дурно, и они даже переставали побеждать своих неприятелей. Долго не знали они, что делать, наконец придумали средство привести всё в порядок.
На берегах Балтийского моря, не очень далеко от отечества нашего, жил народ по имени варяги-русь, происходивший от великих завоевателей в Европе – норманнов. Эти варяги-русь считались народом умным: у них давно уже были добрые государи, которые заботились о них так, как заботится добрый отец о детях, были и законы, по которым эти государи управляли, и оттого варяги жили счастливо и им удавалось даже иногда побеждать славян.
Вот старики славянские, видя счастье варягов и желая такого же своей родине, уговорили всех славян отправить послов к этому храброму и предприимчивому народу – просить у него князей управлять ими. Послы сказали варяжским князьям: «Земля наша велика и богата, а порядка в ней нет: идите княжить и владеть нами».
Начало Русского государства и первые государи русские (802–944 годы)
Варяги-русь были рады такой чести, и три брата из князей их – Рюрик, Синеус и Трувор – тотчас поехали к славянам. Рюрик сделался государем в Нове-городе, самом старинном из городов славянских, Трувор – в Изборске, Синеус – в земле, лежащей около Белого озера. От этих-то варяго-рус-ских князей славяне начали называться русскими, а земля их Русью или Россией. Синеус и Трувор скоро умерли, и Рюрик сделался один великим князем русским и основателем Русского государства. Он княжил счастливо два года с братьями и пятнадцать лет один.
Есть стихи, написанные одним из лучших поэтов наших, Державиным, на победы, одержанные русскими в Италии, во времена позднейшие, и в этих стихах есть изображение Рюрика. Так как всякое поэтическое описание гораздо живее действует на ум и долго остаётся в нём, нежели сделанное прозой, то я уверена, что вы навсегда оставите в памяти черты, в которых великий поэт представил первого государя России:
- Но кто там белых волн туманом
- Покрыт по персям, по плечам,
- В стальном доспехе светит рдяном
- Подобно синя моря льдам?
- Кто, на копьё склонясь главою,
- Событье слушает времен? —
- Не тот ли, древле что войною
- Потряс парижских твёрдость стен?
- Так, он пленяется певцами,
- Поющими его дела,
- Смотря, как блещет битв лучами
- Сквозь тьму времен его хвала.
- Так, он! – Се Рюрик торжествует
- В Валкале звук своих побед
- И перстом долу показует
- На росса, что по нём идет.
После Рюрика остался маленький сын его Игорь, который ещё не мог быть государем, и для того Рюрик просил своего родственника и товарища – Олега управлять государством, пока не вырастет Игорь. Олег был храбр и умён, победил много соседних народов и так увеличил Россию, что при нём она простиралась почти до гор Карпатских, которые лежат в Венгрии. Но Олег не совсем заслуживал похвалы. Вы увидите это сами.
Вместе с Рюриком приехали к славянам многие варяги, которые ещё на родине служили ему и, любя доброго начальника, не хотели расстаться с ним. Рюрик за это усердие дарил некоторым из них деревни и селения славянские: от этого появились у нас помещики, т. е. такие бояре, которые владели людьми и землями. Но не все помещики были довольны своими поместьями: иным казалось веселее искать счастья на войне, нежели сидеть дома. Надобно сказать, что тогда люди очень любили войну. Это потому, что, будучи язычниками, они почитали непременным долгом мстить за обиды, а обижали они друг друга очень часто. К тому же они мало учились и не понимали приятностей мира, который доставляет нам возможность предаться занятиям тихим, сладостным для сердца и полезным для ума. Они думали только о том, чтобы сражаться и побеждать своих врагов.
Двое из таких смелых воинов, Аскольд и Дир, отправились с товарищами к югу от Новгорода и на прекрасных берегах реки Днепр увидели маленький городок, который им очень понравился. Этот городок был Киев. Они, недолго думая, завладели им и сделались государями киевскими. Это государство можно назвать Южным, потому что оно лежало к югу от Новгородского.
Олег, управляя Новгородом после смерти Рюрика, слышал, что все приезжавшие из Киева хвалили новое княжество, и вздумал завоевать его. Но он знал, что князья киевские и народ их храбры, что они будут сражаться с такою же смелостью, как и его воины, и потому решил употребить хитрость. Подойдя к Киеву, он оставил войско сзади, приплыл к киевскому берегу в небольшой лодке только с Игорем и несколькими воинами и послал сказать государям киевским, что с ними желают видеться купцы варяжские из Новгорода, их друзья и земляки. Аскольд и Дир были очень рады таким гостям и тотчас отправились на лодку. Но только они вошли туда, воины Олега окружили их, а сам Олег, подняв на руках маленького Игоря, сказал: «Вы не князья, но я князь, и вот сын Рюрика!» В эту самую минуту воины бросились на обоих князей киевских и убили их. Вот одно дурное дело Олега, а впрочем, он был хорошим опекуном маленького воспитанника своего, старался о пользе народа русского, соединил оба новых государства варягов в одно, сделал столицей Киев и так прославился своей храбростью, что даже греки в Константинополе боялись его и имени русского. Олег вёл с ними войну, подходил к самым стенам славной столицы их, в знак победы повесил свой щит на воротах её, собрал дань с греков, и, когда он возвратился в Киев, народ назвал его вещим – это значит почти то же, что всеведущим.
Славные дела его кратко и прекрасно описал Языков в стихотворении «Олег». Он представил, как наследовавший ему государь, молодой Игорь, вместе с народом справлял торжественную тризну, или поминки, по нём, и на этой тризне был, по обыкновению славян, певец, долженствовавший воспеть дела умершего. Но прочтите стихи Языкова с того самого места, как певец, или, как звали его славяне, баян, приходит в середину народа, торжествовавшего память знаменитого князя своего:
- Вдруг, – словно мятеж усмиряется шумный
- И чинно дорогу даёт,
- Когда поседелый в добре и разумный
- Боярин на вече идёт, —
- Толпы расступились – и стал среди схода
- С гуслями в руках славянин.
- Кто он? Он не князь и не княжеский сын,
- Не старец, советник народа,
- Не славный дружин воевода,
- Не славный соратник дружин;
- Но все его знают, он людям знаком
- Красой вдохновенного гласа…
- Он стал среди схода – молчанье кругом,
- И звучная песнь раздалася!
- Он пел, как премудр и как мужествен был
- Правитель полночной державы,
- Как первый он громом войны огласил
- Древлян вековые дубравы;
- Как дружно сбирались в далёкий поход
- Народы по слову Олега;
- Как шли чрез пороги под грохотом вод
- По высям днепровского брега;
- Как по морю бурному ветер носил
- Проворные русские челны;
- Летела, шумела станица ветрил,
- И прыгали челны чрез волны!
- Как после, водима любимым вождём,
- Сражалась, гуляла дружина
- По градам и сёлам с мечом и огнём
- До града царя Константина;
- Как там победитель к воротам прибил
- Свой щит, знаменитый во брани,
- И как он дружину свою оделил
- Богатствами греческой дани!
- Умолк он – и радостным криком похвал
- Народ отозвался несметный,
- И братски баяна сам князь обнимал;
- В стакан золотой и заветный
- Он мёд наливал искрометный
- И с ласковым словом ему подавал.
- И, вновь наполняемый мёдом,
- Из рук молодого владыки славян
- С конца до конца меж народом
- Ходил золотой и заветный стакан.
Олег управлял государством 33 года: добрый Игорь не хотел напоминать ему, что сам уже может княжить, и сделался государем русским только тогда, как умер Олег.
Игорь, как и все русские князья, был храбр, но не так счастлив, как Олег: при нём явились в первый раз в Россию печенеги – народ, который потом всегда был страшным врагом наших предков.
Печенеги поселились между реками Дон и Днепр, на лугах, где паслись стада их. Они не строили домов, но делали подвижные шатры или шалаши. Когда стада не находили более корма на лугах, они переносили шалаши на другое место и оставались там, пока была трава. Они сами и лошади их бегали очень скоро, по рекам же умели плавать почти как рыбы. Это помогало им нападать на соседей своих, уводить в плен бедных жителей и избавляться от наказания. Злые печенеги даже нанимались на службу к таким народам, которые вели с кем-нибудь войну, тогда-то злодействовали сколько им хотелось.
Игорь, хотя и наложил на них дань, т. е. заставил каждого платить в казну свою, не мог прогнать их подалее от границ своего государства.
Ещё несчастнее был поход его к древлянскому народу, который жил там, где теперь Волынская губерния. Древляне также были славянского племени, их покорил Олег. Игорь ездил к ним для того, чтобы взять более дани, нежели сколько они всегда платили. Древлянам показалось это так обидно, что они забыли всё почтение, какое должно иметь к государю своему, и совершили ужасный грех: убили Игоря.
Так погиб этот несчастный государь. Он княжил 32 года, но не отличался никакими особенно примечательными делами.
Антон Павлович Чехов (1860–1904)
Антон Павлович Чехов родился в городе Таганроге в январе 1860 года. Все братья и сёстры Чехова были исключительно одарёнными, высокообразованными людьми. Отец – Павел Егорович Чехов – был весьма интересной личностью. Он имел в Таганроге бакалейную лавку, но занимался торговлей без особого рвения, больше уделяя внимание посещению церковных служб, пению и общественным делам. Дети воспитывались в строгости, часто применялись и телесные наказания, бездельничать никому не дозволялось. Помимо учёбы в гимназии, сыновьям Павла Егоровича приходилось иногда замещать отца в лавке, конечно в ущерб занятиям. По вечерам пели хором. Отец прекрасно играл на скрипке, пел.
Мать Чехова в ранней молодости была отдана в таганрогский частный пансион благородных девиц, где обучалась танцам и хорошим манерам, очень любила театр. Антон Павлович Чехов впоследствии говорил, что «талант в нас со стороны отца, а душа – со стороны матери».
В 1876 году семья переезжает в Москву. В 1879 году Чехов поступает на медицинский факультет Московского университета.
В 1880 году в журнале «Стрекоза» появляется его первое печатное произведение. С этого времени начинается непрерывная литературная деятельность Антона Павловича Чехова.
В поисках новых впечатлений в 1890 году Чехов отправляется в Сибирь, чтобы затем посетить остров Сахалин. Дорога оказалась очень длинной: из Ярославля по Волге до Казани, затем по Каме до Перми, оттуда по железной дороге до Тюмени, а затем через всю Сибирь на тарантасе[8] и по рекам. На Сахалине Чехов пробыл более трёх месяцев, затем через Индийский океан, Средиземное и Чёрное моря, посетив Японию, Гонконг, Сингапур, Цейлон, Константинополь, прибыв в порт Одессы, он на поезде возвращается в Москву. Жизнь в Москве после такого путешествия кажется Чехову неинтересной, и он отправляется в Петербург, а затем уезжает в Западную Европу.
В 1892 году Чехов покупает имение в селе Мелихово Серпуховского уезда Московской губернии. Давняя мечта жить в деревне, быть землевладельцем осуществилась. В Мелихове Чехову приходит идея создания общественной библиотеки в родном Таганроге. Писатель жертвует туда более двух тысяч томов собственных книг. Впоследствии Чехов постоянно отсылает в библиотеку закупаемые им книги, причём в больших количествах.
Последние годы живёт в Ялте. Слабое здоровье, подорванное поездкой на Сахалин, ухудшается настолько, что в мае 1904 года Чехов покидает Ялту и вместе с женой едет в Баденвейлер, знаменитый курорт на юге Германии.
15 июля ночью Чехов почувствовал себя особенно плохо. Приехавшему на вызов доктору он сказал твёрдо: «Я умираю».
Каштанка
Глава первая. Дурное поведение
Молодая рыжая собака – помесь такса с дворняжкой – очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперёд по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчёт: как это могло случиться, что она заблудилась?
Она отлично помнила, как она провела день и как в конце концов попала на этот незнакомый тротуар.
День начался с того, что её хозяин, столяр Лука Александрыч, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завёрнутую в красный платок, и крикнул:
– Каштанка, пойдём!
Услыхав своё имя, помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александрыча жили ужасно далеко, так что, прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что её взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на вагоны конно-железки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело терял её из виду, останавливался и сердито кричал на неё. Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак её лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой:
– Чтоб… ты… из… дох… ла, холера!
Побывав у заказчиков, Лука Александрыч зашёл на минутку к сестре, у которой пил и закусывал; от сестры пошёл он к знакомому переплётчику, от переплётчика в трактир, из трактира к куму и т. д. Одним словом, когда Каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело и столяр был пьян, как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал:
– Во гресех роди мя мати во утробе моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идём и на фонарики глядим, а как помрём – в гиене огненной гореть будем…
Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе Каштанку и говорил ей:
– Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека ты всё равно, что плотник супротив столяра…
Когда он разговаривал с ней таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на неё шёл полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завыла. К великому её удивлению, столяр, вместо того, чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фрунт и всей пятернёй сделал под козырёк. Видя, что хозяин не протестует, Каштанка ещё громче завыла и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар.
Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы! столяра уже там не было. Она бросилась вперёд, потом назад, ещё раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился… Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов, но раньше какой-то негодяй прошёл в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острою каучуковою вонью, так что ничего нельзя было разобрать.
Каштанка бегала взад и вперёд и не находила хозяина, а между тем становилось темно. По обе стороны улицы зажглись фонари и в окнах домов показались огни. Шёл крупный, пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков, и чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Мимо Каштанки, заслоняя ей поле зрения и толкая её ногами, безостановочно взад и вперёд проходили незнакомые заказчики. (Всё человечество Каштанка делила на две очень неравные части: на хозяев и на заказчиков; между теми и другими была существенная разница: первые имели право бить её, а вторых она сама имела право хватать за икры.) Заказчики куда-то спешили и не обращали на неё никакого внимания.
Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александрычем утомило её, уши и лапы её озябли, и к тому же ещё она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза; покушала у переплётчика немножко клейстеру да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу – вот и всё. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы:
– Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!
Глава вторая. Таинственный незнакомец
Но она ни о чём не думала и только плакала. Когда мягкий, пушистый снег совсем облепил её спину и голову и она от изнеможения погрузилась в тяжёлую дремоту, вдруг подъездная дверь щёлкнула, запищала и ударила её по боку. Она вскочила. Из отворённой двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как Каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на неё внимания. Он нагнулся к ней и спросил:
– Псина, ты откуда? Я тебя ушиб? О, бедная, бедная… Ну, не сердись, не сердись… Виноват.
Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы, и увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом, в цилиндре и в шубе нараспашку.
– Что же ты скулишь? – продолжал он, сбивая пальцем с её спины снег. – Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась? Ах, бедный пёсик! Что же мы теперь будем делать?
Уловив в голосе незнакомца тёплую, душевную нотку, Каштанка лизнула ему руку и заскулила ещё жалостнее.
– А ты хорошая, смешная! – сказал незнакомец. – Совсем лисица! Ну, что ж, делать нечего, пойдём со мной! Может быть, ты и сгодишься на что-нибудь… Ну, фюйть!
Он чмокнул губами и сделал Каштанке знак рукой, который мог означать только одно: «Пойдём!» Каштанка пошла.
Не больше как через полчаса она уже сидела на полу в большой, светлой комнате и, склонив голову набок, с умилением и с любопытством глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и бросал ей кусочки… Сначала он дал ей хлеба и зелёную корочку сыра, потом кусочек мяса, полпирожка, куриных костей, а она с голодухи всё это съела так быстро, что не успела разобрать вкуса. И чем больше она ела, тем сильнее чувствовался голод.
– Однако плохо же кормят тебя твои хозяева! – говорил незнакомец, глядя, с какою свирепою жадностью она глотала неразжёванные куски. – И какая ты тощая! Кожа да кости…
Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всём теле приятную истому, завиляла хвостом. Пока её новый хозяин, развалившись в кресле, курил сигару, она виляла хвостом и решала вопрос: где лучше – у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бедная и некрасивая; кроме кресел, дивана, лампы и ковров, у него нет ничего, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира битком набита вещами; у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижиком, лохань… У незнакомца не пахнет ничем, у столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество – он даёт много есть и, надо отдать ему полную справедливость, когда Каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил её, не затопал ногами и ни разу не крикнул: «По-ошла вон, треклятая!»
Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик.
– Эй ты, пёс, поди сюда! – сказал он, кладя матрасик в углу около дивана. – Ложись здесь. Спи!
Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза; с улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею овладела грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком… Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал вслух газету, Федюшка обыкновенно играл с нею… Он вытаскивал её за задние лапы из-под верстака и выделывал с нею такие фокусы, что у неё зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял её ходить на задних лапах, изображал из неё колокол, то есть сильно дёргал её за хвост, отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табаку… Особенно мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из её желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила Каштанка.
Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью… Она стала засыпать. В её воображении забегали собаки; пробежал, между прочим, и мохнатый старый пудель, которого она видела сегодня на улице, с бельмом на глазу и с клочьями шерсти около носа. Федюшка, с долотом в руке, погнался за пуделем, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, весело залаял и очутился около Каштанки. Каштанка и он добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу…
Глава третья. Новое, очень приятное знакомство
Когда Каштанка проснулась, было уже светло и с улицы доносился шум, какой бывает только днём. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и, сердитая, угрюмая, прошлась по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была ещё одна дверь. Подумав, Каштанка поцарапала её обеими лапами, отворила и вошла в следующую комнату. Тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца.
– Pppp… – заворчала она, но, вспомнив про вчерашний обед, завиляла хвостом и стала нюхать.
Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадью. Из спальни вела куда-то ещё одна дверь, тоже затворённая. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на неё грудью, отворила и тотчас же почувствовала странный, очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на неё шёл серый гусь. Несколько в стороне от него, на матрасике, лежал белый кот; увидев Каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту… Кот ещё сильнее выгнул спину, зашипел и ударил Каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, протягивая к коту морду, залилась громким, визгливым лаем; в это время гусь подошёл сзади и больно долбанул её клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся…
– Это что такое? – послышался громкий, сердитый голос, и в комнату вошёл незнакомец в халате и с сигарой в зубах. – Что это значит? На место!
Он подошёл к коту, щёлкнул его по выгнутой спине и сказал:
– Фёдор Тимофеич, это что значит? Драку подняли? Ах ты, старая каналья! Ложись!
И, обратившись к гусю, он крикнул:
– Иван Иваныч, на место!
Кот покорно лёг на свой матрасик и закрыл глаза. Судя по выражению его морды и усов, он сам был недоволен, что погорячился и вступил в драку. Каштанка обиженно заскулила, а гусь вытянул шею и заговорил о чём-то быстро, горячо и отчётливо, но крайне непонятно.
– Ладно, ладно! – сказал хозяин, зевая. – Надо жить мирно и дружно. – Он погладил Каштанку и продолжал: – А ты, рыжик, не бойся… Это хорошая публика, не обидит. Постой, как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат.
Незнакомец подумал и сказал:
– Вот что… Ты будешь – Тётка… Понимаешь? Тётка!
И, повторив несколько раз слово «Тётка», он вышел. Каштанка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чём-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь; после каждой длинной тирады он всякий раз удивлённо пятился назад и делал вид, что восхищается своею речью… Послушав его и ответив ему «рррр…», Каштанка принялась обнюхивать углы. В одном из углов стояло маленькое корытце, в котором она увидела мочёный горох и размокшие ржаные корки. Она попробовала горох – невкусно, попробовала корки – и стала есть. Гусь нисколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а, напротив, заговорил ещё горячее и, чтобы показать своё доверие, сам подошёл к корытцу и съел несколько горошинок.
Глава четвёртая. Чудеса в решете
Немного погодя опять вошёл незнакомец и принёс с собой какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву П. На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного П висел колокол и был привязан пистолет; от языка колокола и от курка пистолета тянулись верёвочки. Незнакомец поставил П посреди комнаты, долго что-то развязывал и завязывал, потом посмотрел на гуся и сказал:
– Иван Иваныч, пожалуйте!
Гусь подошёл к нему и остановился в ожидательной позе.
– Ну-с, – сказал незнакомец, – начнём с самого начала. Прежде всего поклонись и сделай реверанс! Живо!
Иван Иваныч вытянул шею, закивал во все стороны и шаркнул лапкой.
– Так, молодец… Теперь умри!
Гусь лёг на спину и задрал вверх лапы. Проделав ещё несколько подобных неважных фокусов, незнакомец вдруг схватил себя за голову, изобразил на своём лице ужас и закричал:
– Караул! Пожар! Горим!
Иван Иваныч подбежал к П, взял в клюв верёвку и зазвонил в колокол.
Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал:
– Молодец, Иван Иваныч! Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и брильянтами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаёшь в нём воров. Как бы ты поступил в данном случае?
Гусь взял в клюв другую верёвочку и потянул, отчего тотчас же раздался оглушительный выстрел. Каштанке очень понравился звон, а от выстрела она пришла в такой восторг, что забегала вокруг П и залаяла.
– Тётка, на место! – крикнул ей незнакомец. – Молчать!
Работа Ивана Иваныча не кончилась стрельбой. Целый час потом незнакомец гонял его вокруг себя на корде и хлопал бичом, причём гусь должен был прыгать через барьер и сквозь обруч, становиться на дыбы, то есть садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не отрывала глаз от Ивана Иваныча, завывала от восторга и несколько раз принималась бегать за ним со звонким лаем. Утомив гуся и себя, незнакомец вытер со лба пот и крикнул:
– Марья, позови-ка сюда Хавронью Ивановну!
Через минуту послышалось хрюканье… Каштанка заворчала, приняла очень храбрый вид и на всякий случай подошла поближе к незнакомцу. Отворилась дверь, в комнату поглядела какая-то старуха и, сказав что-то, впустила чёрную, очень некрасивую свинью. Не обращая никакого внимания на ворчанье Каштанки, свинья подняла вверх свой пятачок и весело захрюкала. По-видимому, ей было очень приятно видеть своего хозяина, кота и Ивана Иваныча. Когда она подошла к коту и слегка толкнула его под живот своим пятачком и потом о чём-то заговорила с гусем, в её движениях, в голосе и в дрожании хвостика чувствовалось много добродушия. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов – бесполезно.
Хозяин убрал П и крикнул:
– Фёдор Тимофеич, пожалуйте!
Кот поднялся, лениво потянулся и нехотя, точно делая одолжение, подошёл к свинье.
– Ну-с, начнём с египетской пирамиды, – начал хозяин.
Он долго объяснял что-то, потом скомандовал: «Раз… два… три!» Иван Иваныч при слове «три» взмахнул крыльями и вскочил на спину свиньи… Когда он, балансируя крыльями и шеей, укрепился на щетинистой спине, Фёдор Тимофеич вяло и лениво, с явным пренебрежением и с таким видом, как будто он презирает и ставит ни в грош своё искусство, полез на спину свиньи, потом нехотя взобрался на гуся и стал на задние лапы. Получилось то, что незнакомец называл египетской пирамидой. Каштанка взвизгнула от восторга, но в это время старик кот зевнул и, потеряв равновесие, свалился с гуся. Иван Иваныч пошатнулся и тоже свалился. Незнакомец закричал, замахал руками и стал опять что-то объяснять. Провозившись целый час с пирамидой, неутомимый хозяин принялся учить Ивана Иваныча ездить верхом на коте, потом стал учить кота курить и т. п.
Ученье кончилось тем, что незнакомец вытер со лба пот и вышел. Фёдор Тимофеич брезгливо фыркнул, лёг на матрасик и закрыл глаза, Иван Иваныч направился к корытцу, а свинья была уведена старухой. Благодаря массе новых впечатлений день прошёл для Каштанки незаметно, а вечером она со своим матрасиком была уже водворена в комнатке с грязными обоями и ночевала в обществе Фёдора Тимофеича и гуся.
Глава пятая. Талант! Талант!
Прошёл месяц.
Каштанка уже привыкла к тому, что её каждый вечер кормили вкусным обедом и звали Тёткой. Привыкла она и к незнакомцу, и к своим новым сожителям. Жизнь потекла как по маслу.
Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всех просыпался Иван Иваныч и тотчас же подходил к Тётке или к коту, выгибал шею и начинал говорить о чём-то горячо и убедительно, но по-прежнему непонятно. Иной раз он поднимал вверх голову и произносил длинные монологи. В первые дни знакомства Каштанка думала, что он говорит много потому, что очень умён, но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение; когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уж не виляла хвостом, а третировала его, как надоедливого болтуна, который не даёт никому спать, и без всякой церемонии отвечала ему: «рррр»…
Фёдор же Тимофеич был иного рода господин. Этот, проснувшись, не издавал никакого звука, не шевелился и даже не открывал глаз. Он охотно бы не просыпался, потому что, как видно было, он недолюбливал жизни. Ничто его не интересовало, ко всему он относился вяло и небрежно, всё презирал и даже, поедая свой вкусный обед, брезгливо фыркал.
Проснувшись, Каштанка начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартире; гусь же не имел права переступать порог комнатки с грязными обоями, а Хавронья Ивановна жила где-то на дворе в сарайчике и появлялась только во время ученья. Хозяин просыпался поздно и, напившись чаю, тотчас же принимался за свои фокусы. Каждый день в комнатку вносились П, бич, обручи, и каждый день проделывалось почти одно и то же. Ученье продолжалось часа три-четыре, так что иной раз Фёдор Тимофеич от утомления пошатывался, как пьяный, Иван Иваныч раскрывал клюв и тяжело дышал, а хозяин становился красным и никак не мог стереть со лба пот.
Ученье и обед делали дни очень интересными, вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собою гуся и кота. Оставшись одна, Тётка ложилась на матрасик и начинала грустить… Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно, как потёмки комнатой. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, есть, бегать по комнатам и даже глядеть, затем в воображении её появлялись какие-то две неясные фигуры, не то собаки, не то люди, с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными; при появлении их Тётка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила… А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигурок пахнет клеем, стружками и лаком.
Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и из тощей, костлявой дворняжки обратилась в сытого, выхоленного пса, однажды перед ученьем хозяин погладил её и сказал:
– Пора нам, Тётка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши[9]. Я хочу из тебя артистку сделать… Ты хочешь быть артисткой?
И он стал учить её разным наукам. В первый урок она училась стоять и ходить на задних лапах, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над её головой держал учитель. Затем в следующие уроки она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла, а через месяц уже могла с успехом заменять Фёдора Тимофеича в «египетской пирамиде». Училась она очень охотно и была довольна своими успехами; беганье с высунутым языком на корде, прыганье в обруч и езда верхом на старом Фёдоре Тимофеиче доставляли ей величайшее наслаждение. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким, восторженным лаем, а учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал руки.
– Талант! Талант! – говорил он. – Несомненный талант! Ты положительно будешь иметь успех!
И Тётка так привыкла к слову «талант», что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было её кличкой.
Глава шестая. Беспокойная ночь
Тётке приснился собачий сон, будто за нею гонится дворник с метлой, и она проснулась от страха.
В комнатке было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи. Тётка раньше никогда не боялась потёмок, но теперь почему-то ей стало жутко и захотелось лаять. В соседней комнате громко вздохнул хозяин, потом, немного погодя, в своём сарайчике хрюкнула свинья, и опять всё смолкло. Когда думаешь об еде, то на душе становится легче, и Тётка стала думать о том, как она сегодня украла у Фёдора Тимофеича куриную лапку и спрятала её в гостиной между шкапом и стеной, где очень много паутины и пыли. Не мешало бы теперь пойти и посмотреть: цела эта лапка или нет? Очень может быть, что хозяин нашёл её и скушал. Но раньше утра нельзя выходить из комнатки – такое правило. Тётка закрыла глаза, чтобы поскорее уснуть, так как она знала по опыту, что чем скорее уснёшь, тем скорее наступит утро. Но вдруг недалеко от неё раздался странный крик, который заставил её вздрогнуть и вскочить на все четыре лапы. Это крикнул Иван Иваныч, и крик его был не болтливый и убедительный, как обыкновенно, а какой-то дикий, пронзительный и неестественный, похожий на скрип отворяемых ворот. Ничего не разглядев в потёмках и не поняв, Тётка почувствовала ещё больший страх и проворчала:
– Ррррр…
Прошло немного времени, сколько его требуется на то, чтобы обглодать хорошую кость; крик не повторялся. Тётка мало-помалу успокоилась и задремала. Ей приснились две большие чёрные собаки с клочьями прошлогодней шерсти на бёдрах и на боках; они из большой лохани с жадностью ели помои, от которых шёл белый пар и очень вкусный запах; изредка они оглядывались на Тётку, скалили зубы и ворчали: «А тебе мы не дадим!» Но из дому выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом; тогда Тётка подошла к лохани и стала кушать, но, как только мужик ушёл за ворота, обе чёрные собаки с рёвом бросились на неё, и вдруг опять раздался пронзительный крик.
– К-ге! К-ге-ге! – крикнул Иван Иваныч.
Тётка проснулась, вскочила и, не сходя с матрасика, залилась воющим лаем. Ей уже казалось, что кричит не Иван Иваныч, а кто-то другой, посторонний. И почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья.
Но вот послышалось шарканье туфель, и в комнатку вошёл хозяин в халате и со свечой. Мелькающий свет запрыгал по грязным обоям и по потолку и прогнал потёмки. Тётка увидела, что в комнатке нет никого постороннего. Иван Иваныч сидел на полу и не спал. Крылья у него были растопырены и клюв раскрыт, и вообще он имел такой вид, как будто очень утомился и хотел пить. Старый Фёдор Тимофеич тоже не спал. Должно быть, и он был разбужен криком.
– Иван Иваныч, что с тобой? – спросил хозяин у гуся. – Что ты кричишь! Ты болен?
Гусь молчал. Хозяин потрогал его за шею, погладил по спине и сказал:
– Ты чудак. И сам не спишь, и другим не даёшь.
Когда хозяин вышел и унёс с собою свет, опять наступили потёмки. Тётке было страшно. Гусь не кричал, но ей опять стало чудиться, что в потёмках стоит кто-то чужой. Страшнее всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, так как он был невидим и не имел формы. И почему-то она думала, что в эту ночь должно непременно произойти что-то очень худое. Фёдор Тимофеич тоже был непокоен. Тётка слышала, как он возился на своём матрасике, зевал и встряхивал головой.
Где-то на улице застучали в ворота, и в сарайчике хрюкнула свинья. Тётка заскулила, протянула передние лапы и положила на них голову. В стуке ворот, в хрюканье не спавшей почему-то свиньи, в потёмках и в тишине почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное, как в крике Ивана Иваныча. Всё было в тревоге и в беспокойстве, но отчего? Кто этот чужой, которого не было видно? Вот около Тётки на мгновение вспыхнули две тусклые зелёные искорки. Это в первый раз за всё время знакомства подошёл к ней Фёдор Тимофеич. Что ему нужно было? Тётка лизнула ему лапу и, не спрашивая, зачем он пришёл, завыла тихо и на разные голоса.
– К-ге! – крикнул Иван Иваныч. – К-ге-ге!
Опять отворилась дверь, и вошёл хозяин со свечой. Гусь сидел в прежней позе, с разинутым клювом и растопырив крылья. Глаза у него были закрыты.
– Иван Иваныч! – позвал хозяин.
Гусь не шевельнулся. Хозяин сел перед ним на полу, минуту глядел на него молча и сказал:
– Иван Иваныч! Что же это такое? Умираешь ты, что ли? Ах, я теперь вспомнил, вспомнил! – вскрикнул он и схватил себя за голову. – Я знаю, отчего это! Это оттого, что сегодня на тебя наступила лошадь! Боже мой, боже мой!
Тётка не понимала, что говорит хозяин, но по его лицу видела, что и он ждёт чего-то ужасного. Она протянула морду к тёмному окну, в которое, как казалось ей, глядел кто-то чужой, и завыла.
– Он умирает, Тётка! – сказал хозяин и всплеснул руками. – Да, да, умирает! К вам в комнату пришла смерть. Что нам делать?
Бледный, встревоженный хозяин, вздыхая и покачивая головой, вернулся к себе в спальню. Тётке жутко было оставаться в потёмках, и она пошла за ним. Он сел на кровать и несколько раз повторил:
– Боже мой, что же делать?
Тётка ходила около его ног и, не понимая, отчего это у неё такая тоска и отчего все так беспокоятся, и стараясь понять, следила за каждым его движением. Фёдор Тимофеич, редко покидавший свой матрасик, тоже вошёл в спальню хозяина и стал тереться около его ног. Он встряхивал головой, как будто хотел вытряхнуть из неё тяжёлые мысли, и подозрительно заглядывал под кровать.
Хозяин взял блюдечко, налил в него из рукомойника воды и опять пошёл к гусю.
– Пей, Иван Иваныч! – сказал он нежно, ставя перед ним блюдечко. – Пей, голубчик.
Но Иван Иваныч не шевелился и не открывал глаз. Хозяин пригнул его голову к блюдечку и окунул клюв в воду, но гусь не пил, ещё шире растопырил крылья, и голова его так и осталась лежать в блюдечке.
– Нет, ничего уже нельзя сделать! – вздохнул хозяин. – Всё кончено. Пропал Иван Иваныч!
И по его щекам поползли вниз блестящие капельки, какие бывают на окнах во время дождя. Не понимая, в чём дело, Тётка и Фёдор Тимофеич жались к нему и с ужасом смотрели на гуся.
– Бедный Иван Иваныч! – говорил хозяин, печально вздыхая. – А я-то мечтал, что весной повезу тебя на дачу и буду гулять с тобой по зелёной травке. Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже нет! Как же я теперь буду обходиться без тебя?
Тётке казалось, что и с нею случится то же самое, то есть что и она тоже вот так, неизвестно отчего, закроет глаза, протянет лапы, оскалит рот, и все на неё будут смотреть с ужасом. По-видимому, такие же мысли бродили и в голове Фёдора Тимофеича. Никогда раньше старый кот не был так угрюм и мрачен, как теперь.
Начинался рассвет, и в комнатке уже не было того невидимого чужого, который пугал так Тётку. Когда совсем рассвело, пришёл дворник, взял гуся за лапы и унёс его куда-то. А немного погодя явилась старуха и вынесла корытце.
Тётка пошла в гостиную и посмотрела за шкап: хозяин не скушал куриной лапки, она лежала на своём месте, в пыли и паутине. Но Тётке было скучно, грустно и хотелось плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла под диван, села там и начала скулить тихо, тонким голоском:
– Ску-ску-ску…
Глава седьмая. Неудачный дебют
В один прекрасный вечер хозяин вошёл в комнатку с грязными обоями и, потирая руки, сказал:
– Ну-с…
Что-то он хотел ещё сказать, но не сказал и вышел. Тётка, отлично изучившая во время уроков его лицо и интонацию, догадалась, что он был взволнован, озабочен и, кажется, сердит. Немного погодя он вернулся и сказал:
– Сегодня я возьму с собой Тётку и Фёдора Тимофеича. В египетской пирамиде ты, Тётка, заменишь сегодня покойного Ивана Иваныча. Чёрт знает что! Ничего не готово, не выучено, репетиций было мало! Осрамимся, провалимся!
Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и в цилиндре. Подойдя к коту, он взял его за передние лапы, поднял и спрятал его на груди под шубу, причём Фёдор Тимофеич казался очень равнодушным и даже не потрудился открыть глаз. Для него, по-видимому, было решительно всё равно: лежать ли, или быть поднятым за ноги, валяться ли на матрасике, или покоиться на груди хозяина под шубой…
– Тётка, пойдём, – сказал хозяин.
Ничего не понимая и виляя хвостом, Тётка пошла за ним. Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяина и слушала, как он, пожимаясь от холода и волнения, бормотал:
– Осрамимся! Провалимся!
Сани остановились около большого странного дома, похожего на опрокинутый супник. Длинный подъезд этого дома с тремя стеклянными дверями был освещён дюжиной ярких фонарей. Двери со звоном отворялись и, как рты, глотали людей, которые сновали у подъезда. Людей было много, часто к подъезду подбегали и лошади, но собак не было видно.
Хозяин взял на руки Тётку и сунул её на грудь, под шубу, где находился Фёдор Тимофеич. Тут было темно и душно, но тепло. На мгновение вспыхнули две тусклые зелёные искорки – это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными, жёсткими лапами соседки. Тётка лизнула его ухо и, желая усесться возможно удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы голову, но тотчас же сердито заворчала и нырнула под шубу. Ей показалось, что она увидела громадную, плохо освещённую комнату, полную чудовищ; из-за перегородок и решёток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядывали страшные рожи: лошадиные, рогатые, длинноухие, и какая-то одна толстая, громадная рожа с хвостом вместо носа и с двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта.
Кот сипло замяукал под лапами Тётки, но в это время шуба распахнулась, хозяин сказал «гоп!», и Фёдор Тимофеич с Тёткою прыгнули на пол. Они уже были в маленькой комнате с серыми дощатыми стенами; тут, кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и тряпья, развешанного по углам, не было никакой другой мебели, и, вместо лампы или свечи, горел яркий веерообразный огонёк, приделанный к трубочке, вбитой в стену. Фёдор Тимофеич облизал свою шубу, помятую Тёткой, пошёл под табурет и лёг. Хозяин, всё ещё волнуясь и потирая руки, стал раздеваться… Он разделся так, как обыкновенно раздевался у себя дома, готовясь лечь под байковое одеяло, то есть снял всё, кроме белья, потом сел на табурет и, глядя в зеркало, начал выделывать над собой удивительные штуки. Прежде всего он надел на голову парик с пробором и с двумя вихрами, похожими на рога, потом густо намазал лицо чем-то белым и сверх белой краски нарисовал ещё брови, усы и румяны. Затеи его этим не кончились. Опачкавши лицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенный, ни с чем не сообразный костюм, какого Тётка никогда не видала раньше ни в домах, ни на улице. Представьте вы себе широчайшие панталоны, сшитые из ситца с крупными цветами, какой употребляется в мещанских домах для занавесок и обивки мебели, панталоны, которые застёгиваются у самых подмышек; одна панталона сшита из коричневого ситца, другая из светло-жёлтого. Утонувши в них, хозяин надел ещё ситцевую курточку с большим зубчатым воротником и с золотой звездой на спине, разноцветные чулки и зелёные башмаки…
У Тётки запестрило в глазах и в душе. От белолицей мешковатой фигуры пахло хозяином, голос у неё был тоже знакомый, хозяйский, но бывали минуты, когда Тётку мучили сомнения, и тогда она готова была бежать от пёстрой фигуры и лаять. Новое место, веерообразный огонёк, запах, метаморфоза, случившаяся с хозяином, – всё это вселяло в неё неопределённый страх и предчувствие, что она непременно встретится с каким-нибудь ужасом вроде толстой рожи с хвостом вместо носа. А тут ещё где-то за стеной далеко играла ненавистная музыка и слышался временами непонятный рев. Одно только и успокаивало её – это невозмутимость Фёдора Тимофеича. Он преспокойно дремал под табуретом и не открывал глаз, даже когда двигался табурет.
Какой-то человек во фраке и в белой жилетке заглянул в комнатку и сказал:
– Сейчас выход мисс Арабеллы. После неё – вы.
Хозяин ничего не ответил. Он вытащил из-под стола небольшой чемодан, сел и стал ждать. По губам и по рукам его было заметно, что он волновался, и Тётка слышала, как дрожало его дыхание.
– M-r Жорж, пожалуйте! – крикнул кто-то за дверью.
Хозяин встал и три раза перекрестился, потом достал из-под табурета кота и сунул его в чемодан.
– Иди, Тётка! – сказал он тихо.
Тётка, ничего не понимая, подошла к его рукам; он поцеловал её в голову и положил рядом с Фёдором Тимофеичем. Засим наступили потёмки… Тётка топталась по коту, царапала стенки чемодана и от ужаса не могла произнести ни звука, а чемодан покачивался, как на волнах, и дрожал…
– А вот и я! – громко крикнул хозяин. – А вот и я!
Тётка почувствовала, что после этого крика чемодан ударился о что-то твёрдое и перестал качаться. Послышался громкий густой рёв: по ком-то хлопали, и этот кто-то, вероятно рожа с хвостом вместо носа, ревел и хохотал так громко, что задрожали замочки у чемодана. В ответ на рёв раздался пронзительный, визгливый смех хозяина, каким он никогда не смеялся дома.
– Га! – крикнул он, стараясь перекричать рёв. – Почтеннейшая публика! Я сейчас только с вокзала! У меня издохла бабушка и оставила мне наследство! В чемодане что-то очень тяжёлое – очевидно, золото… Га-а! И вдруг здесь миллион! Сейчас мы откроем и посмотрим…
В чемодане щёлкнул замок. Яркий свет ударил Тётку по глазам; она прыгнула вон из чемодана и, оглушённая рёвом, быстро, во всю прыть забегала вокруг своего хозяина и залилась звонким лаем.
– Га! – закричал хозяин. – Дядюшка Фёдор Тимофеич! Дорогая тётушка! Милые родственники, чёрт бы вас взял!
Он упал животом на песок, схватил кота и Тётку и принялся обнимать их. Тётка, пока он тискал её в своих объятиях, мельком оглядела тот мир, в который занесла её судьба, и, поражённая его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга, потом вырвалась из объятий хозяина и от остроты впечатления, как волчок, закружилась на одном месте. Новый мир был велик и полон яркого света; куда ни взглянешь, всюду, от пола до потолка, видны были одни только лица, лица, лица и больше ничего.
– Тётушка, прошу вас сесть! – крикнул хозяин.
Помня, что это значит, Тётка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина. Глаза его, как всегда, глядели серьёзно и ласково, но лицо, в особенности рот и зубы, были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Сам он хохотал, прыгал, подёргивал плечами и делал вид, что ему очень весело в присутствии тысячей лиц. Тётка поверила его весёлости, вдруг почувствовала всем своим телом, что на неё смотрят эти тысячи лиц, подняла вверх свою лисью морду и радостно завыла.
– Вы, Тётушка, посидите, – сказал ей хозяин, – а мы с дядюшкой попляшем камаринского.
Фёдор Тимофеич в ожидании, когда его заставят делать глупости, стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Плясал он вяло, небрежно, угрюмо, и видно было по его движениям, по хвосту и по усам, что он глубоко презирал и толпу, и яркий свет, и хозяина, и себя… Протанцевав свою порцию, он зевнул и сел.
– Ну-с, Тётушка, – сказал хозяин, – сначала мы с вами споём, а потом попляшем. Хорошо?
Он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тётка, не вынося музыки, беспокойно задвигалась на стуле и завыла. Со всех сторон послышались рёв и аплодисменты. Хозяин поклонился и, когда всё стихло, продолжал играть… Во время исполнения одной очень высокой ноты где-то наверху среди публики кто-то громко ахнул.
– Тятька! – крикнул детский голос. – А ведь это Каштанка!
– Каштанка и есть! – подтвердил пьяненький дребезжащий тенорок. – Каштанка! Федюшка, это, накажи бог, Каштанка! Фюйть!
Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один – детский, другой – мужской, громко позвали:
– Каштанка! Каштанка!
Тётка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица: одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое – пухлое, краснощёкое и испуганное – ударили её по глазам, как раньше ударил яркий свет… Она вспомнила, упала со стула и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам. Раздался оглушительный рёв, пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком:
– Каштанка! Каштанка!
Тётка прыгнула через барьер, потом через чьё-то плечо, очутилась в ложе; чтобы попасть в следующий ярус, нужно было перескочить высокую стену; Тетка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назад по стене. Затем она переходила с рук на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась всё выше и выше и наконец попала на галёрку…
Спустя полчаса Каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрыч покачивался и инстинктивно, наученный опытом, старался держаться подальше от канавы.
– В бездне греховней валяюся во утробе моей… – бормотал он. – А ты, Каштанка, – недоумение. Супротив человека ты всё равно, что плотник супротив столяра.
Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идёт за ними и радуется, что жизнь её не обрывалась ни на минуту.
Вспоминала она комнатку с грязными обоями, гуся, Фёдора Тимофеича, вкусные обеды, ученье, цирк, но всё это представлялось ей теперь, как длинный, перепутанный, тяжёлый сон…
Мальчики
– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.
– Володечка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую. – Ах, боже мой!
Вся семья Королёвых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шёл густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать: «Бррр!» Мать и тётка бросились обнимать и целовать его, Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки, сёстры подняли визг, двери скрипели и хлопали, а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал ис-пуганно:
– А мы тебя ещё вчера ждали! Хорошо доехал? Благополучно? Господи боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что я, не отец, что ли?
– Гав! Гав! – ревел басом Милорд, огромный чёрный пёс, стуча хвостом по стенам и по мебели.
Всё смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошёл, Королёвы заметили, что кроме Володи в передней находился ещё один маленький человек, укутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большою лисьей шубой.
– Володечка, а это кто же? – спросила шёпотом мать.
– Ах! – спохватился Володя. – Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса… Я привёз его с собой погостить у нас.
– Очень приятно, милости просим! – сказал радостно отец. – Извините, я по-домашнему, без сюртука… Пожалуйте! Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться! Господи боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!
Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, ошеломлённые шумной встречей и всё ещё розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.
– Ну, вот скоро и Рождество! – говорил нараспев отец, крутя из тёмно-рыжего табаку папиросу. – А давно ли было лето и мать плакала, тебя провожаючи? Ан ты и приехал… Время, брат, идёт быстро! Ахнуть не успеешь, как старость придёт. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь! У нас попросту.
Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша – самой старшей из них было одиннадцать лет, – сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он очень некрасив, и если б на нём не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, всё время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно быть, очень умный и учёный человек. Он о чём-то всё время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чём-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос.
Девочки заметили, что Володя, всегда весёлый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сёстрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал:
– А в Калифорнии вместо чаю пьют джин.
Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие.
После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для ёлки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба; папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:
– Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаич, взял мои ножницы?
– Господи боже мой, даже ножниц не дают! – отвечал плачущим голосом Иван Николаич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорблённого человека, но через минуту опять восхищался.
В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлением для ёлки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чём-то шептаться; потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.
– Сначала в Пермь… – тихо говорил Чечевицын, – оттуда в Тюмень… потом Томск… потом… потом… в Камчатку… Отсюда самоеды[10] перевезут на лодках через Берингов пролив… Вот тебе и Америка… Тут много пушных зверей.
– А Калифорния? – спросил Володя.
– Калифорния ниже… Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом.
Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них исподлобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потёр правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:
– Вы читали Майн Рида?
– Нет, не читала… Послушайте, вы умеете на коньках кататься?
Погружённый в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щёки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он ещё раз поднял глаза на Катю и сказал:
– Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут.
Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:
– А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты.
– А что это такое?
– Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?
– Господин Чечевицын.
– Нет. Я Монтигомо Ястребиный Коготь, вождь непобедимых.
Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:
– А у нас чечевицу вчера готовили.
Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а всё думал о чём-то, – всё это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото; у них для дороги было уже всё готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что мальчикам придётся пройти пешком несколько тысяч вёрст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю – «бледнолицый брат мой».
– Ты смотри же, не говори маме, – сказала Катя Соне, отправляясь с ней спать. – Володя привезёт нам из Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят.
Накануне Сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал, а Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:
– Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!
К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестёр. Катя и Соня понимали, в чём тут дело, а младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:
– Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.
Рано утром в Сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.
– Так ты не поедешь? – сердито спрашивал Чечевицын. – Говори: не поедешь?
– Господи! – тихо плакал Володя. – Как же я поеду? Мне маму жалко.
– Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.
– Я… я не струсил, а мне… мне маму жалко.
– Ты говори: поедешь или нет?
– Я поеду, только… только погоди. Мне хочется дома пожить.
– В таком случае я сам поеду! – решил Чечевицын. – И без тебя обойдусь. А ещё тоже хотел охотиться на тигров, сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!
Володя заплакал так горько, что сёстры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.
– Так ты не поедешь? – ещё раз спросил Чечевицын.
– По… поеду.
– Так одевайся!
И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал, как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.
И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.
Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами, полными слёз, сказала:
– Ах, мне так страшно!
До двух часов, когда сели обедать, всё было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику – там их не было. Послали в деревню – и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков, а когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха!
На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала.
Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар.
– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.
– Володечка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую.
И Милорд залаял басом: «Гав! гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и всё спрашивали, где продаётся порох). Володя как вошёл в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет, слышали, как папаша повёл Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними; и мамаша тоже говорила и плакала.
– Разве так можно? – убеждал папаша. – Не дай бог, узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын! Нехорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве так можно! Вы где ночевали?
– На вокзале! – гордо ответил Чечевицын.
Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына домой.
Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова; только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти:
«Монтигомо Ястребиный Коготь».
Поэзия
Пётр Павлович Ершов (1815–1869)
Пётр Павлович Ершов родился в 1815 году в селе Безруково Тобольской губернии. Семья часто переезжала по делам, связанным со службой отца. В 1824 году родители отправили Петра и его брата Николая в Тобольск учиться. Мальчики жили у родственников матери. В 1830 году Петр с отличием окончил гимназию и поступил на философско-юридический факультет Петербургского университета. В студенческие годы Ершов сближается с профессором русской словесности Петром Плетнёвым, знакомится с Василием Жуковским, Александром Пушкиным… Плетнёв во время одной из лекций с университетской кафедры прочитал отрывок из «Конька-Горбунка» и представил изумлённым слушателям автора чудесной сказки – их сокурсника Петра Ершова, сидевшего в аудитории. Плетнёв показал сказку Пушкину. И Пушкину сказка понра-вилась
После университета Ершов уезжает в родной Тобольск, мечтая об исследовании тогда ещё мало изученной Сибири. Вернувшись на родину летом 1836 года, работал учителем Тобольской гимназии, затем инспектором и директором гимназии и дирекции училищ Тобольской губернии. Был инициатором создания любительского гимназического театра. В театре занимался режиссурой. Написал для театра несколько пьес.
Умер Пётр Ершов в августе 1869 года в Тобольске.
Конёк-Горбунок
Часть первая
- За горами, за лесами,
- За широкими морями,
- Против неба – на земле
- Жил старик в одном селе.
- У старинушки три сына:
- Старший умный был детина,
- Средний сын и так и сяк,
- Младший вовсе был дурак.
- Братья сеяли пшеницу
- Да возили в град-столицу:
- Знать, столица та была
- Недалече от села.
- Там пшеницу продавали,
- Деньги счётом принимали
- И с набитою сумой
- Возвращалися домой.
- В долгом времени аль вскоре
- Приключилося им горе:
- Кто-то в поле стал ходить
- И пшеницу шевелить.
- Мужички такой печали
- Отродяся не видали;
- Стали думать да гадать —
- Как бы вора соглядать;
- Наконец себе смекнули,
- Чтоб стоять на карауле,
- Хлеб ночами поберечь,
- Злого вора подстеречь.
- Вот, как стало лишь смеркаться,
- Начал старший брат сбираться:
- Вынул вилы и топор
- И отправился в дозор.
- Ночь ненастная настала,
- На него боязнь напала,
- И со страхов наш мужик
- Закопался под сенник[11].
- Ночь проходит, день приходит;
- С сенника дозорный сходит
- И, облив себя водой,
- Стал стучаться под избой:
- «Эй вы, сонные тетери!
- Отпирайте брату двери,
- Под дождём я весь промок
- С головы до самых ног».
- Братья двери отворили,
- Караульщика впустили,
- Стали спрашивать его:
- Не видал ли он чего?
- Караульщик помолился,
- Вправо, влево поклонился
- И, прокашлявшись, сказал:
- «Всю я ноченьку не спал;
- На моё ж притом несчастье,
- Было страшное ненастье:
- Дождь вот так ливмя и лил,
- Рубашонку всю смочил.
- Уж куда как было скучно!..
- Впрочем, всё благополучно».
- Похвалил его отец:
- «Ты, Данило, молодец!
- Ты вот, так сказать, примерно,
- Сослужил мне службу верно,
- То есть, будучи при всём,
- Не ударил в грязь лицом».
- Стало сызнова смеркаться;
- Средний брат пошёл сбираться:
- Взял и вилы и топор
- И отправился в дозор.
- Ночь холодная настала,
- Дрожь на малого напала,
- Зубы начали плясать;
- Он ударился бежать —
- И всю ночь ходил дозором
- У соседки под забором.
- Жутко было молодцу!
- Но вот утро. Он к крыльцу:
- «Эй вы, сони! Что вы спите!
- Брату двери отоприте;
- Ночью страшный был мороз, —
- До животиков промёрз».
- Братья двери отворили,
- Караульщика впустили,
- Стали спрашивать его:
- Не видал ли он чего?
- Караульщик помолился,
- Вправо, влево поклонился
- И сквозь зубы отвечал:
- «Всю я ноченьку не спал,
- Да, к моей судьбе несчастной,
- Ночью холод был ужасный,
- До сердцов меня пробрал;
- Всю я ночку проскакал;
- Слишком было несподручно…
- Впрочем, всё благополучно».
- И ему сказал отец:
- «Ты, Гаврило, молодец!»
- Стало в третий раз смеркаться,
- Надо младшему сбираться;
- Он и усом не ведёт,
- На печи в углу поёт
- Изо всей дурацкой мочи:
- «Распрекрасные вы очи!»
- Братья ну ему пенять,
- Стали в поле погонять,
- Но сколь долго ни кричали,
- Только голос потеряли:
- Он ни с места. Наконец
- Подошёл к нему отец,
- Говорит ему: «Послушай,
- Побегай в дозор, Ванюша.
- Я куплю тебе лубков[12],
- Дам гороху и бобов».
- Тут Иван с печи слезает,
- Малахай[13] свой надевает,
- Хлеб за пазуху кладёт,
- Караул держать идёт.
- Ночь настала; месяц всходит;
- Поле всё Иван обходит,
- Озираючись кругом,
- И садится под кустом;
- Звёзды на небе считает
- Да краюшку уплетает.
- Вдруг о полночь конь заржал…
- Караульщик наш привстал,
- Посмотрел под рукавицу
- И увидел кобылицу.
- Кобылица та была
- Вся, как зимний снег, бела,
- Грива в землю, золотая,
- В мелки кольца завитая.
- «Эхе-хе! так вот какой
- Наш воришко!.. Но, постой,
- Я шутить ведь не умею,
- Разом сяду те на шею.
- Вишь, какая саранча[14]!»
- И, минуту улуча,
- К кобылице подбегает,
- За волнистый хвост хватает
- И прыгнул к ней на хребёт —
- Только задом наперёд.
- Кобылица молодая,
- Очью[15] бешено сверкая,
- Змеем голову свила
- И пустилась, как стрела.
- Вьётся кругом над полями,
- Виснет пластью надо рвами,
- Мчится скоком по горам,
- Ходит дыбом по лесам,
- Хочет силой аль обманом,
- Лишь бы справиться с Иваном.
- Но Иван и сам не прост —
- Крепко держится за хвост.
- Наконец она устала.
- «Ну, Иван, – ему сказала, —
- Коль умел ты усидеть,
- Так тебе мной и владеть.
- Дай мне место для покою
- Да ухаживай за мною,
- Сколько смыслишь. Да смотри:
- По три утренни зари
- Выпущай меня на волю
- Погулять по чисту полю.
- По исходе же трёх дней
- Двух рожу тебе коней —
- Да таких, каких поныне
- Не бывало и в помине;
- Да ещё рожу конька
- Ростом только в три вершка,
- На спине с двумя горбами
- Да с аршинными ушами.
- Двух коней, коль хошь, продай,
- Но конька не отдавай
- Ни за пояс, ни за шапку,
- Ни за чёрную, слышь, бабку[16].
- На земле и под землёй
- Он товарищ будет твой:
- Он зимой тебя согреет,
- Летом холодом обвеет,
- В голод хлебом угостит,
- В жажду мёдом напоит.
- Я же снова выйду в поле
- Силы пробовать на воле».
- «Ладно», – думает Иван
- И в пастуший балаган
- Кобылицу загоняет,
- Дверь рогожей закрывает
- И, лишь только рассвело,
- Отправляется в село,
- Напевая громко песню:
- «Ходил молодец на Пресню».
- Вот он всходит на крыльцо,
- Вот хватает за кольцо,
- Что есть силы в дверь стучится,
- Чуть что кровля не валится,
- И кричит на весь базар,
- Словно сделался пожар.
- Братья с лавок поскакали,
- Заикаяся вскричали:
- «Кто стучится сильно так?» —
- «Это я, Иван-дурак!»
- Братья двери отворили,
- Дурака в избу впустили
- И давай его ругать, —
- Как он смел их так пугать!
- А Иван наш, не снимая
- Ни лаптей, ни малахая,
- Отправляется на печь
- И ведёт оттуда речь
- Про ночное похожденье,
- Всем ушам на удивленье:
- «Всю я ноченьку не спал,
- Звёзды на небе считал;
- Месяц, ровно, тоже све́тил, —
- Я порядком не приметил.
- Вдруг приходит дьявол сам,
- С бородою и с усам;
- Рожа словно как у кошки,
- А глаза-то – что те плошки!
- Вот и стал тот чёрт скакать
- И зерно хвостом сбивать.
- Я шутить ведь не умею —
- И вскочи ему на шею.
- Уж таскал же он, таскал,
- Чуть башки мне не сломал,
- Но и я ведь сам не промах,
- Слышь, держал его как в жомах[17].
- Бился, бился мой хитрец
- И взмолился наконец:
- «Не губи меня со света!
- Целый год тебе за это
- Обещаюсь смирно жить,
- Православных не мутить».
- Я, слышь, слов-то не померил,
- Да чертёнку и поверил».
- Тут рассказчик замолчал,
- Позевнул и задремал.
- Братья, сколько ни серчали[18],
- Не смогли – захохотали,
- Ухватившись под бока,
- Над рассказом дурака.
- Сам старик не мог сдержаться,
- Чтоб до слёз не посмеяться,
- Хоть смеяться – так оно
- Старикам уж и грешно.
- Много ль времени аль мало
- С этой ночи пробежало, —
- Я про это ничего
- Не слыхал ни от кого.
- Ну, да что нам в том за дело,
- Год ли, два ли пролетело, —
- Ведь за ними не бежать…
- Станем сказку продолжать.
- Ну-с, так вот что! Раз Данило
- (В праздник, помнится, то было),
- Натянувшись зельно пьян,
- Затащился в балаган.
- Что ж он видит? – Прекрасивых
- Двух коней золотогривых
- Да игрушечку-конька
- Ростом только в три вершка,
- На спине с двумя горбами
- Да с аршинными ушами.
- «Хм! Теперь-то я узнал,
- Для чего здесь дурень спал!» —
- Говорит себе Данило…
- Чудо разом хмель посбило;
- Вот Данило в дом бежит
- И Гавриле говорит:
- «Посмотри, каких красивых
- Двух коней золотогривых
- Наш дурак себе достал:
- Ты и слыхом не слыхал».
- И Данило да Гаврило,
- Что в ногах их мочи было,
- По крапиве прямиком
- Так и дуют босиком.
- Спотыкнувшися три раза,
- Починивши оба глаза,
- Потирая здесь и там,
- Входят братья к двум коням.
- Кони ржали и храпели,
- Очи яхонтом[19] горели;
- В мелки кольца завитой,
- Хвост струился золотой,
- И алмазные копыты
- Крупным жемчугом обиты.
- Любо-дорого смотреть!
- Лишь царю б на них сидеть!
- Братья так на них смотрели,
- Что чуть-чуть не окривели.
- «Где он это их достал? —
- Старший среднему сказал. —
- Но давно уж речь ведётся,
- Что лишь дурням клад даётся,
- Ты ж хоть лоб себе разбей,
- Так не выбьешь двух рублей.
- Ну, Гаврило, в ту седмицу[20]
- Отведём-ка их в столицу;
- Там боярам продадим,
- Деньги ровно подели́м.
- А с деньжонками, сам знаешь,
- И попьёшь и погуляешь,
- Только хлопни по мешку.
- А благому дураку
- Недостанет ведь догадки,
- Где гостят его лошадки;
- Пусть их ищет там и сям.
- Ну, приятель, по рукам!»
- Братья разом согласились,
- Обнялись, перекрестились
- И вернулися домой,
- Говоря промеж собой
- Про коней и про пирушку
- И про чудную зверушку.
- Время катит чередом,
- Час за часом, день за днём.
- И на первую седмицу
- Братья едут в град-столицу,
- Чтоб товар свой там продать
- И на пристани узнать,
- Не пришли ли с кораблями
- Немцы в город за холстами
- И нейдёт ли царь Салтан
- Басурманить христиан.
- Вот иконам помолились,
- У отца благословились,
- Взяли двух коней тайком
- И отправились тишком.
- Вечер к ночи пробирался;
- На ночлег Иван собрался;
- Вдоль по улице идёт,
- Ест краюшку да поёт.
- Вот он поля достигает,
- Руки в боки подпирает
- И с прискочкой, словно пан,
- Боком входит в балаган.
- Всё по-прежнему стояло,
- Но коней как не бывало;
- Лишь игрушка-горбунок
- У его вертелся ног,
- Хлопал с радости ушами
- Да приплясывал ногами.
- Как завоет тут Иван,
- Опершись о балаган:
- «Ой вы, кони буры-сивы,
- Добры кони златогривы!
- Я ль вас, други, не ласкал,
- Да какой вас чёрт украл?
- Чтоб пропасть ему, собаке!
- Чтоб издохнуть в буераке!
- Чтоб ему на том свету́
- Провалиться на мосту!
- Ой вы, кони буры-сивы,
- Добры кони златогривы!»
- Тут конёк ему заржал.
- «Не тужи, Иван, – сказал, —
- Велика беда, не спорю,
- Но могу помочь я горю.
- Ты на чёрта не клепли:
- Братья коников свели.
- Ну, да что болтать пустое,
- Будь, Иванушка, в покое.
- На меня скорей садись,
- Только знай себе держись;
- Я хоть росту небольшого,
- Да сменю коня другого:
- Как пущусь да побегу,
- Так и беса настигу».
- Тут конёк пред ним ложится;
- На конька Иван садится,
- Уши в загреби берёт,
- Что есть мочушки ревёт.
- Горбунок-конёк встряхнулся,
- Встал на лапки, встрепенулся,
- Хлопнул гривкой, захрапел
- И стрелою полетел;
- Только пыльными клубами
- Вихорь вился под ногами.
- И в два мига, коль не в миг,
- Наш Иван воров настиг.
- Братья, то есть, испугались,
- Зачесались и замялись.
- А Иван им стал кричать:
- «Стыдно, братья, воровать!
- Хоть Ивана вы умнее,
- Да Иван-то вас честнее:
- Он у вас коней не крал».
- Старший, корчась, тут сказал:
- «Дорогой наш брат Иваша,
- Что переться – дело наше!
- Но возьми же ты в расчёт
- Некорыстный наш живот[21].
- Сколь пшеницы мы ни сеем,
- Чуть насущный хлеб имеем.
- А коли́ неурожай,
- Так хоть в петлю полезай!
- Вот в такой большой печали
- Мы с Гаврилой толковали
- Всю намеднишнюю ночь —
- Чем бы горюшку помочь?
- Так и этак мы вершили,
- Наконец вот так решили:
- Чтоб продать твоих коньков
- Хоть за тысячу рублёв.
- А в спасибо, молвить к слову,
- Привезти тебе обнову —
- Красну шапку с позвонком
- Да сапожки с каблучком.
- Да к тому ж старик неможет[22],
- Работать уже не может;
- А ведь надо ж мыкать век, —
- Сам ты умный человек!» —
- «Ну, коль этак, так ступайте, —
- Говорит Иван, – продайте
- Златогривых два коня,
- Да возьмите ж и меня».
- Братья больно покосились,
- Да нельзя же! согласились.
- Стало на небе темнеть;
- Воздух начал холодеть;
- Вот, чтоб им не заблудиться,
- Решено остановиться.
- Под навесами ветвей
- Привязали всех коней,
- Принесли с естным лукошко,
- Опохмелились немножко
- И пошли, что боже даст,
- Кто во что из них горазд.
- Вот Данило вдруг приметил,
- Что огонь вдали засве́тил.
- На Гаврилу он взглянул,
- Левым глазом подмигнул
- И прикашлянул легонько,
- Указав огонь тихонько;
- Тут в затылке почесал,
- «Эх, как тёмно! – он сказал. —
- Хоть бы месяц этак в шутку
- К нам проглянул на минутку,
- Всё бы легче. А теперь,
- Право, хуже мы тетерь…
- Да постой-ка… мне сдаётся,
- Что дымок там светлый вьётся…
- Видишь, эвон!.. Так и есть!..
- Вот бы курево развесть!
- Чудо было б!.. А послушай,
- Побега́й-ка, брат Ванюша!
- А, признаться, у меня
- Ни огнива, ни кремня».
- Сам же думает Данило:
- «Чтоб тебя там задавило!»
- А Гаврило говорит:
- «Кто-петь знает, что горит!
- Коль станичники пристали,
- Поминай его, как звали!»
- Всё пустяк для дурака.
- Он садится на конька,
- Бьёт в круты бока ногами,
- Теребит его руками,
- Изо всех горланит сил…
- Конь взвился, и след простыл.
- «Буди с нами крестна сила! —
- Закричал тогда Гаврило,
- Оградясь крестом святым. —
- Что за бес такой под ним!»
- Огонёк горит светлее,
- Горбунок бежит скорее.
- Вот уж он перед огнём.
- Светит поле словно днём;
- Чудный свет кругом струится,
- Но не греет, не дымится.
- Диву дался тут Иван.
- «Что, – сказал он, – за шайтан[23]!
- Шапок с пять найдётся свету,
- А тепла и дыму нету;
- Эко чудо-огонёк!»
- Говорит ему конёк:
- «Вот уж есть чему дивиться!
- Тут лежит перо Жар-птицы,
- Но для счастья своего
- Не бери себе его.
- Много, много непокою
- Принесёт оно с собою». —
- «Говори ты! Как не так!» —
- Про себя ворчит дурак;
- И, подняв перо Жар-птицы,
- Завернул его в тряпицы,
- Тряпки в шапку положил
- И конька поворотил.
- Вот он к братьям приезжает
- И на спрос их отвечает:
- «Как туда я доскакал,
- Пень горелый увидал;
- Уж над ним я бился, бился,
- Так что чуть не надсадился;
- Раздувал его я с час —
- Нет ведь, чёрт возьми, угас!»
- Братья целу ночь не спали,
- Над Иваном хохотали;
- А Иван под воз присел,
- Вплоть до утра прохрапел.
- Тут коней они впрягали
- И в столицу приезжали,
- Становились в конный ряд,
- Супротив больших палат.
- В той столице был обычай:
- Коль не скажет городничий —
- Ничего не покупать,
- Ничего не продавать.
- Вот обедня наступает;
- Городничий выезжает
- В туфлях, в шапке меховой,
- С сотней стражи городской.
- Рядом едет с ним глашатый,
- Длинноусый, бородатый;
- Он в злату трубу трубит,
- Громким голосом кричит:
- «Гости! Лавки отпирайте,
- Покупайте, продавайте.
- А надсмотрщикам сидеть
- Подле лавок и смотреть,
- Чтобы не было содому[24],
- Ни давёжа, ни погрому,
- И чтобы никой урод
- Не обманывал народ!»
- Гости лавки отпирают,
- Люд крещёный закликают:
- «Эй, честны́е господа,
- К нам пожалуйте сюда!
- Как у нас ли тары-бары,
- Всяки разные товары!»
- Покупальщики идут,
- У гостей товар берут;
- Гости денежки считают
- Да надсмотрщикам мигают.
- Между тем градской отряд
- Приезжает в конный ряд;
- Смотрит – давка от народу.
- Нет ни выходу ни входу;
- Так кишмя вот и кишат,
- И смеются, и кричат.
- Городничий удивился,
- Что народ развеселился,
- И приказ отряду дал,
- Чтоб дорогу прочищал.
- «Эй! вы, черти босоноги!
- Прочь с дороги! прочь с дороги!» —
- Закричали усачи
- И ударили в бичи.
- Тут народ зашевелился,
- Шапки снял и расступился.
- Пред глазами конный ряд;
- Два коня в ряду стоят,
- Молодые, вороные,
- Вьются гривы золотые,
- В мелки кольца завитой,
- Хвост струится золотой…
- Наш старик, сколь ни был пылок,
- Долго тёр себе затылок.
- «Чуден, – молвил, – божий свет,
- Уж каких чудес в нём нет!»
- Весь отряд тут поклонился,
- Мудрой речи подивился.
- Городничий между тем
- Наказал престрого всем,
- Чтоб коней не покупали,
- Не зевали, не кричали;
- Что он едет ко двору
- Доложить о всём царю.
- И, оставив часть отряда,
- Он поехал для доклада.
- Приезжает во дворец.
- «Ты помилуй, царь-отец! —
- Городничий восклицает
- И всем телом упадает. —
- Не вели меня казнить,
- Прикажи мне говорить!»
- Царь изволил молвить: «Ладно,
- Говори, да только складно». —
- «Как умею, расскажу:
- Городничим я служу;
- Верой-правдой исправляю
- Эту должность…» – «Знаю, знаю!» —
- «Вот сегодня, взяв отряд,
- Я поехал в конный ряд.
- Приезжаю – тьма народу!
- Ну, ни выходу ни входу.
- Что тут делать?.. Приказал
- Гнать народ, чтоб не мешал.
- Так и сталось, царь-надёжа!
- И поехал я – и что же?
- Предо мною конный ряд;
- Два коня в ряду стоят,
- Молодые, вороные,
- Вьются гривы золотые,
- В мелки кольца завитой,
- Хвост струится золотой,
- И алмазные копыты
- Крупным жемчугом обиты».
- Царь не мог тут усидеть.
- «Надо ко́ней поглядеть, —
- Говорит он, – да не худо
- И завесть такое чудо.
- Гей, повозку мне!» И вот
- Уж повозка у ворот.
- Царь умылся, нарядился
- И на рынок покатился;
- За царём стрельцов отряд.
- Вот он въехал в конный ряд.
- На колени все тут пали
- И «ура!» царю кричали.
- Царь раскланялся и вмиг
- Молодцом с повозки прыг…
- Глаз своих с коней не сводит,
- Справа, слева к ним заходит,
- Словом ласковым зовёт,
- По спине их тихо бьёт,
- Треплет шею их крутую,
- Гладит гриву золотую,
- И, довольно засмотрясь,
- Он спросил, оборотясь
- К окружавшим: «Эй, ребята!
- Чьи такие жеребята?
- Кто хозяин?» Тут Иван,
- Руки в боки, словно пан,
- Из-за братьев выступает
- И, надувшись, отвечает:
- «Эта пара, царь, моя,
- И хозяин – тоже я». —
- «Ну, я пару покупаю!
- Продаёшь ты?» – «Нет, меняю». —
- «Что в промен берёшь добра?» —
- «Два-пять шапок серебра». —
- «То есть, это будет десять».
- Царь тотчас велел отвесить
- И, по милости своей,
- Дал в прибавок пять рублей.
- Царь-то был великодушный!
- Повели коней в конюшни
- Десять конюхов седых,
- Все в нашивках золотых,
- Все с цветными кушаками
- И с сафьянными бичами.
- Но дорогой, как на смех,
- Кони с ног их сбили всех,
- Все уздечки разорвали
- И к Ивану прибежали.
- Царь отправился назад,
- Говорит ему: «Ну, брат,
- Пара нашим не даётся;
- Делать нечего, придётся
- Во дворце тебе служить.
- Будешь в золоте ходить,
- В красно платье наряжаться,
- Словно в масле сыр кататься,
- Всю конюшенну мою
- Я в приказ тебе даю,
- Царско слово в том порука.
- Что, согласен?» – «Эка штука!
- Во дворце я буду жить,
- Буду в золоте ходить,
- В красно платье наряжаться,
- Словно в масле сыр кататься,
- Весь конюшенный завод
- Царь в приказ мне отдаёт;
- То есть, я из огорода
- Стану царский воевода.
- Чу́дно дело! Так и быть,
- Стану, царь, тебе служить.
- Только, чур, со мной не драться
- И давать мне высыпаться,
- А не то я был таков!»
- Тут он кликнул скакунов
- И пошёл вдоль по столице,
- Сам махая рукавицей,
- И под песню дурака
- Кони пляшут трепака;
- А конёк его – горбатко —
- Так и ломится вприсядку,
- К удивленью людям всем.
- Два же брата между тем
- Деньги царски получили,
- В опояски их зашили,
- Постучали ендовой[25]
- И отправились домой.
- Дома дружно поделились,
- Оба враз они женились,
- Стали жить да поживать
- Да Ивана поминать.
- Но теперь мы их оставим,
- Снова сказкой позабавим
- Православных христиан,
- Что наделал наш Иван,
- Находясь во службе царской,
- При конюшне государской;
- Как в суседки[26] он попал,
- Как перо своё проспал,
- Как хитро́ поймал Жар-птицу,
- Как похитил Царь-девицу,
- Как он ездил за кольцом,
- Как был на́ небе послом,
- Как он в солнцевом селенье
- Ки́ту выпросил прощенье;
- Как, к числу других затей,
- Спас он тридцать кораблей;
- Как в котлах он не сварился,
- Как красавцем учинился;
- Словом: наша речь о том,
- Как он сделался царём.
Часть вторая
- Зачинается рассказ
- От Ивановых проказ,
- И от сивка, и от бурка,
- И от вещего каурка[27].
- Козы на море ушли;
- Горы лесом поросли;
- Конь с златой узды срывался,
- Прямо к солнцу поднимался;
- Лес стоячий под ногой,
- Сбоку облак громовой;
- Ходит облак и сверкает,
- Гром по небу рассыпает.
- Это присказка: пожди,
- Сказка будет впереди.
- Как на море-окияне
- И на острове Буяне
- Новый гроб в лесу стоит,
- В гробе девица лежит;
- Соловей над гробом свищет;
- Чёрный зверь в дубраве рыщет,
- Это присказка, а вот —
- Сказка чередом пойдёт.
- Ну, так видите ль, миряне,
- Православны христиане,
- Наш удалый молодец
- Затесался во дворец;
- При конюшне царской служит
- И нисколько не потужит
- Он о братьях, об отце
- В государевом дворце.
- Да и что ему до братьев?
- У Ивана красных платьев,
- Красных шапок, сапогов
- Чуть не десять коробов;
- Ест он сладко, спит он столько,
- Что раздолье, да и только!
- Вот неделей через пять
- Начал спальник примечать…
- Надо молвить, этот спальник
- До Ивана был начальник
- Над конюшней надо всей,
- Из боярских слыл детей;
- Так не диво, что он злился
- На Ивана и божился,
- Хоть пропасть, а пришлеца
- Потурить вон из дворца.
- Но, лукавство сокрывая,
- Он для всякого случа́я
- Притворился, плут, глухим,
- Близоруким и немым;
- Сам же думает: «Постой-ка,
- Я те двину, неумойка!»
- Так неделей через пять
- Спальник начал примечать,
- Что Иван коней не холит,
- И не чистит, и не школит;
- Но при всём том два коня
- Словно лишь из-под гребня:
- Чисто-начисто обмыты,
- Гривы в косы перевиты,
- Чёлки собраны в пучок,
- Шерсть – ну, лоснится, как шёлк;
- В стойлах – свежая пшеница,
- Словно тут же и родится,
- И в чанах больших сыта́
- Будто только налита.
- «Что за притча тут такая? —
- Спальник думает вздыхая. —
- Уж не ходит ли, постой,
- К нам проказник-домовой?
- Дай-ка я подкараулю,
- А нешто, так я и пулю,
- Не смигнув, умею слить, —
- Лишь бы дурня уходить.
- Донесу я в думе царской,
- Что конюший государской —
- Басурманин, ворожей,
- Чернокнижник и злодей;
- Что он с бесом хлеб-соль водит,
- В церковь божию не ходит,
- Католицкий держит крест
- И постами мясо ест».
- В тот же вечер этот спальник,
- Прежний конюших начальник,
- В стойлы спрятался тайком
- И обсыпался овсом.
- Вот и полночь наступила.
- У него в груди заныло:
- Он ни жив ни мёртв лежит,
- Сам молитвы всё творит.
- Ждёт суседки… Чу! в сам-деле,
- Двери глухо заскрыпели,
- Кони топнули, и вот
- Входит старый коновод.
- Дверь задвижкой запирает,
- Шапку бережно скидает,
- На окно её кладёт
- И из шапки той берёт
- В три завёрнутый тряпицы
- Царский клад – перо Жар-птицы.
- Свет такой тут заблистал,
- Что чуть спальник не вскричал,
- И от страху так забился,
- Что овёс с него свалился.
- Но суседке невдомек!
- Он кладёт перо в сусек,
- Чистить ко́ней начинает,
- Умывает, убирает,
- Гривы длинные плетёт,
- Разны песенки поёт.
- А меж тем, свернувшись клубом,
- Поколачивая зубом,
- Смотрит спальник, чуть живой,
- Что тут деет домовой.
- Что за бес! Нешто нарочно
- Прирядился плут полночный:
- Нет рогов, ни бороды,
- Ражий парень, хоть куды!
- Волос гладкий, сбоку ленты,
- На рубашке прозументы,
- Сапоги как ал сафьян, —
- Ну, точнёхонько Иван.
- Что за диво? Смотрит снова
- Наш глазей на домового…
- «Э! так вот что! – наконец
- Проворчал себе хитрец, —
- Ладно, завтра ж царь узнает,
- Что твой глупый ум скрывает.
- Подожди лишь только дня,
- Будешь помнить ты меня!»
- А Иван, совсем не зная,
- Что ему беда такая
- Угрожает, всё плетёт
- Гривы в косы да поёт.
- А убрав их, в оба чана
- Нацедил сыты медвяной
- И насыпал дополна
- Белоярова пшена.
- Тут, зевнув, перо Жар-птицы
- Завернул опять в тряпицы,
- Шапку под ухо – и лёг
- У коней близ задних ног.
- Только начало зориться,
- Спальник начал шевелиться,
- И, услыша, что Иван
- Так храпит, как Еруслан[28],
- Он тихонько вниз слезает
- И к Ивану подползает,
- Пальцы в шапку запустил,
- Хвать перо – и след простыл.
- Царь лишь только пробудился,
- Спальник наш к нему явился,
- Стукнул крепко об пол лбом
- И запел царю потом:
- «Я с повинной головою,
- Царь, явился пред тобою,
- Не вели меня казнить,
- Прикажи мне говорить». —
- «Говори, не прибавляя, —
- Царь сказал ему зевая. —
- Если ж ты да будешь врать,
- То кнута не миновать».
- Спальник наш, собравшись с силой,
- Говорит царю: «Помилуй!
- Вот те истинный Христос,
- Справедлив мой, царь, донос.
- Наш Иван, то всякий знает,
- От тебя, отец скрывает,
- Но не злато, не сребро —
- Жароптицево перо…» —
- «Жароптицево?.. Проклятый!
- И он смел такой богатый…
- Погоди же ты, злодей!
- Не минуешь ты плетей!..» —
- «Да и то ль ещё он знает! —
- Спальник тихо продолжает
- Изогнувшися. – Добро!
- Пусть имел бы он перо;
- Да и самую Жар-птицу
- Во твою, отец, светлицу,
- Коль приказ изволишь дать,
- Похваляется достать».
- И доносчик с этим словом,
- Скрючась обручем таловым,
- Ко кровати подошёл,
- Подал клад – и снова в пол.
- Царь смотрел и дивовался,
- Гладил бороду, смеялся
- И скусил пера конец.
- Тут, уклав его в ларец,
- Закричал (от нетерпенья),
- Подтвердив своё веленье
- Быстрым взмахом кулака:
- «Гей! позвать мне дурака!»
- И посыльные дворяна
- Побежали по Ивана,
- Но, столкнувшись все в углу,
- Растянулись на полу.
- Царь тем много любовался
- И до колотья смеялся.
- А дворяна, усмотря,
- Что смешно то для царя,
- Меж собой перемигнулись
- И вдругоредь растянулись.
- Царь тем так доволен был,
- Что их шапкой наградил.
- Тут посыльные дворяна
- Вновь пустились звать Ивана
- И на этот уже раз
- Обошлися без проказ.
- Вот к конюшне прибегают,
- Двери настежь отворяют
- И ногами дурака
- Ну толкать во все бока.
- С полчаса над ним возились,
- Но его не добудились.
- Наконец уж рядовой
- Разбудил его метлой.
- «Что за челядь тут такая? —
- Говорит Иван вставая. —
- Как хвачу я вас бичом,
- Так не станете потом
- Без пути будить Ивана».
- Говорят ему дворяна:
- «Царь изволил приказать
- Нам тебя к нему позвать». —
- «Царь?.. Ну ладно! Вот сряжуся
- И тотчас к нему явлюся», —
- Говорит послам Иван.
- Тут надел он свой кафтан,
- Опояской подвязался,
- Приумылся, причесался,
- Кнут свой сбоку прицепил,
- Словно утица поплыл.
- Вот Иван к царю явился,
- Поклонился, подбодрился,
- Крякнул дважды и спросил:
- «А пошто меня будил?»
- Царь, прищурясь глазом левым,
- Закричал к нему со гневом,
- Приподнявшися: «Молчать!
- Ты мне должен отвечать:
- В силу коего указа
- Скрыл от нашего ты глаза
- Наше царское добро —
- Жароптицево перо?
- Что я – царь али боярин?
- Отвечай сейчас, татарин!»
- Тут Иван, махнув рукой,
- Говорит царю: «Постой!
- Я те шапки ровно не дал,
- Как же ты о том проведал?
- Что ты – ажно ты пророк?
- Ну, да что, сади в острог,
- Прикажи сейчас хоть в палки —
- Нет пера, да и шабалки!..» —
- «Отвечай же! запорю!..» —
- «Я те толком говорю:
- Нет пера! Да, слышь, откуда
- Мне достать такое чудо?»
- Царь с кровати тут вскочил
- И ларец с пером открыл.
- «Что? Ты смел ещё переться?
- Да уж нет, не отвертеться!
- Это что? А?» Тут Иван
- Задрожал, как лист в буран,
- Шапку выронил с испуга.
- «Что, приятель, видно, туго? —
- Молвил царь. – Постой-ка, брат!..» —
- «Ох, помилуй, виноват!
- Отпусти вину Ивану,
- Я вперёд уж врать не стану».
- И, закутавшись в полу,
- Растянулся на полу.
- «Ну, для первого случаю
- Я вину тебе прощаю, —
- Царь Ивану говорит. —
- Я, помилуй бог, сердит!
- И с сердцов иной порою
- Чуб сниму и с головою.
- Так вот, видишь, я каков!
- Но, сказать без дальних слов,
- Я узнал, что ты Жар-птицу
- В нашу царскую светлицу,
- Если б вздумал приказать,
- Похваляешься достать.
- Ну, смотри ж, не отпирайся
- И достать её старайся».
- Тут Иван волчком вскочил.
- «Я того не говорил! —
- Закричал он утираясь. —
- О пере не запираюсь,
- Но о птице, как ты хошь,
- Ты напраслину ведёшь».
- Царь, затрясши бородою:
- «Что? Рядиться мне с тобою! —
- Закричал он. – Но смотри!
- Если ты недели в три
- Не достанешь мне Жар-птицу
- В нашу царскую светлицу,
- То, клянуся бородой,
- Ты поплатишься со мной:
- На правёж – в решетку – на́ кол!
- Вон, холоп!» Иван заплакал
- И пошёл на сеновал,
- Где конёк его лежал.
- Горбунок, его почуя,
- Дрягнул было плясовую;
- Но, как слёзы увидал,
- Сам чуть-чуть не зарыдал.
- «Что, Иванушка, невесел?
- Что головушку повесил? —
- Говорит ему конёк,
- У его вертяся ног. —
- Не утайся предо мною,
- Всё скажи, что за душою.
- Я помочь тебе готов.
- Аль, мой милый, нездоров?
- Аль попался к лиходею?»
- Пал Иван к коньку на шею,
- Обнимал и целовал.
- «Ох, беда, конёк! – сказал. —
- Царь велит достать Жар-птицу
- В государскую светлицу.
- Что мне делать, горбунок?»
- Говорит ему конёк:
- «Велика беда, не спорю;
- Но могу помочь я горю.
- Оттого беда твоя,
- Что не слушался меня:
- Помнишь, ехав в град-столицу,
- Ты нашёл перо Жар-птицы;
- Я сказал тебе тогда:
- «Не бери, Иван, – беда!
- Много, много непокою
- Принесёт оно с собою».
- Вот теперя ты узнал,
- Правду ль я тебе сказал.
- Но, сказать тебе по дружбе,
- Это – службишка, не служба;
- Служба всё, брат, впереди.
- Ты к царю теперь поди
- И скажи ему открыто:
- «Надо, царь, мне два корыта
- Белоярова пшена
- Да заморского вина.
- Да вели поторопиться:
- Завтра, только зазорится,
- Мы отправимся в поход».
- Вот Иван к царю идёт,
- Говорит ему открыто:
- «Надо, царь, мне два корыта
- Белоярова пшена
- Да заморского вина.
- Да вели поторопиться:
- Завтра, только зазорится,
- Мы отправимся в поход».
- Царь тотчас приказ даёт,
- Чтоб посыльные дворяна
- Всё сыскали для Ивана,
- Молодцом его назвал
- И «счастливый путь!» сказал.
- На другой день, утром рано,
- Разбудил конёк Ивана:
- «Гей! Хозяин! Полно спать!
- Время дело исправлять!»
- Вот Иванушка поднялся,
- В путь-дорожку собирался,
- Взял корыта, и пшено,
- И заморское вино;
- Потеплее приоделся,
- На коньке своём уселся,
- Вынул хлеба ломоток
- И поехал на восток —
- Доставать тоё Жар-птицу.
- Едут целую седмицу,
- Напоследок, в день осьмой,
- Приезжают в лес густой.
- Тут сказал конёк Ивану:
- «Ты увидишь здесь поляну;
- На поляне той гора
- Вся из чистого сребра;
- Вот сюда-то до зарницы
- Прилетают жа́ры-птицы
- Из ручья воды испить;
- Тут и будем их ловить».
- И, окончив речь к Ивану,
- Выбегает на поляну.
- Что за поле! Зелень тут
- Словно камень-изумруд;
- Ветерок над нею веет,
- Так вот искорки и сеет;
- А по зелени цветы
- Несказанной красоты.
- А на той ли на поляне,
- Словно вал на океане,
- Возвышается гора
- Вся из чистого сребра.
- Солнце летними лучами
- Красит всю её зарями,
- В сгибах золотом бежит,
- На верхах свечой горит.
- Вот конёк по косогору
- Поднялся на эту гору,
- Версту, дру́гу пробежал,
- Устоялся и сказал:
- «Скоро ночь, Иван, начнётся,
- И тебе стеречь придётся.
- Ну, в корыто лей вино
- И с вином мешай пшено.
- А чтоб быть тебе закрыту,
- Ты под то подлезь корыто,
- Втихомолку примечай,
- Да, смотри же, не зевай.
- До восхода, слышь, зарницы
- Прилетят сюда жар-птицы
- И начнут пшено клевать
- Да по-своему кричать.
- Ты, которая поближе,
- И схвати её, смотри же!
- А поймаешь птицу-жар,
- И кричи на весь базар;
- Я тотчас к тебе явлюся». —
- «Ну, а если обожгуся? —
- Говорит коньку Иван,
- Расстилая свой кафтан. —
- Рукавички взять придётся:
- Чай, плутовка больно жгётся».
- Тут конёк из глаз исчез,
- А Иван, кряхтя, подлез
- Под дубовое корыто
- И лежит там как убитый.
- Вот полночною порой
- Свет разлился над горой, —
- Будто полдни наступают:
- Жары-птицы налетают;
- Стали бегать и кричать
- И пшено с вином клевать.
- Наш Иван, от них закрытый,
- Смотрит птиц из-под корыта
- И толкует сам с собой,
- Разводя вот так рукой:
- «Тьфу ты, дьявольская сила!
- Эк их, дряней, привалило!
- Чай, их тут десятков с пять.
- Кабы всех переимать, —
- То-то было бы поживы!
- Неча молвить, страх красивы!
- Ножки красные у всех;
- А хвосты-то – сущий смех!
- Чай, таких у куриц нету.
- А уж сколько, парень, свету,
- Словно батюшкина печь!»
- И, скончав такую речь,
- Сам с собою под лазейкой,
- Наш Иван ужом да змейкой
- Ко пшену с вином подполз, —
- Хвать одну из птиц за хвост.
- «Ой, Конёчек-горбуночек!
- Прибегай скорей, дружочек!
- Я ведь птицу-то поймал», —
- Так Иван-дурак кричал.
- Горбунок тотчас явился.
- «Ай, хозяин, отличился! —
- Говорит ему конёк. —
- Ну, скорей её в мешок!
- Да завязывай тужее;
- А мешок привесь на шею.
- Надо нам в обратный путь». —
- «Нет, дай птиц-то мне пугнуть!
- Говорит Иван. – Смотри-ка,
- Вишь, надселися от крика!»
- И, схвативши свой мешок,
- Хлещет вдоль и поперёк.
- Ярким пламенем сверкая,
- Встрепенулася вся стая,
- Кру́гом огненным свилась
- И за тучи понеслась.
- А Иван наш вслед за ними
- Рукавицами своими
- Так и машет и кричит,
- Словно щёлоком облит.
- Птицы в тучах потерялись;
- Наши путники собрались,
- Уложили царский клад
- И вернулися назад.
- Вот приехали в столицу.
- «Что, достал ли ты Жар-птицу?» —
- Царь Ивану говорит,
- Сам на спальника глядит.
- А уж тот, нешто от скуки,
- Искусал себе все руки.
- «Разумеется, достал», —
- Наш Иван царю сказал.
- «Где ж она?» – «Постой немножко,
- Прикажи сперва окошко
- В почивальне затворить,
- Знашь, чтоб темень сотворить».
- Тут дворяна побежали
- И окошко затворяли.
- Вот Иван мешок на стол:
- «Ну-ка, бабушка, пошёл!»
- Свет такой тут вдруг разлился,
- Что весь двор рукой закрылся.
- Царь кричит на весь базар:
- «Ахти, батюшки, пожар!
- Эй, решёточных сзывайте!
- Заливайте! Заливайте!» —
- «Это, слышь ты, не пожар,
- Это свет от птицы-жар, —
- Молвил ловчий, сам со смеху
- Надрываяся. – Потеху
- Я привёз те, осударь!»
- Говорит Ивану царь:
- «Вот люблю дружка Ванюшу!
- Взвеселил мою ты душу,
- И на радости такой —
- Будь же царский стремянной!»
- Это видя, хитрый спальник,
- Прежний конюших начальник,
- Говорит себе под нос:
- «Нет, постой, молокосос!
- Не всегда тебе случится
- Так канальски отличиться.
- Я те снова подведу,
- Мой дружочек, под беду!»
- Через три потом недели
- Вечерком одним сидели
- В царской кухне повара
- И служители двора;
- Попивали мёд из жбана
- Да читали Еруслана.
- «Эх! – один слуга сказал, —
- Как севодни я достал
- От соседа чудо-книжку!
- В ней страниц не так чтоб слишком,
- Да и сказок только пять,
- А уж сказки – вам сказать,
- Так не можно надивиться;
- Надо ж этак умудриться!»
- Тут все в голос: «Удружи!
- Расскажи, брат, расскажи!» —
- «Ну, какую ж вы хотите?
- Пять ведь сказок; вот смотрите:
- Перва сказка о бобре,
- А вторая о царе;
- Третья… дай бог память… точно!
- О боярыне восточной;
- Вот в четвёртой: князь Бобыл;
- В пятой… в пятой… эх, забыл!
- В пятой сказке говорится…
- Так в уме вот и вертится…» —
- «Ну, да брось её!» – «Постой!» —
- «О красотке, что ль, какой?» —
- «Точно! В пятой говорится
- О прекрасной Царь-девице.
- Ну, которую ж, друзья,
- Расскажу севодни я?» —
- «Царь-девицу! – все кричали. —
- О царях мы уж слыхали,
- Нам красоток-то скорей!
- Их и слушать веселей».
- И слуга, усевшись важно,
- Стал рассказывать протяжно:
- «У далёких немских стран
- Есть, ребята, окиян.
- По тому ли окияну
- Ездят только басурманы;
- С православной же земли
- Не бывали николи
- Ни дворяне, ни миряне
- На поганом окияне.
- От гостей же слух идёт,
- Что девица там живёт;
- Но девица не простая,
- Дочь, вишь, Месяцу родная,
- Да и Солнышко ей брат.
- Та девица, говорят,
- Ездит в красном полушубке,
- В золотой, ребята, шлюпке
- И серебряным веслом
- Самолично правит в нём;
- Разны песни попевает
- И на гусельцах играет…»
- Спальник тут с полатей скок —
- И со всех обеих ног
- Во дворец к царю пустился
- И как раз к нему явился;
- Стукнул крепко об пол лбом
- И запел царю потом:
- «Я с повинной головою,
- Царь, явился пред тобою,
- Не вели меня казнить,
- Прикажи мне говорить!» —
- «Говори, да правду только,
- И не ври, смотри, нисколько!» —
- Царь с кровати закричал.
- Хитрый спальник отвечал:
- «Мы севодни в кухне были,
- За твоё здоровье пили,
- А один из дворских слуг
- Нас забавил сказкой вслух;
- В этой сказке говорится
- О прекрасной Царь-девице.
- Вот твой царский стремянной
- Поклялся твоей брадой,
- Что он знает эту птицу, —
- Так он назвал Царь-девицу, —
- И её, изволишь знать,
- Похваляется достать».
- Спальник стукнул об пол снова.
- «Гей, позвать мне стремяннова!» —
- Царь посыльным закричал.
- Спальник тут за печку стал.
- А посыльные дворяна
- Побежали по Ивана;
- В крепком сне его нашли
- И в рубашке привели.
- Царь так начал речь: «Послушай,
- На тебя донос, Ванюша.
- Говорят, что вот сейчас
- Похвалялся ты для нас
- Отыскать другую птицу,
- Сиречь молвить, Царь-девицу…» —
- «Что ты, что ты, бог с тобой! —
- Начал царский стремянной. —
- Чай, с просонков я, толкую,
- Штуку выкинул такую.
- Да хитри себе как хошь,
- А меня не проведёшь».
- Царь, затрясши бородою:
- «Что? Рядиться мне с тобою? —
- Закричал он. – Но смотри,
- Если ты недели в три
- Не достанешь Царь-девицу
- В нашу царскую светлицу,
- То, клянуся бородой!
- Ты поплатишься со мной!
- На правёж – в решетку – на кол!
- Вон, холоп!» Иван заплакал
- И пошёл на сеновал,
- Где конёк его лежал.
- «Что, Иванушка, невесел?
- Что головушку повесил? —
- Говорит ему конёк. —
- Аль, мой милый, занемог?
- Аль попался к лиходею?»
- Пал Иван к коньку на шею,
- Обнимал и целовал.
- «Ох, беда, конёк! – сказал. —
- Царь велит в свою светлицу
- Мне достать, слышь, Царь-девицу.
- Что мне делать, горбунок?»
- Говорит ему конёк:
- «Велика беда, не спорю;
- Но могу помочь я горю.
- Оттого беда твоя,
- Что не слушался меня.
- Но, сказать тебе по дружбе,
- Это – службишка, не служба;
- Служба всё, брат, впереди!
- Ты к царю теперь поди
- И скажи: «Ведь для поимки
- Надо, царь, мне две ширинки[29],
- Шитый золотом шатёр
- Да обеденный прибор —
- Весь заморского варенья —
- И сластей для прохлажденья».
- Вот Иван к царю идёт
- И такую речь ведёт:
- «Для царевниной поимки
- Надо, царь, мне две ширинки,
- Шитый золотом шатёр
- Да обеденный прибор —
- Весь заморского варенья —
- И сластей для прохлажденья». —
- «Вот давно бы так, чем нет», —
- Царь с кровати дал ответ
- И велел, чтобы дворяна
- Всё сыскали для Ивана,
- Молодцом его назвал
- И «счастливый путь!» сказал.
- На другой день, утром рано,
- Разбудил конёк Ивана:
- «Гей! Хозяин! Полно спать!
- Время дело исправлять!»
- Вот Иванушка поднялся,
- В путь-дорожку собирался,
- Взял ширинки и шатёр
- Да обеденный прибор —
- Весь заморского варенья —
- И сластей для прохлажденья;
- Всё в мешок дорожный склал
- И верёвкой завязал,
- Потеплее приоделся,
- На коньке своём уселся;
- Вынул хлеба ломоток
- И поехал на восток
- По тоё ли Царь-девицу.
- Едут целую седмицу,
- Напоследок, в день осьмой,
- Приезжают в лес густой.
- Тут сказал конёк Ивану:
- «Вот дорога к окияну,
- И на нём-то круглый год
- Та красавица живёт;
- Два раза́ она лишь сходит
- С окияна и приводит
- Долгий день на землю к нам.
- Вот увидишь завтра сам».
- И, окончив речь к Ивану,
- Выбегает к окияну,
- На котором белый вал
- Одинёшенек гулял.
- Тут Иван с конька слезает,
- А конёк ему вещает:
- «Ну, раскидывай шатёр,
- На ширинку ставь прибор
- Из заморского варенья
- И сластей для прохлажденья.
- Сам ложися за шатром
- Да смекай себе умом.
- Видишь, шлюпка вон мелькает..
- То царевна подплывает.
- Пусть в шатёр она войдёт,
- Пусть покушает, попьёт;
- Вот, как в гусли заиграет, —
- Знай, уж время наступает.
- Ты тотчас в шатёр вбегай,
- Ту царевну сохватай,
- И держи её сильнее,
- Да зови меня скорее.
- Я на первый твой приказ
- Прибегу к тебе как раз;
- И поедем… Да, смотри же,
- Ты гляди за ней поближе;
- Если ж ты её проспишь,
- Так беды не избежишь».
- Тут конёк из глаз сокрылся,
- За шатёр Иван забился
- И давай диру вертеть,
- Чтоб царевну подсмотреть.
- Ясный полдень наступает;
- Царь-девица подплывает,
- Входит с гуслями в шатёр
- И садится за прибор.
- «Хм! Так вот та Царь-девица!
- Как же в сказках говорится, —
- Рассуждает стремянной, —
- Что куда красна собой
- Царь-девица, так что диво!
- Эта вовсе не красива:
- И бледна-то, и тонка,
- Чай, в обхват-то три вершка;
- А ножонка-то, ножонка!
- Тьфу ты! словно у цыплёнка!
- Пусть полюбится кому,
- Я и даром не возьму».
- Тут царевна заиграла
- И столь сладко припевала,
- Что Иван, не зная как,
- Прикорнулся на кулак
- И под голос тихий, стройный
- Засыпает преспокойно.
- Запад тихо догорал.
- Вдруг конёк над ним заржал
- И, толкнув его копытом,
- Крикнул голосом сердитым:
- «Спи, любезный, до звезды!
- Высыпай себе беды,
- Не меня ведь вздёрнут на кол!»
- Тут Иванушка заплакал
- И, рыдаючи, просил,
- Чтоб конёк его простил:
- «Отпусти вину Ивану,
- Я вперёд уж спать не стану». —
- «Ну, уж бог тебя простит! —
- Горбунок ему кричит. —
- Всё поправим, может статься,
- Только, чур, не засыпаться;
- Завтра, рано поутру,
- К златошвейному шатру
- Приплывёт опять девица
- Мёду сладкого напиться.
- Если ж снова ты заснёшь,
- Головы уж не снесёшь».
- Тут конёк опять сокрылся;
- А Иван сбирать пустился
- Острых камней и гвоздей
- От разбитых кораблей
- Для того, чтоб уколоться,
- Если вновь ему вздремнётся.
- На другой день, поутру,
- К златошвейному шатру
- Царь-девица подплывает,
- Шлюпку на берег бросает,
- Входит с гуслями в шатёр
- И садится за прибор…
- Вот царевна заиграла
- И столь сладко припевала,
- Что Иванушке опять
- Захотелося поспать.
- «Нет, постой же ты, дрянная! —
- Говорит Иван вставая. —
- Ты в друго́рядь не уйдёшь
- И меня не проведёшь».
- Тут в шатёр Иван вбегает,
- Косу длинную хватает…
- «Ой, беги, конёк, беги!
- Горбунок мой, помоги!»
- Вмиг конёк к нему явился.
- «Ай, хозяин, отличился!
- Ну, садись же поскорей
- Да держи её плотней!»
- Вот столицы достигает.
- Царь к царевне выбегает,
- За белы́ руки берёт,
- Во дворец её ведёт
- И садит за стол дубовый
- И под занавес шелковый,
- В глазки с нежностью глядит,
- Сладки речи говорит:
- «Бесподобная девица,
- Согласися быть царица!
- Я тебя едва узрел —
- Сильной страстью воскипел.
- Соколины твои очи
- Не дадут мне спать средь ночи
- И во время бела дня —
- Ох! измучают меня.
- Молви ласковое слово!
- Всё для свадьбы уж готово;
- Завтра ж утром, светик мой,
- Обвенчаемся с тобой
- И начнём жить припевая».
- А царевна молодая,
- Ничего не говоря,
- Отвернулась от царя.
- Царь нисколько не сердился,
- Но сильней ещё влюбился;
- На колен пред нею стал,
- Ручки нежно пожимал
- И балясы начал снова:
- «Молви ласковое слово!
- Чем тебя я огорчил?
- Али тем, что полюбил?
- О, судьба моя плачевна!»
- Говорит ему царевна:
- «Если хочешь взять меня,
- То доставь ты мне в три дня
- Перстень мой из окияна». —
- «Гей! Позвать ко мне Ивана!» —
- Царь поспешно закричал
- И чуть сам не побежал.
- Вот Иван к царю явился,
- Царь к нему оборотился
- И сказал ему: «Иван!
- Поезжай на окиян;
- В окияне том хранится
- Перстень, слышь ты, Царь-девицы.
- Коль достанешь мне его,
- Задарю тебя всего». —
- «Я и с первой-то дороги
- Волочу насилу ноги;
- Ты опять на окиян!» —
- Говорит царю Иван.
- «Как же, плут, не торопиться:
- Видишь, я хочу жениться! —
- Царь со гневом закричал
- И ногами застучал. —
- У меня не отпирайся,
- А скорее отправляйся!»
- Тут Иван хотел идти.
- «Эй, послушай! По пути, —
- Говорит ему царица, —
- Заезжай ты поклониться
- В изумрудный терем мой
- Да скажи моей родной:
- Дочь её узнать желает,
- Для чего она скрывает
- По три ночи, по три дня
- Лик свой ясный от меня?
- И зачем мой братец красный
- Завернулся в мрак ненастный
- И в туманной вышине
- Не пошлёт луча ко мне?
- Не забудь же!» – «Помнить буду,
- Если только не забуду;
- Да ведь надо же узнать,
- Кто те братец, кто те мать,
- Чтоб в родне-то нам не сбиться».
- Говорит ему царица:
- «Месяц – мать мне,
- Солнце – брат». —
- «Да, смотри, в три дня назад!» —
- Царь-жених к тому прибавил.
- Тут Иван царя оставил
- И пошёл на сеновал,
- Где конёк его лежал.
- «Что, Иванушка, невесел?
- Что головушку повесил?» —
- Говорит ему конёк.
- «Помоги мне, горбунок!
- Видишь, вздумал царь жениться,
- Знашь, на тоненькой царице,
- Так и шлёт на окиян, —
- Говорит коньку Иван. —
- Дал мне сроку три дня только;
- Тут попробовать изволь-ка
- Перстень дьявольский достать!
- Да велела заезжать
- Эта тонкая царица
- Где-то в терем поклониться
- Солнцу, Месяцу, притом
- И спрошать кое об чём…»
- Тут конёк: «Сказать по дружбе,
- Это – службишка, не служба;
- Служба всё, брат, впереди!
- Ты теперя спать поди;
- А назавтра, утром рано,
- Мы поедем к окияну».
- На другой день наш Иван,
- Взяв три луковки в карман,
- Потеплее приоделся,
- На коньке своём уселся
- И поехал в дальний путь…
- Дайте, братцы, отдохнуть!
Часть третья
- Та-ра-рали, та-ра-ра!
- Вышли кони со двора;
- Вот крестьяне их поймали
- Да покрепче привязали.
- Сидит ворон на дубу,
- Он играет во трубу;
- Как во трубушку играет,
- Православных потешает:
- «Эй, послушай, люд честной!
- Жили-были муж с женой;
- Муж-то примется за шутки,
- А жена за прибаутки,
- И пойдёт у них тут пир,
- Что на весь крещёный мир!»
- Это присказка ведётся,
- Сказка по́слее начнётся.
- Как у наших у ворот
- Муха песенку поёт:
- «Что дадите мне за вестку?
- Бьёт свекровь свою невестку:
- Посадила на шесток,
- Привязала за шнурок,
- Ручки к ножкам притянула,
- Ножку правую разула:
- «Не ходи ты по зарям!
- Не кажися молодцам!»
- Это присказка велася,
- Вот и сказка началася.
- Ну-с, так едет наш Иван
- За кольцом на окиян.
- Горбунок летит, как ветер,
- И в почин на первый вечер
- Вёрст сто тысяч отмахал
- И нигде не отдыхал.
- Подъезжая к окияну,
- Говорит конёк Ивану:
- «Ну, Иванушка, смотри,
- Вот минутки через три
- Мы приедем на поляну —
- Прямо к морю-окияну;
- Поперёк его лежит
- Чудо-юдо рыба-кит;
- Десять лет уж он страдает,
- А доселева не знает,
- Чем прощенье получить;
- Он учнёт тебя просить,
- Чтоб ты в Солнцевом селенье
- Попросил ему прощенье;
- Ты исполнить обещай,
- Да, смотри ж, не забывай!»
- Вот въезжают на поляну
- Прямо к морю-окияну;
- Поперёк его лежит
- Чудо-юдо Рыба-кит.
- Все бока его изрыты,
- Частоколы в рёбра вбиты,
- На хвосте сыр-бор шумит,
- На спине село стоит;
- Мужички на губе пашут,
- Между глаз мальчишки пляшут,
- А в дубраве, меж усов,
- Ищут девушки грибов.
- Вот конёк бежит по ки́ту,
- По костям стучит копытом.
- Чудо-юдо Рыба-кит
- Так проезжим говорит,
- Рот широкий отворяя,
- Тяжко, горько воздыхая:
- «Путь-дорога, господа!
- Вы откуда, и куда?» —
- «Мы послы от Царь-девицы,
- Едем оба из столицы, —
- Говорит киту конёк, —
- К Солнцу прямо на восток,
- Во хоромы золотые». —
- «Так нельзя ль, отцы родные,
- Вам у Солнышка спросить:
- Долго ль мне в опале быть,
- И за кои прегрешенья
- Я терплю беды-мученья?» —
- «Ладно, ладно, Рыба-кит!» —
- Наш Иван ему кричит.
- «Будь отец мне милосердный!
- Вишь, как мучуся я, бедный!
- Десять лет уж тут лежу…
- Я и сам те услужу!..» —
- Кит Ивана умоляет,
- Сам же горько воздыхает.
- «Ладно-ладно, Рыба-кит!» —
- Наш Иван ему кричит.
- Тут конёк под ним забился,
- Прыг на берег – и пустился,
- Только видно, как песок
- Вьётся вихорем у ног.
- Едут близко ли, далёко,
- Едут низко ли, высоко
- И увидели ль кого —
- Я не знаю ничего.
- Скоро сказка говорится,
- Дело мешкотно творится.
- Только, братцы, я узнал,
- Что конёк туда вбежал,
- Где (я слышал стороною)
- Небо сходится с землёю,
- Где крестьянки лён прядут,
- Прялки на небо кладут.
- Тут Иван с землёй простился
- И на небе очутился
- И поехал, будто князь,
- Шапка набок, подбодрясь.
- «Эко диво! эко диво!
- Наше царство хоть красиво, —
- Говорит коньку Иван.
- Средь лазоревых полян, —
- А как с небом-то сравнится,
- Так под стельку не годится.
- Что земля-то!.. ведь она
- И черна-то и грязна;
- Здесь земля-то голубая,
- А уж светлая какая!..
- Посмотри-ка, горбунок,
- Видишь, вон где, на восток,
- Словно светится зарница…
- Чай, небесная светлица…
- Что-то больно высока!» —
- Так спросил Иван конька.
- «Это терем Царь-девицы,
- Нашей будущей царицы, —
- Горбунок ему кричит, —
- По ночам здесь Солнце спит,
- А полуденной порою
- Месяц входит для покою».
- Подъезжают; у ворот
- Из столбов хрустальный свод;
- Все столбы те завитые
- Хитро в змейки золотые;
- На верхушках три звезды,
- Вокруг терема сады;
- На серебряных там ветках
- В раззолоченных во клетках
- Птицы райские живут,
- Песни царские поют.
- А ведь терем с теремами
- Будто город с деревнями;
- А на тереме из звезд —
- Православный русский крест.
- Вот конёк во двор въезжает;
- Наш Иван с него слезает,
- В терем к Месяцу идёт
- И такую речь ведёт:
- «Здравствуй, Месяц Месяцович!
- Я – Иванушка Петрович,
- Из далёких я сторон
- И привёз тебе поклон». —
- «Сядь, Иванушка Петрович, —
- Молвил Месяц Месяцович, —
- И поведай мне вину[30]
- В нашу светлую страну
- Твоего с земли прихода;
- Из какого ты народа,
- Как попал ты в этот край, —
- Всё скажи мне, не утай». —
- «Я с земли пришёл Землянской,
- Из страны ведь христианской, —
- Говорит, садясь, Иван, —
- Переехал окиян
- С порученьем от царицы —
- В светлый терем поклониться
- И сказать вот так, постой:
- «Ты скажи моей родной:
- Дочь её узнать желает,
- Для чего она скрывает
- По три ночи, по три дня
- Лик какой-то от меня;
- И зачем мой братец красный
- Завернулся в мрак ненастный
- И в туманной вышине
- Не пошлёт луча ко мне?»
- Так, кажися? – Мастерица
- Говорить красно́ царица;
- Не припомнишь всё сполна,
- Что сказала мне она». —
- «А какая то царица?» —
- «Это, знаешь, Царь-девица». —
- «Царь-девица?.. Так она,
- Что ль, тобой увезена?» —
- Вскрикнул Месяц Месяцович.
- А Иванушка Петрович
- Говорит: «Известно, мной!
- Вишь, я царский стремянной;
- Ну, так царь меня отправил,
- Чтобы я её доставил
- В три недели во дворец;
- А не то меня, отец,
- Посадить грозился на кол».
- Месяц с радости заплакал,
- Ну Ивана обнимать,
- Целовать и миловать.
- «Ах, Иванушка Петрович! —
- Молвил Месяц Месяцович. —
- Ты принёс такую весть,
- Что не знаю, чем и счесть!
- А уж мы как горевали,
- Что царевну потеряли!..
- Оттого-то, видишь, я
- По три ночи, по три дня
- В тёмном облаке ходила,
- Всё грустила да грустила,
- Трое суток не спала,
- Крошки хлеба не брала,
- Оттого-то сын мой красный
- Завернулся в мрак ненастный,
- Луч свой жаркий погасил,
- Миру божью не светил:
- Всё грустил, вишь, по сестрице,
- Той ли красной Царь-девице.
- Что, здорова ли она?
- Не грустна ли, не больна?» —
- «Всем бы, кажется, красотка,
- Да у ней, кажись, сухотка:
- Ну, как спичка, слышь, тонка,
- Чай, в обхват-то три вершка;
- Вот как замуж-то поспеет,
- Так небось и потолстеет:
- Царь, слышь, женится на ней».
- Месяц вскрикнул: «Ах, злодей!
- Вздумал в семьдесят жениться
- На молоденькой девице!
- Да стою я крепко в том —
- Просидит он женихом!
- Вишь, что старый хрен затеял:
- Хочет жать там, где не сеял!
- Полно, лаком больно стал!»
- Тут Иван опять сказал:
- «Есть ещё к тебе прошенье,
- То о китовом прощенье…
- Есть, вишь, море; чудо-кит
- Поперёк его лежит:
- Все бока его изрыты,
- Частоколы в рёбра вбиты…
- Он, бедняк, меня прошал,
- Чтобы я тебя спрошал:
- Скоро ль кончится мученье?
- Чем сыскать ему прощенье?
- И на что он тут лежит?»
- Месяц ясный говорит:
- «Он за то несёт мученье,
- Что без божия веленья
- Проглотил среди морей
- Три десятка кораблей.
- Если даст он им свободу,
- Снимет бог с него невзгоду,
- Вмиг все раны заживит,
- Долгим веком наградит».
- Тут Иванушка поднялся,
- С светлым месяцем прощался,
- Крепко шею обнимал,
- Трижды в щёки целовал.
- «Ну, Иванушка Петрович! —
- Молвил Месяц Месяцович. —
- Благодарствую тебя
- За сынка и за себя.
- Отнеси благословенье
- Нашей дочке в утешенье
- И скажи моей родной:
- «Мать твоя всегда с тобой;
- Полно плакать и крушиться:
- Скоро грусть твоя решится, —
- И не старый, с бородой,
- А красавец молодой
- Поведёт тебя к налою[31]».
- Ну, прощай же! Бог с тобою!»
- Поклонившись, как умел,
- На конька Иван тут сел,
- Свистнул, будто витязь знатный,
- И пустился в путь обратный.
- На другой день наш Иван
- Вновь пришёл на окиян.
- Вот конёк бежит по ки́ту,
- По костям стучит копытом.
- Чудо-юдо Рыба-кит
- Так, вздохнувши, говорит:
- «Что, отцы, моё прошенье?
- Получу ль когда прощенье?» —
- «Погоди ты, Рыба-кит!» —
- Тут конёк ему кричит.
- Вот в село он прибегает,
- Мужиков к себе сзывает,
- Чёрной гривкою трясёт
- И такую речь ведёт:
- «Эй, послушайте, миряне,
- Православны христиане!
- Коль не хочет кто из вас
- К водяному сесть в приказ,
- Убирайся вмиг отсюда.
- Здесь тотчас случится чудо:
- Море сильно закипит,
- Повернётся Рыба-кит…»
- Тут крестьяне и миряне,
- Православны христиане,
- Закричали: «Быть бедам!»
- И пустились по домам.
- Все телеги собирали;
- В них, не мешкая, поклали
- Всё, что было живота,
- И оставили кита.
- Утро с полднем повстречалось,
- А в селе уж не осталось
- Ни одной души живой,
- Словно шёл Мамай войной!
- Тут конёк на хвост вбегает,
- К перьям близко прилегает
- И что мочи есть кричит:
- «Чудо-юдо Рыба-кит!
- Оттого твои мученья,
- Что без божия веленья
- Проглотил ты средь морей
- Три десятка кораблей.
- Если дашь ты им свободу,
- Снимет бог с тебя невзгоду,
- Вмиг все раны заживит,
- Долгим веком наградит».
- И, окончив речь такую,
- Закусил узду стальную,
- Понатужился – и вмиг
- На далёкий берег прыг.
- Чудо-кит зашевелился,
- Словно холм поворотился,
- Начал море волновать
- И из челюстей бросать
- Корабли за кораблями
- С парусами и гребцами.
- Тут поднялся шум такой,
- Что проснулся царь морской:
- В пушки медные палили,
- В трубы кованы трубили;
- Белый парус поднялся,
- Флаг на мачте развился;
- Поп с причётом всем служебным
- Пел на палубе молебны;
- А гребцов весёлый ряд
- Грянул песню наподхват:
- «Как по моречку, по морю,
- По широкому раздолью,
- Что по самый край земли,
- Выбегают корабли…»
- Волны моря заклубились,
- Корабли из глаз сокрылись.
- Чудо-юдо Рыба-кит
- Громким голосом кричит,
- Рот широкий отворяя,
- Плёсом волны разбивая:
- «Чем вам, други, услужить?
- Чем за службу наградить?
- Надо ль раковин цветистых?
- Надо ль рыбок золотистых?
- Надо ль крупных жемчугов?
- Всё достать для вас готов!» —
- «Нет, кит-рыба, нам в награду
- Ничего того не надо, —
- Говорит ему Иван, —
- Лучше перстень нам достань —
- Перстень, знаешь, Царь-девицы,
- Нашей будущей царицы». —
- «Ладно, ладно! Для дружка
- И серёжку из ушка!
- Отыщу я до зарницы
- Перстень красной Царь-девицы»,—
- Кит Ивану отвечал
- И, как ключ, на дно упал.
- Вот он плёсом ударяет,
- Громким голосом сзывает
- Осетриный весь народ
- И такую речь ведёт:
- «Вы достаньте до зарницы
- Перстень красной Царь-девицы,
- Скрытый в ящичке на дне.
- Кто его доставит мне,
- Награжу того я чином:
- Будет думным дворянином.
- Если ж умный мой приказ
- Не исполните… я вас!»
- Осетры тут поклонились
- И в порядке удалились.
- Через несколько часов
- Двое белых осетров
- К киту медленно подплыли
- И смиренно говорили:
- «Царь великий! не гневись!
- Мы всё море уж, кажись,
- Исходили и изрыли,
- Но и знаку не открыли.
- Только Ёрш один из нас
- Совершил бы твой приказ:
- Он по всем морям гуляет,
- Так уж, верно, перстень знает;
- Но его, как бы назло,
- Уж куда-то унесло». —
- «Отыскать его в минуту
- И послать в мою каюту!» —
- Кит сердито закричал
- И усами закачал.
- Осетры тут поклонились,
- В земский суд бежать пустились
- И велели в тот же час
- От кита писать указ,
- Чтоб гонцов скорей послали
- И Ерша того поймали.
- Лещ, услыша сей приказ,
- Именной писал указ;
- Сом (советником он звался)
- Под указом подписался;
- Чёрный рак указ сложил
- И печати приложил.
- Двух дельфинов тут призвали
- И, отдав указ, сказали,
- Чтоб, от имени царя,
- Обежали все моря
- И того Ерша-гуляку,
- Крикуна и забияку,
- Где бы ни было нашли,
- К государю привели.
- Тут дельфины поклонились
- И Ерша искать пустились.
- Ищут час они в морях,
- Ищут час они в реках,
- Все озёра исходили,
- Все проливы переплыли,
- Не могли Ерша сыскать
- И вернулися назад,
- Чуть не плача от печали…
- Вдруг дельфины услыхали
- Где-то в маленьком пруде
- Крик неслыханный в воде.
- В пруд дельфины завернули
- И на дно его нырнули, —
- Глядь: в пруде, под камышом,
- Ёрш дерётся с Карасём.
- «Смирно! черти б вас побрали!
- Вишь, содом какой подняли,
- Словно важные бойцы!» —
- Закричали им гонцы.
- «Ну, а вам какое дело? —
- Ёрш кричит дельфинам смело. —
- Я шутить ведь не люблю,
- Разом всех переколю!» —
- «Ох ты, вечная гуляка
- И крикун и забияка!
- Всё бы, дрянь, тебе гулять,
- Всё бы драться да кричать.
- Дома – нет ведь, не сидится!..
- Ну да что с тобой рядиться, —
- Вот тебе царёв указ,
- Чтоб ты плыл к нему тотчас».
- Тут проказника дельфины
- Подхватили за щетины
- И отправились назад.
- Ёрш ну рваться и кричать:
- «Будьте милостивы, братцы!
- Дайте чуточку подраться.
- Распроклятый тот Карась
- Поносил меня вчерась
- При честном при всём собранье
- Неподобной разной бранью…»
- Долго Ёрш ещё кричал,
- Наконец и замолчал;
- А проказника дельфины
- Всё тащили за щетины,
- Ничего не говоря,
- И явились пред царя.
- «Что ты долго не являлся?
- Где ты, вражий сын, шатался?» —
- Кит со гневом закричал.
- На колени Ёрш упал,
- И, признавшись в преступленье,
- Он молился о прощенье.
- «Ну, уж бог тебя простит! —
- Кит державный говорит. —
- Но за то твоё прощенье
- Ты исполни повеленье». —
- «Рад стараться, чудо-кит!» —
- На коленях Ёрш пищит.
- «Ты по всем морям гуляешь,
- Так уж, верно, перстень знаешь
- Царь-девицы?» – «Как не знать!
- Можем разом отыскать». —
- «Так ступай же поскорее
- Да сыщи его живее!»
- Тут, отдав царю поклон,
- Ёрш пошёл, согнувшись, вон.
- С царской дворней побранился,
- За плотвой поволочился
- И салакушкам шести
- Нос разбил он на пути.
- Совершив такое дело,
- В омут кинулся он смело
- И в подводной глубине
- Вырыл ящичек на дне —
- Пуд по крайней мере во сто.
- «О, здесь дело-то не просто!»
- И давай из всех морей
- Ёрш скликать к себе сельдей.
- Сельди духом собралися,
- Сундучок тащить взялися,
- Только слышно и всего —
- «У-у-у!» да «О-о-о!»
- Но сколь сильно ни кричали,
- Животы лишь надорвали,
- А проклятый сундучок
- Не дался и на вершок.
- «Настоящие селёдки!
- Вам кнута бы вместо водки!» —
- Крикнул Ёрш со всех сердцов
- И нырнул по осетров.
- Осетры тут приплывают
- И без крика подымают
- Крепко ввязнувший в песок
- С перстнем красный сундучок.
- «Ну, ребятушки, смотрите,
- Вы к царю теперь плывите,
- Я ж пойду теперь ко дну
- Да немножко отдохну:
- Что-то сон одолевает,
- Так глаза вот и смыкает…»
- Осетры к царю плывут,
- Ёрш-гуляка прямо в пруд
- (Из которого дельфины
- Утащили за щетины),
- Чай, додраться с Карасём, —
- Я не ведаю о том.
- Но теперь мы с ним простимся
- И к Ивану возвратимся.
- Тихо море-окиян.
- На песке сидит Иван,
- Ждёт кита из синя моря
- И мурлыкает от горя;
- Повалившись на песок,
- Дремлет верный горбунок.
- Время к вечеру клонилось;
- Вот уж солнышко спустилось;
- Тихим пламенем горя,
- Развернулася заря.
- А кита не тут-то было.
- «Чтоб те, вора, задавило!
- Вишь, какой морской шайтан! —
- Говорит себе Иван. —
- Обещался до зарницы
- Вынесть перстень Царь-девицы,
- А доселе не сыскал,
- Окаянный зубоскал!
- А уж солнышко-то село,
- И…» Тут море закипело:
- Появился чудо-кит
- И к Ивану говорит:
- «За твоё благодеянье
- Я исполнил обещанье».
- С этим словом сундучок
- Брякнул плотно на песок,
- Только берег закачался.
- «Ну, теперь я расквитался.
- Если ж вновь принужусь я,
- Позови опять меня;
- Твоего благодеянья
- Не забыть мне… До свиданья!»
- Тут Кит-чудо замолчал
- И, всплеснув, на дно упал.
- Горбунок-конёк проснулся,
- Встал на лапки, отряхнулся,
- На Иванушку взглянул
- И четырежды прыгнул.
- «Ай да Кит Китович! Славно!
- Долг свой выплатил исправно!
- Ну, спасибо, Рыба-кит! —
- Горбунок-конёк кричит. —
- Что ж, хозяин, одевайся,
- В путь-дорожку отправляйся;
- Три денька ведь уж прошло:
- Завтра срочное число.
- Чай, старик уж умирает».
- Тут Ванюша отвечает:
- «Рад бы радостью поднять,
- Да ведь силы не занять!
- Сундучишко больно плотен,
- Чай, чертей в него пять сотен
- Кит проклятый насажал.
- Я уж трижды подымал;
- Тяжесть страшная такая!»
- Тут конёк, не отвечая,
- Поднял ящичек ногой,
- Будто камушек какой,
- И взмахнул к себе на шею.
- «Ну, Иван, садись скорее!
- Помни, завтра минет срок,
- А обратный путь далёк».
- Стал четвёртый день зориться.
- Наш Иван уже в столице.
- Царь с крыльца к нему бежит.
- «Что кольцо моё?» – кричит.
- Тут Иван с конька слезает
- И преважно отвечает:
- «Вот тебе и сундучок!
- Да вели-ка скликать полк:
- Сундучишко мал хоть на вид,
- Да и дьявола задавит».
- Царь тотчас стрельцов позвал
- И немедля приказал
- Сундучок отнесть в светлицу,
- Сам пошёл по Царь-девицу.
- «Перстень твой, душа, найдён, —
- Сладкогласно молвил он, —
- И теперь, примолвить снова,
- Нет препятства никакого
- Завтра утром, светик мой,
- Обвенчаться мне с тобой.
- Но не хочешь ли, дружочек,
- Свой увидеть перстенёчек?
- Он в дворце моём лежит».
- Царь-девица говорит:
- «Знаю, знаю! Но, признаться,
- Нам нельзя ещё венчаться». —
- «Отчего же, светик мой?
- Я люблю тебя душой;
- Мне, прости ты мою смелость,
- Страх жениться захотелось.
- Если ж ты… то я умру
- Завтра ж с горя поутру.
- Сжалься, матушка царица!»
- Говорит ему девица:
- «Но взгляни-ка, ты ведь сед;
- Мне пятнадцать только лет:
- Как же можно нам венчаться?
- Все цари начнут смеяться,
- Дед-то, скажут, внуку взял!»
- Царь со гневом закричал:
- «Пусть-ка только засмеются —
- У меня как раз свернутся:
- Все их царства полоню!
- Весь их род искореню!» —
- «Пусть не станут и смеяться,
- Всё не можно нам венчаться, —
- Не растут зимой цветы:
- Я красавица, а ты?..
- Чем ты можешь похвалиться?» —
- Говорит ему девица.
- «Я хоть стар, да я удал! —
- Царь царице отвечал. —
- Как немножко приберуся,
- Хоть кому так покажуся
- Разудалым молодцом.
- Ну, да что нам нужды в том?
- Лишь бы только нам жениться».
- Говорит ему девица:
- «А такая в том нужда,
- Что не выйду никогда
- За дурного, за седого,
- За беззубого такого!»
- Царь в затылке почесал
- И, нахмуряся, сказал:
- «Что ж мне делать-то, царица?
- Страх как хочется жениться;
- Ты же, ровно на беду:
- Не пойду да не пойду!» —
- «Не пойду я за седова, —
- Царь-девица молвит снова. —
- Стань, как прежде, молодец,
- Я тотчас же под венец». —
- «Вспомни, матушка царица,
- Ведь нельзя переродиться;
- Чудо бог один творит».
- Царь-девица говорит:
- «Коль себя не пожалеешь,
- Ты опять помолодеешь.
- Слушай: завтра на заре
- На широком на дворе
- Должен челядь ты заставить
- Три котла больших поставить
- И костры под них сложить.
- Первый надобно налить
- До краёв водой студёной,
- А второй – водой варёной,
- А последний – молоком,
- Вскипятя его ключом.
- Вот, коль хочешь ты жениться
- И красавцем учиниться, —
- Ты без платья, налегке,
- Искупайся в молоке;
- Тут побудь в воде варёной,
- А потом ещё в студёной,
- И скажу тебе, отец,
- Будешь знатный молодец!»
- Царь не вымолвил ни слова,
- Кликнул тотчас стремяннова.
- «Что, опять на окиян? —
- Говорит царю Иван. —
- Нет уж, дудки, ваша милость!
- Уж и то во мне всё сбилось.
- Не поеду ни за что!» —
- «Нет, Иванушка, не то.
- Завтра я хочу заставить
- На дворе котлы поставить
- И костры под них сложить.
- Первый думаю налить
- До краёв водой студёной,
- А второй – водой варёной,
- А последний – молоком,
- Вскипятя его ключом.
- Ты же должен постараться
- Пробы ради искупаться
- В этих трёх больших котлах,
- В молоке и в двух водах». —
- «Вишь, откуда подъезжает! —
- Речь Иван тут начинает. —
- Шпарят только поросят,
- Да индюшек, да цыплят;
- Я ведь, глянь, не поросёнок,
- Не индюшка, не цыплёнок.
- Вот в холодной, так оно
- Искупаться бы можно,
- А подваривать как станешь,
- Так меня и не заманишь.
- Полно, царь, хитрить, мудрить
- Да Ивана проводить!»
- Царь, затрясши бородою:
- «Что? рядиться мне с тобою! —
- Закричал он. – Но смотри!
- Если ты в рассвет зари
- Не исполнишь повеленье, —
- Я отдам тебя в мученье,
- Прикажу тебя пытать,
- По кусочкам разрывать.
- Вон отсюда, болесть[32] злая!»
- Тут Иванушка, рыдая,
- Поплелся на сеновал,
- Где конёк его лежал.
- «Что, Иванушка, невесел?
- Что головушку повесил? —
- Говорит ему конёк. —
- Чай, наш старый женишок
- Снова выкинул затею?»
- Пал Иван к коньку на шею,
- Обнимал и целовал.
- «Ох, беда, конёк! – сказал. —
- Царь вконец меня сбывает;
- Сам подумай, заставляет
- Искупаться мне в котлах,
- В молоке и в двух водах:
- Как в одной воде студёной,
- А в другой воде варёной,
- Молоко, слышь, кипяток».
- Говорит ему конёк:
- «Вот уж служба так уж служба!
- Тут нужна моя вся дружба.
- Как же к слову не сказать:
- Лучше б нам пера не брать;
- От него-то, от злодея,
- Столько бед тебе на шею…
- Ну, не плачь же, бог с тобой!
- Сладим как-нибудь с бедой.
- И скорее сам я сгину,
- Чем тебя, Иван, покину.
- Слушай: завтра на заре,
- В те поры, как на дворе
- Ты разденешься, как должно,
- Ты скажи царю: «Не можно ль,
- Ваша милость, приказать
- Горбунка ко мне послать,
- Чтоб впоследни с ним проститься».
- Царь на это согласится.
- Вот как я хвостом махну,
- В те котлы мордой макну,
- На тебя два раза прысну,
- Громким посвистом присвистну,
- Ты, смотри же, не зевай:
- В молоко сперва ныряй,
- Тут в котёл с водой варёной,
- А оттудова в студёной.
- А теперича молись
- Да спокойно спать ложись».
- На другой день, утром рано,
- Разбудил конёк Ивана:
- «Эй, хозяин, полно спать!
- Время службу исполнять».
- Тут Ванюша почесался,
- Потянулся и поднялся,
- Помолился на забор
- И пошёл к царю во двор.
- Там котлы уже кипели;
- Подле них рядком сидели
- Кучера и повара
- И служители двора;
- Дров усердно прибавляли,
- Об Иване толковали
- Втихомолку меж собой
- И смеялися порой.
- Вот и двери растворились;
- Царь с царицей появились
- И готовились с крыльца
- Посмотреть на удальца.
- «Ну, Ванюша, раздевайся
- И в котлах, брат, покупайся!» —
- Царь Ивану закричал.
- Тут Иван одежду снял,
- Ничего не отвечая.
- А царица молодая,
- Чтоб не видеть наготу,
- Завернулася в фату.
- Вот Иван к котлам поднялся,
- Глянул в них – и зачесался.
- «Что же ты, Ванюша, стал? —
- Царь опять ему вскричал. —
- Исполняй-ка, брат, что должно!»
- Говорит Иван: «Не можно ль,
- Ваша милость, приказать
- Горбунка ко мне послать.
- Я впоследни б с ним простился».
- Царь, подумав, согласился
- И изволил приказать
- Горбунка к нему послать.
- Тут слуга конька приводит
- И к сторонке сам отходит.
- Вот конёк хвостом махнул,
- В те котлы мордой макнул,
- На Ивана дважды прыснул,
- Громким посвистом присвистнул.
- На конька Иван взглянул
- И в котёл тотчас нырнул,
- Тут в другой, там в третий тоже,
- И такой он стал пригожий,
- Что ни в сказке не сказать,
- Ни пером не написать!
- Вот он в платье нарядился,
- Царь-девице поклонился,
- Осмотрелся, подбодрясь,
- С важным видом, будто князь.
- «Эко диво! – все кричали. —
- Мы и слыхом не слыхали,
- Чтобы льзя похорошеть!»
- Царь велел себя раздеть,
- Два раза перекрестился,
- Бух в котёл – и там сварился!
- Царь-девица тут встаёт,
- Знак к молчанью подаёт,
- Покрывало поднимает
- И к прислужникам вещает:
- «Царь велел вам долго жить!
- Я хочу царицей быть.
- Люба ль я вам? Отвечайте!
- Если люба, то признайте
- Володетелем всего
- И супруга моего!»
- Тут царица замолчала,
- На Ивана показала.
- «Люба, люба! – все кричат. —
- За тебя хоть в самый ад!
- Твоего ради талана
- Признаём царя Ивана!»
- Царь царицу тут берёт,
- В церковь божию ведёт,
- И с невестой молодою
- Он обходит вкруг налою.
- Пушки с крепости палят;
- В трубы кованы трубят;
- Все подвалы отворяют,
- Бочки с фряжским выставляют,
- И, напившися, народ
- Что есть мочушки дерёт:
- «Здравствуй, царь наш со царицей!
- С распрекрасной Царь-девицей!»
- Во дворце же пир горой:
- Вина льются там рекой;
- За дубовыми столами
- Пьют бояре со князьями.
- Сердцу любо! Я там был,
- Мёд, вино и пиво пил;
- По усам хоть и бежало,
- В рот ни капли не попало.
Кто он?[33] (отрывок)
- Он силён – как буря Алтая,
- Он мягок – как влага речная,
- Он твёрд – как гранит вековой,
- Он вьётся ручьём серебристым,
- Он брызжет фонтаном огнистым,
- Он льётся кипучей рекой.
- Он гибок – как трость молодая,
- Он крепок – как сталь вороная,
- Он звучен – как яростный гром,
- Он рыщет медведем косматым,
- Он скачет оленем рогатым,
- Он реет под тучи орлом…
Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)
Жуковский Василий Андреевич родился в Тульской губернии. Из тульского пансиона был отчислен за неуспеваемость. Но в 1797 году 14-летний Жуковский поступил в московский благородный университетский пансион, который окончил с серебряной медалью. В 1812 году Жуковский вступил в московское ополчение и участвовал в боях. В конце 1812 года Жуковский получает награду за Бородино – боевой орден Святой Анны 2-й степени. В это же время он публикует поэму «Певец во стане русских воинов», которая прославила имя Жуковского по всей России больше, чем все его предыдущие труды.
В июле 1824 года Жуковский назначается воспитателем 6-летнего наследника российского престола, великого князя Александра Николаевича. Жуковский был прекрасным преподавателем и воспитателем. В дальнейшем он много раз, навлекая неудовольствие Николая I, через молодого наследника Александра добивался улучшения тяжёлого положения декабристов, сосланных в Сибирь.
По просьбе семьи Гончаровых пытался не допустить дуэли между Пушкиным и Дантесом. Вечером 27 января 1837 года Жуковский получает известие о дуэли и смертельном ранении Пушкина и до кончины поэта почти неотлучно находится в его квартире. После смерти Пушкина становится опекуном детей поэта и, по словам современников, «ангелом-хранителем» семьи.
Умер в Светлое Христово воскресенье в Баден-Бадене. Тело было перевезено в Россию и погребено в Петербурге на кладбище Александро-Невской лавры.
Песня
- Розы расцветают,
- Сердце, отдохни;
- Скоро засияют
- Благодатны дни.
- Всё с зимой ненастной
- Грустное пройдёт;
- Сердце будет ясно;
- Розою прекрасной
- Счастье расцветёт.
- Розы расцветают —
- Сердце, уповай;
- Есть, нам обещают,
- Где-то лучший край.
- Вечно молодая
- Там весна живёт;
- Там, в долине рая,
- Жизнь для нас иная
- Розой расцветёт.
Иван Андреевич Крылов (1769–1844)
Иван Андреевич Крылов родился 13 февраля 1769 года в Москве в семье бедного армейского капитана. По долгу службы семья часто меняла место своего жительства; вскоре после рождения сына переехала в Оренбург. А когда отец вышел в отставку, семья поселилась в Твери. Грамоте Крылов выучился дома, французским языком занимался в семействе состоятельных соседей. Отец очень рано умер. Мать с двумя маленькими детьми осталась без средств к существованию. Крылову с десяти лет приходится работать – его определяют переписчиком казённых бумаг. Став постарше, он любит бродить по торговым площадям, любит кулачные бои, народные забавы. Народная речь, пересыпанная прибаутками, ему особенно нравится, легко и надолго запоминается.
Когда положение становится совсем тяжёлым, семья принимает решение ехать в Петербург, хлопотать о пенсии. Здесь Крылов устраивается на работу мелким чиновником и продолжает заниматься самообразованием: он учит итальянский, английский, древнегреческий языки, играет на скрипке. Уже в это время Крылов начинает сочинять. Правда, первые произведения для большой публики прошли совершенно незамеченными.
В 1801 году в Петербурге впервые была поставлена на сцене пьеса Крылова «Пирог», которая имела успех. В это же время появляются первые переводы басен Лафонтена. В 1809 году вышел в свет первый сборник басен Крылова, принёсший ему известность. Язык его басен был таким ярким и остроумным, что многие строки стали поговорками.
С этого времени жизнь его – ряд непрерывных успехов и почестей. 16 декабря 1811 года он избран членом Российской Академии. В 1812 году Крылов стал библиотекарем только что открывшейся Публичной библиотеки, где прослужил 30 лет, выйдя в отставку в 1841 году. Крылов оказался очень хорошим собирателем книг и был окружён всеобщим почитанием.
Умер Крылов в Петербурге. В день похорон друзья и знакомые И.А. Крылова вместе с приглашением получили по экземпляру изданных им самим басен, на которых под траурною каймою было написано: «Приношение на память об Иване Андреевиче, по его желанию».
Мышь и Крыса
- «Соседка, слышала ль ты добрую молву? —
- Вбежавши, Крысе Мышь сказала, —
- Ведь кошка, говорят, попалась в когти льву?
- Вот отдохнуть и нам пора настала!» —
- «Не радуйся, мой свет, —
- Ей Крыса говорит в ответ, —
- И не надейся по-пустому!
- Коль до когтей у них дойдет,
- То, верно, льву не быть живому:
- Сильнее кошки зверя нет!»
- Я сколько раз видал, приметьте это сами:
- Когда боится трус кого,
- То думает, что на того
- Весь свет глядит его глазами.
Осёл и Соловей
- Осёл увидел Соловья
- И говорит ему: «Послушай-ка, дружище!
- Ты, сказывают, петь великий мастерище!
- Хотел бы очень я
- Сам посудить, твоё услышав пенье,
- Велико ль подлинно твоё уменье?»
- Тут Соловей являть свое искусство стал:
- Защёлкал, засвистал
- На тысячу ладов, тянул, переливался;
- То нежно он ослабевал
- И томной вдалеке свирелью отдавался,
- То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался.
- Внимало всё тогда
- Любимцу и певцу Авроры;
- Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,
- И прилегли стада.
- Чуть-чуть дыша, пастух им любовался
- И только иногда,
- Внимая Соловью, пастушке улыбался.
- Скончал певец. Осёл, уставясь в землю лбом:
- «Изрядно, – говорит, – сказать неложно,
- Тебя без скуки слушать можно;
- А жаль, что незнаком
- Ты с нашим петухом:
- Ещё б ты боле навострился,
- Когда бы у него немножкопоучился».
- Услыша суд такой, мой бедный Соловей
- Вспорхнул и – полетел за тридевять полей.
- Избави, бог, и нас от этаких судей.
Осёл и Мужик
- Мужик на лето в огород
- Наняв Осла, приставил
- Ворон и воробьёв гонять нахальный род.
- Осёл был самых честных правил:
- Ни с хищностью, ни с кражей незнаком,
- Не поживился он хозяйским ни листком
- И птицам, грех сказать, чтобы давал потачку;
- Но Мужику барыш был с огорода плох.
- Осёл, гоняя птиц со всех ослиных ног,
- По всем грядам и вдоль и поперёк
- Такую поднял скачку,
- Что в огороде всё примял и притоптал.
- Увидя тут, что труд его пропал,
- Крестьянин на спине ослиной
- Убыток выместил дубиной.
- «И ништо! – все кричат, – скотине поделом!
- С его ль умом
- За это дело браться?»
- А я скажу, не с тем, чтоб за Осла вступаться;
- Он, точно, виноват (с ним сделан и расчёт),
- Но, кажется, не прав и тот,
- Кто поручил Ослу стеречь свой огород.
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841)
Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве. Мама умерла очень рано, и воспитанием мальчика занималась бабушка – Елизавета Алексеевна Арсеньева. Бабушка души не чаяла во внуке: старалась дать ему всё самое лучшее, для укрепления здоровья возила на Кавказ. Но всё равно мальчик чувствовал себя очень одиноким.
В 1827 году Лермонтов вместе с бабушкой едет в Москву, где поступает в пансион. Тогда же он пишет свои первые стихи. Спустя три года Лермонтов поступает в Московский университет, однако закончить обучение не получилось – профессоры, помня его дерзкие выходки во время учёбы, срезали его на публичных экзаменах, а остаться на второй год Лермонтов не захотел.
Как вспоминали современники, Лермонтов был очень вспыльчивым и закрытым человеком, он нередко становился участником дуэлей и скандалов.
В Петербургский университет Лермонтов не попал: ему не зачли двухлетнего пребывания в Москве и предложили поступать на первый курс. По совету друзей он решил поступить в школу гвардейских юнкеров и подпрапорщиков, куда и был зачислен в звании унтер-офицера.
Смерть Пушкина глубоко потрясла Лермонтова – он пишет стихотворение «На смерть поэта». Стихотворение мгновенно разошлось по Петербургу. После чего следуют арест и ссылка на Кавказ. Вернувшись, Лермонтов участвует в дуэли с сыном французского посланника. После чего опять следуют арест и ссылка. В сражениях Лермонтов отличался доблестью и отвагой. Он был представлен к награде и помилован.
Возвращаясь из отпуска, в Пятигорске он повстречал своего старого знакомого – майора Николая Мартынова. Лермонтов обидно пошутил в адрес Мартынова. Вспыхнула ссора, которая закончилась дуэлью и смертью поэта.
Утёс
- Ночевала тучка золотая
- На груди утёса-великана;
- Утром в путь она умчалась рано,
- По лазури весело играя;
- Но остался влажный след в морщине
- Старого утёса. Одиноко
- Он стоит, задумался глубоко,
- И тихонько плачет он в пустыне.
Молитва
- В минуту жизни трудную
- Теснится ль в сердце грусть:
- Одну молитву чудную
- Твержу я наизусть.
- Есть сила благодатная
- В созвучьи слов живых,
- И дышит непонятная,
- Святая прелесть в них.
- С души как бремя скатится,
- Сомненье далеко —
- И верится, и плачется,
- И так легко, легко…
«Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…»
- Москва, Москва!.. люблю тебя как сын,
- Как русский, – сильно,
- пламенно и нежно!
- Люблю священный блеск твоих седин
- И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
- Напрасно думал чуждый властелин
- С тобой, столетним русским великаном,
- Померяться главою и обманом
- Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
- Тебя пришлец: ты вздрогнул – он упал!
- Вселенная замолкла… Величавый,
- Один ты жив, наследник нашей славы.
Нищий
- У врат обители святой
- Стоял просящий подаянья
- Бедняк иссохший, чуть живой
- От глада, жажды и страданья.
- Куска лишь хлеба он просил,
- И взор являл живую муку,
- И кто-то камень положил
- В его протянутую руку.
- Так я молил твоей любви
- С слезами горькими, с тоскою;
- Так чувства лучшие мои
- Обмануты навек тобою!
Иван Саввич Никитин (1824–1861)
Иван Саввич Никитин родился в Воронеже в мещанской семье. Учился в духовном училище и семинарии, где у него пробудился интерес к литературе, в это же время начинает писать первые стихи. Отец, в начале довольно состоятельный торговец, рассчитывал послать сына в университет, но дела его расстроились, и Никитин вынужден был помогать отцу.
В 1844 году отец Никитина купил на улице Кирочной постоялый двор и поселился с сыном здесь. Однако пьянство и буйный характер отца привели семью к разорению, вынудившему Никитина стать содержателем постоялого двора.
Иван Никитин занимался самообразованием, изучая французский и немецкий языки, а также произведения русских и зарубежных писателей (Шекспир, Гюго, Гёте, Шиллер, Гейне и др.).
После успеха своего второго сборника открыл книжный магазин с библиотекой, который стал важным центром литературной и общественной жизни Воронежа. Но жизненные силы были на исходе, Никитин заболел чахоткой и в возрасте 37 лет скончался.
На стихи Никитина русскими композиторами создано свыше шестидесяти романсов и песен.
«В синем небе плывут над полями…»
- В синем небе плывут над полями
- Облака с золотыми краями;
- Чуть заметен над лесом туман,
- Тёплый вечер прозрачно-румян.
- Вот уж веет прохладой ночною;
- Грезит колос над узкой межою;
- Месяц огненным шаром встаёт,
- Красным заревом лес обдаёт.
- Кротко звёзд золотое сиянье,
- В чистом поле покой и молчанье;
- Точно в храме, стою я в тиши
- И в восторге молюсь от души.
Музыка леса
- Без конца поля
- Развернулися,
- Небеса в воде
- Опрокинулись.
- За крутой курган
- Солнце прячется,
- Облаков гряда
- Развернулася.
- Поднялись, растут
- Горы медные,
- На горах дворцы
- Золочёные.
- Между гор мосты
- Перекинуты,
- В серебро и сталь
- Позакованы.
- По траве, по ржи
- Тени крадутся,
- В лес густой бегут,
- Собираются.
- Лес стоит, покрыт
- Краской розовой,
- Провожает день
- Тихой музыкой.
- Разливайтеся,
- Звуки чудные!
- Сам не знаю я,
- Что мне весело…
- Всё мне кажется,
- Что давным-давно
- Где-то слышал я
- Эту музыку.
- Всё мне помнится
- Сумрак вечера,
- Тесной горенки
- Стены тёмные.
- Огонёк горел
- Перед образом,
- Как теперь горит
- Эта звёздочка.
- На груди моей
- Милой матушки
- Я дремал, и мне
- Песни слышались.
- Были песни те
- Звуки райские,
- Неземная жизнь
- От них веяла!..
- И тогда сквозь сон
- Всё мне виделся
- Яркий блеск и свет
- В тёмной горенке.
- Не от этого ль
- Так мне весело
- Слушать в сумерки
- Леса музыку,
- Что при ней одной
- Детство помнится,
- Безотрадный день
- Забывается?
Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837)
Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве, в Немецкой слободе. Отец, Сергей Львович, принадлежал к старинному дворянскому роду; мать, Надежда Осиповна, урождённая Ганнибал, была внучкой Абрама Петровича Ганнибала – «арапа Петра Великого». Воспитанный французскими гувернёрами, из домашнего обучения Пушкин вынес только прекрасное знание французского и любовь к чтению. Любовь к родному языку ему привили бабушка, Мария Алексеевна Ганнибал, превосходно говорившая и писавшая по-русски (явление редкое в дворянских семьях того времени), и няня Арина Родионовна. Раннему развитию литературных склонностей Пушкина способствовали литературные вечера в доме Пушкиных, где собирались видные писатели.
В 1811 году Пушкин поступил в только что открытый Царскосельский лицей – привилегированное учебное заведение, предназначенное для подготовки по специальной программе высших государственных чиновников из детей дворянского сословия. Здесь Пушкин впервые почувствовал себя Поэтом: талант его был признан товарищами по лицею. После окончания лицея Пушкин был определён на службу в Коллегию иностранных дел, где не работал и дня, всецело отдавшись творчеству.
В мае он был сослан на юг России за то, что «наводнил Россию возмутительными стихами». Николай I объявил Пушкину, что сам будет его цензором.
В конце 1835 года Пушкин получил разрешение на издание своего журнала, названного им «Современник». Он надеялся, что журнал будет способствовать развитию русской словесности. В журнале печатались Жуковский, Баратынский, Вяземский, Д. Давыдов, Гоголь, Тютчев, Кольцов.
Зимой 1836 года завистники и враги Пушкина из высшей петербургской аристократии пустили в ход подлую клевету на его жену. Чтобы защитить свою честь, Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, которая состоялась 27 января 1837 года на Чёрной речке. Поэт был смертельно ранен и через два дня скончался. Опасаясь народных выступлений, царь приказал тайно вывезти тело Пушкина из Петербурга. Похоронен Пушкин на кладбище Святогорского монастыря, в пяти верстах от села Михайловское.
Птичка
- В чужбине свято наблюдаю
- Родной обычай старины:
- На волю птичку выпускаю
- При светлом празднике весны.
- Я стал доступен утешенью;
- За что на бога мне роптать,
- Когда хоть одному творенью
- Я мог свободу даровать!
Няне
- Подруга дней моих суровых,
- Голубка дряхлая моя!
- Одна в глуши лесов сосновых
- Давно, давно ты ждёшь меня.
- Ты под окном своей светлицы
- Горюешь, будто на часах,
- И медлят поминутно спицы
- В твоих наморщенных руках.
- Глядишь в забытые вороты
- На чёрный отдалённый путь;
- Тоска, предчувствия, заботы
- Теснят твою всечасно грудь.
- То чудится тебе…
Туча
- Последняя туча рассеянной бури!
- Одна ты несёшься по ясной лазури,
- Одна ты наводишь унылую тень,
- Одна ты печалишь ликующий день.
- Ты небо недавно кругом облегала,
- И молния грозно тебя обвивала;
- И ты издавала таинственный гром
- И алчную землю поила дождём.
- Довольно, сокройся! Пора миновалась,
- Земля освежилась, и буря промчалась,
- И ветер, лаская листочки древес,
- Тебя с успокоенных гонит небес.
Сказка о золотом петушке
- Негде, в тридевятом царстве,
- В тридесятом государстве,
- Жил-был славный царь Дадон.
- С молоду был грозен он
- И соседям то и дело
- Наносил обиды смело;
- Но под старость захотел
- Отдохнуть от ратных дел
- И покой себе устроить.
- Тут соседи беспокоить
- Стали старого царя,
- Страшный вред ему творя.
- Чтоб концы своих владений
- Охранять от нападений,
- Должен был он содержать
- Многочисленную рать[34].
- Воеводы не дремали,
- Но никак не успевали:
- Ждут, бывало, с юга, глядь, —
- Ан с востока лезет рать.
- Справят здесь, – лихие гости
- Идут от моря. Со злости
- Инда плакал царь Дадон,
- Инда забывал и сон.
- Что и жизнь в такой тревоге!
- Вот он с просьбой о помоге
- Обратился к мудрецу,
- Звездочёту и скопцу.
- Шлёт за ним гонца с поклоном.
- Вот мудрец перед Дадоном
- Стал и вынул из мешка
- Золотого петушка.
- «Посади ты эту птицу, —
- Молвил он царю, – на спицу;
- Петушок мой золотой
- Будет верный сторож твой:
- Коль кругом всё будет мирно,
- Так сидеть он будет смирно;
- Но лишь чуть со стороны
- Ожидать тебе войны,
- Иль набега силы бранной,
- Иль другой беды незваной,
- Вмиг тогда мой петушок
- Приподымет гребешок,
- Закричит и встрепенётся
- И в то место обернётся».
- Царь скопца благодарит,
- Горы золота сулит.
- «За такое одолженье, —
- Говорит он в восхищенье, —
- Волю первую твою
- Я исполню, как мою».
- Петушок с высокой спицы
- Стал стеречь его границы.
- Чуть опасность где видна,
- Верный сторож как со сна
- Шевельнётся, встрепенётся,
- К той сторонке обернётся
- И кричит: «Кири-ку-ку.
- Царствуй, лёжа на боку!»
- И соседи присмирели,
- Воевать уже не смели:
- Таковой им царь Дадон
- Дал отпор со всех сторон!
- Год, другой проходит мирно;
- Петушок сидит всё смирно.
- Вот однажды царь Дадон
- Страшным шумом пробуждён:
- «Царь ты наш! отец народа! —
- Возглашает воевода, —
- Государь! проснись! беда!»
- – Что такое, господа? —
- Говорит Дадон, зевая: —
- А?.. Кто там?.. беда какая? —
- Воевода говорит:
- «Петушок опять кричит;
- Страх и шум во всей столице».
- Царь к окошку, – ан на спице,
- Видит, бьётся петушок,
- Обратившись на восток.
- Медлить нечего: «Скорее!
- Люди, на конь! Эй, живее!»
- Царь к востоку войско шлёт,
- Старший сын его ведёт.
- Петушок угомонился,
- Шум утих, и царь забылся.
- Вот проходит восемь дней,
- А от войска нет вестей;
- Было ль, не было ль сраженья, —
- Нет Дадону донесенья.
- Петушок кричит опять.
- Кличет царь другую рать;
- Сына он теперь меньшого
- Шлёт на выручку большого;
- Петушок опять утих.
- Снова вести нет от них!
- Снова восемь дней проходят;
- Люди в страхе дни проводят;
- Петушок кричит опять,
- Царь скликает третью рать
- И ведет её к востоку, —
- Сам не зная, быть ли проку.
- Войска идут день и ночь;
- Им становится невмочь.
- Ни побоища, ни стана,
- Ни надгробного кургана
- Не встречает царь Дадон.
- «Что за чудо?» – мыслит он.
- Вот осьмой уж день проходит,
- Войско в горы царь приводит
- И промеж высоких гор
- Видит шёлковый шатёр.
- Всё в безмолвии чудесном
- Вкруг шатра; в ущелье тесном
- Рать побитая лежит.
- Царь Дадон к шатру спешит…
- Что за страшная картина!
- Перед ним его два сына
- Без шеломов и без лат
- Оба мёртвые лежат,
- Меч вонзивши друг во друга.
- Бродят кони их средь луга,
- По притоптанной траве,
- По кровавой мураве…
- Царь завыл: «Ох дети, дети!
- Горе мне! попались в сети
- Оба наши сокола!
- Горе! смерть моя пришла».
- Все завыли за Дадоном,
- Застонала тяжким стоном
- Глубь долин, и сердце гор
- Потряслося. Вдруг шатёр
- Распахнулся… и девица,
- Шамаханская царица,
- Вся сияя как заря,
- Тихо встретила царя.
- Как пред солнцем птица ночи,
- Царь умолк, ей глядя в очи,
- И забыл он перед ней
- Смерть обоих сыновей.
- И она перед Дадоном
- Улыбнулась – и с поклоном
- Его за руку взяла
- И в шатёр свой увела.
- Там за стол его сажала,
- Всяким яством угощала;
- Уложила отдыхать
- На парчовую кровать.
- И потом, неделю ровно,
- Покорясь ей безусловно,
- Околдован, восхищён,
- Пировал у ней Дадон.
- Наконец и в путь обратный
- Со своею силой ратной
- И с девицей молодой
- Царь отправился домой.
- Перед ним молва бежала,
- Быль и небыль разглашала.
- Под столицей, близ ворот,
- С шумом встретил их народ, —
- Все бегут за колесницей,
- За Дадоном и царицей;
- Всех приветствует Дадон…
- Вдруг в толпе увидел он,
- В сарачинской шапке белой,
- Весь как лебедь поседелый,
- Старый друг его, скопец.
- «А, здорово, мой отец, —
- Молвил царь ему, – что скажешь?
- Подь поближе! Что прикажешь?»
- – Царь! – ответствует мудрец, —
- Разочтёмся наконец.
- Помнишь? за мою услугу
- Обещался мне, как другу,
- Волю первую мою
- Ты исполнить, как свою.
- Подари ж ты мне девицу,
- Шамаханскую царицу. —
- Крайне царь был изумлён.
- «Что ты? – старцу молвил он, —
- Или бес в тебя ввернулся,
- Или ты с ума рехнулся?
- Что ты в голову забрал?
- Я, конечно, обещал,
- Но всему же есть граница.
- И зачем тебе девица?
- Полно, знаешь ли, кто я?
- Попроси ты от меня
- Хоть казну, хоть чин боярской,
- Хоть коня с конюшни царской,
- Хоть полцарства моего».
- – Не хочу я ничего!
- Подари ты мне девицу,
- Шамаханскую царицу, —
- Говорит мудрец в ответ.
- Плюнул царь: «Так лих же: нет!
- Ничего ты не получишь.
- Сам себя ты, грешник, мучишь;
- Убирайся, цел пока;
- Оттащите старика!»
- Старичок хотел заспорить,
- Но с иным накладно вздорить;
- Царь хватил его жезлом
- По лбу; тот упал ничком,
- Да и дух вон. – Вся столица
- Содрогнулась, а девица —
- Хи-хи-хи! да ха-ха-ха!
- Не боится, знать, греха.
- Царь, хоть был встревожен сильно,
- Усмехнулся ей умильно.
- Вот – въезжает в город он…
- Вдруг раздался лёгкий звон,
- И в глазах у всей столицы
- Петушок спорхнул со спицы,
- К колеснице полетел
- И царю на темя сел,
- Встрепенулся, клюнул в темя
- И взвился… и в то же время
- С колесницы пал Дадон —
- Охнул раз, – и умер он.
- А царица вдруг пропала,
- Будто вовсе не бывало.
- Сказка ложь, да в ней намёк!
- Добрым молодцам урок.
Иван Захарович Суриков (1841–1880)
Иван Захарович Суриков родился в деревне Новосёлово Угличского уезда Ярославской губернии в семье оброчного крепостного графа Шереметева. Некоторое время Суриков жил в деревне, затем весной 1849 года вместе с матерью переехал в Москву к отцу, который работал приказчиком в мелочной лавке. Мальчик помогал отцу в работе, одновременно учился грамоте и много читал. Писать стихи Суриков начал очень рано, однако все первые поэтические опыты уничтожил.
В середине 1860-х Суриков порывает с работой в лавке отца, который к тому времени женится второй раз. Молодой поэт начинает работать переписчиком бумаг и типографским наборщиком, однако не добивается успеха и оказывается вынужденным вернуться к отцу, чтобы снова заняться торговлей.
Весна (отрывок)
- Над землёю воздух душит
- День от дня теплее;
- Стали утром зорьки ярче,
- На небе светлее.
- Всходит солнце над землёю
- С каждым днем всё выше,
- И весь день, кружась, воркуют
- Голуби на крыше.
- Вот и верба нарядилась
- В белые серёжки,
- И у хат играют дети, —
- Веселятся, крошки!..
В ночном
- Летний вечер. За лесами
- Солнышко уж село;
- На краю далёком неба
- Зорька заалела,
- Но и та потухла. Топот
- В поле раздаётся:
- То табун коней в ночное
- По лугам несётся.
- Ухватя коней за гриву,
- Скачут дети в поле.
- То-то радость и веселье,
- То-то детям воля!
- По траве высокой кони
- На просторе бродят,
- Собралися дети в кучку,
- Разговор заводят.
- Мужички сторожевые
- Улеглись под лесом
- И заснули… Не шелохнет
- Лес густым навесом.
- Всё темней, темней и тише…
- Смолкли к ночи птицы;
- Только на небе сверкают
- Дальние зарницы.
- Кой-где звякнет колокольчик,
- Фыркнет конь на воле,
- Хрупнет ветка, куст – и снова
- Всё смолкает в поле.
- И на ум приходят детям
- Бабушкины сказки:
- Вот с метлой несётся ведьма
- На ночные пляски;
- Вот над лесом мчится леший
- С головой косматой,
- А по небу, сыпя искры,
- Змей летит крылатый.
- И какие-то все в белом
- Тени в поле ходят…
- Детям боязно – и дети
- Огонёк разводят.
- И трещат сухие сучья,
- Разгораясь жарко,
- Освещая тьму ночную
- Далеко и ярко.
Фёдор Иванович Тютчев (1803–1873)
Фёдор Иванович Тютчев родился в усадьбе Овстуг Орловской губернии, происходил из старинного дворянского рода. Детские годы прошли в Овстуге, юношеские – связаны с Москвой. Домашним образованием будущего поэта руководил молодой поэт-переводчик С. Раич, ставший также впоследствии учителем Михаила Лермонтова. Тютчев изучил латынь и древнеримскую поэзию и в 12 лет уже успешно переводил Горация.
В 1819 году поступил на словесное отделение Московского университета и сразу принял живое участие в его литературной жизни. Окончив университет в 1821 году со степенью кандидата словесных наук, в начале 1822 года Тютчев поступил на службу в Государственную коллегию иностранных дел. Через несколько месяцев был назначен чиновником при Русской дипломатической миссии в Мюнхене. На чужбине Тютчев провёл двадцать два года, из них двадцать – в Мюнхене. Здесь он женился, здесь познакомился с философом Шеллингом и подружился с Г. Гейне, став первым переводчиком его стихов на русский язык.
Настоящее признание поэзия Тютчева впервые получила в 1836 году, когда в пушкинском «Современнике» появились его 16 стихотворений.
В 1844 году переехал с семьёй в Россию. В 1858 году он был назначен председателем Комитета иностранной цензуры, не раз выступая заступником преследуемых изданий. На этом посту, несмотря на многочисленные неприятности и столкновения с правительством, Тютчев пробыл 15 лет, вплоть до своей кончины.
Скончался Тютчев в Царском Селе. Похоронен поэт в Петербурге на кладбище Новодевичьего монастыря.
«Ещё земли печален вид…»
Ещё земли печален вид,
А воздух уж весною дышит,
И мёртвый в поле стебль колышет,
И елей ветви шевелит.
Ещё природа не проснулась,
Но сквозь редеющего сна
Весну послышала она,
И ей невольно улыбнулась…
Душа, душа, спала и ты…
Но что же вдруг тебя волнует,
Твой сон ласкает и целует
И золотит твои мечты?..
Блестят и тают глыбы снега,
Блестит лазурь, играет кровь…
Или весенняя то нега?..
Или то женская любовь?..
«Как неожиданно и ярко…»
Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своём минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла —
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.
О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его – лови скорей!
Смотри – оно уж побледнело,
Ещё минута, две – и что ж?
Ушло, как то уйдёт всецело,
Чем ты и дышишь и живёшь.
Афанасий Афанасьевич Фет (1820–1892)
Афанасий Афанасьевич Фет родился в селе Новосёлки Орловской губернии. Его отцом был богатый помещик А. Шеншин, мать – Каролина Шарлотта Фёт. В возрасте 14 лет мальчик был лишён всех дворянских привилегий. Вернуть утраченное положение стало навязчивой идеей.
В 1838 году Фет стал студентом историко-филологического отделения философского факультета. Здесь появились на свет его первые стихотворения.
Ради достижения своей цели – вернуть дворянское звание – в 1845 году он покинул Москву и поступил на военную службу в один из провинциальных полков на юге. Продолжал писать стихи. Только через восемь лет он получил возможность жить вблизи Петербурга. Опубликовать первые стихотворения Фету помогает Тургенев. В 1850 году в журнале «Современник», хозяином которого стал Некрасов, публикуются стихотворения Фета, которые вызывают восхищение критиков всех направлений.
В 1858 году Фет вышел в отставку, так и не получив дворянство. Он приобретает поместье в Мценском уезде, почти перестаёт писать, делается помещиком, работая в своём имении, и ничего не хочет слышать о литературе. Так продолжалось почти 20 лет. В 1873 году сбылась, наконец, его мечта, – получена дворянская грамота и фамилия отца. В конце 1870-х Фет с новой силой начал писать стихи.
«Уж верба вся пушистая…»
- Уж верба вся пушистая
- Раскинулась кругом;
- Опять весна душистая
- Повеяла крылом.
- Станицей тучки носятся,
- Тепло озарены,
- И в душу снова просятся
- Пленительные сны.
- Везде разнообразною
- Картиной занят взгляд,
- Шумит толпою праздною
- Народ, чему-то рад…
- Какой-то тайной жаждою
- Мечта распалена —
- И над душою каждою
- Проносится весна.
«Учись у них – у дуба, у берёзы…»
- Учись у них – у дуба, у берёзы.
- Кругом зима. Жестокая пора!
- Напрасные на них застыли слёзы,
- И треснула, сжимаяся, кора.
- Всё злей метель и с каждою минутой
- Сердито рвёт последние листы,
- И за сердце хватает холод лютый;
- Они стоят, молчат; молчи и ты!
- Но верь весне. Её промчится гений,
- Опять теплом и жизнию дыша.
- Для ясных дней, для новых откровений
- Переболит скорбящая душа.
Русская литература ХХ века
Проза
Виктор Юзефович Драгунский (1913–1972)
Замечательный детский писатель Виктор Драгунский родился в 1913 году в Нью-Йорке. Незадолго до Первой мировой войны семья вернулась на родину и обосновалась в Гомеле, где и прошло детство Драгунского. Ему рано пришлось повзрослеть и начать зарабатывать на жизнь. После школы он поступил учеником токаря на завод, однако очень быстро его уволили за трудовую провинность. После этого Драгунский устроился учеником шорника на фабрику. Одновременно он поступил в «Литературно-театральные мастерские» под руководством А. Дикого учиться театральному мастерству. С этого момента начинается творческая жизнь – Драгунский играет в театре, некоторое время работает клоуном в цирке и одновременно пишет свои первые юмористические рассказы.
В 1948 году Драгунский создаёт пародийный «театр в театре» – «Синяя птичка», где профессиональные актёры с удовольствием играли в весёлых пародийных спектаклях, имевших неизменный успех.
С 1959 года Виктор Юзефович начинает писать весёлые рассказы про Дениса Кораблёва, под общим названием «Денискины рассказы». Именно они сделали Драгунского столь популярным. Вместе с Дениской и его смешным другом Мишкой мы смеёмся, переживаем и задумываемся иногда по весьма философским вопросам. Кстати, Дениской писатель назвал своего героя неспроста – так же зовут и сына Дра-гунского.
Как вспоминают знакомые писателя, у него было особое чутьё на мелочи. Он умел находить необыкновенные уголки Москвы, которые были совершенно неизвестны другим, знал, где можно увидеть что-нибудь интересное и где можно купить самые вкусные бублики. Все наблюдения Драгунского отразились в Денискиных рассказах, в которых чутко передано не искажённое, детское восприятие мира – звуки, запахи, ощущения, увиденные и почувствованные словно впервые.
Главные реки
Хотя мне уже идёт девятый год, я только вчера догадался, что уроки всё-таки надо учить. Любишь не любишь, хочешь не хочешь, лень тебе или не лень, а учить уроки надо. Это закон. А то можно в такую историю вляпаться, что своих не узнаешь. Я, например, вчера не успел уроки сделать. У нас было задано выучить кусочек из одного стихотворения Некрасова и главные реки Америки. А я, вместо того чтобы учиться, запускал во дворе змея в космос. Ну, он в космос всё-таки не залетел, потому что у него был чересчур лёгкий хвост, и он из-за этого крутился, как волчок. Это раз. А во-вторых, у меня было мало ниток, и я весь дом обыскал и собрал все нитки, какие только были; у мамы со швейной машины снял, и то оказалось мало. Змей долетел до чердака и там завис, а до космоса ещё было далеко.
И я так завозился с этим змеем и космосом, что совершенно позабыл обо всём на свете. Мне было так интересно играть, что я и думать перестал про какие-то там уроки. Совершенно вылетело из головы. А оказалось, никак нельзя было забывать про свои дела, потому что получился позор.
Я утром немножко заспался, и, когда вскочил, времени оставалось чуть-чуть… Но я читал, как ловко одеваются пожарные – у них нет ни одного лишнего движения, и мне до того это понравилось, что я пол-лета тренировался быстро одеваться. И сегодня я как вскочил и глянул на часы, то сразу понял, что одеваться надо, как на пожар. И я оделся за одну минуту сорок восемь секунд весь, как следует, только шнурки зашнуровал через две дырочки. В общем, в школу я поспел вовремя и в класс тоже успел примчаться за секунду до Раисы Ивановны. То есть она шла себе потихоньку по коридору, а я бежал из раздевалки (ребят уже не было никого). Когда я увидел Раису Ивановну издалека, я припустился во всю прыть и, не доходя до класса каких-нибудь пять шагов, обошёл Раису Ивановну и вскочил в класс. В общем, я выиграл у неё секунды полторы, и, когда она вошла, книги мои были уже в парте, а сам я сидел с Мишкой как ни в чём не бывало. Раиса Ивановна вошла, мы встали и поздоровались с ней, и громче всех поздоровался я, чтобы она видела, какой я вежливый. Но она на это не обратила никакого внимания и ещё на ходу сказала:
– Кораблёв, к доске!
У меня сразу испортилось настроение, потому что я вспомнил, что забыл приготовить уроки. И мне ужасно не хотелось вылезать из-за своей родимой парты. Я прямо к ней как будто приклеился. Но Раиса Ивановна стала меня торопить;
– Кораблёв! Что же ты? Я тебя зову или нет?
И я пошёл к доске. Раиса Ивановна сказала:
– Стихи!
Чтобы я читал стихи, какие заданы. А я их не знал. Я даже плохо знал, какие заданы-то. Поэтому я моментально подумал, что Раиса Ивановна тоже, может быть, забыла, что задано, и не заметит, что я читаю. И я бодро завёл:
- Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
- На дровнях обновляет путь:
- Его лошадка, снег почуя,
- Плетётся рысью как-нибудь…
– Это Пушкин, – сказала Раиса Ивановна.
– Да, – сказал я, – это Пушкин. Александр Сергеевич.
– А я что задала? – сказала она.
– Да! – сказал я.
– Что «да»? Что я задала, я тебя спрашиваю? Кораблёв!
– Что? – сказал я.
– Что «что»? Я тебя спрашиваю: что я задала?
Тут Мишка сделал наивное лицо и сказал:
– Да что он, не знает, что ли, что вы Некрасова задали? Это он не понял вопроса, Раиса Ивановна.
Вот что значит верный друг. Это Мишка таким хитрым способом ухитрился мне подсказать. А Раиса Ивановна уже рассердилась:
– Слонов! Не смей подсказывать!
– Да! – сказал я. – Ты чего, Мишка, лезешь? Без тебя, что ли, не знаю, что Раиса Ивановна задала Некрасова! Это я задумался, а ты тут лезешь, сбиваешь только.
Мишка стал красный и отвернулся от меня. А я опять остался один на один с Раисой Ивановной.
– Ну? – сказала она.
– Что? – сказал я.
– Перестань ежеминутно чтокать!
Я уже видел, что она сейчас рассердится как следует.
– Читай. Наизусть!
– Что? – сказал я.
– Стихи, конечно! – сказала она.
– Ага, понял. Стихи, значит, читать? – сказал я. – Это можно. – И громко начал: – Стихи Некрасова. Поэта. Великого поэта.
– Ну! – сказала Раиса Ивановна.
– Что? – сказал я.
– Читай сейчас же! – закричала бедная Раиса Ивановна. – Сейчас же читай, тебе говорят! Заглавие!
Пока она кричала, Мишка успел мне подсказать первое слово. Он шепнул, не разжимая рта, но я его прекрасно понял. Поэтому я смело выдвинул ногу вперёд и продекламировал:
– Мужичонка!
Все замолчали, и Раиса Ивановна тоже. Она внимательно смотрела на меня, а я смотрел на Мишку ещё внимательнее. Мишка показывал на свой большой палец и зачем-то щёлкал его по ногтю.
И я как-то сразу вспомнил заглавие и сказал:
– С ноготком!
И повторил всё вместе:
– Мужичонка с ноготком!
Все засмеялись. Раиса Ивановна сказала:
– Довольно, Кораблёв!.. Не старайся, не выйдет. Уж если не знаешь, не срамись. – Потом она добавила: – Ну, а как насчёт кругозора? Помнишь, мы вчера сговорились всем классом, что будем читать и сверх программы интересные книжки? Вчера вы решили выучить названия всех рек Америки. Ты выучил?
Конечно, я не выучил. Этот змей, будь он неладен, совсем мне всю жизнь испортил. И я хотел во всём признаться Раисе Ивановне, но вместо этого вдруг неожиданно даже для самого себя сказал:
– Конечно, выучил. А как же!
– Ну вот, исправь это ужасное впечатление, которое ты произвёл чтением стихов Некрасова. Назови мне самую большую реку Америки, и я тебя отпущу.
Вот когда мне стало худо. Даже живот заболел, честное слово. В классе была удивительная тишина. Все смотрели на меня. А я смотрел в потолок. И думал, что сейчас уже наверняка я умру. До свидания, все! И в эту секунду я увидел, что в левом последнем ряду Петька Горбушкин показывает мне какую-то длинную газетную ленту, и на ней что-то намалёвано чернилами, толсто намалёвано, наверное, он пальцем писал. И я стал вглядываться в эти буквы и наконец прочёл первую половину.
А тут Раиса Ивановна снова:
– Ну, Кораблёв? Какая же главная река в Америке?
У меня сразу же появилась уверенность, и я сказал:
– Миси-писи.
Дальше я не буду рассказывать. Хватит. И хотя Раиса Ивановна смеялась до слёз, но двойку она мне влепила будь здоров. И я теперь дал клятву, что буду учить уроки всегда. До глубокой старости.
Двадцать лет под кроватью
Никогда я не забуду этот зимний вечер. На дворе было холодно, ветер тянул сильный, прямо резал щёки, как кинжалом, снег вертелся со страшной быстротой. Тоскливо было и скучно, просто выть хотелось, а тут ещё папа и мама ушли в кино. И когда Мишка позвонил по телефону и позвал меня к себе, я тотчас же оделся и помчался к нему. Там было светло и тепло, и собралось много народу, пришла Алёнка, за нею Костик и Андрюшка. Мы играли во все игры, и было весело и шумно. И под конец Алёнка вдруг сказала:
– А теперь в прятки! Давайте в прятки!
И мы стали играть в прятки. Это было прекрасно, потому что мы с Мишкой всё время подстраивали так, чтобы водить выпадало маленьким: Костику или Алёнке, – а сами всё время прятались и вообще водили малышей за нос. Но все наши игры проходили только в Мишкиной комнате, и это довольно скоро нам стало надоедать, потому что комната была маленькая, тесная и мы всё время прятались за портьеру, или за шкаф, или за сундук, и в конце концов мы стали потихоньку выплёскиваться из Мишкиной комнаты и заполнили своей игрой большущий длинный коридор квартиры.
В коридоре было интереснее играть, потому что возле каждой двери стояли вешалки, а на них висели пальто и шубы. Это было гораздо лучше для нас, потому что, например, кто водит и ищет нас, тот, уж конечно, не сразу догадается, что я притаился за Марьсемённиной шубой и сам влез в валенки как раз под шубой.
И вот, когда водить выпало Костику, он отвернулся к стене и стал громко выкрикивать:
– Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Я иду искать!
Тут все брызнули в разные стороны, кто куда, чтобы прятаться. А Костик немножко подождал и крикнул снова:
– Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Я иду искать! Опять!
Это считалось как бы вторым звонком. Мишка сейчас же залез на подоконник, Алёнка – за шкаф, а мы с Андрюшкой выскользнули в коридор. Тут Андрюшка недолго думая полез под шубу Марьи Семёновны, где я всё время прятался, и оказалось, что я остался без места! И я хотел дать Андрюшке подзатыльник, чтобы он освободил моё место, но тут Костик крикнул третье предупреждение:
– Пора не пора, я иду со двора!
И я испугался, что он меня сейчас увидит, потому что я совершенно не спрятался, и я заметался по коридору туда-сюда, как подстреленный заяц. И тут в самое нужное время я увидел раскрытую дверь и вскочил в неё.
Это была какая-то комната, и в ней на самом видном месте, у стены, стояла кровать, высокая и широкая, так что я моментально нырнул под эту кровать. Там был приятный полумрак и лежало довольно много вещей, и я стал сейчас же их рассматривать. Во-первых, под этой кроватью было очень много туфель, разных фасонов, но все довольно старые, а ещё стоял плоский деревянный чемодан, а на чемодане стояло алюминиевое корыто вверх тормашками, и я устроился очень удобно: голову на корыто, чемодан под поясницей – очень ловко и уютно. Я рассматривал тапочки и шлёпанцы и всё время думал, ка
