Читать онлайн Игра как феномен культуры. Учебное пособие бесплатно
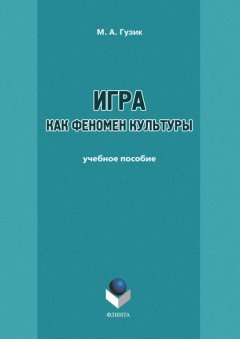
ВВЕДЕНИЕ
Игра принадлежит к одному из самых привлекательных видов деятельности. Она позволяет совместить приятное с полезным, расширить кругозор, закрепить и углубить свои знания, развить память, смекалку, находчивость, наблюдательность и другие индивидуальные способности. Возникнув в глубокой древности, еще в доклассовом родовом обществе, игра развивалась и вбирала в себя многообразные явления действительности. Изучение условий формирования и эволюции различных форм игровой деятельности в контексте многовекового культурного процесса является предметом спецкурса «Игра как феномен культуры». Его цель заключается в том, чтобы:
– рассмотреть историко-культурный аспект возникновения игр и общие закономерности их развития в связи с эволюцией общества и культуры, начиная с первобытнообщинной эпохи и кончая XX в.;
– дать представление об игровой структуре, свойственной всякой деятельности;
– проследить, как по мере утраты сакрального смысла ритуальные игры превращались в средство обучения и развлечения;
– проанализировать игровые приемы, которые использовались в различных формах художественной культуры;
– способствовать осознанию значимости игры на современном этапе развития общества;
– познакомить студентов с различными видами игр, педагогическими требованиями, предъявляемыми к ним, правилами их проведения и применения в учебной и воспитательной работе в школе;
– расширить круг этических представлений, понятий, убеждений студентов;
– содействовать развитию их эстетического вкуса, умения анализировать и сопоставлять, их способности к эмоциональному переживанию в процессе освоения материала спецкурса.
ТЕМА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИГРЫ. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИГРЕ. ТЕОРИЯ ИГРЫ
Игра как особый вид деятельности человека, имеющий свободный, непринужденный характер и во многом определяющий духовную культуру эпохи, отличается сложностью и многозначностью. Существует огромное количество переносных и метафорических значений этого слова (игра слов, игра случая, игра воображения, игра страстей, вести большую игру и т.д.), что затрудняет его определение. Игрой называют исполнение сценической роли и музыкального произведения, а также ряд действий, преследующих определенную цель (политическая игра). В России одно из первых определений игры принадлежит В.И. Далю (1801 – 1872). В «Толковом словаре живого великорусского языка» (1863 – 1866) он рассматривал «игру» и производное от нее – «играть» – только как средство развлечения, как «забаву, установленную по правилам». Под игрой он понимал также «то, чем играют и во что играют». В.И. Даль перечисляет такие популярные в те времена игры, как «игра в горелки, игра в биллиард, в зернь, в кости, в бабки, в карты, в дурачки, в вист, шахматная игра». В дореволюционном энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (1890 – 0904) не дается определения игре, но подробно рассматриваются ритуальные игры и игры, ставшие необходимой частью общественных массовых празднеств в Древней Греции (агон) и в Древнем Риме (луди).
Изучение игры как деятельности началось в советскую эпоху, в 30-е годы XX века. Один из составителей сборника «Игры народов СССР» (1933 г.) В. Н. Всеволодский-Гернгросс определил игру как разновидность общественной практики, «состоящую в действенном воспроизведении любого жизненного явления в целом или в части вне его реальной практической установки: социальная значимость игры в ее тренирующей на ранних ступенях развития человека роли и роли коллективизирующей». В «Толковом словаре русского языка» (в 4-х т., 1935) игра также рассматривается «как действие по глаголу играть», «как совокупность определенных приемов, правил» и приводится большое количество устойчивых сочетаний с этими словами.
Обращает на себя внимание тот факт, что с упрочением сталинской тоталитарной системы, которая сопровождалась насаждением единомыслия, превращением личности в нерассуждающий «винтик», игра со свойственной ей свободой выбора, воображением, фантазией не вписывалась в схему, ставшую обязательной. Она являлась жизнеутверждающим противовесом действительности. К примеру, в трехтомном энциклопедическом словаре, подписанном к печати при жизни вождя в 1953 году, не нашлось места для слова «игра», но зато прокомментировано такое понятие, как «игрунки» – «род самых мелких обезьян». С разоблачением культа личности Сталина игра утверждается в своих правах. В четырехтомном словаре русского языка, изданном Академией наук СССР (первое издание 1957 – 7961), указывается семь значений слова «игра», причем, два первых – ее определение: «Деятельность, занятия детей… Занятие, обусловленное совокупностью определенных правил, приемов и служащее для заполнения досуга, для развлечения, являющееся видом спорта и т.п.».
В энциклопедических словарях, опубликованных в первое десятилетие XXI века (Новая философская энциклопедия 2001 г., Большая энциклопедия 2006 – 6008, Большая Российская энциклопедия с 2006 г. и др.), даются достаточно подробные определения игре, в которых нашел отражение деятельностный подход. К примеру, в энциклопедическом культурологическом словаре 2007 года игра рассматривается как «… вид непродуктивной свободной деятельности, которая скрывает в себе забытое символическое значение, развертывается ради удовольствия в особых пространстве и времени в форме либо состязания, либо представления (ролевого исполнения) различных ситуаций в соответствии с добровольно принятыми, но неукоснительно соблюдаемыми правилами и противопоставляется утилитарно-практической активности в качестве сферы серьезного». Как видим, в этом определении выявляются не только отличительные особенности игры, но и ее исторические корни – «забытое символическое значение».
Исторические представления об игре прошли несколько этапов: античность, средневековье, XVII – XX вв. Одним из первых античных философов, обратившим внимание на свойства игры, был Гераклит Эфесский (ок. 554 – 483 до н.э.). Для него природа и жизнь представляли собой griphos – загадку, а себя он называл разгадывателем загадок. «Разгадывая» свойства времени, Гераклит уподобил его течение «играющему мальчику, передвигающему шашки».
Древние греки периода классики уделяли большое внимание игре как действенному средству воспитания и обучения в процессе подготовки гражданина в античном полисе. Философ Платон (427 – 347 до н.э.) считал человека «какой-то выдуманной игрушкой Бога, и это стало наилучшим его назначением». Все люди призваны жить, «играя в прекраснейшие игры». В «Законах» наряду с сакральным характером игры («Нужно проводить жизнь в игре, играя в определенные игры,… дабы расположить к себе богов и отбить врагов») он рассматривал ее образовательную и воспитательную функции: «Человек, желающий стать достойным в каком бы то ни было деле, должен с ранних лет упражняться, то забавляясь, то всерьез, во всем, что к этому относится». Главную задачу воспитателя философ видел в том, чтобы подбирать для детей соответствующие игры и сообщать им «начатки необходимых знаний» в процессе игровой деятельности: «Пусть он [воспитатель] пытается путем этих игр направить вкусы и склонности детей к тому занятию, в котором они должны впоследствии достичь совершенства».
Ученик Платона Аристотель (384 – 322 до н.э.) в своих сочинениях «Политика», «Риторика», «Поэтика» и др. расширил понятие «игры» и обозначил им два вида искусства: «мусические», мерилом которых является «удовольствие», и «гимнастические» (пляска, хороводы, борьба, «верховая езда, стрельба из лука, из пращи, метания дротиков», игры куретов в Лакедемоне [Спарте], состязания и подготовительные упражнения к ним). Следует отметить, что философ рассматривал игру как социальную привилегию свободнорожденной элиты, обладавшей такими благами, как «богатство, обилие друзей, власть». Он указывал на важность двоякого обучения: «… тело следует обучать гимнастическому искусству, а душу – для развития ее добродетели – мусическому», – и рекомендовал выбирать для игр подходящее время – в промежутках между занятиями, – «как бы давая их в качестве лекарства, ведь движение во время игр представляет собой успокоение души и благодаря удовольствию отдохновение». Причем игры должны «соответствовать достоинству свободнорожденного человека, не слишком утомлять ребенка и не быть разнузданными».
Перед «педотрибами» и руководителями гимнастических упражнений Аристотель выдвинул две задачи: установить, «какой род гимнастических упражнений для кого полезен, какие упражнения должны быть признаны наилучшими…, какие упражнения лучше всего подходят для большинства людей», и содействовать развитию в любом ребенке «умения состязаться хотя бы в слабой степени». По мнению философа, характер игр и свойственное им следование правилам влияет на установление законов и определяет, будут ли они прочными или нет: «Если дело поставлено так, что одни и те же лица принимают участие в одних и тех же играх, соблюдая при этом одни и те же правила и радуясь одним и тем же забавам, то все это служит незыблемости также серьезных узаконений. Если же молодые колеблют это единообразие игр, вводят новшества, ищут постоянно перемен… для всех государств нет худшего наказания, чем подобного рода мнения и установки».
В Средние века, когда господствующим стало теологическое сознание, языческие зрелища и игры были объявлены «бесовскими игрищами». Одним из первых теоретиков раннего средневековья, осознавшим необходимость использования античного наследия (но только философии), был Аврелий Августин (354 – 430). Что касается игр и зрелищ, он рассматривал их как проявление безнравственной и греховной жизни, погубившей римлян. В его идеальном государстве – «граде божьем» – не нашлось места для этого рода занятий (сочинение «О граде божьем»). Лишь в XII веке каноник монастыря св. Виктора в Париже Гуго, трактовавший искусство как знание и как деятельность, первый включил зрелища – развлечения и игры – в число механических искусств. В эпоху Возрождения, когда главным объектом внимания стали природа и человек, вновь возник интерес к игре не только как средству обучения и воспитания, но и как художественному приему, создающему иллюзорный мир и эмоционально воздействующему на человека.
В эпоху Просвещения (XVIII век) проблема игры поднималась в связи с обсуждением вопроса о природе искусства. В «Критических размышлениях о поэзии и живописи» (1719 г.) аббат Дюбо, член и секретарь Французской Академии, считал главным импульсом поведения человека стремление занять себя. Исходя из этого, он рассматривал игру только как средство развлечения, помогавшее избежать скуки, и отводил ей место среди таких внешних возбудителей страстей, как бой гладиаторов, коррида и др.
Начавшееся в XVIII веке становление теории игры было связано прежде всего с именами Иммануила Канта (1724 – 1804) и Фридриха Шиллера (1759 – 1805). В трактате «Критика способности суждения» Кант относит суждение к эстетическому понятию, так как оно представляет «лишь субъективную игру душевных способностей» (воображения и разума). Понимая искусство как эстетическую целесообразность, он выделяет три вида изящных искусств: словесное (красноречие и поэзия), изобразительное и искусство «прекрасной игры ощущений» Изобразительное искусство Кант подразделяет на пластику (ваяние и зодчество) – «искусство чувственной истины» и живопись – «искусство чувственной видимости», в основе которых лежит «свободная игра воображения в созерцании». Под искусством «игры ощущений» он понимал «игру звуков» (музыку), соединенную с «игрой образов» (танцем), и «азартную игру». Вывод, сделанный Кантом, заключался в том, что высшим проявлением культуры является ее эстетическое проявление.
В «Письмах об эстетическом воспитании человека» Шиллер рассматривал игру с точки зрения эстетики как наслаждение, связанное со свободным проявлением избытка жизненных сил. По его словам, главным «объектом побуждения к игре» является «живой образ, понятие, служащее для обозначения всех эстетических свойств явления», то есть красота: «… человек должен играть красотою». Шиллер указывал, что из всех состояний человека «именно игра и только игра делает его совершенным». Причину этого он видел в том, что игра не заключает в себе «ни внутреннего, ни внешнего побуждения»; дух человека обретает в ней полную свободу: «… человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет».
Дальнейшее развитие представлений об игре было связано с немецким педагогом и психологом Фридрихом Фребелем (1782 – 1852), который рассматривал игру как наилучший способ приобщения ребенка к созидательной деятельности. В 1837 году на основе разработанной им системы воспитания детей он открыл в Бланкенбурге первое в Европе учреждение для детей младшего возраста – прообраз детского сада. Большое место в нем отводилось играм с мячом, геометрическими фигурами, камешками, палочками и др. Однако прусские власти запретили создание подобных детских садов, так как, с их точки зрения, эти учреждения «отрицательно влияют на религию и политику».
Следует отметить, что в XIX веке большое воздействие на становление теории игры оказало учение Чарльза Дарвина о закономерностях исторического развития живой природы, изложенное в труде «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859). Идеолог социального дарвинизма Герберт Спенсер (1820 – 1903) внес в понимание игры эволюционный подход, исходя из того, что общественное развитие идет по законам эволюции от низшего к высшему, характерным для живой природы. Рассмотрев игры у высших животных и отождествив их с играми человека, он выявил свойственную им упражняющую функцию. В работе «Основные начала» (1880) Спенсер определил игру «как точно такое же искусственное упражнение сил, которые вследствие недостатка для них естественного упражнения становятся столь готовыми для разряжения, что ищут себе исхода в вымышленных деятельностях на место недостающих настоящих деятельностей». Сходство между игрой и эстетической деятельностью он видел в их непродуктивном характере, а различия – в том, что в эстетической деятельности находят выражение высшие способности, в игре – низшие.
В отличие от представителей социального дарвинизма, переносивших законы борьбы за существование на человеческое общество, основатель психоанализа австрийский психиатр и психолог Зигмунд Фрейд (1856 – 1939) рассматривал культурные нормы и ценности как продукт вытеснения первичных инстинктивных влечений человека, ищущих себе выхода, а игру – как реализацию вытесненных из жизни желаний, как «наиболее ранние нормальные формы деятельности»: «… дети повторяют в игре все, что в жизни произвело на них большое впечатление, причем они взвешивают силу впечатления… вся игра находится под влиянием доминирующего в это время желания: быть большим и делать то, что делают большие» («По ту сторону принципа удовольствия»). Основываясь на анализе травматических неврозов и игр ребенка полутора лет (перебрасывание деревянной дощечки с веревочкой на край кроватки после ухода матери из комнаты), Фрейд делает вывод о символизации смысла «всей травмирующей ситуации»: чувства мести, обращенной на мать за то, что она покинула ребенка. Ученый считает, что в основе травматического невроза и детских игр лежит одна и та же тенденция к навязчивому повторению, так как с момента рождения ребенок подвергается всевозможным травмирующим воздействиям. Игра, по Фрейду, является единственным средством, предоставляющим шанс не стать травматическим невротиком.
Эволюционная концепция, сводившая игру к развитию наследственных форм поведения, просуществовала до 30-х годов XX века, до появления трудов Ф. Бейтенделька, Й. Хейзинги и О. Финка. Ф. Бейтендельк подверг критике эволюционную концепцию, заявив, что инстинктивные формы поведения не нуждаются в упражнениях. Он рассмотрел игру как категорию ориентировочно-исследовательской деятельности. Основываясь на теории Фрейда об исходных влечениях, Бейтендельк выделил три исходные влечения, определяющие игру: влечение к освобождению, к слиянию и к воспроизведению.
Важный шаг в осмыслении игры как целостного феномена сделал выдающийся нидерландский мыслитель и историк культуры Йохан Хейзинга (1872 – 1945). В книге «Homo Ludens. Опыт определения игрового элемента культуры» (1938 г.) он сформулировал игровую концепцию культуры, рассмотрев игру как культурообразующий фактор – всеобщий принцип становления человеческой культуры: подлинная культура не может существовать без игрового содержания, она «развертывается в игре и как игра». Хейзинга достаточно убедительно раскрыл роль игры не только в формировании и развитии архаических культов и мифов, но и в возникновении различных форм общественной жизни: искусства, науки, юриспруденции, ремесла, предпринимательства, политики и т.д. В выявлении соотношения игрового момента с другими факторами жизни общества ученый руководствовался антитезой: игра – неспособность к игре, игра – серьезное. Всесторонне изучив феномен игры, Хейзинга выделил ее определяющие свойства: непринудительный характер игры, разворачивающейся как свободный выбор; игра не является «обыденной жизнью», она не связана с непосредственным удовлетворением нужд и страстей; она «разыгрывается» в определенных границах места и времени; игра устанавливает порядок и невозможна без соблюдения определенных правил; в игре реализуется не только стремление человека к соперничеству, но и потребность в отдыхе, разрядке; с игрой тесно связано понятие выигрыша, то есть своеобразного возвышения в результате игры. Однако, прослеживая игровые элементы культуры от первобытной эпохи до современного западного общества, Хейзинга не дал окончательного ответа на вопрос: выступает ли культура во взаимосвязи игрового и «серьезного» моментов или существует единое игровое пространство, за пределами которого больше ничего нет.
Немецкий философ Ойген Финк (1905 – 1975) понимал игру как фундаментальную особенность человеческого бытия, включающего наряду с игрой такие феномены, как труд, власть («господство»), любовь, смерть: «Игра столь же изначальна, как и эти феномены. Она охватывает всю человеческую жизнь до самого основания, овладевает ею и существенным образом определяет бытийный склад человека, а также способ понимания бытия человеком». Однако философ не ответил на вопрос, в какой мере игровое начало человека определяет и оформляет его понимание бытия в целом. Исходя из тезиса: «человек как человек есть игрок», втянутый «в трагедию и комедию своего конечного бытия», Финк отметил такие свойства игры, как связь с правилами, «наслаждение свободой», которое она доставляет, символический характер игрового действия, двуплановость игры, то есть «существование играющего в обычной действительности и в сфере нереального, воображаемого».
Концепция игрового происхождения культуры нашла отражение в работе немецкого философа Ханса Георга Гадамера (1900 – 2002) «Истина и метод» (1960), объектами исследования которого являются три основные формы связи человека с миром – «эстетическая», «историческая» и «языковая». Язык для ученого – это главный способ понимания человеком окружающего мира, других людей и самого себя. Сущностью же языка, по Гадамеру, является игра. Исходя из переносного значения этого слова (игра света, волн, красок, деталей шарикоподшипника и т.д.), он приходит к выводу, что для «сущностного определения игры» центральным является движение «взад и вперед», лишенное конечной цели и обновляющееся «в бесконечных повторениях». Гадамер рассматривает игры человека, принадлежащего в той или иной мере природе, как «естественный процесс», «чистое самоизображение» и считает бессмысленным различать «собственное и метафорическое употребление» слова «игра».
Существование различных видов игр исследователь объясняет тем, что они «по-разному обозначают и упорядочивают попеременное игровое движение». Сущность же игры составляют «правила и порядок, предписывающие определенное заполнение игрового пространства», вне которого «игровое движение» не осуществляется. Основную закономерность, свойственную игровой деятельности, Гадамер определяет как «игру-во-что-то», в процессе которой играющий преобразовывает «целевые установки своего поведения в задачи игры». Высшей ступенью человеческой игры, ее завершением ученый называет искусство. Их различие он видит в том, что дети играют для себя, а составляющая бытия искусства – «представление для кого-то».
Понятие «языковой игры» как способа использования слов в определенном контексте в соответствии с принятыми правилами было введено в научный обиход австрийским философом Людвигом Витгенштейном (1889 – 1951). В труде «Философские исследования» (середина 30-х – 1951) одним из важнейших качеств человека он считал не только ясность ума, но и Дух, Высокое, выражаемое простыми и вразумительными понятиями. Витгенштейн выступал против такой «болезни времени», как чрезмерное использование эвфемизмов, придающих смыслу неясность, а стилю невнятность. Подобное словоупотребление он называл Luft geboude (буквально сооружения из воздуха) – карточные домики, «фантомы» языка или «холостое прокручивание языка», когда слова отделяются от своего реального значения.
В трудах русских психологов и историков культуры XX века большое внимание уделяется детской игре как полифункциональному явлению и игровой природе культурных феноменов. В 20 – 00-е годы Л.С. Выготский (1896 – 1934), один из родоначальников советской психологической школы, первым подошел к детской игре как особому виду деятельности, эффективному способу включения ребенка в мир взрослого человека. Проанализировав ролевые игры детей дошкольного возраста, он связал развитие игры с развитием сознания ребенка, выявил символическую функцию игры и ее роль в создании «мнимых ситуаций», которые позволяют переносить «значение с одного предмета на другой», «проигрывать» отношения, поступки детей, что «приводит к освоению отдельных моментов, деталей окружающей действительности». Противоречие игры исследователь видел в том, что свойственные ей внутренние процессы даны во внешнем действии.
В своих исследованиях («Игра и ее роль в психическом развитии ребенка», «Воображение и творчество в детском возрасте» и др.) Выготский заложил основы теории детской игры. В отличие от зарубежных психологов (К. Бюлера, Ж. Пиаже и др.), абсолютизировавших биологическое начало в человеке, он рассмотрел игру не как преобладающий, но как «ведущий момент» в развитии ребенка. Игра позволяет ему «быть на голову выше самого себя, своего обычного поведения», дает ему возможность «говорить с собой на различных языках, по-разному кодировать свое собственное «я». Ее главное правило, по Выготскому, – самоопределение и самоограничение. Указав на важную роль взрослого в познании ребенком мира через игру, ученый проанализировал развитие самой игры от преобладания «мнимой ситуации» к преобладанию правила, причем, «…чем оно [правило] жестче, чем оно больше требует от ребенка приспособления, чем больше регулирует деятельность ребенка, тем игра становится напряженнее и острее». Именно подчинение правилам создает, по его мнению, «зону ближайшего развития ребенка».
Выготский выявил те внутренние преобразования в поведении детей, которые производит игра: «Ребенок научается осознавать свои собственные действия», он «подчиняет свои действия определенному смыслу, исходя из значения вещи». Именно в игре «осуществляются потребности ребенка, побуждения его к деятельности, аффективность его стремления». Кроме того, Выготский рассмотрел тесную связь игры с сознанием и речевой деятельностью ребенка: «… детская символическая игра может быть понята как очень сложная система речи при помощи жестов, сообщающих и указывающих значение отдельных игрушек». Он отметил, что «внутри каждой игры ребенок уже не механически, а разумно расчленяет обращение с вещами и обращение с людьми», то есть таким образом начинает осознавать действия, приобретающие определенный смысл.
Последователь Выготского А.Н. Леонтьев проанализировал процесс развития ролевой игры, вскрыл причины ее изменений и ее связи с другими играми дошкольника. Ученый дал определение «ведущей деятельности», связанной с главнейшими изменениями в психике ребенка, выделил преддошкольный период жизни ребенка, основная линия развития которого – «формирование предметных действий неигрового типа», вывел общую формулу мотивации игры: «Не выиграть, а играть» и общий закон развития форм дошкольной игры. Игра эволюционирует «от открытой игровой роли, воображаемой ситуации и скрытого правила к открытому правилу, к скрытым воображаемой ситуации и роли». Как и Выготский, Леонтьев отметил большое психологическое значение игр с правилами. Они развивают умение детей подчиняться правилу, и в них присутствует «момент самооценки». Однако трудно согласиться с утверждением Леонтьева, что ребенок безразличен к результатам игровой деятельности: его интересует лишь сам процесс игры. Но ученый не пытается выяснить, чем обусловлен этот процесс.
Один из учеников Л.С. Выготского Д.Б. Эльконин, обобщив основные материалы по теории игры зарубежных и отечественных авторов, рассмотрел социально-исторический характер ролевой игры как развернутой формы «ориентировочной деятельности», ее происхождение и содержание. Ученый предполагает, что в первобытном обществе с примитивными средствами и формами труда, с непосредственным участием детей в различных видах деятельности ролевых игр не было. Они появились на поздней стадии первобытнообщинного строя в результате изменения места ребенка в системе общественных отношений: игра «социальна по своему происхождению, по своей природе. Ее возникновение связано не с действием каких-либо внутренних, врожденных инстинктивных сил, а с вполне определенными социальными условиями жизни ребенка в обществе».
Вслед за Выготским называя основным мотивом детской игры выполнение роли, взятой на себя ребенком, Эльконин выявил психологические предпосылки, лежащие в развитии игры, и выделил четыре уровня развития игры: 1) действия с определенными предметами, причем роли определяются характером действий; 2) последовательность действий соответствует их последовательности в реальной действительности, а роли называются самими детьми; 3) логика и характер действий определяются взятой на себя ролью; 4) выполнение действий, связанных с отношением к другим людям и развертываемых в соответствии с реальной жизнью. Эльконин различает в ролевой игре сюжет – «ту область действительности, которая воспроизводится детьми в игре», – и содержание – «то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их трудовой и общественной жизни». Значение игры как предпосылки возникновения условной ситуации ученый связывает с началом «собственно интеллектуальных форм видения и понимания мира».
Игра как неотъемлемая часть культуры являлась предметом исследования одного из крупнейших ученых XX века М.М. Бахтина (1895 – 1973). В книге «Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965 г.) он дал принципиально новое объяснение карнавальным празднествам как наиболее яркому выражению народной смеховой культуры. По его мнению, игра определяет специфическую природу карнавала: «… в карнавале сама жизнь играет, а игра на время становится самой жизнью». Ученый раскрыл новый тип карнавального общения, выявил основные особенности карнавала (см. тему 3). Бахтин отметил «свободную игру со священным» в сочетании с образами материально-телесного низа в средневековой литературе (игра «снижениями», «образом чрева, утробы») и рассмотрел превращение карнавальных форм в художественные средства на примере романа Рабле и произведений писателей барокко, рококо, романтизма. Он подробно проанализировал такие карнавальные игровые мотивы и приемы, как маска, шутовство, гротеск, пародия, мистификация, аллюзия, бурлеск. Исследование Бахтина позволило составить более полное представление о роли и месте игры в культуре.
Философ и историк культуры М.С. Каган (1921 – 2006) рассматривает игру не только как культурный феномен, отличающий ее от игры животного, но и как сложную биологическую и социальную систему, опосредованно воздействующую на физическое и духовное бытие человека. Объективную трудность при изучении игры исследователь видит в том, что этим понятием обозначаются различные по своей сути формы деятельности. Он говорит об игре в широком и узком смысле слова, различая «игровую модальность» любого вида деятельности и игру как конкретную форму действия человека. Ученый утверждает, что игра способствует «укреплению контактов между людьми на социальном, а не на биологическом уровне» и участвует в процессе «социализации индивида наиболее приятными для него средствами». Специфический характер игрового общения («общения ради общения») заключается в том, что оно допускает все новые и новые состязания между партнерами и развертывается на разных уровнях – физическом, психическом, духовном.
По мнению ученого, отличительной особенностью игры является ее синкретичность: для игровой деятельности необходима «слитность мыслей и чувств, чувств и представлений, представлений и воспоминаний, воспоминаний и наблюдений, наблюдений и размышлений». К числу обобщающих признаков игры он относит «незаинтересованное отношение играющего к результатам его деятельности, сосредоточение всего его внимания на ее процессе, а не на результате», отмечая при этом существенное значение проблемы выигрыша в игре. Затрагивая вопрос о сходстве игры и искусства, Каган выявляет общие для них виды деятельности: познавательную, ценностно-ориентационную и коммуникативную. По наблюдению ученого, преобразовательный вид деятельности, свойственный искусству, проявляется в игре опосредованно.
Целый ряд нужных и полезных наблюдений над игрой содержится в неоконченной работе Ю.М. Лотмана (1922 – 1993) «Искусство в ряду моделирующих систем». Игра для исследователя – это «особого типа модель действительности», которая позволяет безусловную (реальную) ситуацию заменять условной (игровой), останавливаемой во времени. Отсюда вытекает такая особенность игры, как двуплановость, то есть «одновременная реализация практического и условного поведения», причем жизненная ситуация подчиняется правилам игры. Ученый отмечает, что «условное разрешение», – это свойство, присущее и игре, и искусству, которые являются не только средством познания, но и средством отдыха. Их отличия Лотман видит в следующем: «игра представляет собой овладение умением, тренировку в условной ситуации, искусство – овладение миром (моделирование мира) – в условной ситуации»; целью игры является соблюдение правил, целью искусства – истина, выраженная «на языке условных правил»; игра не может быть «средством хранения информации и средством выработки новых знаний», но именно это составляет сущность искусства.
Итак, на основании исследований зарубежных и отечественных ученых можно определить теорию игры как комплексную научную дисциплину, которая рассматривает вопросы происхождения, развития игры и разрабатывает общую концепцию и конкретные методики разнообразных форм игровой деятельности. Главный объект исследования – игра – связывает теорию игры с этнологией и антропологией, изучающими происхождение этносов и рас, их историко-социальные контакты, ритуальные и развлекательные игры, охватывающие все виды действий. Теория игры тесно связана также с такими дисциплинами, как психология – наука о закономерностях, эволюции и формах психической деятельности; эстетика, рассматривающая законы, формы, типы и нормы прекрасного; социология – наука об обществе, помогающая понять материальные и духовные ценности, их роль в становлении личности; семиотика, исследующая свойства знаков и знаковых систем; кибернетика, немыслимая вне сферы общечеловеческих поисков, вне художественно-исторического процесса во всех его проявлениях; математика. На основе изучения ряда игр один из разделов математики разрабатывает модели принятия оптимальных решений в сложных ситуациях. Все это дает возможность рассматривать игру как один из важнейших феноменов культуры.
Что касается основных свойств игры как способа реализации запросов и потребностей человека, то они заключаются в следующем:
– в основе игры лежит инстинкт подражания, данный человеку природой;
– игра как добровольное действие имеет непродуктивный и внерациональный характер;
– она двупланова (существование реального и условного, иллюзорного плана);
– игра организуется по правилам внутри установленных границ времени и пространства;
– игра выступает одновременно как бы в двух временных измерениях – в настоящем и в будущем;
– игра отличается образностью, метафоричностью, взаимосвязью эмоций и воображения, что формирует деятельность, аналогичную художественной деятельности;
– игра синкретична;
– игра имеет символический и таинственный характер; символика игры способствует тому, что человек одновременно верит и не верит в происходящее;
– игра непредсказуема, не дает возможности ответить на вопрос: удастся ли выиграть;
– игра позволяет осуществить потребность человека в самореализации, самоутверждении.
По словам члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств А.И. Лазарева, «сила игры в ее всеобщности, универсальности, в способности легко и плодотворно, свободно добиваться значительных результатов в деле формирования личностных качеств человека, а порою определять и всю его судьбу».
ТЕМА 2. ФУНКЦИИ ИГРЫ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ
Основным содержанием первобытнообщинного периода (эпоха верхнего палеолита, XXXV – VIII тыс. до н.э.) явилось завершение биологического состояния человека в процессе трудовой деятельности (прямохождение, использование примититивных орудий из камня, овладение огнем) и упрочение социальных связей. Возникновение культуры ученые связывают с появлением «человека разумного» в эпоху верхнего палеолита. Постепенно складывающиеся у него представления о мире формировали «низшую мифологию» (термин немецкого этнографа В. Маннгардта), в сферу которой входили различные демоны и духи, связанные с урожаем и олицетворявшие годовой цикл умирающего и воскресающего растительго мира.
Древний человек воспроизводил мифы в форме обрядов или совокупности обрядов – ритуалов, – с которых начиналась любая деятельность: собирание плодов, рубка дров, охота, переправа через реку и т.д. В. Тэрнер подразделил ритуалы на сезонные, связанные с переменами климатического цикла или началом посева, жатвы, уборки урожая; ритуалы, обозначающие переход от одной фазы жизненного цикла индивида к другой (рождение, совершеннолетие, брак, смерть и др.); «ритуалы бедствия», которые исполнялись для умиротворения либо изгнания сверхъестественных существ, навлекающих, по поверьям, неудачи, болезни, телесные повреждения и т.д.; ритуалы, сопровождавшие ежедневные приношения еды и питья божествам, духам предков и т.д.
Обряды, связанные с ритуалом и содержавшие элементы театрального действия, начинались с омовения, затем совершались жертвоприношения, молитвы, культовые шествия, которые завершались ритуальными играми, танцами, плясками. Ритуал обладал в сознании людей магической силой и позволял в определенной степени избавиться от страха перед природой. Равномерное повторение одних и тех же слов и движений придавало уверенность в неизменности существующих природных явлений и в возможности оказывать на них воздействие. Следовательно, игра являлась частью культа, имела сакральный (священный) смысл и носила синкретический характер: в нее включались словесные формы, элементы танца, пантомимы, музыки, имевшие символический смысл. Видимо, в ней удовлетворялись такие первородные инстинкты, как азарт, склонность к подражанию и любопытство. В формах культовой игры зарождался порядок в родовой общине. По предположению ученых, игра проходила в виде культового состязания, и выигрыш способствовал удачному году, благоприятной погоде, хорошему урожаю, торжеству добрых сил над злыми, а также социальному благополучию членов рода.
Сакральные игры были основаны на имитации. Например, во время обрядовой охоты ее участники облачались в шкуры соответствующих животных, подражали их повадкам, имитировали выслеживание зверя, его преследование, копировали действия человека при исполнении охотничьих плясок, изображали полет птицы, движение змеи и т.д. Это давало возможность условной победы над зверем, помогало преодолеть ужас перед ним. Подражание повадкам животных, использование зооморфных масок стало неотъемлемой частью тотемических обрядов, связанных с представлением о сверхъестественном родстве определенной группы людей (рода) с животными или растениями – тотемами (у северо-американских индейцев тотем – «его род»), об их происхождении от общих предков.
Ритуальные игры во время погребальных и поминальных церемоний сопровождались сольным и хоровым пением, ритуальными движениями и жестами, возгласами удивления, ужаса, драматическими диалогами духов предков с покойным. Позднее у народов Африки, например, посланников из загробного мира, взывавших к умершему, нередко изображали члены тайных ритуальных религиозно-магических обществ. Они надевали маски и костюмы наиболее почитаемых предков, обращались от их имени к членам рода, предрекали будущее, исполняли танцы и пантомимы. У древних египтян большое распространение получили погребальные маски, которые надевались на лицо мумии. Видимо, это было связано с верой в магическую силу маски, отвращающей беду.
В погребальных обрядах австралийских аборигенов разыгрывались эпизоды священных преданий о предках, причем каждому действию и движению исполнителей обряда соответствовал тот или иной эпизод, связанный с подвигами предков. У древних греков обязательные жертвоприношения (сначала приносили в жертву людей, затем – животных) во время исполнения погребальных и поминальных ритуалов были впоследствии заменены поединками между рабами, а позднее – состязаниями самих эллинов по нескольким видам: кулачный бой, борьба, бег, рукопашный бой, метание диска, стрельба из лука, метание копья и др. Подобные ритуальные состязания описаны в эпической поэме Гомера «Илиада» (песня XXIII), созданной в период разложения первобытной родовой общины.
Погребальные игры у древних греков начинались с бега на колесницах, в котором принимали участие пять возничих. Места и время прохождения колесниц определялись по жребию. Учредителем игр являлся родственник или друг покойного. В поэме «Илиада» – это Ахилл, устроивший погребальные игры в память своего друга Патрокла, участника Троянской войны. Судьей был самый старый и опытный член общины. После каждого вида игр следовало награждение как победителя, так и побежденного. Победителю вручался наиболее ценный, с точки зрения древнего человека, приз:
- «Медный, ушатый с боков двадцатидвухмерный
- треножник
- Первому дар; кобылица второму шестигодовая,
- Неукрощенная, гордая, в недрах носящая меска;
- Третьему мздою – не бывший в огне умывальник
- прекрасный,
- Новый еще, сребровидный, четыре вмещающий
- меры;
- Мздою четвертому золота два предложил он таланта;
- Пятому новый, не бывший в огне фиал
- двусторонний».
Из гомеровской поэмы мы узнаем, что награждался также наиболее уважаемый, опытный и храбрый воин, доживший до глубочайшей старости. Это – Нестор, участник сражения с кентаврами, Калидонской охоты, похода аргонавтов и Троянской войны. Ахиллес вручил ему «круглый фиал двусторонний» со следующими словами:
- «Дар сей тебе, божественный старец! и ты сохрани
- сей
- Памятник грустный Патрокловых похорон: между
- живыми
- Больше его не увидишь! Тебе же награду победы
- Так я даю; ни в борьбу ты, Нелид, ни в кулачную
- битву,
- Верно, не вступишь; ни в меткой стрельбе ты, ни в
- легкости бега
- Спорить не будешь: тебя удручает тяжелая старость».
Участники состязаний нередко прибегали к различным ухищрениям, чтобы оказаться первыми. В поэме «Илиада» Одиссей, «вымышлятель хитростей умный», в борьбе с Аяксом
- «Вдруг в подколенок ударил пятой и подшиб ему ноги,
- Навзничь его опрокинул; но сам он Аяксу на перси
- Пал. Удивился народ, изумилися все аргивяне».
Когда же в беге Одиссею не удалось смошенничать, он обратился за помощью к «светлоокой Палладе богине»:
- «Дочь Эгиоха, услышь! Убыстри, милосердая, ноги!»
- Так он, молясь, произнес, – и услышала дочь Эгиоха;
- Члены ему сотворила легкими, ноги и руки.
- И уже добегали, чтоб только им прянуть к награде, —
- Вдруг на бегу поскользнулся Аякс: повредила Афина —
- В влажный ступил он помет, из волово убиенных разлитый,
- Коих Патроклу в честь закалал Пелейон благородный;
- Тельчим наполнились ноздри и рот у Аякса.
- Чашу, награду свою, подхватил Одиссей терпеливый,
- Первый примчась…»
Маски, обязательные при исполнении религиозного действа, восходили к эпохе мезолита (XII – VI тыс. до н.э.), возможно, и к более ранним эпохам. Их появление связывают с распространенным у разных народов поверьем: для живого было опасно взирать на открытое лицо умершего или человека в его роли во время драматических диалогов духов предков с покойным. Маски (зооморфные, зооантропоморфные, антропоморфные, маски-шлемы, маски-наголовники, маски-личины) использовались во время ритуалов, связанных с культами предков, огня, с земледельческими культами, с обрядом инициации. Их носили перед собой на длинных палках при исполнении ритуальных танцев. При совершении земледельческих обрядов маски нередко помещали на поле для охраны посевов.
За точностью исполнения различных культов, а следовательно, и ритуальных игр следили члены тайных союзов, появившихся в период разложения первобытно-общинного строя. Их изначальная функция заключалась в руководстве обрядом инициации. Маски тайных союзов отличались сложной композицией: экспрессивные и угловатые черты лица, рога (от 2 до 10), ромбы с вогнутыми сторонами и выступами в центре.
У разных народов земледельческие обряды сопровождались состязаниями, от результата которых зависело «сохранение мирового порядка», и ритуальными играми в кости, в мяч, в шашки, в шахматы, в карты, имевшими символический смысл. Все в них было причастно космосу и соотносилось с основными параметрами вселенной. Как предполагают, игральные кости в форме куба могли олицетворять священные циклы бытия, конечную стадию циклического движения, стабильность и «еще не проявленную судьбу». Круглая форма мяча символизировала Солнце, а также «бесконечное движение родов и форму жилища кочевников». Древние египтяне делали мячи следующим образом: срезали у рыбы фугу (рыба-собака, иглобрюх и др.) шипы и набивали ее соломой. В Древней Индии в игре, напоминавшей шашки, фишки имели форму детородных органов.
Сложная символика отличала шахматы и карты. Двухцветная квадратная шахматная доска олицетворяла прямоугольную форму Земли; ее четыре угла – страны света; белые и черные фигуры – противопоставления, находящиеся на стыке природно-естественного и культурно-социального начала (свет-тьма, день-ночь, предки-потомки, удача-неудача и т.д.). Число шахматных полей (64) было связано с символикой числа «четыре», означающего цельность, совокупность, и «восемь» – изменчивость, восстановление, духовное возрождение. В древнейшей шахматной игре чатуранге принимали участие четыре игрока, имевшие по одному слону. С появлением двух игроков шахматная доска стала раскрашиваться в два цвета, число фигур удвоилось, и слоны начали располагаться на разных полях.
Карты, как и шахматы, обладали ритуально-магической символикой. По поводу родины карт существует несколько точек зрения: одни называют Египет, другие Китай или Индию. Согласно древнеегипетским воззрениям, четыре масти олицетворяли четыре стихии мироздания: огонь, воздух, воду и землю. Пятьдесят две карты соответствовали числу недель в году, тринадцать карт каждой масти – количеству лунных месяцев, черные и красные масти – холодным временам года, ассоциируемым с силами тьмы, и теплым временам года, ассоциируемым с силами света. Знаки, обозначающие крестовую, бубновую, червонную и пиковую масти, представляли собой трансформированные изображения жезла, скрещенных мечей, человеческого сердца, зажженного факела. Древние славяне, например, объясняли обилие рыбы в водоемах и дичи в лесах или, напротив, их отсутствие тем, что лесовые и водяные играют в карты без крестов (трефей) и проигрывают друг другу свое имущество. Успешное завершение ритуальных игр означало благосклонность высших сил к людям. Как отмечал Й. Хейзинга, обязательными в ритуальных играх были внешняя почтительность, взаимные услуги, обмен подарками.
Во многих древних культурах большую роль играл обряд ритуального состязания с быком. В шумерских сказаниях о Гильгамеше («Гильгамеш и Небесный бык») богиня Инанна потребовала, чтобы боги создали Небесного быка, который отомстил бы Гильгамешу, не ответившему ей любовью. Боги исполнили ее просьбу: Небесный бык спустился с небес на землю и выпил реку Евфрат. На шумерских печатях (ок. 5000 – ок. 2000 г. до н.э.) изображены эпизоды сражения Гильгамеша с быком, воплощавшим космическое начало. Ритуальные атлетические игры с быком представлены на одной из фресок Кносского дворца на острове Крит (XV в. до н.э.). С этим животным были связаны многие древнегреческие мифы: Зевс в образе быка похитил Европу; бог морей Посейдон подослал к супруге критского царя Миноса белоснежного быка, от которого она родила Минотавра, чудовище с туловищем человека и головой быка; Геракл одолел Критского быка, изрыгавшего пламя, и переплыл на нем море. На фреске воспроизведена нарочито удлиненная фигура быка в неистовом галопе, а перед ним, на нем и за ним – фигуры критян, проделывающих различные сакральные упражнения. Древнегреческие буфонии проводились в виде своеобразной ролевой игры: сначала убивали быка, съевшего жертвенный хлеб, затем устраивали обрядовый суд над виновником убийства.
Не менее зрелищным был обряд инициации, сопровождавший переход юношей из одной возрастной группы в другую и посвящавший их в члены рода. В день совершеннолетия посвящаемый приносил в жертву местному речному богу волосы. Возможно, инициации проводились в форме своеобразных вопросно-ответных экзаменов для испытуемых. Древние «экзаменаторы» стремились закалить проходивших инициацию, научить их стойко переносить неудачи, страдания, а также передать молодым членам общины знания, необходимые на более высокой возрастной ступени. Исследователи предполагают, что посвящения происходили в святилищах – труднодоступных пещерах. У народов Африки обряд инициации заключал в себе большие сценические возможности. Его кульминацией была битва юноши с чудовищем, состоявшая из трех эпизодов: проглатывание посвящаемого чудовищем, его пребывание в желудке, его «изрыгание» в виде новорожденного, что символизировало временную смерть и новое рождение.
В Древнем Китае ритуальный характер имели гонки «лодок-драконов», которые проводились, чтобы угодить богине реки, озера, канала, «дававшей» дожди для земледельцев и рыбу для рыбаков. Лодки украшались изображениями дракона, олицетворявшего могущество и власть, а его 117 чешуек – удачу. После гонок древние люди приносили в храме человеческую жертву – юношу, которого называли «Женихом Богини». Семья жертвы считала его кончину особой честью. Впоследствии, если во время гонок кто-нибудь тонул, это воспринималось как хорошее предзнаменование, обещавшее богатый урожай.
Представления древних китайцев о строении Вселенной нашли отражение в головоломке «китайский шарик». Декоративный шарик из слоновой кости, покрытый затейливой резьбой, состоял из семи и более разных по размерам шариков, вложенных друг в друга и олицетворявших небесные сферы. Они имели на поверхности круглые отверстия разного диаметра. Для решения этой головоломки нужно было посредством поворота каждого внутреннего шарика совместить их отверстия так, чтобы из образовавшегося сквозного канала извлечь наружу наименьший из всех цельный шар. Секрет изготовления подобных головоломок хранился в строжайшей тайне. Нередко на их работу уходила жизнь двух-трех поколений мастеров.
Древним китайцам был известен также магический квадрат. Согласно легенде, во времена правления императора Юй (ок. 2200 до н.э.) из вод Хуанхэ всплыла священная черепаха, на панцире которой были начертаны таинственные иероглифы Ло-шу, напоминающие магический квадрат. Древнекитайский магический квадрат Ло-шу состоял из трех столбцов, сумма чисел которых по вертикали, по горизонтали и по обеим диагоналям составила 15:
В магическом квадрате Хэ-ту разность пяти пар чисел была равна 5. Впоследствии магические квадраты легли в основу филиппинских и японских головоломок судоку.
У восточнославянских племен основные обряды, завершавшиеся ритуальными играми, соответствовали четырем солнечным фазам: на зимнее солнцестояние отмечались Святки (25 декабря – 8 января). Воплощением новогоднего цикла празднеств был Коляда (уменьшительно-ласкательное от «коло» – солнце, младенец или от лат. calendae – первый день месяца). Чествование его сопровождалось колядованием – исполнением величальных рождественских песен-колядок, содержавших магические заклятия: пожелание благополучия дому, требование подарков (обрядового печенья, каравая, украшенного солярными и лунарными знаками, и др.). Участники праздника надевали маски животных (отголоски обрядовой охоты), воплощавших плодородие (коза), богатство (медведь), долгую жизнь (корова), хитрость, изворотливость (лиса), трудолюбие (конь). Маски стариков и старух символизировали преемственность поколений, жизненный опыт, мудрость. Вывороченный полушубок олицетворял зло; древние славяне, как и другие народы, верили, что зло, выставленное в комическом виде, утрачивает силу. На Святки гадали, сжигали дубовую колоду (дуб – священное дерево Перуна), в которую втыкались кабаньи клыки, изгоняли лихоманок (см. словарь «Смывание лихоманок»), возжигали священный «живой» огонь, устраивали соревнования: кто кого пересмешит, кто последним скажет потешку и т.д.
Весеннее равноденствие (24 – 45 марта) отмечалось Масленицей (персонаж низшей мифологии у восточных славян) – праздником проводов зимы и встречи весны. Вокруг чучела из соломы в женском тряпье, с блином или сковородой в руках – Масленицы (у русов – Костромы) пели величальные песни, «водили козла», устраивали масличные кулачные и петушиные бои. С чучелом катались в течение Масленой недели, выпускали птиц, а в конце праздника сжигали на костре или хоронили, разрывая его на части и разбрасывая солому по полям, чтобы был хороший урожай. Похороны Масленицы сопровождались карнавальными процессиями, ряженьем, ритуальным смехом. С горы спускали колесо, обмазанное дегтем и увитое соломенными жгутами, – символ солнца.
В праздник летнего солнцестояния (с 23 на 24 июня по старому стилю) восточнославянские племена исполняли купальские ритуалы, соотнесенные с огнем – земным и небесным (символ небесного огня – колесо), пели купальские песни, топили в воде куклу или чучело – Купалу – и разжигали священные костры, через которые прыгали участники обряда, призванного обеспечить плодородие. От высоты прыжка зависела высота хлебов и других злаков, поэтому старались прыгнуть как можно выше. Вероятно, к купальским ритуалам восходит старинная русская игра «горелки». Осеннее равноденствие у восточных славян приурочивалось к празднику урожая (8 сентября), связанному с почитанием Велеса, бога богатства, покровителя домашних животных. В дар божеству оставляли несжатыми несколько стеблей хлебных злаков – волотей – «Велесу на бородку».
Несомненные связи с аграрными культами прослеживаются в таких играх, как «в яички» (яйца-писанки символизировали жизнь, жизненную силу), «водить козла», жмурки (жмурки первоначально назывались игрой в «слепого козла»). В восточно-славянских мифах козел был связан с божествами плодородия и символизировал плодовитость, изобилие, похотливость. Как и в других древних культурах, с ним соотносился обряд жертвоприношения. По славянским поверьям, шерстью черного козла можно было умиротворить водяного; домовой мучил всех животных, кроме козла и собаки. Прикосновение же к туловищу козла обеспечивало здоровье и благополучие.
Ритуальные игры входили в состав восточнославянского свадебного обряда. На пути к невесте жениху загадывали загадки (не больше трех). Дружка помогал ему отгадывать. Выкуп невесты также проходил в форме игры: все девушки сидели на скамейке, покрытые большими платками. Жених должен был угадать, где его невеста. Подсказками служили слова: «Холодно, холоднее… Горячо, теплее…». Выкупом были подарки, которые вручались родственникам и друзьям невесты. В день свадьбы жениха ожидали различные препятствия под названием «Взятие невестиной крепости»: бревно, у которого находилась богатырская застава – брат невесты или один из родственников с друзьями. Жених должен был продемонстрировать «удаль молодецкую», «силу способную» и перерубить бревно. У дома невесты могли быть новые препятствия.
Вплоть до поздних стадий первобытнообщинного строя игра сохраняла ритуальный характер, наделяясь магической властью над таинственными силами природы. Утрата игрой сакрального смысла, сказавшаяся в изменении отношения человека к обряду как к мистической церемонии, которую он начал воспринимать в качестве торжественного зрелища, была связана с эпохой древних цивилизаций.
ТЕМА 3. ИГРОВОЕ НАЧАЛО В КУЛЬТУРАХ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Начиная примерно с IV тыс. до н.э. на территориях Передней Азии и Северо-Восточной Африки развились древнейшие цивилизации: Шумер, Египет, позднее – Вавилон, Ассирия. На востоке – царства Шан и Инь в стране Хуася (Китай, III – II тыс. до н.э.), города-государства Мохенджо-Даро и Хараппа (Индия, 2400 – 0100 до н.э.); в Южной Америке – Сан-Лоренсо (период расцвета – 1400 – 000 до н.э.) Ла Венте (период расцвета – 800 – 000 до н.э, современные мексиканские штаты Велакрус и Табаско), где обитали древние ольмеки (от ацтек. «олли» – каучук). В отличие от «догосударственного, догражданского и дописьменного» состояния первобытного общества их важными признаками стали более сложная форма разделения труда (отделение ремесла от земледелия и скотоводства); появление городов-государств, социального неравенства и письменности как способа коммуникации (иероглифической в Египте, в стране Хуася и у древних ольмеков, клинописной в Шумере, разновидности алфавитного письма «деванагари» в Индии, слогового письма А на Крите, Б в Микенах и др.); становление управленческих функций (правители, жрецы), определявших служебное положение человека, его права и обязанности; переход от архаичных мифологических представлений к более сложной системе политеистического пантеона.
К эпохе древних цивилизаций относят появление головоломок. Во время археологических раскопок в Китае и Индии были обнаружены наборы пластинок, из которых требовалось собрать различные геометрические фигуры. Нередко отдельные элементы сцеплялись специальными шарнирами и получались цепочки, из которых собирались фигуры. В Древнем Египте и в цивилизациях Двуречья были найдены шашечницы, но правила игры не сохранились. Предполагают, что шашки возникли на основе астрологических таблиц. В 1922 г. английский археолог Г. Картер обнаружил в гробнице Тутанхамона (фараона XVIII династии, XVI в. до н.э.) шашки с одноцветной линейной доской из 30 клеток. Игровые пункты на ней определялись точками пересечения линий либо точками, обозначенными на отрезках прямых или изогнутых линий. Играли и на 64 клеточной доске. Из Египта шашки проникли в Древнюю Грецию, а затем в Рим.
В захоронениях Древнего Египта и Древнего Востока были обнаружены игральные кости с подпиленными одной или несколькими сторонами. С полным основанием можно предположить, что они использовались не как культовый предмет, а являлись принадлежностью азартных игр. Однако в древнеиндийской эпической поэме «Махабхарата», оформление основного сюжета которой относится к середине I-го тыс. до н.э., игра в кости имела еще сакральный смысл и рассматривалась как вызов на поединок, чтобы помериться силой разума. В поэме рассказывается, что после смерти легендарного царя Бхараты Панду власть в стране перешла к его старшему брату слепому Дхритараштре. Его сто сыновей, прозванные кауравами, завидовали своим двоюродным братьям пандавам, их превосходству в военных играх и науках. Из-за козней пандавы вынуждены были покинуть Бхарату. Во время скитаний они породнились с могучим царем панчалов и построили себе город Индрапрастху (в районе современного Дели). Чтобы погубить своих ненавистных соперников, кауравы вызвали старшего из пандавов – Юдхиштхиру – на игру в кости. Во время этой игры Юдхиштхира проиграл все царство, имущество, себя и своих братьев, а также их общую жену Драупади. Дхритараштра отменил эти результаты, и состоялась новая игра, по условиям которой проигравшие должны были уйти на тринадцать лет в изгнание. Вторая игра также оказалась неудачной для пандавов, и они удалились в леса, а тринадцатый год провели в городе, но так, чтобы их никто не узнал.
На Востоке большой популярностью пользовались шахматы. В сочинении «Визаршини Чатранг», написанном на среднеперсидском языке, дается древняя формулировка комбинаторной задачи распределения элементов, к которой сводится шахматная игра, в соответствии с заранее поставленными условиями на доске 8 х 8 клеток.
Развитие мифологического сознания древних, свойственное им стремление обобщить свои представления об окружающем мире и о тех силах, которые этим миром управляли, привели к появлению культовых состязаний в знаниях о происхождении мира и человека, о святых вещах и сокровенных именах. Древние верили, что слово могло влиять на мировой порядок. По наблюдению Й. Хейзинги, в этих культовых состязаниях, в священной игре рождалась философия. Чаще всего состязания проводились в форме вопросов и ответов или загадок, зафиксированных позднее в различных религиозных книгах. К примеру, в древнейшей из Вед – «Ригведе» (рубеж II – I тыс. до н.э.), отразившей религиозно-философские представления древних ариев, – приводятся подобные культовые состязания в «знании начал»: «Я спрашиваю тебя о крайней границе земли. Я спрашиваю, где пуп мироздания. Я спрашиваю тебя о семени племенного жеребца. Я спрашиваю о высшем небе речи». В «Атхарваведе» – веде магических заклинаний, направленных на отвращение злых сил, – вопросы представляют собой серию загадок: «Куда уходят полумесяцы, куда луны, соединяясь с годом? Почему никогда не стихает ветер, почему не отдыхает дух? Куда уходят времена года?»
Согласно ветхозаветному преданию, легендарная царица Сабейского царства (царица Савская) в Южной Аравии, услышав о славе и мудрости Соломона (ок. 965 – 526 до н.э.), познавшего «устройство мира, начало, конец и средину времен. …Все сокровенное и явное» (Премудрости Соломона. 7, 17), пришла в Иерусалим, чтобы испытать его загадками, которые являлись одним из приемов иносказательного тайного языка. В «Махабхарате» Юдхиштхира освобождает Бхиму, одного из братьев пандавов, от смертельных объятий змея Нахуши, ответив на его вопросы. Он же разгадывает загадки якши, полубожественного существа хтонического происхождения, умертвившего четырех братьев, и возвращает их к жизни.
В форме вопросов и ответов между Заратуштрой, древнеперсидским жрецом и пророком (1-я треть I тыс. до н.э.), и высшим божеством Ахура Маздой написана первая из сохранившихся священных книг зороастризма под названием «Авеста» – «Вендидат» («Кодекс, данный против дэвов», то есть законы и предписания, отвращающие против злых духов). На вопрос о том, где самое лучшее место на земле, следует ответ: оно там, где «праведный» (поклонник Ахура Мазды) сооружает дом – «полную чашу», где он возделывает землю «правой рукой и левой, левой рукой и правой», растит многочисленные стада и т.д.
Примеры роковых загадок, в которых ставкой в игре являлась жизнь, содержатся в древнегреческих мифах и в «Книге судей». Чудовище Сфинкс, расположившееся на горе близ Фив, задавало каждому проходившему загадку: «Кто из живых существ утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?» Того, кто не давал разгадки, Сфинкс убивал. Только Эдип сумел разгадать эту роковую загадку (человек в младенческом, зрелом и старческом возрасте), с гордостью заявив: «… тогда явился я… и разрешил загадку своим лишь разумом, а не по птичьим законам» (Софокл, трагедия «Эдип-царь»). Удрученный горем, Сфинкс вынужден был броситься со скалы, а Эдип в качестве награды приобрел царство.
Прорицания древнегреческих оракулов также нередко приобретали форму загадок, зачастую темных и двусмысленных. Например, последний царь Лидии Крез (годы правления – 560 – 047 до н.э.), согласно преданию, получил в Дельфах перед началом войны с персидским царем Киром II следующий оракул: «Перейдя реку Галис, ты разрушишь великое царство». Этим царством оказалась Лидия: персидский царь Кир II одержал победу над Крезом и присоединил Лидийское царство к Персии в 547 г. до н.э.
Загадка назорея Самсона, героя ветхозаветных преданий, была связана с событием, происшедшим с ним по пути в Фимнафу, где жила его невеста. На него напал лев, Самсон разорвал его и обнаружил в желудке пчелиный рой и мед. Отсюда и неразрешимая загадка, заданная им филистимлянам на брачном пиру: «Из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое». Самсон заключил пари с филистимлянами на тридцать рубашек и тридцать перемен одежд. Но филистимляне выпытали разгадку у жены Самсона, пригрозив ей сжечь дом, что привело к трагическим событиям: Самсон поразил тридцать филистимлянских воинов и отдал их одежды брачным друзьям. В XVII веке этот сюжет был использован голландским живописцем Рембрандтом в картине «Самсон, загадывающий загадки на свадьбе».
Свидетельством того, что восточные славяне, как и другие древние народы, состязались в мудрости, являются следующие загадки: «Стоит столб до небес, на нем 12 гнезд, в каждом гнезде по 4 яйца, в каждом яйце по 7 зародышей» или «Выросло дерево от земли до неба, на этом на дереве 12 сучков, на каждом сучке 4 кошеля, в каждом кошеле по шесть яиц, а седьмое крашеное». Они представляют собой описание мирового древа, воплощающего универсальную концепцию мира и правила ориентирования человека в нем. Сакральные числа 12, 7, 4 являются символическими образами мира: 12 частей года, 12 знаков зодиака; 7 – число дней недели, дней праздников, количество цветов спектра; 4 связано со сторонами света, главными направлениями, временами года, элементами (огонь, воздух, вода и земля), 4 сторонами в таких фигурах, как квадрат и крест.
По мере того, как обряды, ритуальные игры и танцы утрачивали сакральный смысл, они превращались в светские представления и средства обучения, а их исполнители становились профессиональными певцами-сказителями, музыкантами и танцовщиками. В Индии, например, обрядовые игры кочевников-скотоводов, населявших эту страну в глубокой древности, превратились в представления раслила и рамлила. В основе сюжета раслилы (санскр. рас – представление, лила – игра) лежит миф о Кришне, покровителе скотоведческих племен, спасающем от лесного пожара коров и поднимающем над головой гору Говардхан, чтобы пригрыть от дождя пастухов, пастушек и их скот. Раслила состоит из пролога ритуального характера и нескольких эпизодов из жизни Кришны. Она исполнялась на открытом воздухе на импровизированной сцене, причем участники представления и зрители по традиции переходили после исполнения каждого эпизода на другое место: хоровод Кришны с пастушками разыгрывался на берегу реки, встреча с отшельником – в лесу и т.д. Между эпизодами вставлялись бытовые интермедии комедийного характера. Музыкально-танцевальная драма рамлила (санскр. Рам[а] – одно из земных воплощений бога Вишну, лила – игра) разыгрывается во время религиозного праздника дасахры в течение 9 – 94 дней на площади или на подмостках. Ее исполнители иногда надевают маски.
На Цейлоне древний обряд изгнания из больного злых духов превратился в театральное зрелище колам (сингал. колама – маска). Традиционные маски злых духов, животных (лев, тигр, медведь, обезьяна, волк, корова и др.), великанов были дополнены масками короля, королевы, придворных и масками представителей различных сословий, населявших Цейлон (деревенский староста, писец, солдат, барабанщик и др.). Как и в древних обрядах, рассказ чтеца иллюстрируется пантомимой и плясками под аккомпанемент барабана. Участники колама имитируют поведение животных; актеры, изображающие злых духов, исполняют древние ритуальные пляски; бытовые персонажи разыгрывают комические сценки, основанные на импровизации и пересыпанные непристойными шутками. Представление начинается вечером и продолжается всю ночь. Оно заканчивается выходом актера в маске астролога, который обращается к богам с мольбой о милости для всех присутствующих.
Наименьшей трансформации подверглась обрядовая игра в культуре Древнего Китая, отличавшейся замкнутостью, стабильностью, традиционностью. Ритуальные принципы и нормы поведения в этой стране заменили во многом мифологию и религию. Кун-цзы (Кун-цю, европейское обозначение имени – Конфуций, 551 – 179 до н.э.) призывал своих соотечественников: «На то, что не правила – не смотри! Того, что не правила – не слушай! Того, что не правила – не говори! Не по правилам – не действуй!» Этот мыслитель, идеи которого легли в основу китайской идеологии, придал игре сословный характер.
Кун-цзы делил людей на два разряда: «совершенные мужи» (цзюньцзы) и «малые люди» (сяожень). Цзюньцзы отличаются гармоничностью, целостностью, чувством центра, стремлением следовать истинному пути – Дао, – воспринимать волю Неба и соединяться с ним. Напротив, сяожень думают только о себе, действуя «как все». Они нарушают Дао, стремятся к выгоде и окружают себя людьми, которые угодничают и «готовы на все». Кун-цзы утверждал, что «совершенный муж» не должен состязаться с другими или создавать какую-либо партию. Мудрец делал исключение для стрельбы из лука, так как проигравший винил только себя, и для облавных шашек вэнци. Один из древних авторов писал об этой игре следующее: «Говорят, игра в облавные шашки воспроизводит образ 8 триграмм. Число шашек на доске соответствует количеству дней в году, черные и белые шашки обозначают силы инь и ян. Четыре угла доски – это солнце, луна, звезды и знаки зодиака. На доске происходят все 10 тысяч превращений». В игре участвуют 150 белых и черных шашек, но их количество может быть доведено до 360. Цель играющих – убить как можно больше воинов противника, что сближает вэнци с игрой сян-ци, напоминающей европейские шахматы.
Став после 136 г. до н.э. официальной государственной идеологией, конфуцианство осудило любое соперничество: игра должна была служить индивидуальному духовному совершенствованию человека, а ее главными принципами являлись «мягкость» и «уступчивость». Элите запрещалось играть в такие игры, как цзяоди («бодание рогами»), гонки «лодок-драконов», шупу (кости), изобретателем которого считался основоположник даосизма Лао-цзы, петушиные бои, бои перепелов, сверчков, лошадиные скачки, собачьи бега, перетягивание каната по разные стороны ручья и др. «Бодание рогами», видимо, имитировавшее бой быков, было запрещено на рубеже нового века. Его сменила игра сян пу («взаимный захват»). В конце игры ее участники учтиво кланялись друг другу. Такая же судьба постигла игру в «ножной мяч», в которой две команды должны были забить тряпичный мяч в ворота друг друга. Официально были разрешены состязания в учтивости («жань») и состязания по борьбе, которые устраивались в дни рождения императоров и в большие праздники воинами дворцовой гвардии. Они также заканчивались взаимными поклонами.
Совершенно иной смысл имела старинная игра го, изобретенная в Китае более 4000 лет назад. В ней выигрывает тот, кто сумеет захватить и удержать наибольшую территорию противника, затратив меньше всего фишек (черных или белых). Каждый из игроков может окружать и «брать в плен» фишки противника, но главное в ней – захват территории. Го начинается при совершенно пустой доске. Игроки по очереди ставят свои фишки (у черных – 181, у белых – 180) в любое место доски, имеющей 19 вертикальных и 19 горизонтальных линий. Их пересечения образуют 361 пункт. Цель играющего – захватить территорию и расширить свои владения, в то же время не растягивая своих сил, чтобы не подвергнуться пленению со стороны противника. Лучшая стратегия в этой игре – занимать свободное пространство и атаковать слабые места противника. Побеждает активная оборона того игрока, который способен своими силами контролировать наибольшую территорию. Эта игра легла в основу военной доктрины, разработанной талантливым полководцем Сунь У (Сунь-цзы, VI – V вв. до н.э.). Он заявлял: «Тот, кто ищет победу на остриях мечей, не лучший полководец. Сражение – опасное дело. Поэтому тот, кто умеет вести войну, покоряет чужую армию, не сражаясь, берет чужие крепости, не осаждая, сокрушает чужое государство, не держа свое войско долго, …это и есть правило стратегического нападения». Видимо, ритуальный характер имели словесные игры, в частности, палиндром, которому в древности придавался особый магический смысл. Известны палиндромы китайской поэтессы Cу Жолань (IV в.), один из которых был выткан на шелке Цю Ином (1494 – 1652).
Частью ритуальных церемоний являлись игры в мяч, широко распространенные у индейцев доколумбовой Америки. Родоначальниками этих игр считают древних ольмеков – «людей из страны, где добывают каучук». Правила игры были весьма своеобразными: к литому каучуковому мячу нельзя было прикасаться ладонями и ступнями. Предполагают, что нужно было дотронуться мячом до дисков или голов животных, изображенных на параллельных стенах почти метровой толщины и шестиметровой высоты, между которыми располагались площадки для игры. Внутренняя наклонная сторона стен имела подобие скамей. Зрители поднимались к ним по широким лестницам. Вероятно, результат игры зависел не от «забитых» мячей, так как это было достаточно сложно сделать. По-видимому, проигравших игроков приносили в жертву: им отсекали головы. Ольмеки распространили свое культурное влияние на огромную часть побережья Мексиканского залива.
У народа майя игра в литой каучуковый мяч между двумя командами была не только религиозной церемонией, но и политической акцией: она определяла судьбу и положение вождя, а также благополучие соплеменников. Для игры была предназначена специальная площадка напротив «Храма Ягуаров» в городе-государстве майя Чичен-Ице, крупном торговом и культурном центре в V – XI / XII вв. Вокруг площадки на шестах располагались черепа принесенных в жертву богам «капитанов» проигравших команд: им отрубали головы, что считалось большой честью.
Процесс превращения ритуальной игры в светские представления явственно прослеживается в древнегреческой культуре в период формирования полисного мировоззрения. Его основу составляли честь, почет и уважение, связанные с высоким общественным положением, правом владения «уделом великим, лучшей землей, виноград и пшеницу обильно плодящей» (Гомер «Илиада»), а также храбрость, верность слову, готовность защитить себя и своих близких, стремление считать интересы полиса выше собственных имущественных или семейных интересов. Рабовладельческая система хозяйствования предоставляла эллинам (коренным жителям Эллады) возможность иметь досуг (греч. schole) и принимать активное участие в жизни полиса – заниматься политикой. Своеобразие географического положения Древней Греции (обилие островов) способствовало появлению особых средств «для обеспечения культурной идентичности», то есть принадлежности к единой эллинской культуре, не связанной с соответствующим местом и временем. Одним из важнейших средств этого приобщения являлся агон (греч. борьба, состязание), названный Гераклитом «отцом всех вещей».
Стремление к состязанию, борьбе пронизывало все сферы общественной жизни Древней Греции (Эллады), где главную роль играли спортивные, художественные (музыкальные и поэтические) и конные состязания. Их цель, по словам Платона, заключалась в том, чтобы «расположить к себе богов и отбить врагов, победив их в бою». Не устраивалось состязаний только по плаванию, хотя греки обоего пола были прекрасными пловцами. О необразованном человеке эллины говорили: «Он не умеет ни писать, ни плавать». Отсутствие состязаний по плаванию объяснялось тем, что в Древней Греции не было закрытых водоемов: все плавали в открытом море.
В ранние периоды древнегреческой истории и культуры (XI – VIII вв. до н.э. – гомеровский или раннеархаический периоды, «темные века»; VII – VI вв. до н.э. – период архаики) существовала разветвленная система земледельческих, погребальных и поминальных обрядов, которые сопровождались ритуальными играми. В честь дочери Зевса Афины, покровительницы земледелия и ремесла, проводились прохаристерии во время прорастания хлебов; принтерии – к началу жатвы; калинтерии, приуроченные ко времени созревания плодов; скирофории – для предотвращения засухи; аррефории, во время которых аррефоры (девочки 7 – 71 лет, прислуживавшие на акрополе в храме Афины,) приносили в корзинах священные предметы в подземное святилище богини. Афине Полиаде (Городской), основательнице города и ареопага, были посвящены Великие Панафинеи, проходившие в последние дни августа. Кульминационным моментом ритуала являлась праздничная процессия (помпа) 28 числа, в день рождения богини. Шествие, в котором принимали участие все свободнорожденные афиняне (коренные жители города-государства) начиналось в ремесленном квартале Керамик и направлялось к акрополю. На колесах катили священный панафинейский корабль (см. словарь: карнавал), к мачтам которого был прикреплен пеплос – покрывало, вытканное богине афинскими девушками. Ритуал завершался жертвоприношением, музыкальными, атлетическими и конными состязаниями. Победителям вручались венки из священной оливы и великолепная амфора с оливковым маслом (цветущая олива, поднявшаяся из камня, – чудо, содеянное Афиной в споре с Посейдоном за обладание полисом).
С Аполлоном как божеством солнечного света были связаны таргелии (май-июнь) – праздник жатвы – и пианепсии, когда Аполлону приносили в дар эйресионы – масличные ветки, которые обматывались шерстью и украшались плодами, чтобы бог солнца (Феб-Аполлон) возвратился на следующий год. В Спарте, Мессении и Сикионе в честь Аполлона Карнейского (Карн – демон плодородия, связанный с божеством) проводились Карнеи (август-сентябрь), продолжавшиеся девять дней и носившие военный характер: Аполлон почитался как бог-воитель, так как его лучи отождествлялись с золотыми стрелами, которыми он поражал врагов. Во время Карнеев ставились шатры из листьев и устраивались состязания в беге.
Богиню плодородия и земледелия Деметру почитали также как богиню-законодательницу, устроительницу разумных земледельческих порядков – Тесмофору. В честь Деметры и ее дочери Коры-Персефоны устраивались Тесмофории в октябре-ноябре в различных местах древней Эллады (в Афинах, на островах Делос, Эгина и др., в малоазийских полисах). В Тесмофориях принимали участие только свободнорожденные замужние женщины, шествовавшие к храму Деметры и Коры на мысе Галимунт, близ Афин. На второй день во время обряда жертвоприношения участницы шествия бросали свинью или поросенка в пропасть, которая, согласно мифам, являлась местом выхода Персефоны из Аида. На третий день процессия возвращалась в Афины и весь четвертый день постилась. Завершались Тесмофории плясками, пантомимами, в которых разыгрывались сцены похищения Персефоны Аидом.
В VIII – VII вв. до н.э. с распространением культа Диониса, бога умирающей и воскресающей природы, покровителя виноградарства и виноделия, стали отмечаться Антесферии, проходившие в начале весны, с появлением молодого вина, готового к употреблению. В первый день («день открытия бочек») устраивались проба вина и возлияние его богу. Во второй день («кружки») участники ритуала приносили вино и пили его из кружек, а затем присутствовали при совершении мистического брака Диониса с женой архонта-басилевса (царя). Статую бога привозили в город в лодке на колесах. Последний день («горшки») посвящался богу Гермесу, проводнику душ умерших в царство Аида. Чтобы умершие не появились среди живых, не навредили и оставили в покое людей, им выставляли горшки с вареными бобами, а затем изгоняли с криками: «Вон, керы, Антесферии кончились!» В этот «нечистый» день храмы олимпийских богов были закрыты, двери домов обмазывались смолой, все от мала до велика жевали листья терновника, чтобы уберечь себя от контактов с душами-керами. Этот ритуал олицетворял двойственность Диониса, бога умирающей и воскресающей природы, и соединял в себе радость восприятия жизни и печаль, связанную с поминовением умерших.
Четыре раза в году в Аттике отмечались Дионисии: сельские, или малые (декабрь-январь), когда семьи шли к алтарю Диониса, ведя жертвенных козлов, неся сосуды с вином для возлияний и символ производительных сил природы, свидетельство принадлежности к мужскому полу. После жертвоприношения пели культовые песни (дифирамбы) в честь бога, устраивали импровизированные представления и шуточные игры, во время которых прыгали на одной ноге по надутым козьим мехам, намазанным маслом. Победителю вручался мех, наполненный вином. Учредителем этой игры считался Икарий, обучивший жителей Аттики виноделию и получивший в дар от Диониса мех с вином.
Титану Прометею, богоборцу и защитнику людей, были посвящены Прометейи, проходившие в Афинах. Согласно древнегреческому историку Павсанию, они начинались бегом от жертвенника Прометея в Афинской академии (роща, названная по имени мифологического героя Академа) через район ремесленников Керамик до афинской агоры. В руках бегунов были зажженные от жертвенника факелы, которые необходимо было сохранить горящими как символ огня, похищенного Прометеем у Зевса. Бег с факелами устраивался и в честь Гефеста (Гефестии), бога огня и кузнечного ремесла. Прометейи и Гефестии сопровождались выступлениями хоров мальчиков и мужчин.
В честь куретов – демонических существ, мифических спутников богини Реи, заглушавших плач младенца Зевса на Крите шумными танцами и стуком мечей о щиты, – проводились Диоскурии. В Афинах эти игры посвящались деве-воительнице, появившейся в полном вооружении из головы Зевса: «А она [Афина] уже скачет и пляшет военный танец, потрясает щитом, поднимает копье и вся сияет божественным вдохновением» (Лукиан «Разговоры богов»). В мифах называются изобретатели борьбы и кулачного боя. Борьбу с помощью ног впервые употребил сын Посейдона Керкион, принуждавший путников вступать с ним в схватку. Другой сын Посейдона Амик первым стал использовать ремни для обвязывания рук во время кулачного боя, изобретенного Тесеем.
В честь титана Крона, культ которого как покровителя жатвы был распространен в Олимпии и в Афинах, устраивались Кронии, популярные среди неимущих и рабов. Согласно одной из версий мифа, Крон примирился с Зевсом и правил на «островах блаженных». Время его правления называли золотым веком. Во время этого праздника рабы и их владельцы менялись местами: господа прислуживали рабам, и воцарялось веселье карнавального типа, вызванное разрушением установленного мирового порядка.
Коллективные игры, танцы, шествия, сопровождавшие ритуалы в честь богов, чтобы обеспечить благополучие греков-ахейцев (эллинов), со временем были преобразованы в Панэллинские общегреческие игры – символ взаимного согласия древнегреческих полисов и своеобразный способ показать достоинства свободно рожденных эллинов. Атлеты считали честью для себя участвовать в соревнованиях и побеждать. С V в. до н.э. некоторые атлеты стали зарабатывать себе на жизнь выступлениями за город-государство на общегреческих играх – Олимпийских, Пифийских, Истмийских, Немейских и Делийских. Во всех играх участвовали только мужчины, коренные жители Эллады. Женщины не могли появляться на них даже в качестве зрителей. Для женщин устраивались Герайи – игры, которые проводились в честь покровительницы брака и семьи богини Геры каждые четыре года и состояли из состязаний в беге для девочек и девушек трех различных возрастов.
Учреждение Олимпийских игр (Олимпиад) в честь Зевса Олимпийского в 776 г. до н.э. приписывают сыну Зевса Гераклу, а установление правил и порядка проведения игр раз в четыре года в священном округе Олимпии – Альтиде – легендарному законодателю Спарты Ликургу Спартанскому (ок. 1-ой половины VII в. до н.э.) и Ифиту Элидскому (ок. 570 до н.э. организация Олимпийских игр перешла к Элиде, местности на северо-западе Пелопоннеса). 776 г. до н.э. стал началом греческого летосчисления по Олимпиадам. В состязаниях, которые устраивались 22 июня и продолжались пять дней, принимали участие только свободнорожденные граждане греческих полисов, не запятнавшие себя никаким преступлением. Метеки (греч. metekios – переселенец) – иноземные поселенцы, не имевшие ни гражданских, ни политических прав, – в играх не участвовали. Все устройство олимпийских празднеств лежало на 10 олимпийских судьях – элланодиках. За день до начала состязаний атлеты и их учителя совершали обряд жертвоприношения на границе Элиды и Олимпии у Пиерийского источника.
Первоначально Олимпийские игры состояли только из бега. С 688 г. до н.э. в программу Олимпийских игр был включен кулачный бой. Вплоть до V в. до н.э. бойцы обматывали кулаки кожаными ремнями, затем – плетеными кожаными перчатками, оставляя кончики пальцев свободными. Начиная с XIV Олимпиады, были введены «двойной бег», «долгий бег» (до 12 концов в обе стороны стадиона), пятиборье (прыжки, метание диска, бег, борьба, метание копья), состязания на колесницах с четверкой лошадей, бег в полном вооружении (гоплитодром) и панкратий. После окончания состязания победителям – олимпионикам, облаченным в пурпурную одежду, – вручались награды под звуки флейты и пение гимнов: пальмовая ветвь и венки из ветвей священного масличного дерева, росшего возле храма Зевса. Олимпионикам ставили статуи в Олимпии и в родном городе, их именем называли год, в который была одержана победа. Победителям олимпиад устраивали торжественный въезд в родной город через специальный пролом в крепостной стене, который тотчас же заделывался, чтобы крылатая богиня победы Ника навсегда осталась в этом городе. Во время проведения Олимпийских игр прекращались военные столкновения, охранялись путники, устраивалась общегреческая ярмарка.
Пифийские игры в память о победе Аполлона над чудовищным змеем Пифоном проводились в Дельфах один раз в четыре года. Первоначально это были состязания поэтов и музыкантов в театре, расположенном над храмом Аполлона. С 586 г. до н.э. стали устраиваться игры по всем видам древнегреческого спорта. На верхней террасе располагался гимнасий – школа для подготовки к Пифийским играм. На стадионе (6500 мест) были размечены стартовые дорожки. Победители получали приз – лавровый венок (лавр – священное дерево Аполлона). Пифийские игры просуществовали вплоть до 395 г. н.э. На месте рождения Аполлона – острове Делос, главном центре его культа, – раз в четыре года проводились Делийские игры (Делии). Они были учреждены Афинами в 425 г. до н.э. С тех пор на острове не разрешалось ни умирать, ни рожать. Все гробницы были перенесены на соседний остров Рения.
Местом проведения Истмийских игр (Истмий) в честь бога морей Посейдона (один раз в два года, вероятно, с 582 г. до н.э.) была сосновая роща недалеко от Коринфа, где находился храм Посейдона Истмийского. По преданию, они вели свое начало от погребальных игр в честь Ино и ее сына Меликерта, которые, спасаясь от преследования, бросились в море, где Ино стала морской богиней Левкотеей, а Меликерт – морским богом Палемоном. Согласно одному из мифов, Истмийские игры учредил афинянин Тесей в память о своей победе над разбойником Синнидом. Они состояли из гимнастических, конных и музыкальных состязаний. Победителям вручался венок из сельдерея или из сосновых веток, в который вплеталась ветвь пальмы. Истмийские игры просуществовали вплоть до признания христианства официальной религией (313 г. н.э.).
С VI в. до н.э. (вероятно, с 573 г. до н.э.) каждый второй и четвертый год Олимпиады в Немейской долине (Арголида) у святилища Зевса проводились Немейские игры. Согласно одним мифам, их учредил аргосский царь Адраст. Другие источники называют Геракла, основавшего Немейские игры в честь своего отца Зевса после победы над Немейским львом. Гимнастические и конные состязания завершались награждением победителей оливковой ветвью или венком из сельдерея. С победой христианства Истмийские игры были запрещены.
В благодарность за одержанную на состязании победу атлеты ставили статуи и посвящали их богам. Сохранилась бронзовая фигура из посвятительной группы – статуя «Дельфийский возница» (ок. 470 до н.э., высота 1,80 м), дающая достаточно точное представление о человеческом теле и его пропорциях. Всеобщее восхищение эллинов вызывали работы прославленных древнегреческих скульпторов Мирона, Поликлета и Лисиппа. В статуе «Дискобол» (середина V в. до н.э.) Мирону удалось передать напряженное движение атлета в кратчайший момент, требующий максимальной отдачи мускульной и волевой энергии, – последний взмах руки перед броском диска, когда вся тяжесть тела направлена на правую ногу, а левая рука удерживает фигуру в равновесии. Об этой статуе древнегреческий писатель Лукиан (ок. 120 – после 180) писал: «Не говоришь ли ты о метателе диска, который склонился в движении метания, повернув голову, смотря на свою руку, держащую диск, и слегка откинул одну ногу, как будто готовясь выпрямиться вместе с ударом».
Сохранились римские мраморные копии с двух бронзовых скульптурных изображений Поликлета, запечатлевших победителей: «Дорифор» (юноша-копьеносец, высота 2,01 м, ок. 440 г. до н.э.) и «Диадумен» (высота 1,98, ок. 420 г. до н.э.). В «Дорифоре» воплотилось представление о человеческой фигуре как о совершенном механизме, в котором все части функционально взаимосвязаны, а также то, что больше всего ценили эллины в произведениях искусства, – красоту, разумность, меру и гармонию. В статуе «Диадумен» древнегреческому скульптору удалось передать внутреннее движение победителя, увенчивающего себя повязкой, показать гармонию человеческого тела, взаимодействие и скрытую ритмичность его пропорций.
Придворный художник Александра Македонского Лисипп стремился воспроизвести развивающийся во времени психологический момент, выявить разнообразные формы движения. В статуе «Апоксиомен» (римская мраморная копия с бронзового оригинала, 330 – 020 гг. до н.э.) скульптор изобразил стройную тренированную фигуру атлета, счищающего с себя стригилем (скребком) песок после упражнений в палестре (зал для спортивной борьбы и упражнений). Легкие удлиненные пропорции, уменьшение объема головы делают фигуру более гибкой и подвижной.
Культовые песни, посвященные Олимпийским, Пифийским, Немейским и Истмийским состязаниям, уже в VI в. до н.э. превратились в похвальные песни-эпиникии, большим мастером которых был Пиндар (между 522 и 518 – 848 или 447 до н.э.), знаменитый поэт из Беотии. Он воспевал доблесть (арету) атлетов как врожденное свойство, которое достается от богов и передается по наследству только представителям аристократической верхушки. Победа для него была признаком богорасположения, благоприятного поворота судьбы. Пиндар уделял мало внимания самому состязанию. С точки зрения поэта, главным являлось описание победителя, его родословной, насыщенное мифологическими параллелями, сложной системой ассоциаций, наставлениями и рассуждениями морально-философского характера. Воспевая героя-победителя, автор видел свое предназначение в том, чтобы увековечить и сохранить в памяти потомков сам факт победы, что придавало его эпиникиям личностный характер. В отличие от гомеровских героев Пиндар относился к побежденным презрительно.
Вот как описывает поэт победу Гиерона, тирана Сиракузского, и его коня Ференики в скачках (476 до н.э.):
- 1 строфа
- Сердце мое,
- Ты хочешь воспеть наши игры?
- Не ищи состязаний, достойней песни,
- Чем Олимпийский бег.
- Лишь отсюда многолосый гимн
- Разлетается от мудрых умов,
- Чтобы славить Кронида
- У блаженного очага Гиерона …
- 4 антистрофа
- Выигранной борьбы, —
- День дню передает его счастье,
- А это – высшее, что есть у мужей.
- А мой удел —
- Конным напевом, эолийским ладом
- Венчать героя.
- Я знаю:
- Никого из ныне живущих,
- Столько искушенного в прекрасном, столь
- превосходного в могуществе,
- Не прославим мы складками наших песен.
- Некий бог, пекущийся о твоих помышлениях
- Бдит и над твоим призванием, Гиерон.
- Если он не оставит тебя —
- 4 эпод
- Я верю, что я вновь еще сладостней
- прославлю
- Стремительную твою колесницу,
- Проложив колею блистательной хвалы
- По склонам издали видного Крония:
- Самую крепкую стрелу свою
- Муза еще не сработала для меня.
- Разным людям – разное величие;
- Высочайшее из величий – венчает царей;
- О, не стреми свои взоры еще выше!
- Будь твоей долей —
- Ныне попирать вершины;
- А моей —
- Обретаться рядом с победоносными,
- Первому во всем искусстве перед эллинами.
Состязания трагических и комических поэтов первоначально происходили во время Великих Дионисий (февраль-март), учрежденных афинским тираном Писистратом (ок. 600 – 028 до н.э., годы правления – 561 – 160 до н.э.). Организацией представлений руководили высшие должностные лица – архонты, контролировавшие культовые церемонии, а все расходы по содержанию и обучению хора возлагались на богатых граждан – хорегов. В первый день проводились шествия и жертвоприношения. Четыре дня были посвящены состязаниям трагических (три дня) и комических (один день) поэтов. На суд зрителей представлялось три автора трагедий, выступавших с тремя трагедиями и одной сатировской драмой, и пять комедиографов, выставлявших по одной пьесе. Каждому драматургу архонт назначал хорега и распределял актеров (первоначально в трагедиях был один актер, ведущий диалог с руководителем хора, Эсхил ввел второго актера, Софокл – третьего), исполнявших первые роли, – протагонистов. Актерами, танцорами и участниками хора могли быть только мужчины. Они надевали яркие или темные костюмы в зависимости от роли, высокие парики и обувь на толстой подошве (котурны), чтобы увеличить рост и придать фигуре величественность. Обязательным атрибутом были раскрашенные маски, утратившие сакральный смысл и превратившиеся в средство эмоционального воздействия на зрителей. М.М. Бахтин очень точно отметил, что в маске было воплощено игровое начало жизни. Маски изготовлялись из холста или пробки, имели широко раскрытые рты, усиливавшие голоса актеров. Результаты состязаний заносились в дидаскалии (греч. указания, отметки), в которых содержались сведения о начале представления, жанре и названии произведения, о поэте, хоре, исполнителях ведущих ролей и о призах. Дидаскалии хранились в государственном архиве Афин и впервые были опубликованы Аристотелем (384 – 422 до н.э.). Со второй половины V в. до н.э. стали устраиваться состязания актеров-протагонистов.
Любимыми развлекательными играми у древних греков были кости (изобретателем считался участник Троянской войны Паламед; сохранилась амфора, созданная вазописцем Эксекием ок. 530 до н.э., с изображениями Аякса и Ахилла, играющими в кости), коттаб, шашки (изобретение шашек также приписывают Паламеду; эту игру Платон ставил рядом с арифметикой, искусством счета и геометрией), игра в «бабки» с четырехгранными игральными костями – астрагалами, – популярная у женщин, петушиные бои. Со времени греко-персидских войн (500 – 049 до н.э.) устраивались публичные петушиные бои (в Афинах – в театре Диониса). На петухов надевали металлические шпоры. Победителю вручался приз – поверженный петух. У взрослых и детей были популярны игры в мяч, впервые упомянутые у Гомера. Мячи разных размеров изготавливались из материи или кожи и набивались шерстью, перьями, волосами или накачивались воздухом. На одном из барельефов изображена командная игра в мяч на траве с помощью изогнутых клюшек, напоминающая современный хоккей. Но сведений о разновидностях игр в мяч не сохранилось. Известный софист и лексикограф Полидевк (II в. н.э.) приводит до полусотни игр у древних греков, около половины из них – детские.
На симпосиумах (греч. symposion – пиршество), которые проводились после совместной трапезы, пирующие развлекались пением, интеллектуальными играми (апории, центоны, палиндромы и т.д.), разгадыванием головоломок и загадок, пользовавшихся популярностью с древнейших времен. Палиндромы, например, древние греки наделяли магической силой и помещали на сосудах, вазах и других предметах сферической формы. Аристотель считал словесные игры лучшим способом познания истины.
Еще в гомеровскую эпоху культовые загадки превратились в средство тренировки ума, развития сообразительности, находчивости. Согласно преданию, даже мудрый Гомер не смог разгадать загадку, заданную ему мальчишками-рыболовами: «То, что мы увидели и поймали, остается не с нами, а то, что не увидели и не поймали, носим с собой» (разгадка – вши). Примером узелковой загадки-головоломки может служить запутанный узел, которым легендарный царь Фригии Гордий (ум. в 738 до н.э.) связал ярмо и дышло боевой колесницы, подаренной храму Зевса и помещенной в крепости у Гордиона, главного города Фригии. По предсказанию оракула, тот, кто сумеет развязать этот узел, станет властителем Азии. В 334 / 333 до н.э. Александр Македонский, не раздумывая, разрубил Гордиев узел ударом меча.
В сборниках, составленных Пифагором, Клеархом из Сол, приводятся различные виды загадок: числовые, буквенные, рисуночные и др. В эллинистическую эпоху был создан своеобразный стихотворный ребус – поэма Ликофрона (1-я пол. III в. до н.э.) «Александра», в которой троянская пророчица Александра (Кассандра) предрекает события Троянской войны, гибель Гектора, Приама и Ахилла, нашествие Ксеркса и походы Александра Македонского. Все собственные имена мифологических и исторических лиц заменены в поэме описательными выражениями. Обилие метафор и перифраз делает речь персонажей загадочной и непонятной. Вот как вестник, например, сообщает Приаму о начале пророчествования Кассандры после отплытия Париса в Грецию: «… когда плаватели отрешили благопогодные вервия от скальных рытвин, отсекли путы от берега, и прекрасноликие, нежногие, аистоцветные дщери Фалакрии [Трои] поразили своими клинками девогубительную Фетиду, вознося над Калидной белые перья, пышную корму и ткани на реях под северными ударами ярого ветра; тогда-то, разжав вдохновенные Вакхом уста на высоком холме Аты [Трои], воздвигнутой скиталицей-коровой, Александра начала свою речь». Современник Ликофрона Александр Этолийский написал трагедию «Играющие в кости» на сюжет из Троянской войны (сохранились лишь скудные отрывки, не позволяющие составить полного представления об этом произведении).
Еще в период поздней архаики ритуальные поношения, служившие на праздниках плодородия магическим средством отвращения зла, превратились в ямбические стихотворения-инвективы, к которым обращались Архилох с острова Пароса (ок. 630 до н.э.) и Симонид с острова Кеоса (556 – 668 до н.э). В одном из ямбических поношений Симонид отразил типичный для Греции VII – VI вв. до н.э. взгляд на женщину, возведя ее происхождение к различным животным или стихиям:
- Различно женщин нрав сложил вначале Зевс:
- Одну из хрюшки он щетинистой слепил, —
- Все в доме у такой валяется в грязи,
- Разбросано кругом, – что, где, не разберешь…
- Другую из лисы коварной создал бог —
- Все в толк берет она, сметлива, хоть куда,
- Равно к добру и злу ей ведомы пути…
- Иной передала собака верткий нрав.
- Проныра – ей бы все разведать, разузнать,
- Повсюду нос сует, снует по всем углам.
- Знай лает, хоть кругом не видно ни души…
- Ту из волны морской. Двоится ум ее:
- Сегодня – радостна, смеется, весела…
- А завтра – мочи нет, противно и взглянуть.
- Приблизится нельзя: беснуется она…
Поэт хвалит лишь ту женщину, которая произошла от пчелы: «Растет и множится достаток от нее…».
С этим же периодом исследователи связывают появление пародии – свидетельства начавшейся «необузданной, веселой игры со всем наиболее священным и важным с точки зрения официальной идеологии» (М.М. Бахтин). Это – игра со стилем и с содержанием известных произведений, своеобразный «дериват маски». Одним из ранних пародистов был Гиппонакт из Эфеса (вторая половина VI в. до н.э.), высмеявший высокий стиль эпической поэзии и гимнов. Изображая себя голодным попрошайкой и забиякой, он обращался к богам с жалобами на то, что у него «весь в дырах» плащ, вымаливал у Гермеса «дражайшего, бога Килленейского», «хламиду шерстяную теплую», «сапоги прочные», обвинял Плутоса в слепоте и трусости:
- Богатства бог, чье имя Плутос, – знать, слеп он!
- Под кров певца ни разу не зашел в гости
- И не сказал мне: «Гиппонакт, пока тридцать
- Мин серебра тебе я дам; потом – больше».
- Ни разу так он не зашел в мой дом: трус он.
Пародией на героику эпоса и на традиционные приемы эпического стиля является «Война мышей и лягушек» («Батрахомиомахия», конец VI в. или начало V в. до н.э.). На протяжении веков мужественные и бесстрашные эпические герои Гомера, обладавшие острым чувством родины, служили образцом для подражания и изучались в античной школе. Как и в прославленной «Илиаде», в «Батрахомиомахии» два плана: один – земной – связан с лягушиным царем Вздуломордой, потопившим родовитого мышонка Крохобора; второй – олимпийский – представляет совет богов, сниженных до уровня бытовых персонажей. Описание боя между лягушками и мышами, насыщенное эпическими формулами, пародирует боевые поединки «Илиады»:
- Временем тем комары в большие трубы к сраженью
- Вражеским станам обоим знак протрубили, а с неба
- Зевс загремел Громовержец, начало войны знаменуя.
- Первым Квакун Сластолиза – тот в первых рядах
- подвизался —
- Метким копьем поражает в самую печень по чреву:
- Навзничь упал он, и нежная шерстка его запылилась.
- С грохотом страшным скатился, доспехи на нем
- зазвенели.
- Этому вслед Норолаз поражает копьем Грязевого
- Прямо в могучую грудь. Отлетела от мертвого тела
- Живо душа, и упавшего черная смерть осеняет.
- Острой стрелою тут в сердце Свекольник убил
- Горшколаза.
- (В брюхо удар Хлебоеда на смерть Крикуна повергает:
- Наземь упал он стремглав, и от тела душа отлетела.
- Гибель героя увидев и мщеньем за друга пылая,
- Камень огромный, на жернов похожий, схватил
- Болотняник,
- В шею метнул Норолазу; в глазах у того потемнело…).
С V в. до н.э. в Афинах стали проводиться состязания профессиональных пародистов.
В Древнем Риме, начиная с царского периода (период правления семи царей, 753 – 510 / 509 гг. до н.э.), устраивались латинские игры (луди), первоначально являвшиеся частью религиозных церемоний. По преданию, еще первым римским легендарным царем Ромулом были введены Луперкалии (15 февраля) в честь божества Луперка, охранителя стад и пастухов. После жертвоприношения жрецы-луперки вырезали из шкур жертвенных животных – козлов и коз – ремни (фебрулы), выскакивали из храма-пещеры на Палатинском холме и обегали его кругом, нанося удары ремнями всем встречным. Считалось, что это повышает плодородие и исцеляет женщин от бесплодия. Позднее стали проводиться состязания в беге вокруг холма с участием двух команд римских юношей, которые также хлестали зрителей ремнями.
Ромулу также приписывается введение луди цирценсес (лат. circus, первоначально – круг, затем ипподром), гладиаторских боев и луди сценици. Начиная с 491 г. до н.э., они устраивались римскими магистратами-эдилами, помощниками народных трибунов. При организации игр эдилы старались превзойти друг друга в роскоши, чтобы заслужить благоволение толпы. Игры открывались торжественной процессией, обходившей весь цирк в виде вытянутой прямоугольной арены, одна из оконечностей которой имела полукруглую форму. Затем следовали состязания в беге, ристания колесниц, кулачный бой. Игры были бесплатными и проводились то во исполнение обета богам, произнесенного эдилом, то по случаю освещения храмов и других сооружений, то при погребении государственных деятелей.
Римские игры (5 – 59 сентября), во время которых устраивались скачки и театральные представления, были посвящены капитолийской триаде: богу неба Юпитеру, его жене Юноне и покровительнице искусств, ремесел Минерве. В честь Флоры, италийской богини цветов и плодородия, проводились Флоралии (28 апреля – 3 мая), сопровождавшиеся веселыми играми, которые нередко принимали разнузданный характер. Они назывались цветными, так как женщины были увенчаны венками из весенних цветов. Карнавальная природа отличала празднества в честь Сатурна (17 – 79 декабря), бога посевов. Согласно мифам, он ввел в Италии земледелие и виноградарство. В память о золотом веке, с которым ассоциировалось правление Сатурна, 19 декабря господа прислуживали за трапезой своим рабам, считавшимся в этот день свободными.
С 249 г. до н.э. стали проводиться секулярные игры (лат. ludi saeculares), заключавшие saeculum (столетний цикл). Первоначально в них принимало участие только взрослое население Рима. Игры продолжались в течение трех дней и трех ночей и сопровождались жертвоприношениями силам подземного мира в ознаменование конца старого, отягощенного проклятиями века. Август Октавиан изменил характер игр, выдвинув на первый план не идею искупления, а идею очищения перед началом новой эры. Он разрешил молодежи обоего пола участвовать в торжествах под присмотром взрослых. В 17 г. до н.э. специально для игр по заказу Августа Гораций написал «Carmen Saeculare» («Юбилейную песнь») – торжественный гимн в честь Аполлона и Дианы. «Августов певец» (А.С. Пушкин) молит богов об укреплении мощи и процветания Рима и божественного Августа. Эта песня (ею заканчивались секулярные игры) исполнялась хором, состоявшим из 27 мальчиков и 27 девочек.
В эпоху империи игры устраивал чаще всего сам император, иногда – кто-либо из государственных деятелей, чтобы привлечь к себе симпатии широких слоев римского общества. В обрядовых играх участвовали только коренные жители Рима – патриции (лат. patres – отец). В IV в. до н.э. в результате борьбы патрициев и плебеев (первоначально пришелец, затем преобладающая масса свободного населения, не имевшая политических прав), получивших право выбирать трибунов в народное собрание, были введены Плебейские игры (4 – 17 ноября), посвященные Юпитеру. Они проводились на Авентинском холме, расположенном на юге Рима, и завершались театральными представлениями и скачками.
В III в. до н.э. в ходе многочисленных войн с этрусками, галлами, италийскими племенами, Карфагеном луди стали использоваться как средство политического и идеологического воздействия, отвлекавшее народные массы от тяжелого бремени войн и налогов. В эпоху Августа Октавиана (63 до н.э. – 14 н.э.) прозвучал лозунг римского плебса: «Panem et circenses» («Хлеба и цирковых игр»), преобразованный Ювеналом (ок. 60 – после 127) в «Хлеба и зрелищ». Наиболее популярными были три вида зрелищ: театральные представления (луди сценици), гонки на колесницах (луди цирценсес), гладиаторские бои и травля диких зверей (мунера). Помимо этого устраивались также соревнования в беге, борьба и кулачные поединки. В отличие от эллинов патриции участвовали в луди только в качестве зрителей. Достойным для себя занятием они считали лишь историю и риторику. Спортсменами и гладиаторами были рабы, вольноотпущенники или профессиональные атлеты, приглашенные из Кампании, Этрурии, Африки и других мест.
После завоевания Греции и превращения ее в одну из провинций империи римляне стали принимать участие в греческих играх. В 80 г. до н.э. по приказу полководца и государственного деятеля Суллы Олимпийские игры были перенесены в Рим. Первым римским победителем на Олимпийских играх в гонках на колесницах стал будущий император Тиберий в 4 г. до н.э. В ознаменование победы над войсками Антония и Клеопатры Август Октавиан учредил Акцийские игры в 31 г. до н.э. (Акций – мыс в северо-западной Греции, где были разбиты морские силы противника). По указу Октавиана вблизи города, у храма Аполлона, были проведены состязания в честь этого бога и в ознаменование победы. В 86 г. н.э. император Домициан основал Капитолийские игры по образцу Олимпийских. Вплоть до начала IV в. они проводились летом один раз в четыре года и состояли из мусических, конных и атлетических состязаний. Победителей награждали венком из дубовых листьев.
Излюбленное зрелище римлян – гонки на колесницах, введенные по преданию, Ромулом, происходили в Большом цирке (так назывался ипподром длиной в 550 м, шириной в 180 м), который вмещал до 200 тысяч зрителей. В центре арены возвышалась спина; на ней было установлено три каменных столба, украшенных орнаментальным рельефом. В каждом из 20 – 04 заездов участвовало 10 – 02 колесниц, представлявших 4 команды, или партии. Главы беговых команд содержали конюшни, коней и наездников и сдавали их магистратам для устройства гонок. Знаком к началу выезда служил платок, брошенный с высокой трибуны устроителем бега. Каждый заезд состоял из семи кругов, которые отсчитывались с помощью вращающихся предметов, закрепленных на столбах (чаще всего это были огромные яйца). Колесницы были выкрашены в цвета команд – голубой, белый, красный, зеленый; наездники надевали туники соответствующего цвета. Зрители, делившиеся на четыре цирковые партии, также носили одежду соответствующего цвета. Известных наездников, одержавших по тысяче и более побед, воспевали поэты; им ставились статуи с почетными надписями, в которых перечислялись победы.
Гладиаторские бои в честь знаменательных событий первоначально проводились в цирке, а затем в амфитеатрах. Они восходили к погребальным играм этрусков, введенным взамен жертвоприношений на ритуальных церемониях в честь покойного. Первые бои гладиаторов (лат. gladius – меч) были проведены в Риме в 264 г. до н.э. Первоначально они устраивались перед гробницами знатных лиц. Пролитая гладиатором кровь должна была умилостивить богов. Чаще всего гладиаторами становились рабы, военнопленные, осужденные преступники, позднее – преследуемые властями христиане. Их обучали в специальных школах (ludi gladiotorii), где проводился жесткий отбор. Наиболее известной была школа в Капуе, в которой готовили самых смелых и выносливых бойцов.
Игры с участием гладиаторов, вооруженных щитом, мечом, сеткой и трезубцем, устраивались почти еженедельно, а во время государственных праздников – каждый день. Они начинались обычно утром с торжественного шествия мимо ложи императора или устроителя зрелища. Заранее обговаривались до мельчайших подробностей вооружение и средства защиты. Бои гладиаторов четырех категорий продолжались до гибели одного из сражающихся. Современные ученые утверждают, что 10 % боев заканчивались смертельным исходом. Деревянный меч, врученный гладиатору после многих побед, означал, что он становился свободным и мог работать тренером в гладиаторской школе. В Риме гладиаторские бои проводились вплоть до 405 года в амфитеатре Колизей, построенном при императорах Флавиях (69 – 96 н.э.) и освященном императором Титом в 80 году как Amphitheatrum Flavium. В честь этого события были проведены стодневные игры.
Ярко выраженный игровой элемент содержался в триумфах, заимствованных из погребальных обрядов этрусков. Эти торжества в честь полководца-победителя впервые были проведены в III в. до н.э. в ознаменование многочисленных побед римлян. Триумф устраивался в честь полководца, уничтожившего не менее 5000 врагов. Шествие начиналось от храма римской богини войны Беллоны на Марсовом поле и направлялось к Капитолию. В первый день триумфа провозили добычу, захваченную у неприятеля. На следующий день на повозках везли оружие, доставшееся победителям, и несли сосуды (750) с золотыми и серебряными монетами. В последний, третий день триумфа юноши в праздничных одеждах вели 120 белоснежных быков, предназначенных для жертвоприношения. За сенаторами и магистратами следовали ликторы (диктатору полагалось иметь 24 ликтора, претору – 6, консулу – 12, императору – сначала 12, со времен Диоклетиана – 24) с пучками прутьев, обвитых лавровыми ветками. За ними двигалась золотая триумфальная колесница, запряженная четверкой белых коней. На ней в кресле сидел триумфатор в пурпурной тоге, затканной золотыми пальмовыми листьями, со скипетром из слоновой кости в одной руке и лавровой ветвью в другой. За триумфатором стоял государственный раб, державший над его головой золотой венок и фасции (пучки прутьев с воткнутой в них секирой) и время от времени наносил ими удары, выкрикивая: «Не гордись! Помни, что ты только человек!» В соответствии с древними обычаями лицо триумфатора было выкрашено красной краской, чтобы скрыть следы радости от оказанных ему почестей. К триумфальной колеснице были привязаны звонок и бич – знаки переменчивости судьбы (звонок в Риме вешался на шею осужденным на смертную казнь). Триумфальное шествие заканчивалось на Капитолии, где победитель передавал золотой и лавровый (corona triumphalis) венки в храм Юпитера. Затем следовали религиозные обряды, состязания и пиры для народа и воинов. Триумфальные игры завершались театральными представлениями. Известно, что в 29 г. до н.э. на триумфальных играх в честь победы Августа Октавиана над морскими силами Антония и Клеопатры была поставлена трагедия Вария «Фиест».
В честь полководца, уничтожившего менее 5000 тысяч врагов, устраивалась овация (с III в. до н.э.), или малый триумф. Победитель в миртовом венке ехал верхом или шел пешком с Марсова поля к форуму, а оттуда – на Капитолий, где заканчивалось шествие. Его сопровождали сенаторы, облаченные в претексту – служебную форму римских магистратов. Овация завершалась театральными представлениями и состязаниями. С победой христианства римские луди были прекращены, но их отголоски сохранились в карнавалах и в различных народных играх.
О том, какое место в жизни римлян занимала игра, можно судить по высказыванию римского общественного деятеля и писателя Плиния Младшего (61 / 62 – ок. 113): «Когда же притом смеюсь, веселюсь, играю, я человек». Игры спортивного характера римляне рассматривали как средство укрепления здоровья. Игры в мяч, например, проводились на открытом воздухе. Но для них строились также специально оборудованные помещения – спортивные залы (палестры) в термах (общественных банях). На полу одной из палестр в термах императора Каракаллы (III в.) изображены в натуральную величину фигуры борцов, гимнастов и атлетов с венками и пальмовыми ветками. На площади преториума в Иерусалиме, входившем в состав Восточной Римской империи, на мостовой сохранились вырезанные на камнях схемы игр, в которые играли римские легионеры. Одна из них – «Пять камушков».
Большой популярностью пользовалась игра «латрункули» (лат. latro – воин), одна из разновидностей шашек. Римляне применили в ней свободную расстановку шашек по аналогии с боевым порядком римских легионов: полк делился на отделения, которые ставились в три ряда; когда гибли воины первого ряда, промежутки заполняли легионеры второго ряда. Предполагают, что римляне использовали не клеточную, а линейную доску с 12 шашками, расставленными в 3 ряда. На линейную структуру доски указывал Овидий. Он же отметил направление хода шашки и нардовый способ двусторонней атаки: «Как солдат двигается вперед по прямой линии – в той игре, где шашка гибнет от двойной атаки неприятеля». Известно, что латрункули была любимой игрой императора Аврелиана (годы правления 270 – 075 н.э.). Он проиграл 10 партий в эту игру своему легионеру Прокулу, которого в шутку провозгласили императором на пиру в Лионе.
По-видимому, Древнему Риму был известен магический квадрат, составленный из латинских слов:
Его следует читать «змейкой», начиная от третьей буквы первого столбца и направляясь вниз, вверх, направо или налево, так, чтобы получилась латинская фраза: TENET («держит») OPERA («труды») SATOR («сеятель»), что означает: «Великий Сеятель держит все труды в своей руке».
Древние римляне играли также в азартные игры, о времени и месте возникновения которых не сохранилось никаких сведений. Однако во время раскопок в различных уголках земного шара археологами были обнаружены рисунки на камнях и керамике (примерно III тыс. до н.э.) с изображениями людей или богов, играющих в кости и записывающих результаты игры на досках. В Риме игральные кости (лат. alea) изготовлялись из различных материалов – золота, серебра, слоновой кости. Из комедии Тита Макция Плавта (ок. 250 – 184 до н.э.) «Проделки парасита» («Куркулион») известно, что толпы бездельников и бродяг, «forenses», играли в азартные игры в различных местах, прилегающих к Форуму: рядом с каналом – среди каналий (canalicolae), параситов, ожидавших подачки от богачей, за храмом Касторов, в Велабре, у источника Ютурны.
Сохранились сведения о том, что император Август Октавиан (63 до н.э. – 14 н.э.) приказал установить в специальной комнате своего дворца колесо от боевой колесницы, укрепленное на вертикальной оси, для настольной азартной игры, напоминающей рулетку. Прославленному поэту императорского Рима Вергилию (Публий Вергилий Марон, 70 – 19 гг. до н.э.) приписывают строки, в которых звучит призыв к выдержке и взвешенности решений во время игры:
- «Не горячись в игре, дабы
- Не стал ты жертвою судьбы.
- Игры непостижима власть —
- Мутит рассудок эта страсть.
- В ком все же здравый разум есть
- В игре да соблюдает честь!
- Не меньше денег дорога
- И выдержка для игрока.
- Не горячись, играй спокойно,
- А проиграв, держись достойно…»
Впоследствии эти строки были процитированы Себастьяном Брантом в его поэме «Корабль дураков».
В III в. до н.э. был введен первый дошедший до нашего времени закон Lex aleatoria, запрещавший азартные игры как свидетельство неблагополучия нравственных устоев общества. В их число входила игра в кости. Против азартных игр выступал также ритор Расций Цецилий Киприан (после 200 – 258, обезглавлен при императоре Валериане), принявший крещение в 246 году и ставший епископом Карфагена в 248 году.
Игровые элементы присутствовали в римском сценическом искусстве и в литературе. В конце I в. до н. э. в представлениях ателланы (одноактная драма, названная по имени кампанского городка Atella) появились карикатурные маски, подчеркивавшие типовую характеристику образа: дурак и обжора Макк, чванливый хвастун Букк (Буккон), смешной старик Папп и ученый шарлатан-горбун Доссенн. Истоки жизнерадостности и оптимизма комедий Плавта (ок. 250 – 184 до н.э.), их грубых шуток, прозванных «италийским уксусом», следует искать в римских сатурналиях, переворачивавших застывшие устои и нравы.
На игре контрастов высокого и грубого, поэтического и просторечного построены некоторые любовные стихотворения Гая Валерия Катулла (ок. 87 – после 54 г. до н.э.):
- Катулл измученный, оставь свои бредни:
- Ведь то, что сгинуло, пора считать мертвым.
- Сияло некогда и для тебя солнце,
- Когда ты хаживал, куда вела дева,
- Тобой любимая, как ни одна в мире.
Как и древнегреческие поэты, Катулл называл свои насмешливые стихотворения-поругания, восходившие к ритуальным поношениям, «ямбами». Особенно нещадно клеймил он одного из друзей Юлия Цезаря, служившего в его войске начальником инженерной службы, – Мамурру:
- В чудной дружбе два подлых негодяя:
- Кот Мамурра и с ним – похабник Цезарь!
- Что ж тут дивного? Те же грязь и пятна
- На развратнике римском и формийском.
Согласно Светонию, Цезарь признавал, что «на него наложено вечное клеймо стишками Валерия Катулла о Мамурре».
Прием увенчания-развенчания, свойственный сатурналиям, использовал Овидий (43 до н.э. – ок. 18 н.э.) в любовно-мифологических элегиях «Героини» («Героиды»), в которых автор-мужчина пишет от имени женщины (Пенелопы, Федры, Медеи, Дидоны, Брисеиды и др.). Овидий низводит мифологических героинь до уровня бытовых фигур и возвышает быт до уровня мифа, тем самым начиная своеобразную игру с читателем, которая продолжится в последующие эпохи. В дидактической поэме «Искусство любви» поэт пародирует учебник риторики: как найти, как завоевать, а главное, как удержать женщину, и высмеивает моральное законодательство Августа Октавиана.
Яркой пародией на обычай обожествления императоров после смерти является сатира Сенеки (ок. 4 до н.э. – 65 н.э.) «Отыквление». К пародии на эпос и мим обращался Петроний в романе «Сатирикон». В сюжете этого произведения заметны следы пародирования традиционной схемы эллинистического романа, основой которого являлось преследование героя оскорбленным им божеством. Петроний использовал также свойственный сатурналиям фантастический гротеск в изображении города Кротона, в котором только безбрачные и бездетные окружены почетом и уважением, а все население города делится на «улавливающих» – искателей наследства и «улавливаемых» – тех бездетных, кто завещает свои богатства кротонцам.
Большой популярностью среди римлян пользовались словесные игры. Признанными мастерами центона – «лоскутных стихов» – были Цицерон (106 – 43 до н.э.) и Апулей (ок. 124 н.э.). Широкую известность приобрел свадебный центон Авзония (Авсоний, ок. 310 – ок. 395), составленный из произведений Вергилия. Многие сочинения этого поэта были построены на игре различных поэтических форм. К центонам обращался кружок аристократов, возглавленный оратором Симмахом (Симмах Квинт Аврелий, ок. 350 – 410 н.э.). Составленные ими центоны из текстов многих римских авторов призваны были возродить интерес к древней религии и к старой римской культуре.
Процесс игрового преображения действительности, начатый в античную эпоху, будет продолжен в иных условиях и на ином материале в западноевропейской средневековой культуре.
ТЕМА 4. ОСОБЕННОСТИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Период между крушением Римской империи, павшей под ударами германских племен в 476 г., и началом Ренессанса итальянские гуманисты XV века назвали «средними веками». Формировавшаяся феодальная, сословно-иерархическая структура общества обусловила особенности развития средневековой культуры. В культуре Западной Европы определяющим являлось взаимодействие трех факторов: греко-римской (античной) культуры, христианства и народного творчества. Став при императоре Константине I официальной религией (313 г.), христианство утверждало антагонизм духовного и материального, провозглашало земной мир и телесную природу человека воплощением греха и призывало к покаянию, умерщвлению плоти, терпению и смирению в ожидании перехода в «лучший, потусторонний мир». Счастье человека заключалось не в воспитании меры, гармонии, порядка, а в осознании того духовного родства, в котором он находится со Всевышним. Античная мифология превратилась в демонологию, на смену ей пришла новая мифология, связанная с Иисусом Христом, 12 апостолами и многочисленными святыми. Игры как неотъемлемую часть языческих обрядов церковники называли дьявольским наваждением. В «Моралиях», ставших своеобразным руководством по этике, Григорий Великий (540 – 604, римский папа с 590 года) рассуждал об «игре нечистых духов», обманывающих «ложными обещаниями человеческие души», насмехающихся над ними, то «мороча их пустыми страхами», то изображая для них «преходящие радости как вечные» то представляя «вечные муки … как преходящие».
На заре средневековья единственной хранительницей греко-римских традиций являлась Византия, сформировавшаяся в недрах Римской империи как ее восточная провинция на территории Греции, Малой Азии, Сирии, Палестины, Египта, Центральных и Восточных Балкан. В 395 г. Византия отделилась от Рима, став Восточной Римской империей, а затем Византийской империей. Как и у римлян, игры занимали большое место в жизни византийцев (ромеев), особенно в ранневизантийский период (IV – VII вв.). Они приурочивались к языческим и государственным праздникам и организовывались за счет императора. Во время летнего солнцестояния отмечались языческие брумалии (лат. bruma – самый короткий день в году). После Пасхи накануне Троицы проводились Русалии, посвященные весне и цветам. Одним из главных центров культурной и общественной жизни являлся ипподром (греч. hipp odromos – конский бег), находившийся на центральной площади столицы и представлявший собой уменьшенную копию римского Большого цирка. Здесь устраивались ристании (состязания на колесницах), гимнастические упражнения, борьба и др.
По случаю календ (лат. calendae – название первого дня месяца у древних римлян) в ночь на 1-ое января в Большом императорском дворце проводились готские игры, приуроченные к Рождеству. Император приглашал 12 вельмож (по числу апостолов): 8 высших сановников и по 2 представителя от партий (факций) голубых и зеленых, имевших право высказывать мнение по поводу политики правительства. Во время пиршества исполнялся готский танец: 4 танцора по 2 от каждой факции, переодетые «готами», в устрашающих масках со щитами в руках танцевали вокруг императорского стола и пели песни ритуального характера на испорченной латыни. 1-го января, в день избрания очередного консула, на ипподроме проводились консульские игры (ристании), до и после которых исполнялись церемониальные танцы сторонников всех четырех партий: красных, белых, голубых и зеленых.
В день рождения императора, в день вступления его на престол, в календы и в день основания города устраивались ристания, состоявшие из 24 заездов, каждый по 7 кругов. Перед началом состязаний возничие посещали храм, зажигали свечи и причащались. Знаком к началу заезда служил подъем специального стяга над императорской ложей. После утренних заездов наступал перерыв, а затем бега продолжались до позднего вечера. В отличие от римских луди (10 – 02 колесниц) в каждом заезде участвовало 4 колесницы, представлявшие 4 партии. Как и в Древнем Риме, возничие и зрители, имевшие постоянные места на ипподроме, носили одежду цвета своей партии: голубую, красную, белую, зеленую. В центре ипподрома находились красные и белые, справа от императора – голубые, слева – зеленые. Особо почитались наездники, выступавшие на только что побежденных конях. Прославленным возничим посвящались эпиграммы, им ставились статуи из позолоченной бронзы, их изображения с квадригой коней помещались на мозаиках, светильниках, сосудах, рукоятках ножей. Конные соревнования проводились на ипподроме вплоть до XV в.
На малом ипподроме, расположенном в Большом императорском дворце, титулованные лица во главе с василевсом (византийским императором) развлекались конной игрой в мяч. Среди популярных игр, упомянутых в различных источниках, были «бросание копья», тавли (игра в кости, от лат. tabula – доска), «гоньба шара», шашки, шахматы (затрикий), циканий (своеобразное поло), воспринятый Византией от кочевников. Эта игра проводилась в особых помещениях – циканистириях. Две команды верхом на лошадях стремились загнать кожаный мяч величиной с яблоко в заранее намеченную лунку при помощи длинной палки с петлей на конце.
В годы правления Андроника III Палеолога (1328 – 8341), когда усилилось западноевропейское влияние, распространились спортивные игры, популярные в Италии. Одна из них представляла собой поединок, состоявший из двух частей. Участники игры, закованные в латы и вооруженные копьями с тремя острыми концами, были разделены на филы, димы и фратрии. Тот, кто сбил своего противника с лошади, объявлялся победителем. Далее каждая из команд выбирала по жребию своего предводителя, вооруженного палкой, и начинался бой по типу рыцарских турниров. После его окончания участники во главе с предводителями возвращались на свои места. Император вручал каждому вино.
Видимо, ромеи, как и древние греки, увлекались словесными играми, считая, что расположение букв имеет магическую силу. Свидетельством этого является палиндром, вырезанный на мраморной купели в константинопольском храме св. Софии:
НИСПОНАНОМИМАТАМИМОНАНОПСИН.
Он означал: «Омывайте не только лицо, но и ваши грехи».
К числу распространенных детских игр относились игры, имитирующие военные действия: ампра и петрополемос. В ампре принимали участие две команды, каждая из которых имела своего вождя, место, окруженное рвом, и склад (ампра) для пленных. Выигрывала та команда, в которой никто из игроков, преследовавших своего противника, не попал в плен. Петрополемос проводился за городскими стенами. Две команды, разделенные рвом, метали друг в друга камни руками или пращой. После окончания сражения победители с триумфом входили в город. В XIV в. эта опасная игра была запрещена.
Византийцы воспринимали игры, особенно ристания, как выражение связи со славным древнеримским прошлым, поэтому всякие попытки церкви бороться с этими развлечениями зачастую оказывались тщетными. Игровые элементы проникли и в литературу. В грандиозной поэме «Деяния Диониса» («Дионисиака») Нонн Панополитанский (V в.) обращался к таким игровым приемам, как аллегория и перифраза. Знаменитый гимнограф Роман Сладкопевец (ок. 490 – ок.560) впервые использовал рифму в «Акафисте Богородице» и ввел в поэзию акростих. Первые буквы его кондака (литургической поэмы) составлял акростих «сочинение смиренного Романа». Мотив «жизни-игры», где «мечут кости», представляющие «в наглядном виде и в наглядных образах / Житейскую превратность коловратную», разрабатывался в эпиграммах византийского чиновника и поэта Христофора Митиленского (ок. 1000 – ок. 1050). Византийский грамматист и лексикограф Мануэль Мосхополус был известен как автор первого сочинения, дошедшего до нашего времени, о магическом квадрате с различным числом клеток в основании (1300 г.). Он также привел примеры нечетных квадратов и кратных четырем.
Игровой элемент присутствовал в церемонии венчания василевса на царство, происходившей в храме св. Софии. Будущий император входил в храм в обычном платье, встречаемый клиром в золототканых одеждах. После молебна и торжественных обещаний оставаться верным сыном церкви его облачали в пурпурные одежды и пурпурные сафьяновые сапожки (пурпур – символ божественности, царского достоинства, патрицианства). Патриарх возлагал на его голову золотой венец, помогал подняться с колен и подводил к двухместному трону. Как верили ромеи (византийцы), рядом с василевсом, олицетворявшим «живой образ» Иисуса Христа, восседал Бог. Сановники в белых одеждах на коленях подползали к правителю и лобызали стопы императорских ног. Но для своих подданных василевс оставался человеком, поэтому вместе с символом земной власти – державой (золотой шар с крестом наверху) – ему вручался символ тленности – мешочек пыли.
Чтобы подданные воспринимали его как воплощение христианского смирения, как верного сына церкви, император выполнял функции, закрепленные во время богослужения за псаломщиком. Поэтому в Великий четверг в храме св. Софии он омывал ноги 12 беднейшим гражданам (во время обряда пасхального ужина – тайной вечери – Иисус Христос совершил омовение ног ученикам как пример взаимного служения). С этой же целью василевс принимал причастие после диакона и не имел права прикасаться к одежде на престоле, которую ему подносил для поцелуя патриарх.
В христианизированных странах Западной Европы, как и в Византии, сохранилась преемственность традиции, сказавшаяся в наследовании форм, различных элементов языческой культуры и ее неотъемлемой части – игры. До нас дошли кельтские легенды и произведения агиографической литературы о состязаниях языческих кудесников и чародеев (друидов) с христианскими подвижниками, в которых святые неизменно выходили победителями.
Исследуя ритуальные игры европейских народов, Й. Хейзинга отмечал, что понятие «игра» (первоначальное значение – «выступать вместо или за кого-нибудь») охватывало культовую, юридическую и этическую сферы. В широком смысле слова оно обозначало определенную деятельность, а в узком смысле – быстрое движение, жест, напряжение, рискованное предприятие, вооруженную схватку (в хронике за 881 г.: «Там играли франки»). Игра как борьба, состязание с помощью оружия, игральных костей или хитрости и обмана зафиксирована в германо-скандинавской мифологии (борьба между богами-асами и великанами, соперничество Тора и Локи, состязания карликов-цвергов, искусных кузнецов, которые выковали золотые волосы для богини Сив, волшебный молот для Тора, вепря с золотой щетиной и другие сокровища для богов). Локи, как правило, выступает в роли «плутующего игрока», прибегающего к хитрости и обману, действующего добровольно то в интересах богов, то в интересах великанов. Он проигрывает соревнование с Логи (огнем) в пожирании пищи. Локи помогает Тору вернуть похищенный великаном Трюмом молот («Песнь о Трюме» в «Старшей Эдде»). По его совету Тор переоделся в одежду Фрейи, выдавая себя за невесту Трюма, а Локи – в одежду ее служанки. Трюму понравилась «великанша», ее непомерный аппетит, и он сам положил на колени Тора украденный молот: по древнему обычаю при вступлении в брак жених и невеста обменивались оружием.
Любопытное свидетельство об игре в кости содержится в трактате знаменитого римского историка Тацита «О происхождении и местожительстве германцев» (ок. 98 г.). Вероятно, игра имела ритуальный характер: «Они [германцы] играли в кости и, что удивительно, занимались этим как серьезным делом и трезвые…»). Однако в нее была привнесена черта, не свойственная культу, – «азарт и при выигрыше и при проигрыше», причем такой сильный, что, «когда уже ничего не осталось, при самом последнем метании костей играли на свободу и тело. Побежденный добровольно идет в рабство, и, хотя бы он был моложе и сильнее, дает себя связать и продать. Таково их упорство в дурном деле; сами же они называли это верностью». Видимо, от исхода такой игры зависело окончание межплеменных стычек. Тацит описал также одну из развлекательных игр древних германцев: «… нагие юноши в виде забавы прыгают между [воткнутыми в землю острием вверх] мечами и страшными фрамеями…; но [это делается] не из корысти или за плату – достаточной наградой отважной резвости является удовольствие зрителей».
О ритуальных играх-состязаниях, сопровождавших древний свадебный обряд добывания невесты, рассказывает немецкая эпическая поэма «Песнь о Нибелунгах», действие которой восходит к V в. – гибели бургундского королевства в 437 г. Чтобы добиться руки королевы Брюнхильды, жениху необходимо было одержать верх над богатыршей в трех состязаниях:
- «Он бросить должен камень, догнать его прыжком,
- Затмить … в уменье цель поражать копьем».
Незадачливых женихов, не прошедших этого испытания, казнили «до истеченья дня». На пути следования свадебного поезда в честь жениха и невесты устраивались «воинские игры». К примеру, навстречу Кримхильде и Зигфриду выехали «учтивые витязи»,
- «… доспехами звеня,
- В бою потешном копья ломая сгоряча
- И о щиты соседние шипом щита стуча».
В этой же поэме используется мотив сна как загадки, которую нужно разгадать:
- «И вот Кримхильде знатной однажды сон приснился,
- Как будто вольный сокол у ней в дому прижился,
- Но был двумя орлами заклеван перед нею…
- Про сон свой вещий Уте поведала девица,
- И мать ей объяснила, какой в нем смысл таится:
- «Тот сокол – славный витязь. Пусть бог хранит его,
- Чтоб у тебя не отняли супруга твоего».
В период раннего средневековья большое распространение получили состязания в похвальбе и хуле, первоначально имевшие сакральный характер. Восхваление добродетели, включавшей такие понятия, как сила, здоровье, щедрость, честь, слава, богатство, благородство, сочеталось с охаиванием противника. Из «Перебранки Локи» («Старшая Эдда») известно, что он на пиру богов у морского великана Эгина нарушил ритуальный мир, убил слугу и поносил всех богов, обвиняя их в трусости, невежестве и распутстве. Церемонией взаимного оскорбления, самовосхваления и хвастовства нередко начиналась аристия – героическое единоборство между двумя сражающимися или между группами из трех смельчаков в условиях войны. Подобное словесное состязание со взаимным поношением было описано в «Истории лангобардов» Павла Диакона (ок. 720 – 099). Лангобардов пригласили на пир к королю генидов, скорбящему по поводу гибели своего сына. Его второй сын называет лангобардов дурно пахнущими белоногими кобылами, на что те в свою очередь отвечают: на поле «ты наверняка узнаешь, как храбро умеют лягаться те, кого ты зовешь белоногими кобылами».
Глумление и самовосхваление стали основой игры gaber (старофранц. gaber – насмешка, шутка, осмеяние), популярной в эпоху Карла V Великого (ок. 742 – 814). Сохранились сведения (Эйнхард «Жизнеописание Карла Великого») о gaber, который устроил франкский король и его двенадцать пэров после застолья у византийского императора. «Начальник бретонской марки» Хруодланд (Роланд) начал игру следующими словами: «Пусть король Хуго одолжит мне свой рог. Я выйду в поле за городские ворота и так громко задую в рог, что все ворота соскочат с петель. Если король приблизится ко мне, я так его заверчу, что он потеряет свою горностаевую мантию, а усы у него вспыхнут пламенем». В XV веке gaber превратился в светскую коллективную игру.
В оксфордской рукописи «Песни о Роланде», записанной примерно в середине XI века, содержатся сведения об играх, бытовавших в войске Карла Великого:
- Одни расселись на шелках ковров,
- Другие в зернь играют за столом,
- Кто стар – склонен над шахматной доской;
- Кто юн – потешным боем увлечен.
Отголоски языческих обрядов (инициаций) можно найти в формах ученичества, которое проходили юноши Средневековья. Обучение военному искусству феодального боя завершалось посвящением их в рыцари. Приобщение сельской молодежи к обрядам, призванным обеспечить процветание общины, происходило во время весенних праздников от дня Св. Георгия (23 апреля) до Иванова дня (24 июня) и заканчивалось очищением огнем – прыжками через костер в Иванов день. В городах проходили инициации студентов и школьников, которые должны были очистить их от «сельской дикости». Таким же обрядам подвергались подмастерья, обязанные выполнить образцовую работу (шедевр), чтобы получить звание мастера, и молодые юристы, вступавшие в Базошь – корпорацию судебных клерков.
В массовые празднества, приуроченные к определенному времени года, включались игры, олицетворявшие силы природы: борьба Зимы и Лета, выборы «майских королей и т.д. К древним языческим праздникам аграрного типа – греческим Крониям и римским Сатурналиям – восходит карнавал. М.М. Бахтин назвал его веселой и вольной, но глубоко осмысленной игрой, в которой «высокое и низкое, священное и профанное уравниваются в своих правах». Карнавал не был приурочен ни к какому событию Священной истории и ни к какому святому; он проводился в средневековой Европе в последние дни перед Великим постом. Карнавал не знал никаких норм, привилегий или запретов; на нем не было ни гостей, ни зрителей; все сословия и возрасты становились равными. Карнавалы сопровождались уличными шествиями, маскарадами, массовыми театрализованными играми, состязаниями, особым праздничным карнавальным смехом, направленным на «все и на всех», в том числе и на участников карнавала. Это – «особое состояние всего мира, его возрождение и обновление, которому все причастны» (М.М. Бахтин).
Обязательными атрибутами карнавала являлись маски, воплощавшие «игровое начало жизни», бубенчики и колокольчики, «ад» в виде шара, изрыгавшего пламя (так называемая «адова пасть» или «голова Люцифера»), гротескные образы великанов, «смешных страшилищ», шутов и дураков. Подробное описание римского карнавала 1788 года содержится в книге И.В. Гете «Путешествие в Италию»: «Тут нет блестящей процессии, при приближении которой народ должен молиться и изумляться; здесь только подается знак, что всякий может дурачиться и сходить с ума, сколько хочет, и что, кроме драк и поножовщины, дозволено почти все… Различия между высшими и низшими на миг как будто перестают существовать: все сближаются, каждый относится легко ко всему, что с ним может случится». Карнавал завершался праздником огня «Moccoli» (итал. огарок). Все его участники несли в руках зажженные свечи и с криком: «Смерть тому, кто не несет огарка» – старались погасить их друг у друга». В Арагоне и в Валенсии во время карнавала разыгрывались «бои мавров и христиан».
Карнавальный мотив битвы Поста и Масленицы использовал бельгийский художник Питер Брейгель Старший (между 1550 / 1551 и 1569 гг.) в одноименной картине («Битва Поста и Масленицы», 1559 г.). На городской площади благовоспитанные дети и прихожане, подающие милостыню, составляют немногочисленный кортеж изможденного Поста. Навстречу ему движется тучная Масленица верхом на бочке пива в сопровождении войска гуляк гротескового вида в маскарадных костюмах с подкладными подушками. В левом нижнем углу два персонажа, один из которых в маске, скрывающей его лицо, погружены в игру. Те, кто не участвуют в шествии, водят хороводы, играют в мячи и в кости. Художник стремился подчеркнуть контраст между добропорядочной жизнью, связанной с церковью, и распутной, проводимой в кабаках и трактирах.
К рождеству был приурочен праздник «трех царей», отмечавшийся 6-го января. Он был связан с евангельской легендой о трех царях-волхвах, пришедших с Востока поклониться Младенцу-Христу. Этот праздник представлял собой незамысловатую ролевую игру. В праздничный пирог запекался боб или горошина. Тот из участников, кто обнаруживал в своем куске этот боб, провозглашался «королем» и становился председателем пиршества. На него возлагалась корона, он выбирал «королеву», все остальные становились его придворными и должны были неукоснительно исполнять шутливые приказания «короля». Грубоватые и беззастенчивые забавы, сопровождавшие этот праздник, стали сюжетом картины «Бобовый король» фламандского художника Якоба Йорданса (1593 – 3678).
В итальянской Сиене в честь Успения Девы Марии с 1310 года проводили Палио (итал. мантия)– конные скачки между контрадами – отдельно взятыми районами города с собственной администрацией, церковью, с собственным знаменем и гербом. В XIII веке город был разделен примерно на восемьдесят контрад, со временем их число достигло семнадцати. Скачки за Палио, в ходе которых завоевывают знамя города, воспроизводят историю Сиены – победу над флорентийцами в битве при Монтаперти в 1260 г. Ежегодно в день этой победы зажигались большие восковые свечи как обет поклонения и благодарности Мадонне за защиту. С 1656 года и до настоящего времени «Палио контрад» проводят 2 июля в честь чудотворного образа Мадонны и 16 августа в честь Успения Девы Марии.
17 контрад оспаривают первенство не только в конных состязаниях, выборе лучшей процессии, лучшего барабанщика и лучшего знаменосца, но и во всех аспектах жизни каждого квартала. Исторический кортеж в старинных живописных костюмах выходит со двора правительственного дворца и проходит по пьяцца (площади) Дуомо под ритм, отбиваемый тамбурами, и под игры «крутящихся знамен», на которых изображены гербы и эмблемы контрад (контрады улитки, пантеры, черепахи, совы, единорога, раковины и др.). По поводу «игры со знаменами» Ф.Ф. Альфьери в 1638 году писал: «… упражнения со знаменами среди солдат всегда будут популярны, поскольку в результате их знаменосец обучается твердо стоять на ногах, приобретает гибкий стан, твердую руку и свободный локоть».
У контрадо есть традиционные противники и союзники: для черепахи (желто-синее знамя), например, – это улитка (красно-желтое знамя). Лошади и всадники носят цвета своих районов. Частью игры являются тайные сговоры (портидо) между контрадами. Перед началом скачек, согласно обычаю, на воловьей упряжке вывозят Палио под звуки горнов и барабанов. Его освящают в городском соборе. Самым напряженным моментом Палио является получение лошадей, среди которых есть и неопытные. Мэр Сиены вынимает жребий и объявляет его, затем начинаются шесть отборочных скачек, за которыми следит весь город. В день скачек на площадь выносят знамена всех контрад. За одну минуту до начала жокеям определяют их места. Праздник завершается шествием детей, символизирующим рождение нового мира и следующего Палио.
Отголоски языческих обрядов, связанных с плодородием, исследователи находят в литургии, в обряде крещения, в похоронном обряде и в других религиозных ритуалах. Своеобразной «полуреальной, полусимволической игрой символами власти, избрания, увенчания, торжества» (М.М. Бахтин) являлась коронация, демонстрировавшая тесный союз религии и монархии: правитель превращался в помазанника Божьего. Коронование франкских правителей совершалось в Реймском соборе. Аббат святого Ремигия Реймского нес «ампулу» – сосуд с миррой (благовонной смолой). После произнесения клятвы король получал шелковые туфли от Великого камергера. Ему наносился елей (оливковое масло в религиозных ритуалах) на лоб, руки, спину, плечи и грудь; затем вручались символы военного вождя (меч и шпоры) и религиозные символы: корона – образ «Небесного Иерусалима» со стенами, кольцо и скипетр – знаки епископской власти, «святое копье» или «копье святого Мавра», в котором хранился гвоздь из креста Христова.
Христианские символы и ритуалы нередко становились предметом пародирования, особенно во время праздника дураков и праздника осла. Первоначально праздник дураков отмечался клириками в церквах 21 декабря и назывался праздником декабрьской вольности (liberta decembrica). Духовенство избирало шутовского Папу – «папу дураков» и архиепископов. Из числа мальчиков, поющих в церковном хоре, избирался «дурацкий епископ». Остальные мальчики занимали места каноников и вели вместо них службу, причем во время священнодействия плясали в женских шутовских одеждах, надевали на себя маски, ели на алтаре жирную пищу, играли в шашки и жгли вместо ладана кожу со старых башмаков.
В первой половине VII в. собор в Толедо запретил подобные бесчинства в храме, затем последовали решения Парижского собора 1212 и 1414 гг., и праздник дураков был перенесен на площадь. Он справлялся школярами, низшими клириками и подмастерьями не только в канун Рождества, но и в день св. Стефана, в день «невинных младенцев», в «богоявление» и в Иванов день. Обыгрыванию и пародированию подвергались различные моменты религиозного ритуала и церковной иерархии: избирался шутовской епископ, вместо ладана кадили экскрементами. После богослужения, сопровождавшегося обжорством, пьянством, непристойными телодвижениями, его участники садились на повозки, нагруженные экскрементами, и бросали их в толпу. Праздник дураков отмечался во Франции вплоть до постановления Дижонского парламента от 1552 года.
Праздник осла был установлен в память бегства Марии, спасающей младенца Иисуса от царя Ирода, в Египет на белой ослице (в Книге Судей Израилевых знатные люди ездили на белых ослицах; в книге пророка Захарии Мессия изображался сидящим на ослице; в Евангелии от Матфея Иисус въезжал в Иерусалим на белой ослице). Во время праздника служили особую «ослиную мессу», каждая часть которой сопровождалась шуточным криком осла: «Hinham!» Вместо обычного благословения священник трижды кричал по-ослиному, а вместо «amen» паства отвечала ему таким же криком. Как видим, игра выводила за пределы обычной жизни, освобождала от жизненных правил и законов.
Игровой характер носила Вальпургиева ночь, отмечавшаяся накануне первого мая. В христианской религии это был день поминовения святой Вальпургии, скончавшейся первого мая; в языческих верованиях в ночь на первое мая отмечался праздник весны и свободного сочетания любящих. Мужчины бегали с зажженными пучками, привязанными к длинным шестам, и стреляли в соседние горы, чтобы разогнать чертей и ведьм, которые стремились истребить все растущее и засеянное людьми. Народные легенды о том, что на горе Блоксберг ведьмы устраивали шабаш, неоднократно слышал Иоганн Вольфганг Гете, путешествуя по горам Гарца. На эту тему он написал кантату «Первая Вальпургиева ночь» (1799 г.) и включил сцену «Вальпургиева ночь», имеющую символическое значение, в трагедию «Фауст».
В Средние века широкое распространение получили многочисленные пародии на завещания, молитвы, гимны, монашеские уставы, на папские послания и буллы. Например, в «Завещании осла» жонглера Рютбефа служитель церкви попросил разрешения у епископа похоронить осла на «кладбище людском». Епископ обвинил священника в оскорблении религии, но, узнав, что осел завещал ему 20 ливреев, взял деньги, дал разрешение и обещал награду на небесах. Пародировали не только завещания, но и главное христианское церковное богослужение – литургию. В «Денежной литургии» и во «Всепьянейшей литургии» точно воспроизводились все моменты мессы, но насмешливо искажались слова: «К ковшику приложимся, Боже, иже три кости игральные, четвероугольные, шестьюдесятью тремя очками одарил, подаждь, молим тебя, дабы всяк, кто грузом риз своих отягчен, чрез метание сих костей был бы разоблачен. Во имя бочонка нашего и прародителя нашего Бахуса, иже с тобою хлещет и кости мечет – во веки веков. Опрокинь!». Существовали также пародийные евангелия: «Евангелие игроков», «Евангелие пьяниц». «Денежное евангелие от Марки Серебра», например, представляло своеобразный подбор цитат из Библии и Евангелия: «Святого Евангелия от Марки Серебра – чтение:
1. Во время оно… рече папа к римлянам:
2. «Когда же придет сын человеческий к престолу славы нашей, перво-наперво вопросите:
3. «Друг, для чего ты пришел?»
4. Но если не престанет стучаться, ничего вам не давая, выбросьте его во тьму внешнюю».
В Средние века, как и в предыдущие эпохи, большой популярностью пользовались загадки, созданные в V – VII вв. и полностью потерявшие свой пророческий смысл. До наших дней дошли стихотворные загадки (сто трехстиший) грамматика из Северной Африки Симфосия (рубеж V – VI вв.) и «Бернские загадки» неизвестного ирландского поэта (нач. VII в.). Например, загадка о рыбе, сочиненная Симфосием:
- Есть на земле обитель, немолчным полная шумом,
- Шумом полна обитель, но вечно молчит обитатель.
- В вечном движенье обитель и в ней, но не с ней обитатель.
Одним из известных авторов, обращавшихся к этому жанру, был Альдхельм (ок. 660 – 709), первый латинский поэт англо-саксонского происхождения. Он – автор книги «Загадки», которые написаны четверостишиями, пятистишиями, шестистишиями и др. (самая длинная загадка – 83 стиха). Сборнику из ста загадок предпослано посвящение и акростих: «В тысяче строчек сложил Альдхельм сие сочинение».
В «Загадках» Альдхельм дает иносказательное описание различных небесных явлений, животных, трав, камней, утвари, которое нужно разгадать. Поэт достаточно точно перечисляет внешние свойства предметов и основные действия, совершаемые с их помощью, так что разгадка не представляет большой сложности. Например:
- «Тело в морщинах мое, и все оно бурой покрыто
- Ржавчиной…
- … я тру шершавый металл заскорузлый.
- Золото также лощить мне привычно и мрамора глыбы…
- Голоса нет у меня, и я лязгаю с визгом и скрипом»
(разгадка – напильник). Однако многие загадки написаны вычурным языком, изобилующим библейскими символами и античными реминисценциями, что затрудняет их понимание.
С формированием рыцарства – сословной организации военно-феодальной знати – игра вошла в рыцарский образ жизни, став составной частью церемонии посвящения в рыцарское звание, рыцарских турниров, судов любви. В куртуазном (рыцарском) обществе были установлены определенные правила игры: каждый рыцарь имел даму сердца, чаще всего супругу владельца замка, и становился ее вассалом. Он соблюдал верность своей избраннице, хранил в тайне ее имя, совершал странствия и рыцарские подвиги, сражался на турнирах во имя куртуазной любви. Обязательными участниками любовной куртуазной ситуации были оруженосец, которому доверялась тайна, и соглядатай, вредивший влюбленным. Если рыцарь не выполнял правил, то есть не уделял своей даме сердца должного внимания, его подвергали суду любви («курия любви», «палата любви») – собранию придворных во главе с «принцем любви» или «королевой любви».
Игровой характер имела также церемония посвящения в рыцарское звание. Она проходила в зале замка сеньора, где под звуки рогов и барабанов оруженосцу вручались доспехи, имевшие символический смысл: шпоры – символ рыцарского достоинства; шлем – символ справедливости, смелости; щит с родовым гербом – олицетворение доблести предков; панцирь – символ крепости, которой недоступны пороки; копье символизировало правду, а палица – силу воли, защищавшей рыцаря от пороков; перчатки оберегали от нечестного прикосновения. После чтения правил рыцарского поведения сеньор ударял посвящаемого по плечу рукой или плоской стороной меча и будущий рыцарь давал клятву перед священником.
Элемент игры присутствовал и в рыцарских обетах: взирать на все единственным оком (второй глаз прикрывался тряпицей), не снимать головного убора, носить оковы или цепи (рыцари – золотые, оруженосцы – серебряные) на левой ноге в течение определенного времени, съесть три миски похлебки во имя Пресвятой Троицы, не спать, не стричь волос и бороды, которые с глубокой древности считались носителями магической силы. Обеты приносились Господу и Деве Марии, дамам и дичи во время торжественной трапезы, праздничного пира и тризны.
В рыцарском турнире – конном состязании в честь дамы сердца – границы между сферой серьезного и игрой были зачастую размыты. Например, чтобы выбрать себе противника, рыцарь ставил в течение года первого числа каждого месяца у источника («источника слез») шатер с изображением дамы, держащей единорога с тремя щитами (мифический единорог с одним длинным прямым рогом на лбу – символ чистоты, девственности, аллегория воплощения Христа от девы Марии). Проезжающий мимо шатра странствующий рыцарь или его оруженосец должен был коснуться одного из щитов и дать обет вступить в поединок с рыцарем у источника. Второй способ вызова на турнир назывался «путами дракона»: четыре рыцаря располагались на перекрестке и вступали в поединок в честь проходящих дам. Если рыцарь во время поединка падал наземь, то он должен был в течение года носить на руке золотой браслет с замком до тех пор, пока его не освободит дама, у которой окажется ключ. Ей он и будет служить, совершая подвиги во имя любви.
Куртуазная любовь, рыцарские турниры и сражения воспевались поэтами-трубадурами Прованса – области, расположенной на юге Франции. Игровой элемент наиболее сильно ощущается в таких жанрах провансальской лирики, как тенсона, альб (альба), пасторела (пастурела). В тенсоне – споре двух поэтов на литературные и моральные темы – звучат отголоски культовых состязаний. Сохранилась тенсона, в которой «магистр поэтов» Гираут де Борнейль (годы творчества – 1170 – 0210), сторонник «ясного» стиля, понятного его слушателям, ведет спор с Рамбаутом III графом Оранжским, изысканным поэтом, склонным к различным экспериментам.
Форму диалога нередко приобретала альба – строфическая песня о тайном свидании влюбленных, причем стоящий на страже оруженосец или друг должен на заре предупредить их об опасности. В пастореле рассказывалось о встрече рыцаря с пастушкой, которую он пытается соблазнить; в сюжет мог быть включен влюбленный в девушку пастух. Рыцарская поэзия отличалась виртуозной игрой слов, замысловатыми рифмами. Как отмечал А.С. Пушкин, трубадуры «играли рифмою, изобретали для нее всевозможные изменения стихов, придумывали самые затруднительные формы» («О поэзии классической и романтической»). С 1323 года в Тулузе стали проводить поэтические состязания – Цветочные игры.
Своеобразной пародией на куртуазное служение даме сердца являются игривые кансоны Гильома IX, герцога Аквитанского (1072 – 2126):
Куртуазный треугольник, лежащий в основе альбы, высмеивается в серенаде Гираута Рикьера (конец XIII в.). Стихотворение интересно еще и тем, что дает представление о старинном празднике под названием «майское дерево». Девушки украшают майское дерево, выбирают «апрельскую королеву» и «молодого короля», ведущего хоровод. Участники этой ролевой игры смеются над распорядителем танцев вокруг майского дерева, старым и ревнивым мужем «королевы», распевая: «Все цветет, вокруг весна! / Эйя! / Королева влюблена, / Эйя! / И, лишив ревнивца сна, / Эйя! / К нам пришла сюда она, / Как сам апрель, сияя».
К числу популярных игр, распространенных в рыцарской среде, относились кости, шары, шашки и шахматы. Правила игры в кости не сохранились. Известно, что числа в определенной последовательности наносились на противоположные грани кубика, изготовленного из дерева или слоновой кости. Кости использовались для игры в «хазард» (риск) и в триктрак. В 1215 г. IV-й Латеранский собор запретил эти игры, так как они шли на деньги. Однако «короли» и «королевы» праздников по-прежнему выбирались путем метания костей. К старинной игре в шары восходит название улицы Пэлл-Мэлл в центральной части Лондона. Игра в шашки входила в систему воспитания будущих рыцарей. Считалось, что эта игра прививала навыки этики и тактики рыцарских поединков.
Шахматы, которые были завезены в Европу арабами в XI веке, олицетворяли феодальный мир (сеньор, рыцарь-вассал и замок), что определило названия основных фигур, переведенных с арабского: шах – король, визирь – королева, скала – башня (ладья), всадник – рыцарь (конь). В Британском музее хранятся шахматные фигурки, изготовленные из костей тюленя и китового уса, вероятно, в Голландии около 1150 – 0200 гг. Они были найдены на острове Луи (Внешние Гибридские острова) в Шотландии. Это – фигурки сидящих короля и королевы, облаченных в мантии епископов, рыцарей верхом на конях, стоящих слуг-охранников и пешек в форме обелисков. Во Флоренции среди экспонатов музея Барджело есть шахматная фигурка рыцаря из слоновой кости (конец XII в.). Рыцарь представлен в боевой кольчуге, поверх которой надето обшитое галуном сюрко; голова и нижняя часть лица защищены кольчужным капюшоном, под ним – цилиндрический шлем. На одном из рисунков, украшавших большую гейдельбергскую рукопись XIV века, были изображены знатная дама и рыцарь за игрой в шахматы.
В конце XIII века доминиканский монах из Ломбардии Иоанн Кессолийский написал трактат, в котором отождествил человеческую жизнь с шахматной игрой. Его сочинение послужило основой для многочисленных стихотворных шахматных аллегорий. Одной из наиболее удачных являлась «Книга о шахматах» (1337 г.) сельского пастора Конрада из Амменхаузена (Северная Швейцария). Он уподобил социальные слои общества шахматным фигурам. Верхние ступени сословной иерархической лестницы занимают король, королева, представители юриспруденции (слоны), рыцари (кони), ландфогты (ладьи); нижние ступени – бюргеры и крестьяне (пешки). Многочисленные списки свидетельствуют о популярности этой книги. Во время крестовых походов на мусульманский Восток (XI – XIII вв.) в Европе появились карты.
Игровой мотив проник и в средневековую литературу, что нашло отражение не только в построении произведений, но и в их названиях. Например, миракль «Игра о святом Николае» Жана Боделя (1200 г.), в котором рассказ о чудотворной силе христианского святого сменяется изображением городского трактира, где воры и бродяги играют в кости. Грани между игрой и жизнью стерты в комической драме французского трувера Адама де ла Аля (ок. 1240 – после 1285) «Игра в беседке», которая ставилась первого мая в день ярмарки и народного праздника в Аррасе, родном городе автора. Во всех трех частях этого произведения – «карнавально-автобиографической», «карнавально-фантастической» и «карнавально-пиршественной» (М.М. Бахтин) – присутствуют гротескный дух, необузданность, различные детали карнавального типа (бубенчики, под звон которых проходит «войско Эрлекина»; игра в кости, «колесо Фортуны», высоко возносящее одних и низвергающее других), пародийное обыгрывание трактирщиком монаха, исцеляющего дураков с помощью реликвий. В пьесе «Игра о Робене и Марион» де ла Аль использует широко распространенный пасторальный мотив о том, как галантный рыцарь пытается соблазнить красивую пастушку, но она остается верна своему избраннику. В «Собрании французской поэзии» Жана Лонжи и Венсана Сертена есть поэма, написанная в стиле партии в кегли, где игре приданы образы земной жизни с ее горестями и бедами.
Как и в странах Западной Европы, утверждение христианства в Древней Руси (988 г.) сопровождалось уничтожением идолов и языческих капищ, однако языческие верования прочно держались в древнерусском обществе на протяжении многих веков. Это явилось одной из причин православного двоеверия и привело к тому, что церковь вынуждена была приспособиться к языческим обрядам, частью которых являлась игра. Божество Перун превратился в пророка Илью, громыхавшего на небе в разгар летних гроз; покровитель ремесла и скота Велес – в святого Власия. Купала слился с образом идеального аскета, пустынника Иоанна Крестителя, дав начало Ивану Купале. Божество весеннего плодородия Ярила, ассоциировавшийся с отмыкателем неба и земли Юрием, превратился в Георгия Победоносца, у которого просили благословения пашням и урожаю, называя «водоносом», так как Юрьева роса увлажняла землю. Масленица и масленичные игры свободно влились в христианский цикл праздников точно так же, как поминальная кутья-страва, расписные яйца и др. Летние Святки (игры в честь бога Световида) отчасти слились с христианской Троицей, а зимние Святки – с рождественскими праздниками. Пасха – праздник христианского спасения и воскресения – соединилась с языческой Радуницей – днем памяти предков и всех умерших.
На Рождество (с 24 декабря по 6 января по старому стилю) ряженые несли во главе толпы рождественскую звезду: в Евангелии от Матфея мудрецы с Востока следовали за вифлеемской звездой, чтобы почтить новорожденного царя иудеев и принести ему дары (Вифлеем – место рождения Христа). Парни играли в жениха и невесту. Жених теряет шляпу, невеста – венец. Все начинают искать, устраиваются стычки с ряжеными, изображающими животных. Когда потеря находится, обрадованные жених и невеста скачут на палках, увенчанных лошадиными головами. Участники торжества разыгрывали игры с купцом-торговцем, с цыганом и другими ряжеными, устраивали соревнования: кто кого пересмешит, кто последним скажет потешку и т.д. К числу популярных игр относились также жмурки и фанты. Важное место отводилось вертепному представлению. Ряжение и ношение масок вызывало неодобрение церковников. В поучении архиепископа Луки (XII в.) запрещалось «москолюдствовать», то есть надевать маски. В Кормчей рукописи XIII в. маску называли «обличьем игрещ», в «Стоглаве» (1551г.) – лицами косматыми, козлиными, сатирскими или скуратами.
Под Крещенье (5 января по старому стилю в память о крещении Иисуса Христа в Иордане) в деревнях устраивались игры следующего характера: нужно было снять со стогов, стоявших в поле, кусок снега и донести его в целости до дома. Выигрывал тот, кому удавалось снять самый большой кусок и кто раньше всех приносил его. Снег принимала самая старая женщина и складывала его в специальную посуду, награждая победителя чем-нибудь сладким. По поверьям, только чистый снег мог выбелить любой холст. Аналогичные состязания устраивались между парнями и девушками в крещенский вечер: кто выпилит в поле наибольший куб из снега и сумеет опустить его в колодец. При этом соперники атаковали снежками несущего, которого охраняли на всем пути партнеры по команде. Эта игра также была связана с поверьем: если в крещенский вечер принести снег, и опустить его в колодец, то хозяйство будет обеспечено водой на весь год.
К празднику Вход Господень в Иерусалим (на Руси – Вербная суббота, Вербное воскресенье, Вербная неделя), который отмечался в воскресенье, предшествующее Страстной неделе, была приурочена игра вербохлест. По древнему, еще византийскому, обычаю в этот день в храм приносят ветки пушистых верб в память тех пальмовых ветвей, которыми иудеи приветствовали Иисуса Христа, въезжавшего на осле в Иерусалим, как царя израильского, наследника Давида. На Руси верили, что прикосновение к вербе даровало человеку здоровье и благополучие. Игра проводилась на площадке, украшенной лентами, игрушками, ветками вербы, масками животных, «вербными херувимами», изготовленными из папье-маше (у А.С. Пушкина в «Евгении Онегине»: «Румян, как вербный херувим»). По жеребьевке выбирали пятнашку и давали ему ветку вербы. Он должен был настигнуть кого-либо из играющих и исхлестать его, чтобы тот был счастливым и здоровым. По этому поводу поговорки гласили: «Вербы хлест – бей до слез!», «Бьем, чтобы был здоровым!»
«Полуреальный, полусимволический» игровой характер носило шествие митрополита в Вербную неделю, описанное английским посланником Гаклюйтом (конец XVI в.). Из кремлевского храма Успения выносили большое дерево, на котором висели яблоки, финики, плоды смоковницы (инжира), и укрепляли его на двух колесницах. Под деревом стояли пять юношей в белых одеждах и пели молитвы. За колесницами шли юноши с зажженными свечами и большим фонарем; за ними несли две восковые хоругви (священное церковное знамя, на котором изображены Крест, Христос, Богоматерь, Святые и Праздники), шесть кадильниц (сосуд для благовонного курения фимиама) и шесть икон; за иконами следовали священники в ризах, осыпанных жемчугом, бояре и сановники. Завершали шествие царь Иван Грозный, державший в одной руке повод, а в другой – вербу, и митрополит, сидевший боком на коне, которого вел боярин. Коня покрывали белым полотном и приделывали ему на голову ослиные уши в память об осле, на котором Иисус Христос въезжал в Иерусалим. Многочисленная толпа с вербами в руках сопровождала это шествие. Митрополит объезжал главные кремлевские церкви, служил обедню в храме Успения, а затем устраивал обед царю и вельможам. Подобные шествия проводились в больших городах вплоть до церковного Собора 1678 года, на котором патриарх Иоаким запретил их проведение, разрешив носить только образ Христа.
К пасхальным праздникам приспосабливались игры, потерявшие свой обрядовый характер: катание яиц, в яички (см. словарь), вьюнец и др. Например, игру «вьюнец» устраивали в субботу пасхальной недели, возможно, как было отмечено в «Стоглаве», и на Радуницу (первый вторник после пасхальной недели). Задача игры – отыскать и обойти молодоженов и потенциальных женихов (вьюн – муж, жених) и невест (вьюница – жена, невеста). Встречным, которые также включались в игру, задавали вопросы, где находятся дома с вьюнами и вьюницами. Встречные не показывали, а лишь описывали места их расположения, иногда в форме загадок: «Есть вьюн и вьюница – добрый муж и красная молодица. А дом-то их угадать, как пить дать. Идите прямо; как увидите, стоит курица на курице, а хохол на улице, – тут вам и остановка» (дом с двухскатной крышей и с гребешком). Играющие шли к дому, произнося разными голосами: «Вьюн-вьюница, отдай наши яйца!../ Не дашь яйца, / Пирога конца – / Потеряешь молодца…». Молодые давали им куличи, раскрашенные яйца, угощали вином и пивом. Играющие желали им здорового потомства, долгой и счастливой супружеской жизни.
На третьей неделе после Пасхи, в день жен-мироносиц, играли в куму семицкую. Девушки и женщины выходили в лес «кукушку кстить», то есть выбирали двух подружек-«кукушек», как бы олицетворявших судьбу. Подружки находили в лесу две растущие рядом березки, платками или полотенцами связывали их верхушки, сплетали из веток венок, привязывали к нему два креста из очищенных от листьев веток, обходили повешенный на березу венок, через который целовались при встрече. Кумы менялись крестами, благодарили подружек, обещая жить в мире и согласии. В день Троицы (Семика) играющие приходили в лес расплетать венки на березах. Одну из женщин наряжали в лесовика, обвязав ее лыком, увядшими ветками и обмазав лицо сажей. Женщины образовывали кольцо вокруг двух кум, а лесовик пытался разорвать его и дотронуться до играющих, чтобы напустить на них болезни и горести. В свою очередь играющие старались оторвать у лесовика бороду, рожки на голове и заставить его убежать в лес. Затем они шли к реке, бросали венки, загадывая желание. Если венок поплывет, то желание сбудется, потонет – не сбудется.
За Троицей следовала русальная неделя (19 – 94 июня) – древнерусские языческие игрища, связанные с культом воды и растительности. Они сопровождались молениями русалкам: на деревья вешали венки, пряжу, полотенца, нитки, пели русальные песни, водили хороводы. В воскресенье (русальное заговенье) русалок «провожали» в поле: на девушку с распущенными волосами надевали венок и с песнями увлекали ее в ржаное поле, а затем разбегались. «Русалка» догоняла участников праздника. В народных сказаниях сохранились загадки, которые загадывали русалки встретившимся им парню или девушке:
- Коли ты вгадаешь, я до батька пущу,
- А як не вгадаешь, я до себе возьму.
- Ой, що росте та без корня?
- Ой, що бежить та без поводу?
- Ой, що росте без сякого цвиту?
Согласно поверью, русалка не дает отгадывать, а отвечает сама:
- Камень росте без корня,
- Вода бежить без поводу,
- Папорть рости без всякого цвиту.
- Девочка загадочки не вгадала,
- Русалочка ее залоскотала.
В селах устраивали русальи забавы: надевали маски, ходили по улицам, играли на волынке и свирели, смеялись над христианской набожностью.
В честь Белобога, олицетворявшего доброе начало, благодеяния природы, устраивались пиры и игры.
В «Стоглаве» дается описание ночных посиделок и шумных забав накануне Рождества Христова, Богоявления, Иванова дня. Лицам духовного звания запрещалось присутствовать там, где происходило «играние, плясание и гудение». Еще в XVII веке в патриаршем указе отмечалось: «Многим числом … ходят по улицам и переулкам, поют песни и плясание творят, преображаются в неподобные от бога создания, надевая бесовские и кумирские личины, чем православных христиан прельщают, отвращая от церкви». Запрещалось «чинить игрища 24 декабря в навечерии Рождества Христова, также и в продолжение святок». За ослушание грозили кнутом и батогами. Бить обещали и тех, кто играл в шахматы, и тех, кто водил медведей и устраивал скоморошьи представления. А вот игра в мяч сопровождала рекреации воспитанников духовного звания. Первого мая они отправлялись в поле, варили молочную рисовую кашу, приносили наливки, настойки, мед, пиво. После обеда семинаристы играли в различные подвижные игры.
На протяжении всего средневековья на Руси устраивались кулачные бои. Как и в Западной Европе, в условиях войны они обычно предваряли сражение. В летописи XIII века сообщается, что перед битвой с великим киевским князем Мстиславом III и псковским князем Владимиром новгородцам предложили сразиться на конях или пешими. Те отвечали: «Мы не хотим на конях, но сразимся по примеру наших предков пешими и на кулаках».
Кулачные бои велись один на один, стена на стену или свалкой. Они начинались с «Николы зимнего» (святой Николай, Мирликийский чудотворец – один из любимейших святых русского народа, в память которого было установлено два праздника: 6 / 19 декабря в честь его преставления – кончины – и 9 / 22 мая в честь перенесения его мощей в 1087 г. в «Бар-град» – город Бари в Италии) и продолжались до воскресенья. Обычно сходились на городской площади или за городом. Началом к состязанию служил свист, подаваемый одним из устроителей. Дети начинали бой. Считалось бесчестным подкупать бойцов или переманивать их на свою сторону. В бою один на один и стена на стену действовали только кулаками. При свалке били ногами и коленями, лежащего не били (поговорка: «лежачего не бьют»). После того, как пробивали стену, сражались «бойцы-молодцы», которые не щадили друг друга. Последним вступал в бой «надежа-боец». Если ему не удавалось переносить побои, он падал на землю и подвергался поруганию. Если же «надежа-боец» сокрушал противника, его сопровождали всеобщим криком: «Наша взяла!». Кулачные бои были запрещены указами 1684 и 1686 гг.
Таким образом, утратив сакральный смысл, игра продолжала оставаться важнейшей частью средневековых массовых зрелищ, карнавалов и некоторых церковных праздников.
ТЕМА 5. ИГРОВОЙ ХАРАКТЕР КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Эпоха Возрождения (франц. Renaissance – Ренессанс, в Италии XIV – XVI вв., в других странах – конец XV – начало XVII в.) отличалась поразительным всплеском духовной активности личности, интересом к античной философии (эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм), искусству, а главное – к античному образу человека с присущей ему гармонией духовного и телесного. Именно в эпоху античности изменилось отношение к обряду как к мистической церемонии, а соответственно и к ритуальной игре, которая превращалась в светские представления или использовалась как средство обучения и развлечения, оказывавшее большое эмоциональное воздействие на окружающих.
Деятелей эпохи Возрождения, пытавшихся осуществить синтез божественного и материального, небесного и земного, религиозного и светского, привлекала в игре ее многозначность, а в процессе игровой деятельности – свобода проявления и развития различных свойств личности, впервые осознавшей силу своего разума и творческих возможностей. Игровой фактор во многом определил специфику возрожденческой культуры. Й. Хейзинга назвал ее «играемой культурой», в которой жизнь воспринималась «как игра воображаемого совершенства»: «Все великолепие Ренессанса – это веселый или праздничный маскарад, переодевание в наряд фантастического и идеального прошлого. Мифологические фигуры, аллегории, заимствованные издалека и отягощенные грузом астрологических и исторических сведений, – все они будто шахматные фигуры на доске».
М.М. Бахтин видел главную особенность ренессансной культуры в использовании «исключительно богатого и своеобразного языка карнавальных форм и символов», понимая карнавал как жизнь, оформленную особым игровым способом. В своей книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Возрождения» Бахтин дал глубокий анализ карнавального мироощущения как основы ренессансного реализма, соединившего реальное и фантастическое начала: «В нем скрещиваются два типа образной концепции мира: одна, восходящая к народной смеховой культуре, и другая, собственно буржуазная концепция готового и распыленного бытия».
Одним из деятелей переходной эпохи, обратившимся к иронической игре, был французский поэт Франсуа Вийон (настоящее имя Франсуа де Монкорбье, ок. 1431 – после 1463). В «Малом завещании» («Лэ», 1456 г.) и в балладах (1455 – 1458 гг.) он перевел в иронически-игровой план многие мотивы и приемы традиционной средневековой поэзии. Игра слов присутствует уже в самом названии поэмы: французское «Testament» обозначает не только завещание, но и Завет. Поэт иронизирует по адресу пророков и патриархов, незаслуженно попавших в рай, хочет пристроить в раю пьянчужку Жана Котара, завещает богатому суконщику лохмотья, а страдающему от жажды пьянице – «вина отменного бадью» и «два разорительных процесса». «Писцу Парижского суда» он оставляет в наследство свои подштанники, «невесть когда / Заложенные, – не беда! / Пусть выкупит из «Трюмильер» / И перешьет их, коль нужда, / Своей Жанетте де Мильер!»
В поэме «Большое завещание» (1461 г.) подлинный Вийон скрывается за множеством пародийных масок, гротескным сталкиванием несовместимого, игрой словами и ситуациями, «истинами наизнанку» («Баллада истин наизнанку»). Карикатурно выглядят «два школяра необученные» – «мэтр Котен Гийом / И мэтр Тибо Витри», которых поэт якобы хочет спасти от злосчастий и бедности: «Бедняги бродят по притонам / Голее дождевых червей». В действительности это – богатые каноники из собора Парижской Богоматери. Включившись в игру, остроумно подражая стилю нотариусов, Вийон назначил шесть фиктивных душеприказчиков, олицетворявших успех, которого был лишен он сам, и отказал по «Завещанию» всем предполагаемым наследникам свои долги и несуществующее имущество. Слово «игра» используется в поэме как плутовство. Все, что происходит с человеком, представляется поэту уловками, своеобразной партией, в которой ставкой является жизнь. Среди его многочисленных персонажей особое место отводится «пропащим ребятам», которые проводят время в тавернах, пьют, мошенничают, играют, теряя в игре и кошелек, и кредит. Одному сержанту, плутующему при игре в кости, Вийон завещает три поддельные игральные кости и красивую колоду карт. В конце поэмы делается вывод, что «неправедно добытое впрок не идет»:
- В какую б дудку ты не дул,
- Будь ты монах или игрок,
- Что банк сорвал и улизнул,
- Иль молодец с больших дорог,
- Писец, взимающий налог,
- Иль лжесвидетель лицемерный, —
- Где все, что накопить ты смог?
- Все, все у девок и в тавернах!
Многие игровые приемы, используемые Вийоном, были развиты писателями французского Возрождения, прежде всего Франсуа Рабле.
Атмосфера веселой и вольной игры пронизывает произведения итальянских поэтов Возрождения. Выдающийся правитель своего времени Лоренцо Медичи (1449 – 9492), прозванный Великолепным, известен как создатель карнавальных песен («Триумф Вакха и Ариадны»), которые исполнялись во время пышных зрелищ для увеселения флорентийских лавочников и ремесленников. Участники процессий в костюмах античных мифологических персонажей, нимф, сатиров, пастухов и пастушек двигались по улицам города, распевая веселые песни, сочиненные Лоренцо или Анджело Полициано (Анджело Амброджини, 1454 – 4494)):
- О, как молодость прекрасна!
- И мгновенна. Пой же, смейся,
- Счастлив, кто счастья хочет,
- И на завтра не надейся. (Лоренцо Медичи)
Увеселительный характер имели и турниры, воскресавшие времена короля Артура и его рыцарей Круглого стола. Главное место в них отводилось не бою на копьях, а конским ристалищам. Великолепный турнир, устроенный Джулианом (братом и соправителем Лоренцо) 28 января 1475 г. в честь дамы своего сердца Симонетты Катанео, стал поводом для написания лучшей поэмы Полициано «Стансы на турнир».
Традиции народно-карнавальной культуры были особенно сильны в творчестве другого флорентийского поэта Луиджи Пульчи (1432 – 1484), создавшего бурлескную поэму «Бека из Дикомано», в которой пародируется куртуазное служение даме сердца. В героиню Беку, прихрамывающую на одну ногу, с бельмом на глазу, с заметными усиками и бородой, влюбляется горец Нуто, восхваляющий ее красоту. В поэме «Большой Морганте» (1483 г.) Пульчи пародирует образы и ситуации французских chansons de geste, изобразив Карла Великого недалеким и слабовольным правителем, а его паладинов – обжорами, не блещущими умом. Рыцари совершают неблаговидные поступки, постоянно вступают в перебранки между собой и великанами Морганте и Маргутте, напоминающими фигуры карнавальных процессий. Маргутте, распутник, пьяница и игрок, считает своими нравственными достоинствами обжорство, пьянство и игру в кости.
Шахматные фигуры, персонифицирующие греко-римских богов, являются главными персонажами пародийной поэмы Марко Джилорамо Виды (ок. 1485 – 1566) «Игра в шахматы». Этот итальянский поэт пользовался покровительством римского папы Льва X. Его поэма, насыщенная игрой слов, анахронизмами, представляет собой забавную карикатуру на античный Парнас. Польский поэт Ян Кохановский (1530 – 1584) в пародийной поэме «Шахматы» (1562 – 1566) заменил богов Виды людьми и отказался от дидактических черт, свойственных этому произведению итальянского автора.
Примером воссоздания «абсолютного игрового пространства», по наблюдению Й. Хейзинги, является поэма Лудовико Ариосто (1474 – 1533) «Неистовый Орландо» («Неистовый Роланд»). В этом произведении смешано комическое с серьезным, свободная игра поэтического вымысла – с обыденным, ирония, разрушающая образ совершенного рыцаря (Орландо теряет рассудок, и его друг Астальфо совершает фантастическое путешествие на Луну в поисках утерянного рассудка), – с воспеванием величия человека.
Маску и буффонаду карнавальных действий унаследовала итальянская комедия дель арте (итал. Commedia dell’arte) – комедия масок, возникшая в середине XVI века. В ее основе лежал метод импровизационной игры в шахматы: все персонажи и правила известны заранее. Каждый раз зритель видит новую пьесу – партию – с одними и теми же фигурами. Актеры играли в масках, которые закреплялись за исполнителями на всю их сценическую жизнь. Маска подчеркивала типовую, социальную характеристику образа. Существовало две группы масок: венецианская и неаполитанская. В венецианскую группу входили Панталоне (богатый купец, глупый, скупой и самоуверенный, жертва проделок Бригеллы), Арлекин (простак, запутывавший своими глупыми выходками интригу комедии; его одежда с многочисленными заплатами символизировала бедность и скупость ее обладателя), Бригелла (умный, хитрый, изобретательный парень, не останавливающийся ни перед чем), Доктор (болонский ученый-юрист, не находящий применения своим знаниям и произносящий нелепые речи на различные темы). Неаполитанскую группу составляли Ковьелло (глупый, трусливый и хвастливый неаполитанец), Пульчинелла (простодушный обжора и увалень, остряк и весельчак), Скарамучча (хвастливый военный авантюрист) и Тарталья (старик-нотариус, судья или секретарь, назойливый и педантичный). Спектакли венецианских актеров отличались сдержанной импровизацией, неаполитанцы переполняли спектакли буффонадами, трюками, произвольными шутками.
Такое свойство игры, как иллюзорность, нашло отклик в поисках перспективного изображения предметов и создания воображаемого пространства, начатого Джотто ди Бондоне (1266/1267 – 1337), Филиппо Брунеллески (1337 – 1446), Уччелло (Паоло Дони, 1397 – 1475), Леона Батиста Альберти (1404 – 1472) и другими художниками и завершенного Леонардо да Винчи (1452 – 1519). Леонардо создает иллюзию глубины не только динамическим разнообразием положения действующих лиц в пространстве, но и подбором и сочетанием тонов, плавно перетекающих друг в друга, прозрачной светотенью (сфумато), делающей предметные очертания почти неуловимыми.
Пребывая в течение семнадцати лет при дворе миланского герцога Лодовико Сфорца (1482 – 1499), талантливый художник и ученый-экспериментатор, готовивший праздники, делавший маскарадные маски и костюмы для аллегорических фигур, прославился своими салонными загадками. Вот некоторые из них: «Многие, выдувая из себя воздух с большой стремительностью, потеряют зрение, а вскоре и все остальные чувства» (те, кто задувает свечу перед сном). Или: «Люди будут выбрасывать собственную пищу» (сев). «Множество людей, забыв, кто они и как их зовут, окажутся как мертвые на том, что сорвано с других мертвых» (люди, спящие на перинах из птичьего пуха). «Появится множество общин, члены которых спрячутся со своими детьми в мрачных пещерах и там смогут пропитать себя и свои семьи в течение долгих месяцев, обходясь без света, искусственного или природного» (муравейник) и др.
Интерес Леонардо ко всему замысловатому и аллегорическому сказался в его многочисленных зашифрованных рисунках-загадках. Один из них известен под названием «Инструменты, падающие дождем с облаков на землю» (1498 г.). Сверху зеркальным письмом написаны слова: «На этой стороне – Адам, на той – Ева». Среди разнообразных предметов, падающих с неба, – грабли, циркули, очки, щипцы, музыкальные инструменты (автоматические молотки, колокольчики, виола) и т.д. Внизу – надпись, сделанная рукой Леонардо: «О человеческое ничтожество, как много существует вещей, с помощью которых ты делаешь себя рабом денег!» Загадочные переплетения рисунков украшают одну из зал дворца Сфорца, называемую Ослиной. На стенах и сводах этой залы на фоне перекрещивающихся самым фантастическим образом ивовых ветвей и побегов были изображены разнообразные гербы и декоративные надписи. Они были переплетены загадочными узлами и петлями, похожими на музыкальную фугу и до сих пор еще не расшифрованными.
Много таинственного содержат полотна Леонардо, о которых спорят до сих пор. Предметом оживленных научных споров является картина «Мадонна в скалах», заказанная монахами братства Святого Франциска для алтаря в часовне Непорочного Зачатия Девы и полная «самой удивительной игры рук, которую только знало искусство: защита, поклонение, благословение, указание» (Уоллейс Р. Мир Леонардо. – М.. 1997. с. 35). Искусствоведы не могут дать ответов на ряд вопросов. Почему указующий перст ангела в луврском варианте картины направлен на Иоанна, а не на младенца Иисуса? Что символизирует пещера, изображенная в виде закрытого пространства, подобного утробе? Действительно ли Иоанна прикрывает рукой и полой плаща Мадонна и что олицетворяет фигурка младенца? Какой намек вложен в изображенные на картине природные элементы – вода, камни, солнце? Лицо ангела напоминает «Портрет музыканта», созданный в первые годы пребывания Леонардо в Милане. В этой картине также проявилась склонность художника к загадкам и секретам. В руке юноши – клочок бумаги, на котором написано несколько нотных знаков. Это нотное послание до сих пор еще не расшифровано.
Самым загадочным и глубоким по проникновению во внутренний мир человека является портрет моны Лизы Джоконды, о котором историк искусств Джорджо Вазари (1511 – 1574) писал: «Это чудо… это вещь скорее божественная, чем человеческая». «Божественность» таится и во взгляде, внимательно следующем за зрителем, и в прозрачности вуали, накинутой на голову, и в неуловимом выражении лица, и в таинственной полуулыбке, и в игре света и тени, и в неземной красоте пейзажа. Некоторые искусствоведы XX века объясняли загадочную улыбку Джоконды мистификацией, к которой часто прибегали итальянские художники эпохи Возрождения. В 80-е годы XX века американка Лилиан Шварц, сотрудница Школы визуальных искусств в Нью-Йорке, заявила, что лицо Моны Лизы – это портрет самого да Винчи. Для доказательства она использовала компьютерное сканирование единственного дошедшего до нас автопортрета Леонардо, сделанного в последние годы пребывания в Италии. Оно выявило совершенно одинаковые пропорции лица.
Примеров мистификации можно привести много. Итальянские художники любили включать в религиозные композиции образы реальных людей, чаще всего своих современников. Например, в картине Сандро Боттичелли (1444 – 4510) «Поклонение волхвов», напоминающей многолюдное празднество, представлены флорентийские правители Козимо Медичи и его сын Пьетро, гордый и высокомерный Лоренцо Великолепный, его брат Джулиано, поэт Анджело Полициано, гуманист Пико делла Мирандола, родственники и друзья Медичи, среди которых и сам художник, изящно задрапированный в светло-голубой плащ.
Во фреске «Страшный суд», украшающей Сикстинскую капеллу в Ватикане, Микеланджело Буонарроти (1475 – 5564) сделал зрителей как бы свидетелями и соучастниками события последнего дня. Своего покровителя папу Юлия II он поместил среди небожителей. Себя, легко узнаваемого по скошенному носу, Микеланджело изобразил на коже, снятой, по преданию, с мученика – апостола Варфоломея. Одного из своих недоброжелателей – кардинала в образе коварного мифологического персонажа, обвитого змеей, – он расположил среди осужденных, ввергнутых в огонь могущественной десницей Бога. Микеланджело-архитектор был большим мастером создания игрового иллюзорного пространства. В 1536 году по заказу папы Павла III он спроектировал Капитолийскую площадь, которая кажется обширнее, чем она есть на самом деле. Поразительный эффект перспективы достигается тем, что два дворца по краям площади построены не параллельно друг другу а так, что они расходятся.
В Станцах (комнатах), расписанных Рафаэлем, самой замечательной фреской является «Афинская школа», в которой на ступенях огромного здания изображены внушительные фигуры философов Платона и Аристотеля, окруженные другими древнегреческими философами, математиками и учеными. Среди них – Пифагор Самосский, Эвклид, Птолемей, Диоген. В образе длиннобородого Платона увековечен облик великого художника и ученого Возрождения Леонардо да Винчи, с которым Рафаэль встретился во Флоренции в 1505 году. В правом углу фрески художник (ему шел всего лишь 21 год) запечатлел самого себя в черном берете. Рядом с ним – его коллега Джованни Антонио Бацци, по прозвищу Содома. У подножия лестницы выделяется человек, отличающийся от всех остальных тем, что он обут в сапоги, в то время как другие – в сандалиях или босы. Это – портрет Микеланджело Буонаротти.
К мистификации обращался и венецианский художник Позднего Возрождения Паоло Веронезе (уроженец Вероны Паоло Кальяри, 1528 – 1588). В картине «Брак в Кане» («Чудо в Кане Галилейской», 1563), предназначенной для трапезной монастыря ордена бенедиктинцев на острове Сан Джорджо Маджоре в Венеции, он обратился к эпизоду из Нового Завета, когда Иисус претворяет воду в вино. В сцену пиршества наряду со слугами в венецианских и восточных одеждах, шутами, дамами, старцами включены правители Европы от Сулеймана I до Карла V. Группа музыкантов представлена самим художником и его прославленными современниками – Тицианом, Тинторетто, Бассано (Якопо дель Понте из Бассано).
Некая тайна, зашифрованное послание содержатся в картинах с зеркалами, созданных итальянскими художниками Ренессанса. Известно, что в глубокой древности этруски помещали бронзовые зеркала, отражающая сторона которых была тщательно отполирована, в гробницы, чтобы указывать и освещать умершему путь в загробный мир. В эпоху Возрождения зеркало как предмет культа утратило свою силу, но его отражающее свойство было использовано художниками с целью создания игрового иллюзорного пространства. В картине Тициана (1476/77 или 1489/90 – 1576) «Венера перед зеркалом» (1550 гг.) с помощью зеркала создается глубинное перспективное построение, заставляющее «замкнутые интерьеры раздвигаться и дышать пространством» (Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М., 1987. С. 304). С помощью зеркала читались заметки Леонардо да Винчи, который писал их перевернутыми буквами справа налево.
Тайна, которая всегда присутствует в игре, успешно использовалась мастерами Возрождения. Загадочны и зачастую не поддаются расшифровке многие фрески нидерландского живописца Иеронима Босха (ок. 1450 – 1516). Одну из самых сложных загадок содержит алтарь-триптих «Сады земных наслаждений», на правой створке которого художник изобразил страшный суд во главе с владыкой ада – птицеголовым сатаной, проглатывающим и пропускающим сквозь себя грешников (ок. 1503 – 3504 гг.). Зрителя поражают невероятные причудливые образы, созданные Босхом. Самый фантастический персонаж преисподней – человек-дерево. Его ноги представляют корявые древесные стволы с ободранной корой. Из туловища вырастает человеческая голова с лицом, обращенным к зрителю, и с пристальным, изучающим взглядом. Некоторые исследователи полагают, что это автопортрет Босха. Сюжет центральной створки алтаря «Воз сена» связывают с нидерландской пословицей: «Мир – это стог сена, и каждый берет из него то, что удастся ухватить». Люди карабкаются наверх, набивают сеном мешки, гибнут под колесами повозки, которую фантастические чудовища влекут в преисподнюю. Ряд зашифрованных голландских пословиц и поговорок, иллюстрированных Босхом, до сих пор еще не разгадан.
Немецкие гуманисты XVI века обращались к игровым приемам в борьбе с контрреформацией, целью которой было восстановление былого могущества католической церкви. В памфлете «Письма темных людей» (1515, 1517 гг.; авторы – Крот Рубеан, Герман фон Буш, Ульрих фон Гуттен) используется игра слов не только в названии, но и в самом произведении. Слово «темный» означает как «ничем не знаменитый» (лат. obscur), так и невежественный (лат. obscurans). Говорящие фамилии персонажей – Конрад Оболтус, Корнелий Тупиций, Варфоломей Ослятий, Петр Камнелобст и др. – красноречиво характеризуют их невежество. Один из них впервые узнал о Гомере и о «неких людях, именуемых греками». Другой утверждает, что богословам не нужна ученость: «ведь и апостолы были неучены, однако знали все». Во многих письмах обскурантов пародируется стиль теологических трактатов и схоластических диспутов. Например, обсуждается вопрос, является ли грехом съесть в постный день яйцо с зародышем цыпленка.
Один из создателей «Писем темных людей» Ульрих фон Гуттен в своих произведениях «Диалоги» (1520 г.) и «Новые диалоги» (1521 г.) использовал игровой прием иронического иносказания, олицетворения предметов и абстрактных понятий. В диалоге «Вадиск, или Римская троица» пародийно обыгрывается пристрастие католического богословия к «священному» числу «три». В Риме торгуют тремя вещами: Христом, духовными должностями и женщинами. Паломники возвращаются из Рима с нечистой совестью, испорченным желудком и пустым кошельком. Рим обладает тремя вещами: папой, алчностью и старинными вещами. Три человеческих качества изгнали из Рима: честность, простоту и умеренность. Трех вещей боятся в Риме: союза немецких князей, народной мудрости и обнародования обманов папистов.
С именем немецкого художника-гуманиста Альбрехта Дюрера (1471 – 1528) связывают появление в Европе магического квадрата, изображенного на его гравюре «Меланхолия 1» :
Сумма чисел в любом ряду и во всех четырех угловых квадратах, включая и центральный, равна 34. Если сложить четыре угловых числа, то получится 34. Та же сумма (34) будет как при сложении четырех чисел, полученных ходом шахматного коня, так и при сложении угловых прямоугольников (из двух клеток) с диагонально противоположными угловыми прямоугольниками. Числа 15 14 в средних клетках нижнего квадрата – это год создания гравюры. Много толкований вызывает аллегорическая композиция этого произведения. Исследователи трактуют символику изображенных на гравюре предметов, исходя из сочинения немецкого гуманиста из Неттенхейма Генриха Корнелия Агриппы (1485 – 1533) «Об оккультной философии», в котором описаны семь магических квадратов с основанием от трех до девяти клеток, связанных с семью планетными сферами Птолемея. Кроме того, Агриппа выделил три типа меланхолии, а соответственно и людей, страдающих ею: к первому типу были отнесены художники, у которых воображение преобладает над разумом; ко второму – государственные деятели со свойственным им преобладанием разума над воображением; к третьему типу – религиозные деятели и философы с развитой интуицией, главенствующей над разумом и воображением. Дюрер относил себя к первому типу меланхоликов: им в его времена приписывали особую одаренность. Этим обстоятельством и объясняется название гравюры и ее проблематика: борьба разума с воображением. Различные инструменты, ключи, кошелек, часы и череп символизируют разум. Фигура прекрасной женщины Меланхолии, солнечные лучи, радуга в небе, кометы, баран, невольно заставляющий вспомнить миф об аргонавтах и их походе в Колхиду за золотым руном, символизируют воображение. По предположению исследователей, магический квадрат, как и всякая игра, олицетворяет разум и воображение художника, что позволяет считать эту гравюру творческим автопортретом Дюрера.
Карнавальным смехом, не щадящим ни королей, ни феодальную знать, ни «отцов церкви», ни ученых-схоластов, ни законников-мздоимцев, пронизан роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» французского писателя Франсуа Рабле (ок. 1494 – 1553). Игровое начало в нем проявляется в использовании пародии на рыцарские романы, жития святых, мученичество, пророчества, чудеса, совершаемые святыми, реликвии, жизнеописания королей и полководцев, схоластические диспуты. Большим мастером в переосмыслении любого священного текста «в плане еды, питья, эротики» выступает брат Жан. Значительное место в романе отведено таким игровым приемам, как гротеск (образы королей Пикрохола и Анарха, образ Постника, королевство Квинтэссенции и др.), гиперболизация чисел, карикатура (образы схоластов Ионотуса де Брагмардо и Тубала Олоферна), красочная буффонада (война Диких Колбас с поварами Пантагрюэля). Писатель нередко использует игру слов (речи Лижизада, Пейрино, Панурга: Юпитер «козлее любого козла. Недаром идет молва, что его поила молоком коза Амалфея. Клянусь Ахеронтом, в один прекрасный день он полез на третью часть света со всеми ее животными и людьми, то есть на Европу. За это козление поклонявшиеся Аммону велели изобразить Юпитера в виде козлиного козла, козла с рогами»), намеренное снижение, восходящее к хуле: в наказание короля Анарха превращают в шута; Панург женит его на старой и сварливой бабе, которая постоянно избивает мужа. В низкий комический план, отзывающийся Сатурналиями, низводятся даже признанные авторитеты античности: Аристотель, который «всем своим видом … напоминал отшельника … все что-то выслеживал, обдумывал и записывал». Позади него, «точно соглядатаи», стояли «Аппиан, Гелиодор, Афиней, Порфирий, Панкрат Аркадский, Нумений, Посидоний, Овидий, Оппиан, Олимпий, Селевк, Леонид, Агафокл, Теофраст, Дамострат, Муциан, Нимфодор, Элиан и еще сотен пять таких же праздных людей».
Во многих эпизодах романа используется карнавальная «игра отрицанием», когда, по наблюдению М.М. Бахтина, «кувыркается пространственный и временной образ, кувыркается и смысл, кувыркается и оценка», то есть когда отрицание заменяется утверждением. В качестве примера исследователь приводит образ Телемской обители, где все основано на свободе действий. В этот монастырь будут принимать «таких мужчин и женщин, которые отличаются красотою, статностью и обходительностью». Женщинам будет воспрещаться «избегать мужского общества, а мужчинам – общества женского». Прием «смыслового наоборот» является основным в характеристике Постника: «… трудится он, когда ничего не делает; ничего не делает, когда трудится. Бодрствует во сне, спит бодрствуя, с открытыми глазами…».
Мотив испытания роковыми загадками пародийно обыгрывается в пятой книге (главы XI – XII), в которой эрцгерцог Пушистых Котов Цапцарап загадывает путникам следующую загадку:
- «– Какая-то блондинка, без мужчины
- Зачав ребенка, родила без муки
- Похожего на эфиопа сына,
- Хоть, издавая яростные звуки,
- Прогрыз он ей, как юные гадюки,
- Весь правый бок пред тем, как в мир
- явился.
- Затем он дерзко странствовать пустился —
- Где по земле ползком, а где летя, —
- Чему немало друг наук дивился,
- Его к людскому роду сопричтя».
И хотя Панург правильно разгадал эту роковую загадку (черный долгоносик, родившийся в белом бобе и прогрызший в нем дыру), ни ему, ни его друзьям не удается выпутаться из «паутины» законов Застенка до тех пор, пока они не дали «славной подмазки» – кошелька с золотыми экю.
На образах игры построена глава «Пророческая загадка», завершающая первую книгу романа. Как и всякое пророчество, она построена на основе истолкования «светил небесных бега» и «божественного Провиденья». Но в отличие от пророчеств, проникающих «в судьбы будущих веков», эта загадка открывает то, что произойдет ближайшей «осенью или зимой», когда придут такие люди, «коим нестерпимы / Ни отдых, ни веселие, ни смех / И кои, не считая то за грех, / Людей любого званья совратят, / Повсюду сея распрю и разлад», вызывая космические катастрофы (потоп, землетрясение, пожары). По мнению Гаргантюа, в этой загадке содержится «раскрытие и утверждение божественной истины», а также гонения на евангелистов. Брат Жан видит в ней подробное описание игры в мяч, имеющей аллегорический смысл: «Совратители людей – это игроки в мяч, обыкновенно состоящие между собой в дружеских отношениях. После двух подач мяча один из них выходит из игры, а другой начинает. Верят первому, кто крикнет, как пролетит мяч: над или под веревкой. Поток воды – это пот; плетенка ракетки – из бараньих или же козьих кишок; шарообразная махина – это мяч. После игры обычай таков: обсушиться возле яркого огня, переменить сорочку, а потом с удовольствием сесть за стол, при этом особенно весело пируют те, кто выиграл».
Один из персонажей романа – судья Бридуа – решал все дела с помощью игральных костей, причем он старался действовать в полном соответствии с установленным юридическим порядком. Но из-за старости и плохого зрения Бридуа не так ясно различал «число очков на костях» и при вынесении приговора «мог принять четыре за пять».
Мотив шахматной игры, заимствованный Рабле из поэмы Франческо Колонны «Сны Полифила», лежит в основе описания бала-турнира в королевстве Квинтэссенции (Книга V, главы XXIV – XXV). Бал происходил в зале, пол которого был застелен бархатным ковром в виде шахматной доски, разделенной на белые и черные квадраты. Первыми вошли шестнадцать участников и участниц бала, одетые в золотую парчу. Среди них – восемь юных нимф, король, королева, «два башенных стража, два рыцаря и два лучника». За ними следовали другие шестнадцать участников, одетые в серебряную парчу. Они расположились на квадратах ковра в соответствии с правилами шахматной игры: в последних рядах «королевы заняли места рядом с королями…; рядом с королями и королевами в качестве их телохранителей стали лучники; подле лучников – рыцари; подле рыцарей – два стража. Следующий ряд на той и на другой стороне заняли восемь нимф. Между двумя рядами нимф четыре ряда пустых квадратов».
Писатель точно воспроизводит все перипетии шахматного сражения. Нимфы начинают бой, ходят с квадрата на квадрат, никогда не отступают, берут «неприятелей только по диагонали, вкось, и только вперед». Короли ходят и берут «неприятелей» во всех направлениях, но переходят лишь на один квадрат. Королевы ходят и берут «на все лады и по-всякому»: по прямой линии и по диагонали своего цвета. «Лучники ходят и вперед и назад, и далеко и близко… Рыцари ходят и берут глаголем: они проходят через один квадрат по прямой линии, даже если он занят своими или же неприятелями, а затем на втором квадрате поворачивают направо или же налево, меняя цвет… Стражи ходят и берут только по прямой, как и короли …, но они могут заходить как угодно далеко, если только линия свободна».
Все участники шахматного турнира ведут себя в соответствии с правилами куртуазного «вежества». Когда кто-нибудь брал в плен неприятеля, то отвешивал ему поклон, похлопывал по правой руке и становился на его место. Если королю угрожала опасность, то противники с низким поклоном предупреждали его об этом словами «Храни Вас Господь!», чтобы слуги могли защитить своего властелина. Короля нельзя было взять в плен. Перед ним опускались на левое колено, говоря: «Добрый день!» и заканчивая на этом турнир. Игры у Рабле являются также источником для сравнений, метафор и экспрессивных образов, выражающих удачу-неудачу.
Игровые формы поведения свойственны многим персонажам комедий английского драматурга Вильяма Шекспира (1564 – 1616), который как никто другой умел разбираться в самой сути понятий игры и жизни. В комедии «Укрощение строптивой», например, слиты воедино быт и игра. В пикировке достойных противников – Петруччо и Катарины – слышатся отголоски состязаний в добродетели и хуле: на все грубости Катарины Петруччо отвечает притворными любезностями, сменяющимися «безумным поведением» героя. Он называет старого дворянина Винченцио «прелестной девицей», у которой «румянец спорит с белизной на щечках». Понимая, что это розыгрыш, Катарина включается в игру: «Привет прекрасной, нежной, юной деве! / Куда идешь ты? Где твоя обитель? / Как счастливы родители, имея / Такое дивное дитя!»
Состязания в остроумии, «перестрелка остротами» между Бенедиктом и Беатриче занимают большое место в комедии «Много шума из ничего». Другой отличительной особенностью комедий Шекспира является их связь со старинными обрядами – рождественскими, масленичными и майскими играми. В них появляются свойственные карнавалу переодевания, образы шутов (Лаунс и Спид – «Два веронца», Оселок – «Как вам это понравится», Фесте – «Двенадцатая ночь» и др.); комедии начинаются со всеобщего непонимания, неразберихи – хаоса – и заканчиваются водворением порядка и торжеством любви – космосом. Многочисленные словесные поединки в проявлении остроумия лежат в основе пьесы «Бесплодные усилия любви», персонажи которой стремятся блеснуть своими остротами, шутками, каламбурами. По утверждению драматурга, с игрой «неразлучимы юность и свобода» («Гамлет», акт II, сцена 1).
Некоторые деятели культуры считали все творчество Шекспира блестящей мистификацией – талантливой, изобретательной игрой с читателями. Основываясь на тех «темных пятнах», которые содержатся в биографии и творчестве этого драматурга, они сомневались в авторстве Шекспира, причем голоса сомнений начали звучать с XVI века. В XIX веке Чарльз Диккенс писал: «Это какая-то прекрасная тайна, и я каждый день трепещу, что она окажется раскрыта». В XX веке ему вторил Владимир Набоков: «Среди вельмож времен Елизаветы и ты блистал, чтил пышные заветы... Ты здесь, ты жив – но имя, но облик свой, обманывая мир, ты потопил в тебе, любезной Лете. И то сказать: труды твои привык подписывать – за плату – ростовщик, тот Вилль Шекспир, что «Тень» играл в «Гамлете». В Советском Союзе среди сомневающихся был литературовед И.М. Гилилов, секретарь шекспировской комиссии при Академии наук СССР. Он предполагал, что произведения, приписываемые Шекспиру, были созданы графом Ретлендом и его женой Элизабет Сидни.
Определенные основания для сомнений были. Шекспир, каким он предстает на страницах своих произведений, был образованнейшим человеком своего времени. Его лексикон – 30 тысяч слов, он владел основными европейскими языками – французским, итальянским, испанским, датским, греческим, латынью, – прекрасно знал античную мифологию, литературу, историю, читал и перечитывал произведения Гомера, Плавта, Овидия, Сенеки, Плутарха; обнаружил основательные познания в истории и культуре Англии, в военном деле, в музыке, в ботанике, в кавалерийских приемах и конских статях; был близко знаком с придворными обычаями и времяпровождением монархов и титулованной знати; не только по книгам знал Италию, Францию, Данию, Чехию.
Что касается Шекспира-человека, ничего не известно о его занятиях в детские и юношеские годы, о его образе жизни, привычках, друзьях и знакомых. В отличие от его современников не сохранилось ни одного чернового листа его рукописей, не найдено ни одной книги из его библиотеки (а она должна бы быть немалой). За три с половиной века поисков биографических данных было обнаружено лишь шесть подписей, три из которых – в завещании великого драматурга, странном и необычном для гения документе. В нем тщательно расписано все имущество: сараи, конюшни, сады, посуда, платье. Ничего не сказано лишь об одном – о том, что составляло смысл жизни в течение двадцати лет, – о его произведениях, о расчетах с издателями. А они к тому времени гонялись за каждой строчкой «медоточивого и сладкоголосого» барда.
Игровые мотивы – пародирование схем и образов рыцарских романов – легко обнаружить в романе испанского писателя Мигеля де Сервантеса (1547 – 1616) «Дон Кихот». Начитавшись книг о подвигах рыцарей в золотой броне, герой обзаводится оруженосцем, вступается за мальчика-батрака на постоялом дворе, принятом им за замок, нападает на купцов, заставляя их прославлять несравненную красоту его дамы сердца Дульсинеи Тобосской, сражается с ветряными мельницами, приняв их за враждебных великанов. «Смысловое наоборот» раскрывается в мудрых суждениях безумца Дон Кихота о государстве, свободе, морали, любви и о человеческом достоинстве.
Своеобразная и запутанная игра в прятки всех и со всеми положена в основу ранней пьесы испанского драматурга Лопе де Веги (1562 – 1635) «Любовная хитрость». В ней каждый из персонажей поминутно меняет свой облик, надевает на себя своеобразную маску: дворянин превращается в тореадора, мельника и врача, девушка – в цыганенка или садовницу, садовница – в мавра или студента, студент – в призрак, призрак – в немого горбуна. Последний акт заканчивается народным балаганом с прибаутками, бранью и свалкой. В зрелых произведениях Лопе де Веги появляется новый тип шута – грасьосо. Это – слуга, шутник и балагур, который помогает своему господину во всех делах, но нередко высказывает по его адресу иронические замечания.
Деятели эпохи Возрождения высоко ценили игру не только как художественный прием, но и как средство обучения, способствующее развитию свободной, раскрепощенной личности. В 1425 г., пропагандируя гуманистическую идеологию и новую систему воспитания, итальянский математик Витторино Рамбальдони да Фельтре (1373 – 1446) основал в Мантуе школу под названием «Дом радости». Она предназначалась для детей представителей рода Гонзаго и знатных мантуанских семей. В этой школе на средства Витторино обучались также дети бедняков. Знания усваивались без зубрежки и наказаний в процессе учебных игр, которые сменялись охотой, рыбной ловлей, состязаниями в стрельбе из лука, в плавании и фехтовании. По отзывам современников, во время обучения Витторино да Фельтре придерживался «простых» правил: научить учеников мыслить и выражать свои мысли «как можно проще и искреннее, избегая изысканных оборотов речи». Летом он увозил своих воспитанников на маленькую виллу, где родился Вергилий, и рассказывал им «истории Персея и Геракла». Среди выпускников его школы были Федериго Урбинский, правитель Феррары и Модены Лионелло д’Эсте, правитель Мантуи Лодовико Гонзага, его сестра Цецилия Гонзага, кардиналы, епископы и архиепископы, сохранившие глубокое уважение к своему учителю. Став государем, мантуанский маркиз, например, никогда не садился в присутствии Витторино.
О том, какое место занимала игра в воспитании Гаргантюа (роман Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»), свидетельствует глава XXII под названием «Игры Гаргантюа», в которой помещен список из 160 игр – настольных («в белую дамку», «в шахматы», «в фишки»), карточных («в свои козыри», «в четыре карты», «кто взял, тот проиграл»), спортивных («в шары», «в догонялки», «в кегли», «в кожаный мяч», «в пятнашки», «в шарик», «в волан» и др.), комнатных («в щипки», «в таскай утюги из печки», «в растирай горчицу» и др.) и на открытом воздухе («в чур меня», «в волчью стаю», «в тронь навоз», «в прыг через вязанку», «в расковать осла» и др.). Среди них есть игры, связанные с историческим прошлым. Это – «большой шлем», «Колен бриде», «Колен майяр», «ландскнехт», «Гильмен, подай копье». Колен – рыцарь, который потерял зрение во время осады Льежа в 999 году, тем не менее он продолжал сражаться своей деревянной кувалдой. В Средние века была популярна игра «Колен с кувалдой» – прототип жмурок. «Ландскнехтами» в средневековой Европе называли наемных солдат. Следует отметить и тот факт, что каждый из переводчиков Рабле включал в этот список игры, популярные в его стране: немецкий переводчик – 372 названия немецких карточных игр, голландский переводчик – 63 названия голландских игр.
Прекрасной иллюстрацией к «Играм Гаргантюа» является картина нидерландского художника Питера Брейгеля Старшего (между 1525 и 1530 – 1569) «Детские игры» (1560 г.). На небольшом полотне (118 х 161), которое, как предполагают, должно было начать незаконченную серию «Четыре возраста человека», изображено около восьмидесяти различных игр. В школьном дворе дети разного возраста играют в камушки, возможно, в кости, в чехарду, в мяч, устраивают кучу малу, катают обручи, соревнуются в ловкости и быстроте. Девочки кружатся, чтобы потом внезапно остановиться в разнообразных позах, как в игре «Замри!»; дети, собравшиеся группами, судя по их сосредоточенным лицам, видимо, разгадывают загадки. В канале, расположенном за школой, мальчишки состязаются в плавании.
Играющие дети представлены на фресках Капеллы детских игр, украшавших храм Сан Франческо в итальянском городе Римини. Его оформлением руководил в 1450 – 0457 гг. Агостино ди Дуччо (1418 – после 1481), скульптор и архитектор флорентийской школы.
Помимо игр, приуроченных к церковным праздникам, большой популярностью пользовались различные азартные игры, к числу которых относились карточные игры и бильбоке. Один из основоположников бюргерской литературы, немецкий гуманист Себастьян Брант (1427 – 1521) продолжил свойственное средневековью обличение людских пороков, к которым причислялись и азартные игры. В сатирико-дидактической поэме «Корабль дураков» (1494 г.) он наряду со скрягами, честолюбцами, взяточниками, мошенниками разных рангов поместил на корабль, отправляющийся в Наррагонию (страну глупости), «отъявленных игроков», тех,
- «Кому без их дурацкой страсти
- Нет в жизни радости и сласти;
- Кто жаждет день и ночь азарта,
- Будь это кости или карты;
- Кто рад за круглый стол засесть —
- И ночь и день не спать, не есть…»
Поэт осуждает отцов, повинных «в дурной игре» и подающих своим детям скверный пример: «Все на лету хватают дети, / Соблазну попадая в сети». Результатами плохого воспитания являются те «лоботрясы», которые, «стыд забыв и страх», продулись в карты «в пух и прах». Особое негодование Бранта вызывает увлечение азартными играми женщин и священников:
- «Ослепли дамы в наши дни,
- Забыли, кто и что они:
- Пренебрегая женской честью,
- С мужчинами развязно вместе
- Играют в карты до утра…
- Но и попы играть садятся
- С мирянами – и не стыдятся!
- Вот этому прощенья нет!
- Им как-никак подумать след,
- Что чувства зависти и злобы
- У лиц духовных – грех особый:
- Чуть проиграл – и злоба вспыхнет,
- А с нею – зависть не утихнет.
- И вообще не со вчера
- Запрещена попам игра!»
Морально-дидактическая тенденция, свойственная средневековому «зерцалу», явственно ощущается в концовке главы «Об игроках»:
- «Игра азартная грешна:
- Она не богом нам дана, —
- Ее придумал сатана!»
Сатирический характер поэмы Бранта подчеркивают иллюстрации, гравированные по рисункам Альбрехта Дюрера (1471 – 1528), которые дополняют, уточняют и развивают авторский замысел поэта. На рисунке к главе «Об игроках» художник конкретизирует социальную и бытовую обстановку. Действие происходит в таверне, из окна которой виден типичный городской пейзаж: ряды домов с острыми шпилями. За круглым столом сидят четыре женщины, бросающие кости. На них высокие головные уборы, завершающиеся ослиными ушами, – деталь, связанная с традицией народного лицедейства.
Поэма Бранта оказала большое влияние на становление «литературы о глупцах», в русле которой было создано произведение нидерландского гуманиста Эразма Роттердамского (наст. имя Герт Гертсен, 1466 или 1469 – 1536) «Похвала глупости» (1509). К клевретам Глупости он относит не только торговцев, невежественных монахов, кардиналов, епископов, пап, погрязших в роскоши, но и азартных игроков, «до такой степени пристрастившихся к игре, что, едва заслышат стук костей, сердце у них в груди так и прыгает». Писатель создает выразительные образы стариков, «наполовину ослепших», которые, несмотря ни на что, играют, «нацепив на нос очки», и подагриков: «У иного хирагрой так скрючило пальцы, что он вынужден нанимать себе помощника, который мечет вместо него кости». К самой игре гуманист относится двояко, исходя из своего главного постулата, утверждающего, что всякое явление «имеет два лица»: «Да, сладкая вещь игра, но слишком уж часто переходит она в неистовство, подвластное уже не мне, но фуриям».
Увлечение азартными играми отмечено и в повести Сервантеса «Прославленный слуга». Его герой-пикаро Диего де Карриазо «выучился играть в бабки в Мадриде, в экарте – в предместьях Толедо, в пикет – в барбаканах Севильи». Об этом пороке и о шулерстве во время игры писал Шекспир в комедии «Виндзорские насмешницы»:
- Ибо gourd и fullam делают свое дело
- И high и low обманывают богатых и
- бедных.
Fullam, gourd – разновидность шулерских игральных костей. High fullams, low fullams – кости со смещенным центром тяжести, чтобы повышалась вероятность выпадения крупных чисел (4, 5, 6).
Однако следует отметить, что в 1495 году в Англии король Генрих VII «воспретил» карточные игры «слугам и ученикам во все дни, кроме рождественских праздников». Известно, что азартным игроком был английский король Генрих VIII (1491 – 1547, годы правления 1509– 1547). Однако именно он объявил «общественные игорные дома» вне закона, так как они отвлекали юношей от военной подготовки и стрельбы из лука. Это установление короля просуществовало в Англии до 1960-х годов.
О послеобеденных карточных играх в остерии рассказывает с живописными подробностями талантливый политический деятель, дипломат и писатель Николо Макиавелли в письме своему другу Франческо Веттори от 10 декабря 1513 года: «Там обычно торчат, кроме хозяина, мясник, мельник и двое кузнецов. С ними я убиваю день в никчемных занятиях, играя в карты и в трик-трак, возникает тысяча перебранок, бесконечные ссоры и оскорбления, подчас из-за кватрина мы орем настолько истошно, что, наверно, доносится до Сан Кашано».
Английский хронист Джон Стоу (1525 – 1605) писал, что «с кануна Дня Всех Святых до дня, следующего за Сретением, во всех домах, среди прочих развлечений, шла игра в карты на фишки, на деньги или на очки». Карты имелись во всех тавернах. Особенно ценились «испанские карты из Виго», «приятные на вид, диковинно расцвеченные и весьма отличные» от английских. Как отмечал хронист, «они продаются по цене один шиллинг колода у миссис Болдуин на Уорик-лейн». За год продавалось «примерно 4,8 миллиона колод».
Атмосфера напряженности, повышенной нервозности, свойственная азартным играм, воспроизведена на картине нидерландского художника Луки Лейденского «Игра в карты» (ок. 1514 г.). Центральная фигура, держащая карты в одной руке, а другой судорожно нащупывающая разбросанные на столе монеты, погружена в себя и как бы выключена из бытовой среды. Застывший игрок слева со взглядом, обращенным в никуда, видимо, обдумывает очередной ход; рядом с ним – тяжеловесная фигура персонажа, внимательно следящего за происходящим.
К числу излюбленных развлечений взрослых в эпоху Возрождения, как и в Средние века, были игры, воспроизводившие шутливое ухаживание молодых людей и комические единоборства мужчин и женщин («похищение поцелуя», «пастух из нового города» и др.). В игре «пастух из нового города» мужчина должен был улучить момент, поднять скачущую девушку на воздух и кружить ее как можно дольше. От женщин требовалась такая же сила, так как и она должна была поднять вертящегося парня и кружить его. По-видимому, игра заканчивалась массовыми поцелуями. К понедельнику, после Богоявления (19 января, в память о явлении гласа Бога Отца и Св. Духа в образе голубя после того, как Иисус вошел в воды Иордана), была приурочена игра «пахание плугом и бороной» (в Англии – Plough Monday), имевшая символический смысл: в Средние века и в эпоху Возрождения плуг и борона олицетворяли мужскую силу, недра земли считались символами женского плодородия. Сохранилось описание этой игры: «Молодые мужчины собирают всех девушек, участвовавших в продолжение года в танцах, впрягают их вместо лошадей в плуг, на котором сидит музыкант, и гонят всех в реку или пруд». Цель игры – высмеять девушек, оставшихся без женихов.
В эпоху Возрождения в Европе появился биллиард, родиной которого считается Китай. Эту точку зрения оспаривают французы. На основании того, что в названии игры содержится слово bille (шарик) и многие игровые термины звучат по-французски, они считают эту игру своим национальным изобретением. В одной из хроник XV в. были впервые упомянуты бильярдные столы при дворе французского короля Людовика XI Благоразумного (1461 – 1483). Сохранились сведения о том, что французский король Карл IX играл на биллиарде в Варфоломеевскую ночь (24 августа 1572 г. – день св. Варфоломея), когда католики начали массовую резню гугенотов. В день своей трагической смерти (17 февраля 1587 г.) шотландская королева Мария Стюарт в письме к архиепископу города Глазго просит позаботиться о своем бильярде (une table billard). О существовании в Англии биллиарда знал Шекспир. В его пьесе «Антоний и Клеопатра» (акт II, сц. 5) Клеопатра играет на биллиарде со своим евнухом Мардьяном. Однако это – несомненный анахронизм. По-видимому, к эпохе Возрождения относится появление в домах знати первых игровых салонов, столь популярных в Европе XVIII века (игровой салон королевы Марии-Антуанетты в Фонтенбло, 1786 г.).
Многие игровые приемы, используемые деятелями эпохи Возрождения, получат дальнейшее развитие в западноевропейской культуре Нового времени.
ТЕМА 6. МЕСТО И РОЛЬ ИГРЫ В КУЛЬТУРЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVII – XX ВВ.)
XVII век – сложная, противоречивая, полная драматизма эпоха кризиса феодальной системы. Дисгармония в развитии сказалась и на отношении к человеку, который стал осознаваться как противоборство двух начал – интеллекта и страстей. В этот период философия обособляется от религиозного сознания, наука становится самостоятельной сферой духовной деятельности человека, в художественной культуре формируются различные стили: барокко, классицизм, реализм. Игровой элемент, пристрастие к театральным эффектам более всего были свойственны барокко, открывшему мир страстей, чувств, экспрессии.
Архитектура барокко воплощает идею театрализации религиозного действа, что способствует усилению светотеневых эффектов, использованию изощренных форм. Итальянский архитектор Франческо Борромини (1599 – 9667), прибегнувший к игре форм, отказался от прямых линий, углов и колонн как конструктивного элемента. На смену им пришли пилястры, приставные колонны и полуколонны, волноподобные волюты в обрамлении порталов, дверей, окон и волнообразный фасад-ширма, скульптуры, вставленные в глубокие ниши, что создавало игру света и тени (церковь Сан Карло в Риме).
Архитектор Лоренцо Бернини (1598 – 8680) добавил к главному фасаду собора св. Петра в Риме грандиозную колоннаду «распростертые объятия», производившую впечатление колоссального вестибюля под открытым небом. Такое свойство игры, как эмоциональное воздействие на ее участников, Бернини использовал при создании королевской лестницы «Скала Реддиа» в Ватиканском дворце (1663 – 3666). Лестница сужается от входа, чтобы придать торжественному появлению папы монументальность: римский папа выходил, когда в окно светило солнце. Создавая пластически напряженные образы, изображая фигуры в сильном движении, в момент наивысшего напряжения душевных сил, Бернини-скульптор обратился к трактовке человеческого лица как своеобразной маски, олицетворяющей чувство мистического экстаза («Экстаз св. Терезы», 1644 – 4652; «Аполлон, преследующий Дафну», 1622 – 2625). В решении декоративных задач Бернини, как и другие скульпторы барокко, часто прибегал к своеобразной игре с массивными водяными каскадами, усиливающими динамику скульптурных форм («Фонтан с тритоном» на площади Барберини, «Фонтан четырех рек» на площади Навона).
Один из создателей стиля барокко в живописи фламандский художник Петер Пауль Рубенс (1577 – 7640) в качестве средств эмоционального воздействия на зрителя использовал стремительное вихревое движение, втягивающее в себя и людей, и природные стихии, разнообразные ракурсы человеческого тела, эффектные декоративные композиции, основанные на цветовых контрастах и на контрастах динамичных и статичных фигур («Вакханалия», «Персей и Андромеда», «Охота на львов» и др). Его ученик и сподвижник Антонис ван Дейк (1599 – 9641) воздействовал на зрителя с помощью строго продуманной, подчиненной ритму изогнутых линий композиции и таких приемов в изображении человека, как изысканная поза, худощавое, осунувшееся лицо, бледное, с затуманенным тайной грустью взглядом, напряженно сжатые или безвольно опущенные кисти рук, вызывающие ощущение непонятной тревоги.
Литературе барокко свойственны такие игровые элементы, как диссонансы, перифразы, повышенная экспрессивность и метафоричность, склонность к усложненному сюжету и замысловатой интриге, к созданию фантасмагорий. Испанский поэт Алонсо Ледесма (1552 – 2623), автор сборника стихов «Интеллектуальные загадки» (1600) считается основателем консептизма – тонкой интеллектуальной игры, основанной на неожиданных сопоставлениях.
Консептизмами была уснащена проза Кеведо (Франсиско Гомес де Кеведо-и-Вильегас, 1580 – 0645). Так, например, описывая беззубый рот голодающего человека, писатель отмечал: его зубы «сосланы за праздношатайство и безделье». Постный бульон сравнивается им с прозрачным источником, в котором увидел свое отражение Нарцисс. Глубокомысленная интеллектуальная игра содержится в произведении Кеведо «Книга обо всем и еще о многом другом», в котором он дает «таблицу задач» и их решений. В одной из них писатель спрашивает: «Что нужно для того, чтобы люди исполнили твои желания?» – и отвечает: «Попроси отнять у тебя, что ты имеешь, и они охотно это сделают». Игровой характер приобретает вся «таблица задач», содержащая насмешки над обывателями, шарлатанами-астрологами, карьеристами, невеждами. Вот один из примеров: «Чтобы быть богатым и иметь деньги? – не желай их, и будешь богат».
Моду на прециозность – утонченную цветистость речи, игру словами, одинаково звучащими, но имеющими разные значения, – ввели испанский поэт Арготе-и-Гонгора (1561 – 1627), итальянский поэт Джамбаттиста Марино (1569 – 9625) и английский романист эпохи Возрождения Джон Лили (1554? – 1606). По имени Эвфуэса, героя романов Лили («Эвфуэс. Анатомия ума», 1578; «Эвфуэс и его Англия», 1580), жеманный, манерный стиль стал называться эвфуистическим. Своеобразные правила жеманной великосветской игры были выработаны в парижском салоне маркизы де Рамбулье, ставшем центром прециозности. Посетители салона возродили аллегорическую условность, средневековую куртуазность, культ дамы. Примером прециозного романа может служить роман «Клелия» (1654 г.) французской писательницы Мадлены Скюдери. В это произведение включена «Карта страны нежности с подробным ее описанием» – своеобразный «путеводитель по «стране галантности и любви». Чтобы попасть из Зарождающейся дружбы в нежную Признательность, нужно оказаться в деревне Любезные услуги, пройти через Стихотворные приятства, по Дороге дружбы добраться до городка Нежное уважение и т.д. Такое изображение царства любви нашло широкое применение в светских играх аристократических салонов, на языке которых многие предметы обозначались перифразами, понятными только посвященным. Например, «наперсник граций» означало зеркало, «удобства собеседования» – кресла и т.д. Речь и манеры прециозников, любивших играть абстрактными понятиями и цветистыми перифразами, высмеял Мольер в комедии «Смешные жеманницы» (1659 г.), в которой две провинциальные мещанки, начитавшись прециозных романов, подражают аристократическим дамам и доводят их манеры, ужимки и выражения до карикатуры.
Самым значительным из последователей Мольера был французский драматург Жан Франсуа Реньяр (1655 – 1709). Он создал тип разорившегося светского мошенника-авантюриста, пускающегося во все тяжкие. Таким является герой его комедии «Игрок» (1696) – обедневший дворянин Валер, занимающийся карточной игрой, чтобы поправить свое состояние. Ни в чем не уступает своему господину и его слуга Эктор, помогающий ему вести бесчестную игру и не забывающий при этом извлечь прибыль для себя. Обилие таких карнавальных приемов, как трюки, переодевания, буффонада, игра слов, содержащихся в произведениях Реньяра, сближают их с комедиями дель-арте.
Большую роль в развитии немецкой прециозной литературы сыграл «Увенчанный пастушеский и цветочный орден», или «Общество пегницких пастухов», основанное в 1644 г. в Нюрнберге. Поэты этого ордена, выступавшие в условных буколических одеждах, использовали звукопись, замысловатые метафоры и эпитеты, логарифмы. Стремясь воздействовать не только на слух, но и на глаз читателя, они создавали фигурные стихотворения в виде башни, бокала, флейты и других предметов.
Наряду с «пегницкими пастухами» дань барокко отдал выдающийся немецкий писатель Ганс Якоб Кристоффель Гриммельсгаузен (1621 или 1622 – 2676). Его роман «Похождения Симплиция Симплициссимуса» (1669) представляет собой фантасмагорическое смешение суровой немецкой действительности, охваченной «пламенем войны, голода и мора», мирной жизни швейцарских поселян, царства сильфов на дне живописного Муммельозера, необитаемого острова в Индийском океане, на который попадает его герой после кораблекрушения.
Прециозность «пегницких пастухов», галантная жеманность, свойственная их произведениям, подвергается пародированию в комедиях немецкого драматурга Андреаса Грифиуса (1616 – 1664) «Господин Петер Сквенц» (1658) и «Хоррибиликрибрифакс» (1663). Последняя комедия представляет виртуозную стилистическую игру. Грифиус использует карнавальный прием гротескных масок, открывающих парад монстров. Это – два «хвастливых воина» с замысловатыми именами: «высоко и великоблагорожденный, несравненный, необоримый, мужественный» капитан Хоррибиликрибрифакс от Громовой Стрелы и капитан Дарадиридатутаридес Ветрогон от Тысячи Смертей, отличающийся «великосветскими» манерами. За ними следует ученый педант Семпроний, речь которого пересыпана цитатами из классических авторов, фразами на греческом и латинском языках, указаниями на различные литературные источники.
Такие свойства игры, как таинственность, загадочность, эмоциональное воздействие на человека, привлекали не только представителей барочного искусства, но и тех творцов, которые осуществили синтез основных стилей XVII века в живописи. Это – Микеланджело да Караваджо (1573 – 3610), Диего Веласкес (1599 – 9660) и Рембрандт ван Рейн (1606 – 6669). Основным средством эмоционального воздействия у Караваджо становится светотень. На его полотнах герой и его предметное окружение выделены световым потоком, в то время как фон погружен в глубокую тень, что способствует созданию художественно-психологических эффектов. В картине «Призвание Матфея» (ок. 1600 г.) световой поток вливается в движение указующих перст Христа, апостола Петра и Матфея, превращая веление Христа: «Следуй за мною» в буквальное просветление словом.
Много загадок содержит полотно Веласкеса «Менины» (1656 г.), в котором искусствоведы видят гениальную игру ума и зрения. Что привело в движение придворных, окруживших инфанту? Почему одна из картин светится изнутри? Что изображает художник – сам Веласкес (это его единственный достоверный автопортрет) – на огромном холсте, изнанка которого видна зрителю? На кого устремлены все взгляды? Какой символический смысл имеет введение в композицию «Менин» гигантских картин на дальней стене, созданных на мифологические сюжеты из «Метаморфоз» Овидия, в которых раскрывается тема соперничества смертных с олимпийскими богами (Арахны с Афиной, Марсия с Аполлоном). Предполагают, что Веласкес пишет портрет короля Филиппа IV и его жены Марианны Австрийской, чьи лица отражены в мерцающем на стене зеркале. Это полотно испанского художника искусствоведы рассматривают как своеобразное иносказание: «придворный живописец как бы вступает в соперничество с королями, богоравными вершителями человеческих судеб» (С.М. Даниэль).
Помимо «Менин» к числу самых таинственных произведений мировой живописи принадлежит картина Рембрандта «Ночной дозор» (1642 г.), в которой многое до сих пор еще не разгадано. Что заставило стрелков торопиться к выходу из глубины крытого подворья, толкая друг друга? Почему один из офицеров так испуганно осматривает свое оружие, а другой – пикой загораживает проход? С какой целью в групповой портрет стрелков введена фигурка маленькой девочки, озаренной ярким сиянием? Почему у нее за поясом висит белый петух? Что за диковинный свет струится слева, вырывая из мрака то поблескивающий шлем, то острие копья, то часть фигуры и оставляя в тени лицо? Почему вместо семнадцати офицеров, внесших деньги на групповой портрет от добровольной военной корпорации, изображено двадцать восемь человек? Многое прояснилось после реставрации полотна в 1946 – 6947 годах. Оказалось, что изображенный художником эпизод происходит не глубокой ночью, а при ярком солнце, вырвавшемся из-за туч, чем и объясняется необыкновенное освещение картины.
Иной облик жизни удалось воссоздать фламандскому художнику Адриану Брауверу. В его картине «Драка крестьян при игре в карты», передающей трагическую безысходность, искалеченность жизни простого человека, все предельно просто и грубо. Драматическое столкновение, завершающее конец игры, усиливается выразительными позами, бурными жестами. В затаенном авторском сострадании к своим персонажам слышится скорбный крик об униженном достоинстве человека. Остроте ситуации, низменности страстей соответствует нервная напряженность колорита. Картина написана с неистовостью и темпераментом, свойственным фламандским художникам.
Совершенно в ином ключе разрабатывается мотив карточной игры в картине «Игроки в карты» (1658) голландского художника Питера де Хоха (1620 – после 1687). Светлая, сверкающая чистотой комната, теплые золотистые тона, голубые и лимонно-желтые плитки пола подчеркивают спокойное неторопливое течение жизни. Чувство размеренного покоя ощущается в фигурах игроков – двух мужчин и женщины с картами в руках, сидящих за столом в таверне, в то время как стоящий рядом мужчина внимательно изучает ее карты, видимо, специально повернутые к нему. Кажется, что в этом замкнутом мире время замедлило свой бег.
Игровой элемент, свойственный барокко, получил дальнейшее развитие в стиле рококо, который был связан с придворной аристократической культурой XVIII века. Его отличительной особенностью стало тяготение к прихотливым формам, пикантным ситуациям, смешению иллюзорного и реального, свойственному игровой деятельности. Любимыми мотивами художников этого направления являлись «жизнь-театр», галантные празднества, пасторальные и античные темы. Тончайшие оттенки легких, еле уловимых переживаний, своеобразная «игривость» отличают полотна основателя стиля рококо в живописи Антуана Ватто (1684 – 4721). Одним из лучших произведений в этом роде является картина «Капризница»: молодой человек нашептывает вкрадчивые речи молоденькой миловидной женщине, которая, капризно надув губы, с кокетливым гневом оборачивается к своему поклоннику. Тонко и точно обозначена игра дамы и кавалера, вызывающая легкую, едва заметную иронию художника. Утонченные чувства персонажей становятся предметом изображения в картине Ватто «Затруднительное предложение». Кавалер предлагает даме руку, но она не говорит ни «да», ни «нет». В эту игру чувств художник включает также зрителя. Цвет, несущий массу оттенков, прекрасно передает утонченные переживания героев.
К пасторальным мотивам и мифологическим сценам обратился другой представитель рококо – Франсуа Буше (1703 – 3770). В картине «Юпитер и Каллисто» он использовал фривольно-пикантный миф о боге Юпитере, который принял облик богини Дианы, чтобы соблазнить нимфу Каллисто. Характеристика изящного, поверхностно-игривого стиля Буше содержится в одном из стихотворений его приятеля Нирона, который обращается к госпоже Помпадур от лица художника:
- Говоря откровенно, я ищу
- Лишь изящество, грацию, красоту,
- Мягкость, вежливость и веселость —
- Словом, все то, чем дышит
- Чувственность, или игривость,
- Все это без лишней вольности,
- Под покровом, которого требует
- Придирчивая добродетель.
В музыке рококо утверждаются неглубокие по содержанию пьесы-миниатюры, основанные на грациозных танцевальных ритмах, с затейливой мелодией, украшенной трелями. Игра мотивов присутствует в любовно-галантных операх-балетах французского композитора Жана Филиппа Рамо (1683 – 3764), выдержанных в «восточном» духе. В «Галантной Индии», например, это мотивы кораблекрушения, землетрясения и извержения вулкана в стране инков – Перу. Подробно разработан мотив любви провансальской девушки Эмили, захваченной корсарами, и Валерия, попавшего в плен к Осману-паше, принцессы инков Фанни и испанца Карлоса, персидского принца и невольницы Зайры.
В литературе рококо звучали призывы наслаждаться радостями жизни, представленной как «быстротечный праздник, которым правят Вакх и Венера», как изысканный маскарад. В поэзии и в прозе обязательно присутствовали недомолвки, намеки, игра слов. Галантная игра в духе салонной болтовни, исполненной тонкого остроумия и изысканности, отличает особый стиль диалога (так называемый маривотаж) в пьесе французского писателя и драматурга Пьера Карле де Мариво (1688 – 1763) «Игра любви и случая» (1730). В ней царит атмосфера запутанности, усиленная переодеваниями и внезапными, неожиданными и парадоксальными открытиями себя и других в лабиринте жизни.
«Маскарад» иного рода содержится в философском романе и в философских повестях, созданных французскими просветителями Шарлем Монтескье (1689 – 1755) и Вольтером (Франсуа Мари Аруэ, 1694 – 1778). Монтескье переодевает своих героев в восточные костюмы и отправляет их в Европу, чтобы познакомиться с чуждыми им нравами, этическими нормами и культурой (образованный, но наивный и бесхитростный перс Узбек, его друг Рика в романе «Персидские письма»). Восток притягивал его своей загадочностью, таинственностью. Кроме того, «восточный маскарад» давал возможность Монтескье разоблачать теорию божественного происхождения королевской власти; высмеивать «короля-солнце» Людовика XIV, «алчного по отношению к своему народу», и дикое суеверие народных масс, веривших в чудодейственную силу личности короля; бесстрашно нападать на служителей культа – папу, «старого идола, которому кадят по привычке», епископов, церковных законников.
К «сложному и многоступенчатому маскараду» (А.Д. Михайлов) прибегал в философских повестях Вольтер, доводивший до абсурда современные ему порядки, увиденные глазами восточного правителя («Мир, как он есть, или Видение Бабука») или двух великанов – жителей Сириуса и Сатурна («Микромегас»). Гуманный скиф Бабук потрясен тем, что ему довелось увидеть в Персеполисе: «О несчастный город! Можно ли пасть так низко?! Люди, покупающие должность судьи, торгуют, конечно, и своими приговорами! Гнусная неправда во всем!». На протяжении всей повести «Задиг, или Судьба» жизнь ставит перед героем неразрешимые загадки. Он угадывает по следам конских копыт королевскую лошадь, участвует и побеждает в рыцарском турнире, разгадывает роковые загадки со ставкой на царство: «Что на свете всего длиннее и всего короче, всего быстрее и всего медленнее, что легче всего делится на величины бесконечно малые и достигает величин бесконечно больших, чем больше всего пренебрегают и о чем больше всего жалеют, без чего нельзя ничего совершить, что пожирает все ничтожное и воскрешает все великое?» (Время) Или: «Что люди получают, не выражая благодарности, чем пользуются без раздумья, что передают другим в беспамятстве и теряют, сами того не замечая?» (Жизнь).
Вольтеру великолепно удавался язык иносказаний и намеков, построенных на скрытом отрицании (в повести «Простодушный»: «Прелат заперся с прекрасной госпожой Ледигьер и занимался с ней церковными делами»; «святой Дунстан, ирландец по происхождению и святой по роду занятий» и др.). В повести «Кандид, или Оптимизм» появляются герои-маски, носители одной философской доктрины: чванливый учитель Панглос, которого никакие бедствия и страдания не заставляют отказаться от оптимистической философии Лейбница, Шефтсбери и др., философ-пессимист Мартэн. Писатель создает целую галерею гротескных образов и ситуаций: Панглоса, твердившего на протяжении всей повести одно: «все к лучшему в этом наилучшем из миров» или «в мире предустановлена вечная гармония»; барона Тундер тен Тронка, кичившегося семьюдесятью поколениями своих предков. На глазах у читателя прекрасная Кунигунда превращается в безобразную и сварливую женщину.
Не только персонажи, но и сам автор нередко надевал на себя маску, оспаривая в письмах свое авторство или обвиняя издателей в пиратском выпуске его книг. Он блестяще использовал остроумную мистификацию, выдавая свои антиклерикальные и антифеодальные сатиры за произведения добропорядочного богослова или удалого офицера.
В поэме «Орлеанская девственница» (1755 г.) Вольтер использовал такие игровые приемы, как пародия и снижение. Особенно зло он пародировал поэму «Девственница, или Освобожденная Франция» придворного поэта XVII века Жана Шапелена. Относясь с глубокой симпатией к исторической Жанне д’Арк, Вольтер развенчал церковную легенду, возникшую вокруг ее подвига. Основной прием изображения церковнослужителей (духовника английского рыцаря, монаха Грибурдона, миланского епископа и др.) и святых (святого Дениса, патрона Франции, архангела Гавриила, святого Георгия) – карнавальное снижение. Небожители дерутся или состязаются в сочинении хвалебных гимнов. Лицемерные и похотливые монахи совращают юных девушек, не чураются любовных утех и монашенки:
- Святую мать-игуменью в юдоли
- Земной – увы – преследовал Амур.
- «Сестра»-студент в покое и богатстве
- Довольно весело жила в аббатстве.
Нарочитое снижение ощущается и в образе Жанны, подвергающейся настойчивым ухаживаниям и домогательствам. Подобное изображение национальной героини Франции вызвало осуждение А.С. Пушкина: «Все с восторгом приняли книгу, в которой презрение ко всему, что почитается священным для человека и гражданина, доведено до последней степени кинизма».
Пародия являлась одним из излюбленных жанров английских просветителей. К примеру, Джонатан Свифт вместе со своими друзьями выпускал пародии от имени Мартина Скриблеруса (Мартина Писаки). Дело Свифта продолжил Генри Фильдинг (1707 – 1754), выступивший под псевдонимом «Мартин Скриблерус Секундус» (Второй Мартин Писака), в пародии «Трагедия трагедий, или Жизнь и смерть Мальчика-с-Пальчик Великого» (1731). Писатель издевался над понятием «великий человек», распространенным в официальной историографии. Его герой Мальчик-с-Пальчик Великий, живший при дворе короля Артура, побеждал многочисленных врагов, но в конце погибал, съеденный рыжей коровой. Речь персонажей изобиловала патетическими тирадами и цитатами из трагедий XVII – XVIII вв., что усиливало пародийный эффект. Английские литературоведы насчитали 42 пьесы, послужившие объектом пародии. Почти в каждой сцене приводятся аналогии из пьес современных английских авторов, используется большое количество перечислений и сравнений, заимствованных из классицистических героических драм. Вот один из примеров:
- Едва забрезжит розовый рассвет
- И разомкнутся половинки неба,
- Как полчища людей, ведомых Гриззлом,
- Перед дворцом волнами растекутся,
- Как рой пчелиный, что покинул улей,
- Как звезды в темной мгле морозной ночи,
- Как тысячи песчинок в сильный ветер,
- Как призраки в обители Плутона,
- Как днем весенним тысячи цветов,
- Как осенью опавшая листва,
- Как летом краснощекие плоды,
- И как зимою белый снег на поле…
Пародией на роман Сэмюэля Ричардсона «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740) является роман Фильдинга «История приключений Джозефа Эндрьюса и его друга Абраама Адамса» (1742). Писатель расшифровывает фамилию сквайра Б., героя романа Ричардсона, как Буби («олух»). В положении кроткой и добродетельной Памелы оказывается ее родной брат Джозеф Эндрьюс, лакей, который подвергается преследованиям со стороны помещицы леди Буби, родственницы сквайра, и ее престарелой домоправительницы. Памеле, не знакомой с крестьянским трудом, пародийно противопоставляется служанка Фанни. Она доит коров на ферме и не ведет обширной переписки со знатными особами, как Памела, так как она неграмотна. Героиня Ричардсона превращается Фильдингом в жеманную, черствую особу: она запрещает своему брату Джозефу жениться на «простой служанке». Во множестве пародий, принадлежавших другим авторам («Анти-Памела», «Памела, или Прелестная обманщица», «Апология жизни мисс Шамелы [англ. shame – притворство] Эндрьюс» и др.), Памела рассматривалась как ханжа и обманщица, которая притворялась добродетельной и религиозной, чтобы женить на себе сквайра Б.
В сатирической повести «История Джонатана Уайльда Великого» (1743) Фильдинг пародирует жизнеописания вельмож и королей, повествуя о древности рода главаря бандитской шайки Джонатана Уайльда (реального лица, повешенного в Лондоне в 1721 году), о его великих предках, о возникновении их девиза: «Забирайте кошельки!», о стычках и раздорах бандитов, «посвятивших себя столь великому и славному предприятию, как ограбление публики». Убийственной пародией на парламентскую борьбу является глава «Волнения в Ньюгете», лондонской тюрьме, где борются за звание главаря заключенных два преступника – Джонатан Уайльд и Роджер Джонсон. Главные атрибуты власти – халат и ночной колпак – достаются Джонатану Уайльду, который побеждает в этой борьбе.
В первых образцах мещанской драмы, рожденной эпохой Просвещения, усилился психологически значимый мотив, который получит дальнейшее развитие в культуре XIX века, – страсть к азартной игре. В трагедии английского драматурга Эдуарда Мура (1712 – 1757) «Игрок», поставленной в 1753 году, показан распад личности доброго и благородного человека по имени Беверлей под влиянием пагубной страсти к картам. Герой, прошедший через все круги картежного ада, теряет способность разумно мыслить и чувствовать. Осознание совершенных им поступков приходит слишком поздно – в долговой тюрьме. В приступе ярости и отчаяния Беверлей восклицает: «Тысяча дьяволов вселились в мою грудь, и все искушали меня – иначе я бы воспротивился соблазну!». Он принимает яд и умирает в страшных мучениях на глазах своих родных. Пьеса «Игрок» была переведена на различные европейские языки, один из переводов принадлежал Д. Дидро. Имя главного героя стало нарицательным (у А.С. Пушкина: «Поэт-игрок, о, Беверлей-Гораций…»).
По-иному трактует мотив карточной игры итальянский художник из Ломбардии Джакомо Черути. На картине «Игра в карты» (ок. 1750) он обратился к жизни городской бедноты. На переднем плане изображены два босых подростка-носильщика, удобно расположившиеся на своих корзинах и играющие в карты на фоне городского пейзажа. С большой точностью и убедительностью художник воспроизводит процесс игры, несхожесть характеров подростков, переменный успех и азарт, накладывающие отпечаток на их лица. Картина подкупает эмоциональной напряженностью, обостренной выразительностью и динамикой образов.
К атрибутам игры обращался французский художник Жан Батист Шарден (1699 – 1779) в бытовых сценках из жизни детей: «Девочка с воланом» (ок. 1740), «Карточный домик» (ок. 1740). Художник воспроизводит самые обыденные ситуации: девочка, держащая в одной руке волан, в другой – ракетку и тихо радуящаяся в предвкушении интересной игры; мальчик, сосредоточенно наблюдающий за тем, как бы не развалился его карточный домик. Но эти ситуации превращены в возвышенные, наделенные символическим смыслом явления. Предметы в них не играют первенствующей роли, однако они помогают раскрыть поэтичность будничной, непритязательной жизни, естественность и пленительность детей.
С появлением сентиментализма в европейской культуре ярко проявились такие игровые качества искусства, как эмоциональное воздействие на окружающих и личное отношение к миру. Английский писатель Лоренс Стерн (1713 – 1768), выступивший под маской своего героя в романе «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, эсквайра», продолжил начатую в эпоху Возрождения забавную игру со своим читателем. Он помещает посвящение в середине романа, намеренно покрывает черной или пестрой, «под мрамор», краской страницы или оставляет их пустыми (том IX, главы 18, 19), нарушает последовательность не только в изложении событий, но и в нумерации глав, обрывает незаконченную фразу одним или двумя тире, пытается графически изобразить жесты своих персонажей, вводит в роман целые страницы латинского текста, сопровождая их переводом, причем, не особенно точным.
Стерн не устает мистифицировать своего читателя, особенно «дальновидных читательниц», ежеминутно отвлекаясь в сторону, намеренно забывая о своих обещаниях. Повествование начинается с зачатия героя, в последней главе мы узнаем, что Тристраму не более пяти лет, однако рассказ ведется от лица взрослого человека, которому уже за сорок. Издевательская игра с читателем усиливается в рассказе о путешествии больного Тристрама по Франции в сопровождении «милой, милой Дженни», распоряжавшейся его кошельком и досугом. Читатель вправе предположить, что она – жена Тристрама, но в ходе дальнейшего повествования оказывается, что Дженни с тем же успехом могла бы быть возлюбленной или дочерью героя. Или другой пример. В третьем томе писатель обещает рассказать о любви вдовы Водмен к дяде Тоби. В восьмом томе он мимоходом сообщает: «Итак, вдова Водмен любила дядю Тоби – а дядя Тоби не любил вдовы Водмен, стало быть, вдове Водмен ничего не оставалось, как продолжать любить дядю Тоби – или оставить его в покое» (глава 11). В семнадцатой главе рассказывается об «атаках миссис Водмен», но лишь в двадцать седьмой главе дядя Тоби произносит сакраментальную фразу: «– Я влюблен, капрал!». И только в девятом томе описывается его поездка к вдове. Достойным финалом подобных мистификаций является концовка романа:
– Господи! – воскликнула мать, – что это за историю они рассказали?
– Про БЕЛОГО БЫЧКА, – сказал Йорик – и одну из лучших в этом роде, какие мне доводилось слышать».
Как видим, Стерн свободно владел механизмом смыслопорождения, лежащим в основе игровой деятельности.
Тема карточной игры и маскарада представлена в сентиментальной мещанской драме «Маскарад, или Удачное испытание» немецкого писателя и драматурга Августа Коцебу (1761 – 1819) и в готическом романе «Берлинские привиденья, или Нечаянная встреча на маскараде» английской писательницы Анны Радклиф (1764 – 1823).
Усилению игрового фактора в русской культуре XVIII века способствовал процесс обмирщения искусства, стремление придать придворной жизни европейский блеск и идеологически воздействовать на массы. Начиная с петровской эпохи, в Москве и Санкт-Петербурге устраивались пышные шествия в честь коронации или победы русского оружия, сооружались триумфальные ворота, украшенные аллегорическими и символическими изображениями, эмблемами. Нередко подобные празднества приобретали характер ролевой игры. В 1722 г. Петр I устроил маскарад на четвертый день Масленицы. Из Всесвятского села к Москве направились морские суда, поставленные на сани, в которые были впряжены различные животные. Шествие возглавил штукарь, ехавший на больших санях в шесть лошадей с бубенчиками и погремушками. Князь-папа Зотов, одетый в длинную епанчу, сидел на других санях. В ногах у него на бочке с вином восседал пьяный Бахус. За ним ехал шут в санях, запряженных четырьмя свиньями. Две Сирены везли колесницу Нептуна с трезубцем в руках. Князь-кесарь Ромодановский в порфире и с княжеской короной ехал на большой лодке, запряженной медведями. Шестнадцать лошадей везли 88 пушечный корабль, в котором сидел Петр I в костюме флотского капитана. За кораблем ехала гондола с государыней в одежде остфрисландской крестьянки в сопровождении знатных дам и кавалеров в восточных аравийских одеждах. Маскарадные шуты – «неугомонная обитель» – сидели, наряженные лисицами, волками, журавлями, лебедями, медведями, огненными змеями, в длинных санях. Шествие прибывало в Кремль вечером под пушечные выстрелы. Участники маскарада переодевались по несколько раз в день.
Форма проведения подобных зрелищ не изменилась и в эпоху Екатерины II, о чем свидетельствует афиша, вывешенная по поводу московского маскарада 1763 г. Она гласила: «Сего месяца 30, февраля 1 и 2, то есть в четверток, субботу и воскресение по Большой Немецкой, по обоим Басманным, по Мясницкой и Покровке от 10 часов утра за полдни, будет ездить большой маскарад названный «Торжествующая Минерва», в котором изъявится Гнусность пороков и Слава добродетели. По возвращении оного к горам, начнут кататься и на сделанном на то театре представят народу разные игралища, пляски, комедии кукольные, гокус покус и разные телодвижения, станут доставать деньги своим проворством; охотники бегать на лошадях и прочее. Кто оное видеть желает, могут туда собираться и кататься с гор во всю неделю масленицы, с утра до ночи, в маске или без маски, кто как похочет, всякого звания люди». Мастера-оружейники изготавливали «маскарадные» машины, служителей наряжали в «маскарадные платья». «Изобретение и распоряжение маскарада» принадлежало создателю первого постоянного русского театра Ф.Г. Волкову (1729 – 9763). Автором стихотворного либретто был М.М. Херасков (1733 – 3807).
Шествие возглавлял Провозвестник Маскарада со свитой, за ним следовали олицетворение злословия и насмешки Момус (древнегреческое божество Мом), увешанный куклами и колокольчиками, хористы, кукольники, флейтисты и барабанщики, различные пороки (Обман, Невежество, Мздоимство, Праздность и Злословие), «ленивые», крючкописцы, которые «опутывают сетьми людей и их стравливают». Хромая Правда представала на костылях с переломленными весами; Взятки высиживали яйца гарпий – крылатых чудовищ с девичьими головами, олицетворяющих злых женщин; Кривосуд Обиралов и Взятколюб Обдтралов вместе со своими подручными – Пакостниками – рассеивали «семена крапивные» (так народ звал подьячих и приказных). За ними шли Обобранные с пустыми мешками. Мотовство и Бедность двигались со свитой из картежников и игроков в кости. Аллегорические фигуры пояснялись стихотворным текстом:
- Как ветром у иных вертит мозги буянство,
- Безумство, кукольство, дурачество и пьянство…
- Иной под умною одеждой глупость кроет,
- Иной на воздухе войны и замки строит…
- Когда в невежестве кто весь проводит век,
- В сем свете как слепой сей бродит человек…
- Невежество плоды ученья презирает…
- Одно злословие дела у них решает…
- К ябеде приказной устремлен догадкой,
- Правду гонит люто крючкотворец гадкой …
Шествие завершалось мифологическими и аллегорическими фигурами Юпитера, Златого века, Парнаса, Мира и «Колесницы, в коей торжествующая Минерва, в верьху оных виктория и слава». Минерва олицетворяла просвещенного монарха – Екатерину II. Основная цель карнавала заключалась в том,
- «Чтоб мерзость показав пороков, честность
- славить,
- Сердца от них отвлечь, испорченных
- поправить,
- И осмеяние всеобщего вреда,
- Достойным для забав, а злобным для стыда».
С петровской эпохи в России были разрешены азартные игры при условии, что проигрыш не должен составлять более одного рубля медью. При Петре I (царь с 1682 г., император с 1721 по 1725 г.) появился бильярд. Его подданные развлекались в своих сельских имениях, загоняя шары в лузу. При Анне Иоанновне (императрица в 1730 – 0740 гг.) на бильярде стали играть в питейных заведениях, казармах и на постоялых дворах.
К числу популярных игр относился ломбер, имевший несколько разновидностей, среди которых был поляк (игрок открывает верхнюю карту колоды и определяет козырную масть), возникший в России. Правила этой игры, описания трех партий, а также споры о том, каким видам ломбера следует отдавать предпочтение, содержатся в ироикомической поэме Василия Ивановича Майкова (1728 – 1778) «Игрок ломбера» (1763). Герой поэмы Леандр, «который для игры лишил себя покоя», и его партнеры «три дня … не пили и не ели», «три раза спорили со гладом и дремотой», играя в ломбер картами, привезенными из Франции. Фигуры на них представляли собой изображения библейских персонажей или исторических лиц: Давид – король винновый (пиковый), Цезарь – король бубновый, Юдифь – королева червовая, Карл – король червовый, Александр – король крестовый и др. Майков уподобляет ходы игроков в карточной игре знаменитым кровопролитным сражениям древности, вводит в описание различные карточные термины:
- Тогда из рук его Давид на стол вступает,
- Которого злой хлап червонный поражает;
- Влечет его во плен, копье в его вонзя, —
- Леандр то зрит, но что? помочь уже нельзя.
- Потом и Цесарь сам свой важный вид являет,
- И в гордости маниль бубнову похищает;
- Влечет с собою в плен, подобно как Плутон
- Цереры красну дщерь влек в ад без оборон.
- И се Юдифу в брань как бурный ветр выносит;
- Единоборца та себе, гордяся, просит…
- Тут Карл воздвигнут быв своим несчастным
- роком,
- Он храбро на нее напал и поразил,
- И казнь достойную Юдифе учинил,
- Которая дотоль разила Олоферна:
- Сама побеждена, но рана несмертельна
- Была, хоть храбрый Карл весь меч в нее
- вонзил…
- Но тут другой игрок, ему ков хитрый строя,
- Он руку своего чела превыше взнес,
- Подобно как взносил прехрабрый Ахиллес
- Победоносную с мечем свою десницу,
- Багря в крови врагов и меч, и колесницу,
- В которой на Троян, яряся, нападал…
- Но утомленный быв своей победой Карл,
- Сражен манильею червонной, мертв упал.
- И се уж Александр спешит на помощь
- войску…
- От скорого его прихода стол дрожит;
- И карты, и свещи, и деньги встрепетали,
- И с ужасом с стола на землю все ниспали…
- Сама шпадилия содрогнулась от страху,
- И баста потряслась, и понта на руках;
- Леандра ж самого сугубый обнял страх.
Во второй песне поэт разбирает еще два случая, произошедшие в игре: неудачный для играющего из-за расклада карт и счастливый, позволивший ему выиграть кодилью. Действие третьей песни перенесено в античный ад, где ведется спор между сторонниками традиционных правил ломбера, распространенных в Западной Европе, и теми, «кто на свете в ломберну игру ввели раскол», то есть в поляк, распространенный в России XVIII века. Адские судьи Радамон, Миной и Эак провозглашают поляк «прямым совершенством». Не порицая Леандра за то, что тот «от самой младости» «с картами всегда… неразлучно», они советуют неудачливому посетителю ада играть осторожно, не надеяться на удачу, быть «воздержней» и не считать поляк «расколом».
Карнавальное начало, «выворачивающее» наизнанку мотивы героической эпопеи, сквозит в ироикомической поэме Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх» (1771) – остроумной пародии на перевод «Энеиды» Вергилия, выполненный придворным поэтом В.П. Петровым. В торжественном зачине, открывающем поэму, Майков говорит о своем желании «нарядить» мифологических героев «бурлаками»,
- Чтоб Зевс мой был болтун, Ермий —
- шальной детина,
- Нептун – как самая преглупая скотина,
- И словом, чтоб мои богини и божки
- Изнадорвали всех читателей кишки.
- Прилетев к своему «родителю с супругой», Вакх обнаружил, что
- Юнона не в венце была, но в треухе,
- А Зевс не на орле сидел, на петухе;
- Сей, голову свою меж ног его уставя,
- Кричал «какорку!», Юнону тем забавя.
Геркулес от скуки играл с мальчишками «клюкою длинной». Италийская богиня войны Беллона любила гонять «кубари на льду бичом». «Малые ребята» забрасывали Нептуна, изломавшего свой трезубец, снежками. Поэт использует различные пародийные приемы, сочетая черты бурлеска и героической поэмы. Его герой, простой ямщик, описан торжественным одическим слогом, в одном ряду с «низкими» просторечными словами встречаются славянизмы, поэма пестрит разностилевой лексикой («пьяный зрак» и др.).
Литературной пародией на классицистическую трагедию является «шутотрагедия» И.А. Крылова «Трумф» («Подщипа», 1800 г.). Царь Вакула собирает совет, состоящий из одного слепого боярина, другого глупого, а третьего такого, что «за старостью едва дышит». Приказав совету думать, царь уходит, но по пути с ним приключилась беда: паж изломал кубарь (волчок), которым Вакула «с ребячества доныне забавлялся». В гротескно-сатирических тонах разработан образ немецкого принца Трумфа, влюбившегося в царскую дочь Подщипу. Видимо, в «шуто-трагедии» комический текст надо было читать «трагически» в позе эпического героя и с соответствующими жестами. Эту особенность комедии Крылова отметил А.С. Пушкин в стихотворении «Городок» (1815):
- И ты, шутник бесценный,
- Который Мельпомены
- Котурны и кинжал
- Шутливой Талье дал!
О том, как велись «изрядные» игры в трактирах XVIII века, рассказывают первые басни И.А. Крылова, опубликованные анонимно в журнале И.Г. Рахманинова «Утренние часы» в 1788 году. В басне «Стыдливый игрок» высмеивается безнравственность и «беспутство» тех, кому ничего не нужно, кроме игры:
- И карты ставил он и гнул смелее;
- И вдруг
- Спустил все деньги с рук...
- Озлился мой болван
- И карту с транспортом поставил на кафтан.
- Гляжу чрез час: Герой остался мой в камзоле,
- Как пень на чистом поле;
- Тогда к нему пришел
- От батюшки посол
- И говорит: «Отец совсем твой умирает,
- С тобой простится он желает
- И приказал к себе просить».
- «Скажи ему, – сказал мой фаля, —
- Что здесь бубновая сразила меня краля;
- Так он ко мне сам может быть.
- Ему сюда прийти нимало не обидно;
- А мне по улице идти без сапогов,
- Без платья, шляпы и Чулков,
- Ужасно стыдно».
Об одержимых «азартной лихорадкой», легко относившемся к своим выигрышам и проигрышам, пытаясь оправдать их капризами фортуны, рассказывает басня «Судьба игроков»:
- Вчерась приятеля в карете видел я;
- Бедняк – приятель мой, я очеь удивился,
- Чем столько он разжился?
- А он поведал мне всю правду, не тая,
- Что картами себе именье он доставил
- И выше всех наук игру картежну ставил.
- Сегодня же пешком попался мне мой друг.
- «Конечно, – я сказал, – спустил уж все ты с
- рук?»
- А он, как философ, гласил в своем ответе:
- «Ты знаешь, колесом вертится все на
- свете».
Сам баснописец во время скитальческой жизни, колеся из Москвы в Калугу или в Тулу, оттуда в Саратов, а из Саратова в Ярославль, не раз добывал себе на пропитание карточной игрой в очко или в «фортунку», легко поддаваясь азарту, но не раздевая свою жертву дочиста. Узнав, что он попал в список игроков, подлежавших аресту, Крылов оставил все свои вещи в одном из игорных притонов Калуги, нанял крытый возок и поехал в имение своего приятеля графа Татищева, где скрывался вплоть до воцарения Александра I. В Петербурге, служа в Публичной библиотеке, он иногда заходил в Английский клуб и садился за ломберный стол. По свидетельству современников, во время карточной игры баснописец становился разговорчивым, нередко шутил.
Болезненное пристрастие к азартным играм стало причиной трагических событий в повести «Бедная Лиза» (1792 г.) Николая Михайловича Карамзина (1766 – 1826), основоположника сентиментализма в русской литературе. Ее герой Эраст проиграл почти все свое имение и, чтобы поправить дела, готов был жениться на пожилой богатой вдове, при этом «посвятив искренний вздох Лизе своей».
Об обыденных подробностях жизни дворян XVIII века, неотъемлемой частью которых была игра, можно узнать из стихов Гавриила Романовича Державина (1743 – 1816):
- … иль сидя дома, я прокажу,
- Играю в дураки с женой;
- То с ней на голубятню лажу,
- То в жмурки резвимся порой,
- То в свайку с нею веселюся…
В стихотворении «Евгению. Жизнь Званская» упоминаются шахматы, шары, игра в волан, а также карточные игры в ерошки и фараон в имении поэта Званка на берегу Волхова, в 140 км от Санкт-Петербурга:
- И где до ужина, чтобы прогнать как сон,
- В задоре иногда в игры зело горячи
- Играем в карты мы, в ерошки, в фараон,
- По грошу в долг и без отдачи».
- Там в шахматы, в шары иль из лука
- стрелами,
- Пернатый к потолку лаптой мечу леток,
- И тешусь разными играми».
В стихотворении «Горелки» Державин уподобил жизнь при дворе этой старинной русской игре. Поводом для написания стихотворения послужило реальное событие, происшедшее в жизни поэта 15 июля 1793 г. и стоившее ему карьеры. Он жил тогда в качестве секретаря Екатерины II в Царскосельском дворце. В тот день придворные во главе с великими князьями Александром и Константином Павловичами стали играть в горелки, чтобы развеселить скучающую императрицу. Как писал очевидец, Державин поскользнулся на покатистом лугу, «со всего маху упал и выломал себе руку. Без чувства почти великие князья его подняли и отвели сами в его покои, стараясь ему дать всевозможную помощь. Сей столь непредвидимый неприятный случай и был политическим падением автора, иб в сие время вошел было он в великую милость у императрицы, так что все знатнейшие люди стали ему завидовать; но в продолжение шести недель, на излечение его употребленных, когда он не мог выезжать ко двору, успели его остудить у императрицы, так что, появясь, почувствовал он ее равнодушие».
- На поприще сей жизни склизком
- Все люди богатели суть:
- В теченьи дальном или близком
- Они к мете своей бегут.
- И сильный тамо упадает,
- Свой кончить бег где не желает:
- Лежит; – но спорника – мечтает, —
- Коль не споткнулся бы, – догнал…
- Сие ристалище отличий,
- Соревнование честей,
- Источник и творец величий
- И обожение людей.
Игровые элементы в русском зодчестве второй половины XVIII в. были связаны с традициями барокко и рококо, так как эти стили соответствовали тяге придворных кругов к роскоши, внешнему блеску. Неповторимый загадочный облик отличал дворцово-усадебный ансамбль в селе Царицыне, построенный московским архитектором В.И. Баженовым (1737 или 1738 – 1799). Каждое сооружение в нем имеет свою загадку. Перед зрителями предстает образ сказочного города с необычной формой зданий, поставленных на открытом треугольном мысу, с причудливыми силуэтами шатровых крыш, шпилей, куполов, напоминающих средневековые замки и монастыри. Загадки «Хлебного дома» (Баженов называл его «Кухни со всякими потребностями и службами») были связаны с символикой стрельчатых окон первого этажа и окон, похожих на человека с соединенными над головой руками, на втором этаже. Главным украшением двух фасадов корпуса этого здания является хлебный каравай и солонки, видимо, – намек на то, что на Руси было принято встречать гостей хлебом-солью. Возможно также толкование этого рельефного изображения как высшего символического смысла трапезы – христианской евхаристии.
Загадка галереи-ограды, расположенной между Хлебным домом и Большим дворцом и украшенной колоннами и арками-башенками, заключается в том, что с одной стороны зрители видят колоннаду, а с другой – стрельчатые арочные проемы. Малый и Средний дворцы содержат две загадки: двери и окна Малого дворца, предназначенного для «кабинетных занятий» императрицы, с вензелем Екатерины II (буква «Е» и римская цифра II в лучах солнца) почти одинаковые и не отличаются друг от друга ни величиной, ни декоративными украшениями – белыми наличниками и своеобразным «кружевным воротником». Дворец выходит на центральную аллею прямоугольным фасадом, а со стороны прудов его фасад полукруглый, вензель на крыше как бы растворяется в воздухе. Архитектор загадывает загадку зрителю и в архитектуре Среднего дворца, в котором императрица могла принимать гостей. Это огромное одноэтажное здание кажется двухэтажным, так как оно украшено двумя рядами высоких окон. Оптический «обман» присутствует в планировке Фигурного моста, под которым проходит дорога в Царицыно из Москвы. Издали видятся мощные башни с зубцами и рыцарскими крестами (возможно, масонскими символами). При подходе ближе башни как бы раздвигаются, и старинный замок превращается в мост.
Игровое качество культуры XVIII века проявлялось также в организации клубов, литературных обществ, различных кружков, в коллекционировании картин, фарфора, всевозможных редкостей. В веймарском доме И.В. Гете, например, хранится большая коллекция минералов, собранная им и насчитывающая около 18000 экспонатов.
XIX век, по мнению Й. Хейзинги, оставляет не много места для проявления игровой функции культуры, что исследователь объясняет интенсивным индустриальным и техническим развитием. На наш взгляд, игра с ее необусловленной импровизацией, условностью, двуплановостью, непредсказуемостью нашла выражение в романтизме, не имеющем аналога в архитектуре и скульптуре. Романтики утвердили право на воображение, фантазию, игру образами. Их истинный смысл доступен только художнику, умеющему пристально всматриваться в окружающий мир. Немецкий романтик Фридрих Шлегель (1772 – 1829) в «Разговоре о поэзии» (1800) рассматривал игру как принцип бытия Универсума. По его словам, «все священные игры искусства – это только отдаленные подобия бесконечной игры мира, вечно творящего себя самого произведения искусства». Для теолога и философа Фридриха Шлейермахера (1768 – 1834) игра, обеспечивавшая «свободное общение», являлась одной из форм нравственности. Она способствовала развитию интеллектуальной деятельности, позволявшей личности оптимально реализовать свою индивидуальность («Монологи», 1800).
Воплощением игровой стихии является комедия-сказка немецкого романтика Людвига Тика (1773 – 3853) «Кот в сапогах», в которой игровые принципы положены в основу событий и конфликтов. Герои этого игрового мира – буффо – совершенно непредсказуемы в каждом своем жесте и слове. Переплетающиеся сферы (кот, его хозяин, король и придворный историограф, фиксирующий все, что происходит в сказочном царстве; зрители, их реакция на то, что совершается на сцене; актеры, комментирующие и оценивающие пьесу, которую они играют; автор, появляющийся на сцене и вступающий в пререкания со зрителями и актерами) разрушают грань между жизнью и сценой, трансформируя определенность в неопределенность, жизнь – в театр, а театр – это и есть жизнь. Таким образом, подлинным миром в пьесе оказывается мир иронической игры, «странной фантасмагории, где все перемешано в страшной путанице» (Т. Карлейль).
Такое свойство игры, как двуплановость, нашло воплощение в творчестве немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776 – 6822). В его повестях и романах появляются двойники, обретающие самостоятельное бытие, подчиняющие себе личность и превращающие жизнь в театр автоматов, механических игрушек. Раскрытие темы двойничества получает трагическую окраску в романе «Эликсир сатаны». В романе «Житейские воззрения кота Мурра с присовокуплением макулатурных листов из биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера» двойником романтического героя – талантливого музыканта, олицетворяющего «совесть и высшую правду», – выступает романтический антигерой, воплощающий пошлость и духовную нищету немецкого филистера. Страницы, описывающие любовные похождения кота Мурра во время мартовских ид, его занятия искусством и наукой, его разочарование и столкновение с «миром», превращаются в яркую пародию на романтизм, который становился модой.
В двуплановом мире Гофмана мечтательные герои-энтузиасты, наделенные воображением и способностью одновременно существовать в обоих мирах – условном и реальном, – могут проникнуть в сущность явлений. Только им доступны сказочно-фантастические царства Джинистан, Атланта или Урдар (Ансельм в новелле «Золотой Горшок», Бальтазар в новелле «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер»). Немецкий романтик использует также такой карнавально-игровой прием, как гротеск. В гротескной форме представлены жестокие полицейские репрессии в повести «Повелитель блох» и головокружительная карьера уродца Цахеса, ставшего всесильным министром при княжеском дворе. Интригующая занимательность, разгадка тайны, свойственные игровым формам, лежат в основе повествования новеллы Гофмана «Мадемуазель Скюдери».
Стихийно-эмоциональное творческое начало, свойственное игре, присутствует в комедии датского романтика Адама Готлоба Эленшлегера (1779 – 1850) «Игры в ночь св. Ханса» (1803), написанной в стиле комедий Тика. В ней пародируются сентиментальные любовные пьесы.
Одним из излюбленных игровых средств английского поэта Джорджа Байрона (1788 – 8824) являлась мистификация, способствовавшая отождествлению с его романтическими героями, причем сам поэт немало содействовал такому отождествлению. Героя поэмы «Паломничество Чайльда Гарольда» (1812 г.) он наделил некоторыми деталями своей биографии. Отправляясь в путешествие, Чайльд Гарольд, как и автор, покидает родовой замок, мать и единственную сестру. Так реальная жизнь, биография реального человека начинают восприниматься как художественный текст, основанный на стилизации собственного образа, поступков. При этом одни стороны личности утаиваются, а другие подчеркиваются. В портрет Конрада (поэма «Корсар», 1814 г.) Байрон внес черты собственной внешности: «не выделялся крупным ростом он», «бледное чело», «чернота густых кудрей», «тайна гордого лица», «пристальный взгляд», изгиб губы, выдающей «высокомерной мысли тайный ход», «горение неведомых страстей». Противоречивый облик Лары в одноименной поэме («Лара», 1814) с его надменностью, «холодным взглядом», таившим то, что «сердце скрыло», напоминает контрасты самого поэта: его гордость и непреклонность, тоску и страстность переживания, разочарование и стремление к борьбе.
Однако в романе в стихах «Дон Жуан» Байрон иронизирует над романтической настроенностью своего героя, его томлением и скитаниями в «тени дубрав», «в зеленых рощах солнечного лета». Поэт нередко прибегает к самоиронии, пародирует собственные романтические мотивы и темы (любовный треугольник, столкновения Дон Жуана с Альфонсо, Ламбро, Бабой, тема кораблекрушения). Это вносит в повествование комический элемент. В ряде случаев романтическое описание природы завершается намеренным юмористически-низким эпизодом или романтический пейзаж предваряет неожиданную реальную развязку.
В «английских» песнях романа, рассказывающих об обычных делах великосветского общества, появляется излюбленный романтиками мотив «жизни-игры»:
- Ведь общество – игра, как говорят
- (игра в «гуська», хотел бы я заметить)… (XII, 58)
- Все общество на шахматы похоже:
- В нем есть и короли и королевы,
- Слоны и пешки, есть и кони тоже.
- Ведь жизнь всегда игра. (XIII, 89)
Одним из таких «игроков» является лорд Генри, предававшийся «предвыборных страстей соревнованью». Игры, упоминаемые в романе, рассматриваются как неотъемлемая часть времяпровождения английских аристократов:
- Лорд Генри с ним встречался на балах,
- На раутах в посольстве, за бостоном…
Игры включаются в описание «равномерного течения» деревенского уклада в имении Амондевиллей:
- Бильярд и карты заполняли дни
- Дождливые. Игры азартной в кости
- Под кровом лорда Генри искони
- Не знали ни хозяева, ни гости! (XIII, 106)
Следует отметить, что Байрон «играл» не только в поэзии, но и в жизни, окутывая себя мрачной таинственностью, подчеркивая всеми средствами образ демонической личности. Созданные вокруг поэта легенды принимались многими его современниками на веру, а в героях Байрона они видели их создателя, человека необыкновенного внешнего облика и судьбы. В этом отношении интересно стихотворение французского поэта Ламартина, переведенное на русский язык А.И. Полежаевым под названием «Человек»:
- …И ты, Байрон, паришь, презревши жалкий мир:
- Зло – зрелище твое, отчаянье – твой мир,
- Твой взор, твой смертный взор, измерил
- злоключенья.
- В душе твоей не бог, но демон искушенья:
- Как он, ты движешь все, ты – мрака властелин,
- Надежды кроткий луч отвергнул ты один;
- Вопль смертных для тебя – приятная отрада;
- Неистовый, как ад, поешь ты в славу ада.
Но если Байрон был в высшей степени возмущен стихотворением Ламартина и готов был возбудить судебный процесс против его автора, то портреты английского художника Ричарда Вестоля, наиболее полно соответствующие этой характеристике, нравились поэту.
Вестоль (1765 – 1836) написал несколько портретов после возвращения Байрона в Англию, создав демонический образ, сводивший с ума всю читающую Европу. Первый портрет был создан, по-видимому, в 1812 г. Это один из самых романтических портретов в иконографии Байрона, в котором особенно подчеркнуты черты, ставшие впоследствии обязательными в характеристике внешнего облика байронического героя. Прежде всего, это глаза поэта, мрачно сверкающие из-под черных бровей, оказывающие магическое воздействие на зрителя, презрительно искривленные губы, высокий бледный лоб, оттененный темными волосами, пламенный взор, в котором ощущается способность подчинять людей своей воле. Экспрессивности лица соответствует и выразительная поза Байрона, задумчиво сидящего со скрещенными на груди руками, – та самая байроническая поза, которая станет обязательной принадлежностью романтического образа.
Увлекательную «игру в прятки» вел со своими читателями создатель исторического романа Вальтер Скотт (1771 – 1832). Свой первый роман «Уэверли, или Шестьдесят лет назад» он опубликовал в 1814 г., скрывшись под маской Великого Неизвестного. Установка на игру ощущается и в предисловии, помещенном не в начале, а в конце книги, в котором он предложил читателям разгадать его тайну: «Предоставляю публике отгадать причины, заставившие меня скрыть свое имя. Может быть, я новичок в литературе и не хочу принять непривычного названия Автор, или стыжусь, что часто уже надоедал публике, и прибегаю к таинственности для большей занимательности. Может быть, я принадлежу к такому важному званию, в котором унизительно быть романистом, или живу в большом свете, где всякое покушение авторствовать кажется педантством. Может быть, я еще так молод, что мне рано называться писателем, или так стар, что пора отказаться от этого названия».
Вальтеру Скотту подыгрывали не только немногочисленные родственники и друзья, посвященные в его тайну, но и те писатели, кому приписывали авторство «Уэверли». В застольных беседах с принцем-регентом, лордом Байроном, в письмах друзьям и светским знакомым «шотландский чародей» многократно повторял разные варианты фразы: «Уверяю вас, я знаю об «Уэверли» ровно столько же, сколько знает публика». Однако некоторые проницательные читатели догадывались, кому принадлежит авторство. Писательница Мэри Эджуорт начала свое письмо В. Скотту эпиграфом: «Aut Scottus, aut Diabolis» («Или шотландец или дьявол»). Несмотря на уверения своего коллеги, Д. Байрон в письме издателю «Эдинбургского обозрения» Ф. Джеффри утверждал: «Я думаю, только Скотт мог написать «Уэверли». Там столько характерных для него фраз, столько выражений, встречающихся в его письмах, что это, по-моему, может служить вполне убедительной, хотя и косвенной уликой».
Как отмечают исследователи, общая установка на игру с читательскими ожиданиями присутствовала в романах Скотта вплоть до 1829 г. Писатель скрывался под разными шутовскими масками, все больше погружаясь в «пиршество фантазии» (запись в дневнике от 18 декабря 1825 г.) и дразня публику «одной хитростью, прибавленной к хитрости». Романы 1816 – 1819 годов («Черный карлик», «Пуритане», «Эдинбургская темница», «Легенда о Монтрозе», «Ламмермурская невеста») под общим названием «Рассказы моего хозяина» были приписаны Питеру Паттисону, а изданы якобы шотландским дьячком Джедедией Клейшботамом; автором романа «Айвенго» был назван англичанин Лоуренс Темплтон. В. Скотт не ограничился одними мистификациями. В сюжетах его романов постоянно присутствуют карнавальные мотивы переодевания, неузнавания, разоблачения и срывания масок (в «Айвенго» шут Вамба выдает себя за монаха, Ричард Львиное Сердце – за странствующего рыцаря; в «Квентине Дорварде» Людовик XI предстает в костюме лавочника и т.д.).
Иной характер имела литературная мистификация, к которой прибег американский писатель-романтик Вашингтон Ирвинг (1783 – 3859). Ее целью было привлечь внимание читателей к книге «История Нью-Йорка». Осенью 1809 г. в одной из нью-йоркских газет появилась заметка об исчезновении «маленького пожилого господина, одетого в поношенный черный камзол и треугольную шляпу, по имени Никербокер». Через одиннадцать дней в этой же газете было напечатано сообщение за подписью «Путешественник» о том, что Никербокера видели отдыхающим у дороги, ведущей в Олбани. В ноябре читатели узнали, что в Колумбийском отеле обнаружена «любопытная рукопись», принадлежавшая этому господину. Если Никербокер не появится, то рукопись будет издана, чтобы погасить его долги за проживание в гостинице. Последнее сообщение гласило, что «История Нью-Йорка», созданная Дитрихом Никербокером, будет напечатана в декабре 1809 г. «Игра мысли, чувства, языка» присутствует в многочисленных новеллах В. Ирвинга («Рип Ван Винкль», «Легенда о Сонной лощине», «Дьявол и Том Уокер» и др.). В них появляются свойственные карнавалу гротескные фигуры, реальное свободно и непосредственно переходит в фантастическое, детали быта приобретают иронический или пародийный подтекст.
Теорию романтического гротеска – крайнего усиления качеств явления, человека или предмета – разработал французский поэт, драматург, писатель Виктор Гюго (1802 – 2885). По его словам, с одной стороны, гротеск создает «бесформенное и ужасное», с другой – «комическое и буффонное». Но, как отмечал М.М. Бахтин, в отличие от карнавального гротеска, оборачивающегося смешным и веселым, образы романтического гротеска нередко являются выражением страха перед миром. Гюго «ослабляет самостоятельное значение гротеска, объявляя его контрастным средством для возвышенного». Например, в романе «Собор Парижской богоматери» гротескное и возвышенное взаимно дополняют друг друга, свидетельством чего являются образы Клода Фролло и Квазимоды. Любовь к цыганке Эсмеральде архидиакона собора Клода Фролло приняла уродливую форму, стала источником зла. Напротив, это чувство пробуждает в озлобленном и всеми гонимом уроде Квазимодо способность видеть в мире не только жестокость и коварство, но и добро, бескорытие, сострадание к людям.
Условность, загадочность, непредсказуемость, следование определенным правилам, свойственные игре, оказались сродни жанру детектива, создателем которого считают американского романтика Эдгара По (1809 – 1849). В «20 правилах детективных историй», составленных С.С. Ван Дайном в 1928 г., утверждается: «История должна быть игрой в пятнашки… между детективом и преступником». Герои Эдгара По – шевалье Огюст Дюпен и Легран, – обладающие аналитическими способностями, «играют» в разгадывание сложных комбинаций загадок и головоломок. Им доступны интуитивные прозрения, контролируемые логикой рассуждений. Оригинальный метод Дюпена, основанный на анализе фактов и их сопоставлений, помог ему отгадать самые невероятные и загадочные преступления (рассказы: «Убийство на улице Морг», 1841; «Тайна Мари Роже», 1842; «Похищенное письмо», 1845). Легран в рассказе «Золотой жук» раскрывает замысловатую тайнопись, составленную из чисел и знаков на куске старого пергамента:
То, что представляется необъяснимой и неразрешимой загадкой, Легран расшифровывает, используя свою интуицию, знание психологии преступника, умение логически мыслить, анализировать и сопоставлять.
Со временем детектив превратился в увлекательную головоломку, в которой интересны не только хитроумные сюжетные ситуации, поступки персонажей, процесс расследования, превращающийся в отгадывание загадок, игру ума, фантазии, но и в портрет эпохи. Эти особенности отличают произведения, которые создали классики этого жанра Артур Конан Дойль (1859 – 1930), Гилберт Кит Честертон (1874 – 1936), Торнтон Чандлер (1888 – 1959), Агата Кристи (1891 – 1976), Жорж Сименон (1903 – 1989) и др. Классический детектив всегда имеет разгадку в финале. Интерес, проявляемый читателями к этому жанру, английский писатель XX века Джон Бойнтон Пристли объяснил тем, что ему, как и другим, нередко «требуется книга, которая бы по-своему отражала жизнь и одновременно распутывала бы какой-нибудь увлекательный ребус. Как раз все это и дает детектив».
Склонность к мистификациям, стремление «носить маску» были свойственны не только романтикам, но и таким писателям переходной литературной эпохи, как Проспер Мериме (1803 – 1870), Фредерик Стендаль (Мари-Анри Бейль, 1783 – 1842) и Чарльз Диккенс (1812 – 1870). В 1825 году появился сборник драматических произведений «Театр Клары Гасуль», который Мериме выдал за сочинение никогда не существовавшей испанской актрисы и общественной деятельницы. Эта мистификация во многом объяснялась обостренным самолюбием и ранимостью молодого писателя. В 1827 году он издал книгу «Гузла, или Сборник иллирийских песен, записанных в Долмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине» – якобы перевод сербской народной поэзии. Даже такие проницательные читатели, как А.С. Пушкин и А. Мицкевич приняли эти песни за подлинные произведения западных славян и перевели их на родной язык (А.С. Пушкин «Песни западных славян», 11 баллад из сборника Мериме).
Стендаль использует мистификацию как средство, помогающее ему создать атмосферу подлинности в романе «Красное и черное». В обращении к читателю он сообщает, что «нижеследующие страницы были написаны в 1827 году». Однако в романе упоминаются события, относящиеся к 1829 г. и к началу 1830 г. Многочисленные эпиграфы, сочиненные самим автором, приписываются Макиавелли, Гоббсу, Дантону, Канту и другим деятелям разных эпох. В словах, предваряющих главу о монархическом заговоре в Париже и якобы принадлежавших Макиавелли, выявляется не только цель заговора, но и его бессмысленность: «Основной закон для всего существующего – это уцелеть, выжить. Вы сеете плевелы и надеетесь возрастить хлебные колосья». Или другой пример – эпиграф «из Гоббса»: «Соберите вместе тысячи людей – оно как будто не плохо. Но в клетке им будет не весело». В символическом образе клетки отражается состояние современного Стендалю общества, где господствует «гнет морального удушья». Эпиграф к первой части романа приписывается Дантону: «Правда, горькая правда», чтобы напомнить читателю о революционных событиях 1789 г.
В творчестве Диккенса подвергся значительной трансформации карнавальный мотив маски. В ранних произведениях писателя маска – добрая или злая – выражала собой суть личности персонажа. В романе «Крошка Доррит» маска начинает отделяться от лица: Доррит предстает не только как мученик, но и как тунеядец. По наблюдению Е.Ю. Гениевой, на игре маски и «немаски» построен роман «Наш общий друг». В романе «Большие ожидания» маска с трудом отделяется от лица капризной Эстеллы, воспитанницы престарелой мисс Хэвишем. Маска же, носимая этой богатой полубезумной старухой, так плотно срастается с лицом, что становится ее вторым «я». Процесс распознавания истинного лица людей, скрывающихся за маской, связан с Пипом. В каторжнике Мэгвиче он начинает видеть вечно гонимого страдальца-труженика, в кузнеце Гарджери, которого он прежде стеснялся, – трогательного и добродушного человека. В последних романах Диккенс использует самопародию (счастливый конец в романе «Большие ожидания»), карикатуру (Венеринги, Подснепы – олицетворение великосветской пошлости, напыщенности, эгоизма, равнодушия в романе «Наш общий друг»), ложные смерти, переодевания.
Во многих произведениях Диккенса присутствует игровой мотив тайны и ее неожиданной разгадки, запутывающий сюжетные нити, усиливающий внутренний динамизм повествования («Приключения Оливера Твиста», «Приключения Николаса Никльби», «Барнаби Радж», «Домби и сын», «Холодный дом» и др.). Самым загадочным произведением, вызывающим множество предположений читателей, является последний роман «Тайна Эдвина Друда», который остался недописанным. Наряду с большим количеством гипотез, высказанных критиками, свои варианты разгадки предлагали Гилберт Кит Честертон, Бернард Шоу, Энгус Уилсон. Сам Диккенс признавался, что напал на «совершенно новую и очень любопытную идею, которую нелегко будет разгадать». Ее разгадку он связывал с рисунком к роману, выполненным по заказу писателя. Один из исследователей творчества Диккенса Джордж Каминг Уолтерс в книге «Ключи к роману Диккенса «Тайна Эдвина Друда» указывает, что в произведении присутствует целых три тайны. Первая тайна связана с самим героем: «Был ли он убит, и если да, то кем и как, и где спрятано его тело? Если же нет, то как он спасся, что с ним сталось и появится ли он опять в романе?» Вторая тайна: кто такой мистер Дэчери, поселившийся в Клойстергэме после исчезновения Эдвина Друда? Третья тайна: кто такая старуха по прозвищу «Принцесса Курилка», курящая опиум, и почему она преследует Джаспера. Интерес к разгадке этих тайн был так велик, что в 1914 году Диккенсовское общество провело ролевую игру – суд над Джоном Джаспером. В состав присяжных, главой которых избрали Честертона, был включен Шоу.
В романе Вильяма Мейкписа Теккерея (1811 – 1863) «Ярмарка тщеславия» (1847 г.) игра, взятая в самом широком смысле слова, включается в перечисление того, что можно купить и увидеть на ярмарке житейской суеты, где все продажно: «… А еще на этой ярмарке можно в любое время увидеть фокусы, игры, действия шутов, обезьян, негодяев и мошенников всякого рода». Писатель уподобляет свой роман ярмарочному балагану, а себя – кукольнику, приводящему в движение персонажей-марионеток, которых он представляет читателю в предисловии «Перед занавесом»: «Знаменитая кукла Бекки проявила необычайную гибкость в суставах и оказалась весьма проворной на проволоке; кукла Эмилия, хоть и снискавшая куда более ограниченный круг поклонников, все же отделана художником и разодета с величайшим старанием; фигура Доббина, пусть и неуклюжая с виду, пляшет преестественно и презабавно… А вот обратите внимание на богато разодетую фигуру Нечестивого Вельможи, на которую мы не пожалели никаких издержек и которую в конце этого замечательного представления унесет черт».
К игровым мотивам обращались и русские писатели, отразившие широко распространенное в среде русского дворянства увлечение карточной игрой. П.А. Вяземский отмечал, что в его время карточная игра являлась своеобразным мерилом «нравственного достоинства человека. «Он – приятный игрок» – такая похвала достаточна, чтобы благоприятно утвердить человека в обществе» (П.А. Вяземский. Старая записная книжка). Эту особенность времени запечатлел А.С. Грибоедов. В комедии «Горе от ума» (1821 – 1824) упоминаются столы для карт, мел, щетки; 3-е действие завершается ремаркой: «Старики разбрелись к карточным столам». Один из персонажей комедии Репетилов был известен как отъявленный игрок: он «играл, проигрывал, в опеку взят указом!». Другой персонаж Молчалин отличался умением подбирать игроков для игры в вист. Хлестовой, тетке Софьи, перед которой он лебезит и угодничает, он предлагает в качестве партнеров себя, Фому Фомича, служившего начальником отделенья «при трех министрах», «мосье Кока». Карты для Молчалина являются средством приобрести нужных знакомых: «К перу от карт… и к картам от пера».
Из дневника Алексея Николаевича Вульфа, часто приезжавшего из Дерпта в Тригорское на летние и зимние вакации, известно, что А.С. Пушкин считал страсть к игре самой сильной из страстей. О своих встречах с «дерптским студентом» в 1826 г. поэт рассказал в «Заметке о холере» (1831 г.): «… Однажды, играя со мной в шахматы и дав конем мат моему королю и королеве, он мне сказал при том: Cholera morbus подошла к нашим границам и через 5 лет будет у нас». Мотив шахматной игры появляется в одном из стихотворных набросков поэта (1833 г.):
- Царь увидел пред собой
- Столик с шахматной доской.
- Вот на шахматную доску
- Рать солдатиков из воску
- Он расставил в стройный ряд.
- Грозно куколки стоят,
- Подбоченясь на лошадках,
- В коленкоровых перчатках,
- В оперенных шишачках,
- С палашами на плечах.
В трех Посланиях к Великопольскому Пушкин высмеял своего современника, который, будучи сам страстным игроком, выступил в роли моралиста в «Сатире на игроков» («К Эрасту»):
- Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций,
- Проигрывал ты кучи ассигнаций,
- И серебро, наследие отцов,
- И лошадей, и даже кучеров —
- И с радостью на карту б, на
- злодейку,
- Поставил бы тетрадь своих стихов,
- Когда б твой стих ходил хотя в
- копейку.
В романе «Евгений Онегин» (1825 – 5832) в повествование о «жизни действительной» включаются различные игры, подчеркивающие прозаичность светского и мелкопоместного существования. Отец Онегина играл «в дурачки» со своей ключницей Анисьей. Сам Евгений, поселившись в поместье,
- … дома целый день,
- Один, в расчеты погруженный,
- Тупым кием вооруженный,
- Он на бильярде в два шара
- Играет с самого утра.
Поэт упоминает игру в горелки – любимое развлечение Ольги и ее маленьких подруг. Дворовые ребятишки придумывали незатейливые ролевые игры:
- Вот бегает дворовый мальчик,
- В салазки Жучку посадив,
- Себя в коня преобразив.
Во время встреч Ольги с Ленским влюбленные,
- Уединяясь от всех далеко,
- … над шахматной доской,
- На стол облокотясь, порой
- Сидят, задумавшись глубоко,
- И Ленский пешкою ладью
- Берет в рассеяньи свою.
В «веселый праздник именин» Татьяны в доме Лариных после праздничного обеда
- Столы зеленые раскрыты:
- Зовут задорных игроков
- Бостон и ломбер стариков,
- И вист, доныне знаменитый.
Среди мелкопоместных обывателей был и свой отъявленный игрок – Зарецкий, «картежной шайки атаман».
Игровые элементы используются в романе в качестве художественного приема. Душевная опустошенность Евгения, его неспособность к сильному чувству уподобляются «равнодушному гостю», который
- На вист вечерний приезжает,
- Садится; кончилась игра:
- Он уезжает со двора.
Тема карточной игры по-новому раскрывается в повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» (1833 г.), начинающейся эпиграфом – «рукописной балладой», в которой воссоздается времяпровождение представителей света, обозначенное ими как «дело»:
- А в ненастные дни
- Собирались они
- Часто;
- Гнули – бог их прости! —
- От пятидесяти
- На сто,
- И выигрывали,
- И отписывали
- Мелом.
- Так, в ненастные дни,
- Занимались они
- Делом.
Исходным пунктом развития событий в повести является разговор игроков, которые провели всю ночь за картами у конногвардейца Нарумова. Они рассуждают о риске, удаче, расчете, пересыпая свою речь карточными терминами:
«– Что ты сделал, Сурин? – спросил хозяин.
– Проиграл, по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь!
– И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставил на руте?.. Твердость твоя для меня удивительна».
В разговор включается граф Томский, рассказавший о событии шестидесятилетней давности: в Париже его бабушка, «la Venus moskovite», проиграла в фараон большие деньги герцогу Орлеанскому. Отказ мужа заплатить ее долг вынудил графиню обратиться к вельможе Сен-Жермену, открывшему ей тайну трех карт, что дало ей возможность отыграться. Так мотив карт приобретает мистический смысл и становится основным двигателем сюжетного действия. В рассказе о Чаплицком этот мотив усиливается таинственной, почти магической «игрой» цифр. Совершенно необъяснимо, почему графиня открыла тайну не своим четырем сыновьям, «отчаянным игрокам», и не своему внуку, а случайному человеку – Чаплицкому, проигравшему «около трехсот тысяч». Но неожиданный дар и баснословный выигрыш не принес ему счастья: Чаплицкий промотал миллионы и умер в нищете.
Процесс карточной игры, описанный в заключительной части повести, неразрывно связан с азартом, нервным напряжением. Пушкин использует этот мотив, чтобы выявить социальную сущность русского общества первой половины XIX века, определившую отношение к игре. Для дворянина XVIII в. карты являлись забавой, развлечением, но к карточному долгу относились как к «долгу чести». Например, для тех, кто состоял членом Английского клуба в Санкт-Петербурге, главным позором было занесение фамилии на черную доску за неплатеж проигрыша в срок. Для честолюбца, разночинца Германна, человека XIX века, одержимого манией богатства, карты – это средство обогащения, жизненного успеха. В начале повести он только следит за игрой, объясняя это тем, что «не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». Рассказ Томского является своеобразным катализатором: Германн готов использовать любые средства, чтобы овладеть тайной трех карт, особенно после сна о фантастическом выигрыше: «… ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман». Одним из таких средств становится бедная воспитанница графини Лиза. Проникнув с ее помощью в спальню графини, Германн то взывает к ее состраданию и великодушию, то умоляет «всем, что ни есть святого в жизни», то встает на колени. Когда все его усилия остаются бесплодными, он прибегает к помощи пистолета, что приводит к трагическому концу. Раскрытие тайны трех карт связано с фантастическим: Германну является призрак графини. Открыв ему долгожданную тайну, она требует соблюдения трех условий: не ставить более одной карты в сутки, не играть больше «во всю жизнь» и жениться на ее воспитаннице.
Игра, которая должна осуществить желаемое, уподобляется поединку, но люди в нем сражаются не за честь, а за богатство: «Германн снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом». Однако вместо ожидаемого туза выпадает карта меньшего достоинства – пиковая дама. Германну почудилось, что она «прищурилась и усмехнулась» как знак тех таинственных, мистических сил, которые управляют случайностями. Крушение всех надежд героя, связанных с выигрышем, привело его к сумасшествию: Германн «сидит в Обуховской больнице в 17 нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: – Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..». Как отметил Пушкин в своем дневнике 7 апреля 1834 года, ставка на три карты вошла в моду: «Игроки понтируют на тройку, семерку и туза».
В 1890 году П.И. Чайковский написал оперу «Пиковая дама», существенно отличающуюся от повести А.С. Пушкина своим сюжетом, социальным положением героев, трактовкой их характеров, разработкой мотива борьбы за тайну трех карт (либретто М.И. Чайковского). Время действия перенесено из эпохи Александра I в эпоху Екатерины II. В опере Герман – бедный гусар, а Лиза – внучка и наследница Графини. Богатство нужно герою, чтобы преодолеть социальный барьер, отделяющий его от любимой девушки. Узнав из беседы Сурина и Чекалинского о тайне трех карт, Герман часами сидит в игорном доме, наблюдая за игрой, но из-за своей бедности не может принять в ней участия. В заключительной седьмой картине в арии Германа появляется мотив «жизнь – игра»:
- Что наша жизнь? Игра!
- Добро и зло – одни мечты…
- Кто прав, кто счастлив здесь, друзья?
- Сегодня ты, а завтра я!
- Так бросьте же борьбу,
- Ловите миг удачи!
- Пусть неудачник плачет,
- Пусть неудачник плачет,
- Кляня, кляня свою судьбу!
Одержимый мыслью о трех счастливых картах, Герман в отчаянии поставил на кон все, в том числе и свою жизнь, что привело его к трагическому концу – безумию и смерти.
Карточная игра должна была определять фабулу романа А.С. Пушкина с условным названием «Русский Пелам», в котором писатель предполагал создать образ прожигателя жизни и вместе с тем расчетливого политического карьериста-аристократа Пелама. В планах и заметках к роману сообщается: «Он [Пелам] помогает ему [Ф. Орлову] увезти любовницу, – отказывается от игры фальшивой. Брат его в игре получает пощечину». В этом незаконченном произведении намечалась игра с литературным подтекстом: в имени героя – несомненная перекличка с «ньюгетским романом» «Пелэм, или Приключения дженльмена» английского писателя Э. Булвера-Литтона (1803 – 1873), повествующего о великосветских преступниках.
Мотив карт, карточного дома, банкометов, мечущих банк, понтеров, ставящих деньги на карту, крупных проигрышей и выигрышей при напряженном внимании игроков появляется в произведениях М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя. Азартные игры показаны в них как «сети, в которые сатана ловит души» (М.Ю. Лермонтов). Как и другие романтики, М.Ю. Лермонтов обращается к мотиву «жизнь-игра» в качестве испытания судьбы. «Утонувшему игроку» посвящена следующая «Эпитафия», не печатавшаяся при жизни поэта:
- Кто яму для других копать трудился,
- Тот сам в нее упал – гласит писанье так.
- Ты это оправдал, бостонный мой чудак,
- Топил людей – и утопился.
Игровой мотив определяет композицию драмы М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (несколько списков, последний – 1836 г.), которая начинается с кратких реплик, пересыпанных карточным жаргоном, между банкометом и понтерами (семпель – ставка, не увеличенная против назначенной ранее суммы; гнуть – увеличить ставку в два раза; ва-банк – играть на сумму, поставленную банкометом и др.):
- 1-й понтер
- Иван Ильич, позвольте мне поставить.
- Банкомет
- Извольте.
- 1-й понтер
- Сто рублей.
- Банкомет
- Идет.
- 2-й понтер
- Ну, добрый путь.
- 3-й понтер
- Вам надо счастие поправить,
- А семпелями плохо …
- 4-й понтер
- Надо гнуть.
- 3-й понтер
- Пусти.
- 2-й понтер
- На все?.. нет, жжется…
- 3-й понтер
- Смотри во все глаза.
- Князь Звездич
- Ва-банк.
- 2-й понтер
- Эй, князь,
- Гнев только портит кровь, – играйте, не сердясь.
- Князь
- На этот раз оставьте хоть советы.
- Банкомет
- Убита.
- Князь
- Черт возьми.
- Банкомет
- Позвольте получить.
- 2-й понтер(насмешливо)
- Я вижу, вы в пылу готовы все спустить.
- Что стоят ваши эполеты?
- Князь
- Я с честью их достал, – и вам их не купить.
Психология одержимого в карточной игре человека, теряющего над собой контроль, не способного прекратить игру как после крупного выигрыша, так и после постоянных проигрышей, раскрыта в разговоре Арбенина с князем Звездичем. Человек острого аналитического ума, сам опытный игрок, некогда смотревший «с волнением немым, / Как колесо вертелось счастья», когда «один был вознесен, другой раздавлен им», Арбенин раскрывает трагические последствия увлечения азартными играми, разрушающими личность, вызывающими необузданное стремление выиграть во что бы то ни стало любой ценой:
- Но чтобы здесь выигрывать решиться,
- Вам надо кинуть все: родных, друзей и честь,
- Вам надо испытать, ощупать беспристрастно
- Свои способности и душу: по частям
- Их разобрать, привыкнуть ясно
- Читать на лицах, чуть знакомых вам,
- Все побужденья, мысли; – годы
- Употребить на упражненье рук,
- Все презирать: закон людей, закон природы…
О том, как игра в карты открывала доступ в свет людям незнатного происхождения, рассказывает Казарин:
- Взгляните-ка, на стариков
- Как многие игрой достили до чинов,
- Из грязи
- Вошли со знатью в связи.
Не менее откровенно и цинично Казарин признается в том, что жизнь для него – это игра, и в отношении к людям он применяет ее не всегда чистые приемы:
- Что ни толкуй Вольтер или Декарт,
- Мир для меня – колода карт.
- Жизнь – банк: рок мечет, я играю
- И правила игры я к людям применяю.
Мотив азартной игры как социального зла, наметившийся в «Маскараде», получил дальнейшее развитие в иронической поэме Лермонтова «Тамбовская казначейша» (1838 г.). Поэт отметил важную особенность своего времени: игра определила не только образ жизни аристократического бомонда, но она проникла в провинциальный чиновничий и военный быт. К примеру, «губернский старый казначей» Бобровский, владелец «крапленых колод», «любил налево и направо /… в зимний вечер прометнуть, / Четверкой куш перечеркнуть, / Рутеркой понтернуть со славой…». В описании игры подчеркивается экспрессивность поведения игроков, изменчивость их настроения:
- Пошла игра. Один, бледнея,
- Рвал карты, вскрикивал; другой
- Поверить проигрыш не смея,
- Сидел с поникшей головой.
- Иные, при удачной талье,
- Стаканы шумно наливали
- И чокались. Но банкомет
- Был нем и мрачен. Хладный пот
- По гладкой лысине струился.
- Он все проигрывал дотла.
Необузданность казначея в игре, его готовность все поставить на карту обусловили основную интригу поэмы. Он проиграл не только свой «старый дом», «коляску, дрожки, / Трех лошадей, два хомута, / Всю мебель», но и собственную жену, чем не преминул воспользоваться улан, «повеса юный».
Страсть к игре одного из персонажей повести «Фаталист» (роман «Герой нашего времени») – замкнутого и немногословного Вулича – настолько велика, что «за зеленым столом он забывал все». Во время ночной экспедиции он ухитрился метать банк на подушке. Когда раздались выстрелы и объявили тревогу, Вулич не бросился к оружию, как другие, а «докинул талью» и только потом стал отыскивать «своего счастливого понтера» под чеченскими пулями. «Семерка дана! – закричал он, увидав его, наконец, в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля, и, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами».
Заглавие незаконченной повести Лермонтова «Штосс» (февраль – первая половина апреля 1841 г.), содержащее игру слов, находится в тесной связи с объектом изображения, сюжетом и центральной ситуацией. Штос(с) обозначает не только имя титулярного советника, дом которого разыскивал художник Лугин, но и род азартной карточной игры, определившей судьбу героя. Его «фантастическая любовь к воздушному идеалу», олицетворением которого является дочь старика-призрака, неразрывно связана с игрой. Всякий раз, как «остолбеневший совершенно под магнетическим влиянием» серых глаз старика Лугин проигрывал, удваивая куши, он встречал взгляд и улыбку «чудного и божественного виденья» – «воздушно неземной» красавицы, уста которой умоляли, а в глазах «была тоска невыразимая». Судя по черновым наброскам плана повести в альбоме Лермонтова 1840 – 0841 гг., чтобы выиграть, Лугин должен был обратиться к шулеру: «Дом: старик с дочерью, предлагает ему метать. Дочь: в отчаянии когда старик выигрывает. – Шулер: старик проиграл дочь, чтобы <?>. Доктор: окошко». Повесть должна была окончиться смертью художника во время игры: «Банк – Скоропостижная».
Лермонтову приписываются также шутливые экспромты (1841 г.), в которых Пятигорск сравнивается с Монако, прославившимся своим игорным домом:
- Танцоров, игроков, бретеров в нем толпы;
- В нем лихорадят нас вино, игра и драка…,
и появляются завсегдатаи карточных игр и маскарадов, среди них – сам поэт:
- В игре, как лев, силен
- Наш Пушкин Лев,
- Бьет короля бубен,
- Бьет даму треф.
- Но пусть всех королей
- И дам он бьет:
- «Ва-банк!» – и туз червей
- Мой банк сорвет.
По словам В.И. Чиляева (в его доме Лермонтов жил в Пятигорске), эти экспромты были произнесены в один из июньских вечеров во время игры в карты.
Мотив мошенничества, нередко сопутствующего азартной игре, ярко раскрыт в драматических сценах «Игроки» (1842 г.) Н.В. Гоголя. Героями этой пьесы являются профессиональные шулеры, оказавшиеся в городском трактире, чтобы найти доверчивых игроков, которых легко обмануть. Необычность интриги заключается в том, что обманутым оказывается прожженный жулик Ихарев, большой мастер по подмене колод. Он еще в университете «во время профессорских лекций… уже под скамьей держал банк» своим товарищам. Крапленую колоду карт, приносившую большой доход, Ихарев любовно называет Аделаидой Ивановной (пародийное обыгрывание Гоголем имени Аделаиды Петровны, героини романа Булгарина «Иван Выжигин»). Заезжие шулеры предлагают ему работать в сговоре с ними. Узнав, что его обвели вокруг пальца, Ихарев «в отчаянии бьет себя по лбу», «в изнеможении упадает на стул», а затем разражается гневным монологом: «Ведь существуют же к стыду и поношенью человеков эдакие мошенники. Но только я просто готов сойти с ума – как это все было чертовски разыграно! как тонко! И отец, и сын, и чиновник Замухрышкин! И концы все спрятаны! И жаловаться даже не могу!.. Хитри после этого! Употребляй тонкость ума! Изощряй, изыскивай средства!.. Тут же под боком отыщется плут, который тебя переплутует! мошенник, который за один раз подорвет строение, над которым работал несколько лет! (С досадой махнув рукой) Черт возьми! Такая уж надувательская земля!» В.Г. Белинского восхищала «художественная концепция» пьесы, «мастерская отделка характеров», «выдержанность в целом и в подробностях».
Примером шулера иного свойства является Ноздрев в поэме Гоголя «Мертвые души». Ко всем своим случайным знакомым, родственникам, гостям он постоянно пристает с предложением поиграть и всякий раз не может удержаться, чтобы не смошенничать. О нем говорят, что он родного отца готов проиграть в карты. При первом же знакомстве с ним на обеде у полицеймейстера Чичиков заметил, что во время игры в вист и хозяин дома, и прокурор «чрезвычайно внимательно» рассматривали взятки Ноздрева и следили «за всякою картою, с которой он ходил». Жульнический характер очередной затеи этого «картежного игрока» раскрывается во время игры с Чичиковым в шашки на мертвые души в качестве выигрыша. Тщательно и со вкусом выписан внешний антураж игры двух мошенников с целым атрибутом бытовых мелочей фарсового характера:
«– Давненько не брал я в руки шашек! – говорил Чичиков, подвигая шашку.
– Знаем мы вас, как вы плохо играете! – сказал Ноздрев, подвигая шашку, да в то же самое время подвинул обшлагом рукава и другую шашку.
– Давненько не брал я в руки!.. Э, э! это, брат, что? отсади-ка ее назад! – говорил Чичиков.
– Кого?
– Да шашку-то, – сказал Чичиков, и в то же время увидел почти перед самым носом своим и другую, которая, как казалось, пробиралась в дамки; откуда она взялась, это один только бог знал. – Нет, – сказал Чичиков, вставши из-за стола, – с тобой нет никакой возможности играть! Этак не ходят, по три шашки вдруг!
– Отчего же по три? Это по ошибке. Одна подвинулась нечаянно, я ее отодвину, изволь.
– А другая-то откуда взялась?
– Какая другая?
– А вот эта, что пробирается в дамки?
– Вот тебе на, будто не помнишь!
– Нет, брат, я все ходы считал и все помню; ты ее только теперь пристроил. Ее место вон где.
– Как где место? – сказал Ноздрев, покрасневши. – Да ты, брат, как я вижу, сочинитель!
– Нет, брат, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно.
– За кого ж ты меня почитаешь? – говорил Ноздрев. – Стану я разве плутовать?
– Я тебя ни за кого не почитаю, но только играть с этих пор никогда не буду».
«Вид игры, с условным чередованием жестов и интонаций» (Б. Эйхенбаум) приобрела повесть Н.В. Гоголя «Шинель», насыщенная анекдотами, гротескными формулами («… как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, – и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке»), каламбурами, доведенными до абсурда. Вот один из каламбуров, построенный на комментировании фамилии Башмачкин: «Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого неизвестно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки.
Болезненное пристрастие к азартным играм было прослежено в произведениях русских писателей второй половины XIX века – Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова. В первом произведении Толстого «Детство» (1852 г.) отец Николеньки Иртеньева тщательно скрывал свои игорные дела от близких, тем не менее его жена догадывалась о «несчастной страсти» своего мужа к игре и в прощальном письме высказала озабоченность будущим своих детей. Мастерство психологического анализа, присущее писателю, сказалось в передаче состояния игрока после постоянных проигрышей, следствием которых были раздражительность, беспокойство, сниженное настроение. Иртеньев-старший, «усталый, проигравшийся, пристыженный после восьмого штрафа, возвращался из клуба в 4 или в 5 часов утра» и был «большей частью не в духе».
В повести «Детство» впервые рассматривается вопрос о том, какое место в жизни ребенка занимает игра. Чрезвычайно впечатлительный, склонный к самоанализу Николенька пытается осмыслить, в чем заключается двуплановость, придающая очарование детской игре, каковы ее границы и как она может быть разрушена вмешательством старших, что происходит с игрой, если она лишается связей с реальным содержанием: «Когда мы сели на землю и, воображая, что плывем на рыбную ловлю изо всех сил начали грести, Володя сидел сложа руки и в позе, не имеющей ничего схожего с позой рыболова. Я заметил ему это; но он отвечал, что оттого, что мы будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не проиграем и все же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним. Когда, воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече, я отправился в лес, Володя лег на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре, были крайне неприятны… Я и сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя… Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда остается?..».
В эпопее «Война и мир» мотив карточной игры включается в нарисованные Толстым картины быта, времяпровождения, развлечений дворянского общества. Золотая молодежь Петербурга проводила вечера за картами и попойками в доме Анатоля Курагина, свободного от всяких нравственных принципов. Среди завсегдатаев игорного общества особенно выделялся Долохов. Как пишет автор, он «играл во все игры и почти всегда выигрывал». В Москве большой популярностью среди игроков пользовалась Английская гостиница. Во время приема гостей обязательно раздвигались «бостонные столы» и составлялись партии.
На примере Николая Ростова писатель показывает, как опытный игрок Долохов вовлекает в орбиту своего влияния неопытного, доверчивого юношу, который, если и подходил к карточному столу, то «только с мыслью выиграть сто рублей, купить мама к именинам … шкатулку и ехать домой». Все круги картежного ада – потеря над собой контроля, неумение вовремя прекратить игру, снижение способности сопротивляться соблазну, желание отыграться, усиливающееся с каждым проигрышем, стремление ко все большему риску – прослежены глубоко, психологически точно и отражены в авторском повествовании и во внутреннем монологе Николая. Он то молился богу, то загадывал карту, то оглядывался на других играющих, то «вглядывался в холодное теперь лицо Долохова и старался проникнуть, что в нем делалось»: «Ведь он знает, что значит для меня этот проигрыш. Не может же он желать моей погибели?.. Я ничего не сделал дурного. Разве я убил кого-нибудь, оскорбил, пожелал зла? За что же такое ужасное несчастье? И когда оно началось?.. Я так был счастлив, так свободен, весел! И я не понимал тогда, как я был счастлив! Когда же это кончилось и когда началось это новое ужасное состояние? Чем ознаменовалась эта перемена?.. Все кончено, я пропал! – думал он. – Теперь пуля в лоб – одно остается…».
В романе И.С. Тургенева «Дым» (1867 г.) игра в рулетку в казино Баден-Бадена и в аристократических гостиных является фоном для раскрытия нравов русских, оказавшихся за границей: «в игорных залах, вокруг зеленых столов, теснились те же всем знакомые фигуры, с тем же тупым и жадным, не то озлобленным, в сущности хищным выражением, которое придает каждым, даже самым аристократическим чертам картежная лихорадка». Тургенев уловил, что в процессе игры чувство реальности теряют не только играющие, но и те, кто за ними наблюдают. Капитолину Марковну, например, вид рулетки, «осанистых крупье», их «проворных лопаточек, золотых и серебряных кучек на зеленом сукне» привел в состояние исступления: она «глядела во все глаза, изредка вздрагивая при каждом новом возгласе… Жужжание костяного шарика в углублении рулетки проникало ее до мозгу костей – и только очутившись на свежем воздухе, она нашла в себе довольно силы, чтобы, испустив глубокий вздох, назвать азартную игру безнравственною выдумкой аристократизма». Игроков в вист писатель иронически уподобил «государственным людям»: «В углу, за карточным столом сидело трое из генералов пикника: тучный, раздражительный и снисходительный. Они играли в вист с болваном, и нет слов на человеческом языке, чтобы выразить важность, с которою они сдавали, брали взятки, ходили с треф, ходили с бубен…».
Роман Ф.М. Достоевского «Игрок» (1866) является в некотором смысле автобиографическим: писатель, знавший все тонкости игры в рулетку, неоднократно сам испытывал взлеты и падения игорного счастья. Еще в сентябре 1863 года в письме к Н.Н. Страхову из Рима он сообщил о своем замысле – рассказать об одном из «заграничных русских», у которого «все его жизненные соки, силы, буйства, смелость пошли на рулетку»: «Он игрок и не простой игрок, так же как скупой рыцарь Пушкина не простой скупец… Он поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость, хотя потребность риска и облагораживает его в глазах самого себя. Весь рассказ – рассказ о том, как он третий год играет по игорным домам на рулетке». Писатель надеялся, что его произведение «обратит непременно на себя внимание как наглядное и подробнейшее изображение рулеточной игры…, своего рода ада» (курсив Достоевского). Анна Григорьевна Сниткина, ставшая женой писателя, отметила в своих воспоминаниях, что Достоевский, обсуждая с ней во время работы над романом судьбы героев, «был вполне на стороне «игрока» и говорил, что многое из его чувств и впечатлений испытал сам на себе. Он уверял, что можно обладать сильным характером, доказать это своей жизнью и тем не менее не иметь сил побороть в себе страсть к игре на рулетке» (Достоевская А.Г. Воспоминания. – М., 1971. С. 65).
В романе «Игрок (Из записок молодого человека)» писатель великолепно воссоздал атмосферу игорной залы в Рулетенбурге (очевидно, Висбадене, где Достоевский бывал в 1863 году), в городе, обозначенном названием игры: «жадные и беспокойные лица, которые десятками и даже сотнями обступают игорные столы», с нетерпением ожидая свою очередь. Он подробно описал сам процесс игры, ставки «на числа, на чет и нечет и на цвета», действия крупье, следящих за ставками, споры и крики обманутых мошенниками игроков: «Я заметил, например, что нет ничего обыкновеннее, когда из-за стола протягивается вдруг чья-нибудь рука и берет себе то, что вы выиграли».
Достоевский тонко подметил различия в отношении игроков к процессу игры и ее результату в зависимости от их национального характера. Для двадцатипятилетнего Алексея Ивановича, от лица которого ведется повествование, игра в рулетку является ничем не хуже «какого бы то ни было способа добывания денег, например, хоть торговли». Для него – это средство не только помериться с судьбой, но и решить одним разом свои проблемы. Он не лицемерит, говоря о своем желании «выиграть поскорее и побольше». «Русским безобразием» называет англичанин Астлей безудержность русских в страстях, их неистовость в азартной игре. Поражает своим размахом, пренебрежением собственной выгодой «la baboulinka» – «грозная и богатая семидесятипятилетняя Антонида Васильевна Тарасевичева, помещица и московская барыня», которая, выиграв в первый раз, раздавала деньги направо и налево, а затем с такой же бесшабашностью «просадила пятнадцать тысяч целковых» на «распроклятой» рулетке. Француженка же ставила хладнокровно, с расчетом, «стараясь угадать систему, по которой в данный момент группировались шансы», и, выиграв, тотчас же покидала зал. Англичане не играли, но со стороны наблюдали игру. «Полячок», устроившийся подле игрока, «почтительно, но беспрерывно что-то шептал ему». Выигрыш, деньги были единственной целью и смыслом жизни для Де-Грие и Бланш, дававшей игрокам деньги под проценты. Они готовы обобрать любого, кто ими владел.
Достоевскому удалось раскрыть патологическое пристрастие к азартным играм, оказывающим разрушительное воздействие на психику «отчаянных игроков», которые играют «с утра до ночи и готовы были бы играть, пожалуй, и всю ночь до рассвета, если б можно было». Он психологически точно описал признаки игромании: несдержанность, импульсивность, «нетерпеливое и раздражительное состояние духа», крайняя невнимательность и рассеянность ко всему окружающему, страх, отзывавшийся «дрожью в руках и ногах», сверкающие глаза и трясущиеся руки, «ужасная жажда риску» и все новых ощущений, а при выигрыше – наслаждение от «удачи, победы, могущества». По роману Ф.М. Достоевского С.С. Прокофьев написал оперу «Игрок», первая постановка которой состоялась в Брюсселе 29 апреля 1929 года.
В романе «Подросток» (1875) Достоевский прослеживает, какое воздействие оказывает игра в рулетку на становление характера незаконнорожденного сына дворянина Версилова и дворовой крестьянки Аркадия Долгорукого и как молодой человек избавляется от этого пагубного увлечения. Одержимый идеей «стать Ротшильдом», мечтая о могуществе и о богатстве, Подросток пришел к выводу, что деньги – «это единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество», а главным средством их быстрого приобретения является игра в «банк и в рулетку». Садясь за игорный стол, он всякий раз убеждал себя: «Только что выиграю и тотчас на все плюну». Трудно сказать, как долго продолжал бы Подросток играть в рулетку и жить на широкую ногу, если бы не шулерство Афердова, присвоившего выигранные Аркадием деньги, и не отступничество молодого князя Сокольского. Этот инцидент помог девятнадцатилетнему юноше осознать ту реальную опасность, которую таила в себе азартная игра и сопутствующие ей рассуждения игроков: «… я играл, дескать, для игры, для ощущений, для наслаждений риска, азарта и проч., а вовсе не для барыша».
А.П. Чехов (1860 – 1904) в рассказе «Винт» (1884, «Новинка» с подзаголовком «Вниманию гг. винтеров»), вынося карточную игру в заглавие, видимо, хотел привлечь внимание к тому явлению, в котором отражались характерные черты действительности. Читатели, знакомые с произведениями А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, вправе предположить, что речь пойдет о той силе, которая движет большинством игроков, рассчитывающих на выигрыш. Но они оказываются совершенно не подготовленными к тому, о чем пойдет речь в рассказе: «За столом, заваленным большими счетными листами, при свете двух ламп, сидели четыре чиновника и играли в карты. Сосредоточенные, неподвижные, с лицами, окрашенными в зеленый цвет от абажуров, они напоминали сказочных гномов или, чего боже избави, фальшивых монетчиков. Еще более таинственности придавала им их игра. Судя по их манерам и карточным терминам, которые они изредка выкрикивали, то был винт; судя же по всему тому, что услышал Пересолин, эту игру нельзя было назвать ни винтом, ни даже игрой в карты».
На пятьдесят две карты четырех мастей были наклеены фотографические карточки чиновников различного ранга, их жен и знакомых: «Чиновники казенной палаты – черви, губернское правление – трефы, служащие по министерству народного просвещения – бубны, а пиками будет отделение государственного банка … Действительные статские советники у нас тузы, статские советники – короли, супруги особ четвертого и пятого класса – дамы, коллежские советники – валеты, надворные советники – десятки и так далее». Как видим, игра в рассказе не только разрушает скучное чиновничье существование, но и является отражением алогизма, абсурдности действительности. Не случайно отзыв цензора (1890 г.) гласил: сцена, «окончательно неудобная для исполнения перед публикой», а его резолюцией было «Запретить». Пройдет еще несколько десятилетий, и герой М.А. Булгакова Воланд будет играть с живыми людьми, перетасовывая их судьбы, в романе «Мастер и Маргарита».
В рассказе «Маска» с подзаголовком «Из жизни провинциальных козырей» (1884 г.) А.П. Чехов использовал эту карнавальную деталь, введенную в заглавие, как штрих, который затем обретает обобщающее символическое значение. Это не только реальная маска, под которой скрывается на бал-маскараде пьяный самодур, «местный миллионер, фабрикант, потомственный почетный гражданин Пятигоров, известный своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, – любовью к просвещению», но и скрытые маски «служилой интеллигенции»: директора банка Жестякова, казначея сиротского суда Белебухина и других. Они разыгрывают из себя «мыслящих» либералов, однако лакействуют и угодничают перед хамством Пятигорова, который, сняв маску, любовался «произведенным эффектом»: «Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели, некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридоныч крякнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость». В январе 1905 года Ученый комитет Министерства народного просвещения признал рассказ «неудобным», так как в нем повествовалось «о безобразном поведении богача, которого никто не решается тронуть благодаря его средствам».
Мир детства и то место, которое занимает в нем игра, становится предметом пристального внимания Чехова-психолога в рассказе «Детвора» (1886). Дети, оставшиеся дома одни («папа, мама и тетя Надя» уехали на крестины), «играют с азартом» в лото на деньги: «ставка – копейка». Их разговор за игрой пестрит терминами и «смехотворными прозвищами», заимствованными у взрослых:
«– Тридцать два! – кричит Гриша, вытаскивая из отцовской шапки желтые цилиндрики. – Семнадцать! Кочерга! Двадцать восемь – сено косим!..
– Двадцать три! – продолжает Гриша. – Семен Семеныч! Девять! …
– Сорок три! Один! – продолжает Гриша, страдая от мысли, что у Ани уже две катерны. – Шесть!
– Партия! У меня партия! – кричит Соня, кокетливо закатывая глаза и хохоча.
– Проверить! – говорит Гриша, с ненавистью глядя на Соню».
Очень точно переданы такие же, как у взрослых, но только еще более обостренные чувства и переживания детей: их зависть к чужому успеху, жадность, ревность, подозрительное отношение к партнерам, боязнь, чтобы те не смошенничали. В каждом из игроков писатель выявляет его индивидуальный характер и мотивацию к игре. Девятилетний Гриша, которого считают «большим и самым умным», играет исключительно из-за денег: «Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал». Он вертится, как на иголках, не может сосредоточиться из-за страха, что не выиграет: «его карие глазки беспокойно и ревниво бегают по картам партнеров». Убедительно характеризует мальчика и такая психологическая деталь: «Выиграв, он с жадностью хватает деньги и тотчас же прячет их в карман». Восьмилетнюю Аню деньги не интересуют: «счастье в игре для нее вопрос самолюбия». Возможно, поэтому она «краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками». Шестилетняя Соня играет в лото «ради процесса игры», успех каждого игрока приводит ее в восторг. «Порядочный бестия» Алеша, освоивший только единицы, доволен уже тем, что его не гонят из-за стола и не укладывают спать: «сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре». Кухаркин сын Андрей безразличен к выигрышу и к чужим успехам: его интересует «арифметика игры, ее несложная философия».
Воссоздавая атмосферу игры, Чехов вводит в повествование такие предметы, которые используются именно детьми: ореховая скорлупа, бумажки, «стеклышки для покрышки цифр», «блюдечко с пятью копеечными монетами». Участники игры непосредственно и бурно реагируют на все, что происходит вокруг. Когда Андрея обвиняют в мошенничестве, он хлопает Алешу по голове, а тот «злобно таращит глаза, вскакивает, становится одним коленом на стол и, в свою очередь, – хлоп Андрея по щеке! Оба дают друг другу еще по одной пощечине и ревут». Однако мир и согласие быстро восстанавливаются, «деньги взносятся, и игра продолжается» до тех пор, пока дети не засыпают на материнской постели, забыв все обиды и недоразумения. «Возле них валяются копейки, потерявшие свою силу впредь до новой игры».
О детской игре как о явлении культуры писали русские этнографы и педагоги. В 1871 году был издан сборник «Детские игры и песенки Нижегородской губернии», составленный В. Кудрявцевым. В 1884 году была опубликована книга московского педагога и врача-педиатра Е. Покровского «Значение детских игр». В алфавитном указателе к журналу «Живая старина», издание которого началось с 1891 года, указывалось одиннадцать публикаций на тему детской игры.
В зарубежной литературе второй половины XIX века игровым мотивам отведено большое место в романе «Приключения Тома Сойера» американского писателя-реалиста Марка Твена (1835 – 5910). Ролевые игры главных героев, включающие в себя не только элемент подражания, но и познания, оказываются сродни художественному творчеству. Они преображают мир, окружающий детей, наполняют его ощущением радости бытия, вносят занимательность в убогую атмосферу маленького провинциального городка. Источниками ролевых игр Тома и Гека становятся книги о разбойниках и пиратах, любовные романы, различные ситуации из жизни взрослых. К примеру, игра в покупателя и продавца превращается в яркую сценку, воспроизводящую акт купли и продажи: продавец Гек расхваливает свой товар – клеща, – а покупатель Том стремится сбавить цену, находя в нем различные изъяны:
«– Что возьмешь за него?
– Не знаю. Неохота его продавать.
– Ну и не надо. Да и клещ какой-то крохотный.
– Ну, еще бы. Чужого клеща всегда норовят обругать. А для меня и этот хорош.
– Клещей в лесу пропасть. Я сам мог набрать их тысячу, если бы захотел.
– За чем же дело стало? Что же не идешь набирать?.. Ага! Сам знаешь, что не найдешь ничего. Этот клещ очень ранний. Первый клещ, какой попался мне нынче весной.
– Слушай, Гек, я дам за него свой зуб…»
Как видим, деловые отношения из мира взрослых представлены в этой сцене в комическом виде.
Главный герой романа, извлекающий из игры радость и веселье, превращает любой предмет, даже дохлую крысу, в средство развлечения. Наиболее увлекательной и веселой становится для него игра в любовь, пародирующая посредственные любовные и куртуазные романы. Иронический подтекст приобретает эпизод, в котором Бекки бросает к ногам Тома цветок. Мальчик берет цветок не рукой, а пальцами ноги и хранит его не около сердца, как было принято в любовных романах, а около желудка. В этой сцене юмористически обыгрывается относительность и условность жизненных представлений взрослых людей. Играть в любовь весело, и когда Том знакомит Бекки с правилами этой увлекательной игры, девочка восклицает: «Ах, как хорошо! Никогда не слыхала об этом».
На рубеже веков к теме детской игры обратился немецкий писатель Томас Манн (1875 – 1955). В романе «Буденброки. История гибели одного семейства» (1901) он отметил благотворное воздействие игровой деятельности на становление личности четырехлетнего Ганно. Мальчик «играет в игры под стать своим четырем с половиной годам – игры, глубокомыслие и прелесть которых уже не в состоянии понять ни один взрослый и для которых не требуется ничего, кроме нескольких камешков или деревянной дощечки с насаженным на нее цветком львиного зева, изображающим шлем. Здесь нужна чистая, пылкая, непорочная, не знающая тревог и страха фантазия этих счастливых лет, когда еще ни сознание долга, ни сознание вины не посмели коснуться нас своей суровой рукой, когда мы вправе смотреть, слушать, смеяться, дивиться и мечтать без того, чтобы окружающий мир требовал от нас взамен служения ему…».
О том, в какие игры играли дети в семье и в английских закрытых учебных заведениях, рассказывает писатель Уильям Сомерсет Моэм в романе «Бремя страстей человеческих» (1915), действие которого начинается в 1885 году. Главный герой романа девятилетний Филип Кэри, лишившись родителей, воспитывается в семье дяди-священника в атмосфере запретов, ограничений и принуждений. Только игра позволяет ему остаться внутренне свободным, проявить свою изобретательность и фантазию: «Комната была заставлена громоздкой мебелью, и на каждой оттоманке лежало по три больших пуфа. В креслах тоже лежали подушки. Филип стащил их на пол и, сдвинув легкие золоченые парадные стулья, построил затейливую пещеру, где мог прятаться от притаившихся за портьерами краснокожих. Приложив ухо к полу, он прислушивался к дальнему топоту стада бизонов, несущихся по прерии. Дверь отворилась, и он затаил дыхание, чтобы его не нашли…».
Наряду с футболом и крикетом любимой игрой воспитанников подготовительных классов при Королевской школе в Теркенбэри, куда дядя отправил Филипа, была «свинья посередке»: «Мальчишки постарше перебегали от одной стенки к другой; новички должны были их ловить; когда кто-нибудь из старших попадался и произносил заветные слова: «Раз, два, три, свинью бери!» – он становился пленником, переходил на сторону врага и помогал ловить тех, кто еще был на свободе». Писатель показывает, что игра может принести не только радость, но и стать причиной глубоких душевных переживаний. Филип пытался принять участие в игре, но физический недуг – хромота, – и насмешки школьников, передразнивавших его неуклюжую походку, ничего не доставили ему, кроме страданий: «Сердце у него билось так, что ему трудно было дышать, – такого страха он не испытывал никогда в жизни. Он стоял как вкопанный, а мальчишки бегали вокруг него, кривляясь и хохоча; они кричали ему, чтобы он их ловил, но он словно окаменел».
Психологически убедительно Моэм прослеживает, как от природы общительный мальчик становится молчаливым и замкнутым, предоставленным самому себе: «Не участвуя в играх других ребят, он был выключен из их жизни. На все, что волновало их, он мог смотреть только со стороны; ему казалось, что между ним и его товарищами – непреодолимая стена». Вскоре школу охватила мания игры в «перышки», в которой Филипп проявил большую ловкость. «Играли двое, сидя за столом или за партой, стальными перьями. Один ногтем толкал свое перо так, чтобы кончиком его покрыть кончик пера противника, а тот должен был помешать этому и в свою очередь добиться того, чтобы его перо оказалось сверху; победитель, подышав на подушечку большого пальца, с силой прижимал оба перышка и, если ему удавалось поднять их в воздух и не уронить, становился обладателем обоих перьев». Но даже успехи Филипав этой игре не смогли разбить «стену»: директор школы Уотсон отнял у мальчиков перья.
У истоков интеллектуально-игровой литературы стоял английский писатель и математик, один из основателей математической логики Льюис Кэрролл (Чарльз Лутвидж Доджсон, 1832 – 1898). Еще в детстве он придумал игру в «железную дорогу», снабдив ее самостоятельно составленными «Правилами езды по железной дороге». После окончания Оксфорда математик и богослов доктор Доджсон, преподаватель колледжа Крайстчерч, продолжал изобретать все новые и новые игры, ребусы, шахматные задачи, посвятив им одно из своих сочинений под названием «Логическая игра» (1887). Среди придуманных им задач большой популярностью пользовалась следующая: нарисовать фигуру, изображенную на рисунке, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя дважды одну и ту же линию, которая нигде не должна пересекаться дважды. Доджсону приписывают также изобретение метаграммы (англ. Doublets):
Став писателем Льюисом Кэрроллом, он в поисках высшей правды отправился вместе со своей героиней Алисой в Страну Чудес и Зазеркалья, создав игровой, «перевернутый вверх ногами мир» с помощью импровизаций, пародий: «Папа Вильям» – пародия на стихотворение Роберта Саути «Радости старика и Как Он Их Приобрел»; песни о крокодиле и филине – на стихотворение Уоттса; стихотворение «Королева Алиса на праздник зовет» пародирует песню Вальтера Скотта «Красавчик Данди» из его пьесы «Проклятие рода Деворгойл»; «Колыбельная» Герцогини – пародия на стихотворение о кроткой, всепоглощающей любви:
- Лупите своего сынка
- За то, что он чихает,
- Он дразнит вас наверняка,
- Нарочно раздражает.
В создании игровой атмосферы немалое место отводится языковым экспериментам, эксцентрическим нонсенсам («Do cats eat bats? Do bats eat cats?»), образам, запечатленным в пословицах и поговорках (Мартовский Заяц, Чеширский Кот, Устрица), своеобразным шифрам, заключенным в именах различных героев, «эмблемным» или «фигурным стихотворениям. Появление одного из таких стихотворений связано с игрой слов «tale» (история) и «tail» (хвост): мышь рассказывает свою «грустную» историю, в воображении Алисы, не понявшей, что имелось в виду, и начавшей разглядывать хвост мыши, этот рассказ представляется в следующей форме:
Подобную форму использовали впоследствии французские поэты Стефан Малларме, Гийом Аполлинер и другие.
В книге Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» (1872) действие происходит в стране, по ту сторону зеркала; персонажи уподоблены шахматным фигурам «в положении перед началом игры»: Белая Королева, Черная Королева, Рыцарь на Белом Коне, рыцарь на Черном Коне, пешки (посыльный, карась, шляпник и т.д.); сюжетное действие развивается как шахматные ходы: 11 ходов у белых фигур, 10 – у черных фигур. Например, 2-й ход белых фигур: «Алиса через d3 (по железной дороге) на d4 (к Тилибому и Тарараму)»; 8-й ход: «Алиса вступает на последнюю клетку (коронация)». 1-й ход черных фигур: «Черная Королева на h5»; 5-й ход: «Белая Королева на c8 (убегает от Рыцаря на Черном Коне»; 9-й ход: «Королевы рокируются (входят в замок)». В предисловии автор поясняет: «… каждый, кто даст себе труд расставить фигуры и разобрать партию в предложенном порядке, обнаружит, что шах на шестом ходу, взятие Рыцаря на Черном Коне на седьмом ходу, а также итоговый мат Черному Королю находятся в строгом соответствии с правилами игры». Белая Королева объясняет Алисе эти правила, обе королевы испытывают ее загадками и вопросами, вслед за которыми девочка узнает, какой следующий шаг ей надлежит сделать. Вот одна из стихотворных загадок, построенная на игре слов:
- “First, the fish must be caught”.
- That is easy: a baby, I think, could have caught it.
- “Next, the fish must be bought”.
- That is easy: a penny, I think, would have bought it.
- “Now cook me the fish!”
- That is easy, and will not take more than a minute.
- “That it lie in a dish!”
- It is easy, because it already is in it.
- “Bring it here! Let me sup!”
- It is easy to set such a dish on the table.
- “Take the dish cover up!”
- Ah, that is so hard that I fer I’m unable!
- For it holds it like glue —
- Holds the lid to the dish, while it lies in the middle:
- Which is easiest to do
- On-dish-cover the fish, or dishcover the riddle?
Переводчица Д. Орловская сумела точно передать построение загадки Кэрролла и заключительный вопрос в форме каламбура:
- Изловить эту рыбку нетрудно —
- Ребенку под силу.
- И купить эту рыбку нетрудно —
- Гроша бы хватило.
- А в тарелку ее положить —
- Так и вовсе безделка.
- Потому что она, как известно,
- Родится в тарелке.
- – Рыбку мне принеси!
- – Принести ее вам? Это можно.
- – Крышку с рыбки сними!
- – Ах, увольте, мне так это сложно, —
- Будто клеем приклеена крышка… Теперь
- Отгадайте загадку:
- Легче рыбку наружу извлечь или нам
- Обнаружить отгадку?
Однако ни автор, ни его персонажи не дают отгадки. Первый стихотворный ответ на загадку Белой Королевы появился в английском журнале «Фан» 30 октября 1878 года:
- Если острым ножом
- Мы раскроем кастрюльку-загадку —
- Из-под крышки мы УСТРИЦ возьмем,
- А под крышку положим отгадку.
До сих пор комментаторы и толкователи Кэрролла расшифровывают головоломки и интеллектуальные загадки, кроющиеся в его занимательных нелепостях. Одним из первых исследователей был английский писатель, автор детективных повестей Г.К. Честертон. В статьях («Льюис Кэрролл», «По обе стороны зеркала»), написанных по случаю юбилея Л. Кэрролла, он отмечал: «… он взял логарифмы и силлогизмы и обратил их в нонсенс… Кэрролл всего лишь играл в Логическую Игру; его великим достижением было то, что игра эта была новой и бессмысленной, и к тому же одной из лучших в мире».
Еще дальше в изобретении всевозможных словесных путаниц пошел преподобный У.А. Спунер, глава Нового колледжа в Оксфордском университете. Он прославился различными языковыми перестановками, которые стали называться в его честь спунеризмами: sin twister («свиватель грехов») вместо twin sister («сестра-близнец») или half-warmed fish («наполовину подогретая рыба») вместо half-formed wish («полуоформленное желание»). Спунеру приписывали много оговорок, которые, возможно, ему не принадлежали. К примеру, однажды в церкви он сказал даме вместо: «May I show you to a seat?» («Разрешите мне проводить вас на место») – «May I sew you to a sheet?» («Разрешите мне пришить вас к простыне»).
Попытку постигнуть великую загадку жизни – энигму – с помощью намеков, символов, иносказаний, игры метафор и ассоциаций, доходящих до нарочитой многозначительности, зашифрованности содержания, предприняли П. Верлен (1844 – 4896), А. Рембо (1854 – 4891), С. Малларме (1842 – 1898) и другие представители французского символизма – направления, которое появилось во Франции в конце XIX века. «Самый оригинальный, самый грешный и самый мистичный» (А. Франс) поэт Поль Верлен называл символические образы, усиливающие смысл слов и придающие им загадочность, «окном в неведомое». Ветер у поэта символизирует всевластный рок, лес – угрызения совести, равнины – тоску, осень – усталость, близкую смерть и т.д. Верлен стремился к передаче впечатлений, создания настроения посредством намеков, выделения в стихе преобладающего звука-ноты, использования верлибра, повторов и звукописи, усиливавших выразительность и живописность его лирики:
- Осени стон,
- Как похорон
- Звон монотонный.
- Тьма за окном,
- Все об одном
- Плачется сонно.
- («Осенняя песня», перевод В. Брюсова)
Игра в неупорядоченные, бессистемные ассоциации присутствует в «цветном» сонете Артюра Рембо «Гласные», в котором он попытался установить внутреннюю связь между звуками и цветами. Но поэт нарушает алфавитную последовательность. Один из исследователей его творчества (Люсьен Сози) утверждал, что в раскрытии значения букв Рембо исходил из их графики, если при этом представить печатные прописные буквы уложенными на бок:
- А – черный, белый – Е, И – красный, У – зеленый,
- О – синий. Гласные, рождений ваших даты
- Еще открою я … А – черный и мохнатый
- Корсет жужжащих мух над грудою зловонной.
- Е – белизна шатров и в хлопьях снежной ваты
- Вершина, дрожь цветка, сверкание короны;
- И – пурпур, кровь плевка, смех, гневом озаренный
- Иль опьяненный покаяньем в час расплаты.
- У – цикл, морской прибой с его зеленым соком,
- Мир пастбищ, мир морщин, что на челе высоком
- Алхимией запечатлен в тиши ночей.
- О – первозданный Горн, пронзительный и странный,
- Безмолвье, где миры и ангелы, и страны, —
- Омега, синий луч и свет Ее очей.
В европейской живописи XIX века игровые мотивы нередко способствовали раскрытию тенденции прозаизма буржуазного искусства, созданного тем классом, который приобрел власть и почувствовал себя успокоенным. Уютный домашний интерьер, на фоне которого идет игра, создается французским художником Франсуа Жераром (1770 – 1837), учеником знаменитого Жака Луи Давида, в картине «Салон Жерара» (1810-е гг.). Основное внимание художника сконцентрировано на компании, играющей в карты. Спокойные позы игроков, их безмятежные, дружелюбные лица мягко освещаются светом, падающим от настольной лампы.
Смелые композиции на тему карточной игры создал французский художник Поль Сезанн (1839 – 1906), написавший в 1890 – 1896 гг. пять картин «Игроки в карты» и несколько этюдов к ним. Предполагают, что серию начинала самая большая по размеру картина с изображением четырех игроков, разыгрывающих партию. На полотне из музея Метрополитен за столом сидят и играют только три игрока, четвертый стоит, раскуривая трубку и внимательно следя за игрой. В трех последних картинах художник шел по пути избавления от лишних деталей и сокращения числа играющих до двух человек, неподвижно сидящих за картами друг против друга и сосредоточенно обдумывающих очередной ход. Отказавшись от переднего и заднего плана, Сезанн погружает зрителя в средний план, что усиливает остроту изображаемого.
Русские художники, обращавшиеся к игровым мотивам, не раз использовали их в раскрытии темы опустошенности человеческой жизни. Примером может служить последняя картина Павла Андреевича Федотова (1815 – 1852) «Игроки» (1852 г.), к которой было создано большое количество эскизов и этюдов. Еще в 1848 году художник выполнил сатирический рисунок с подписью «Три усталых игрока беседуют». Первый игрок, потягиваясь, схватился обеими руками за голову; второй игрок встал на носки, потирая поясницу; третий сидит за столом и наливает в стакан водку. Этот рисунок лег в основу композиции картины, позволяющей охватить все происходящее одним взглядом. Сохранив карикатурность поз персонажей, игравших всю ночь, художник увеличил их количество, добавив еще две фигуры: одного игрока, разминающего плечи после последней ставки, и заспанного слуги, вносящего заново зажженные свечи. Созданию атмосферы тревоги и волнения способствует мутноватый рассвет, вползающий в окно, трепетный свет свечей и пустые рамы – знак такой же внутренней опустошенности персонажей, отсутствия у них всякой мысли, их духовной деградации.
Владимир Егорович Маковский (1846 – 1920), чьи произведения отличались мастерством передачи народного быта, создал полную метких наблюдений сценку из жизни крестьянских детей в картине «Игра в бабки» (1869 – 1870). Тонкий психолог и талантливый повествователь, он сумел удивительно точно передать состояние своих персонажей, увлеченных игрой, их лица, сияющие внутренним светом, естественность их поз, привычных и ловких движений. Каждый из детей по-своему выразителен, но особенно привлекательна фигура мальчика в розовой рубашке, который, опираясь руками о колени, весь подался вперед. Художник чрезвычайно точен в изображении деталей деревенского быта: покосившиеся окна сарая, несложный крестьянский инвентарь, некоторые детишки изображены в полушубках, но босиком, хотя еще ранняя весна. Сельский пейзаж пронизан игрой солнечного света на крыше и стенах сарая, на лицах и одежде детей, написанных с большой сердечностью и теплотой.
К теме игры нередко обращались скульпторы XIX века. В 1836 году на выставке в петербургской Академии художеств экспонировались две статуи: «Парень, играющий в бабки» Н.С. Пименова Младшего (1812 – 1864) и «Парень, играющий в свайку» А.В. Логановского (1812 – 1855). Пименову удалось передать увлечение игрой, полную самоотдачу персонажа, отличающегося физической силой и демонстрирующего удаль и широту русской натуры. В его портретной характеристике также подчеркнуты русские черты: круглое, выразительное, чуть скуластое лицо, обрамленное густыми, подстриженными под скобку волосами.
Своеобразной словесной иллюстрацией к произведению Логановского являются стихи поэта пушкинской плеяды Н.М. Языкова:
- Нашу праздность тешит свайка.
- Православная игра!
- Тяжкий гвоздь стойком и плотно
- Бьет в кольцо; кольцо бренчит.
Обе статуи, выставленные в Академии художеств в сентябре 1836 года, видел А.С. Пушкин. По словам Пименова, прямо на выставке поэт набросал четверостишие в записной книжке, вырвал листок и передал его скульптору. В нем были следующие строки:
- Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
- Бодро оперся, другой поднял меткую кость.
- Вот уж прицелился… прочь! раздайся, народ
- любопытный,
- Врозь расступись, не мешай русской удалой игре.
- («На статую играющего в бабки», 1836)
- Юноша, полный красы, напряженья, усилия
- чуждый,
- Строен, легок и могуч, – тешится быстрой игрой!
- Вот и товарищ тебе, дискобол! он достоин, клянуся,
- Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать.
- («На статую играющего в свайку», 1836)
Впоследствии обе статуи были отлиты из чугуна и поставлены в Царском селе у входа в Александровский дворец.
Большой жизненностью отличается статуя «Игрок в шары» (1884), выполненная немецким скульптором Адольфом фон Хильдебрандом (1847 – 1921). Обнаженная фигура игрока, напоминающая античного атлета, создает впечатление приподнятости над обыденностью сюжетного действия. Скульптор непринужденно выявляет выразительные черты не только физического, но и эмоционального характера модели. В немалой степени этому способствует сосредоточенность лица, обращенного в полуоборот к зрителю, едва угадываемое движение руки, сжимающей шар. Жизненная непосредственность игрового мотива сочетается с точностью наблюдения, пространственной гармонией, ясными пластическими формами.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в культуре XIX века нашлось место для проявления игрового фактора, способного вовлечь в свою сферу различные явления жизни.
Невиданно жестокий и беспокойный XX век, разрушивший в западноевропейском сознании последнюю опору – представление о причастности человека к истории, о разумности исторического прогресса, продемонстрировал жесточайшее унижение художника как создателя культуры. Осознание художником-творцом исчерпанности культурных возможностей, разрушение целостной картины мира, кризис мышления, глобальные катастрофы способствовали дроблению культуры на множество направлений, объединенных общим названием «модернизм». Это – сложное многоплановое художественное явление с большим разнообразием национальных вариантов. Его представители воспринимали мир как вечную игру, как спектакль, в котором каждый играет свою роль. Они стремились к поиску новых средств выразительности, творчески преобразующих действительность и зачастую реализуемых «с помощью специально взращенных игровых форм», которые Й. Хейзинга рассматривал как «фальсификацию» подлинного духа игры.
В архитектурном стиле модерн (конец XIX – начало XX в.), выразителями которого были Антонио Гауди (1852 – 2926, Испания), Огюст Перре (1874 – 4954, Франция), Йозеф Ольбрих (1867 – 7908, Австрия), Петер Беренс (1868 – 8940, Германия), Федор Осипович Шехтель (1859 – 9926, Россия) и др., возрождались мотивы романского и готического зодчества. «Специально взращенные игровые формы» заключались в отказе от осевого построения плана и фасада зданий, их симметрии, регулярного членения этажей, окон. Помещения разных размеров и очертаний располагались на разных уровнях; использовалась изощренная форма дверей, окон. Например, многоквартирный дом Гауди в Барселоне (Каса Мила, 1905 – 5907), по форме напоминает дракона: чешуйчатая кровля, зубы – балконы, гигантские кости – колонны; дымоходы и трубы вентиляции замаскированы под различных истуканов. Многие сооружения испанского архитектора представляют собой загадочные головоломки, оставшиеся до сих пор неразгаданными. Мотивы готики определили общий замысел и декоративное убранство особняка Морозовой, созданного Ф.О. Шехтелем.
Игровое содержание модернистской живописи было больше нацелено не на соблюдение, а на разрушение определенных правил, вне которых нет игры. Прежде всего, это касается форм предметного мира. Французские и немецкие экспрессионисты А. Матисс, Э.Л. Кирхнер, Э. Нольде и др. стремились выявить объемность предметов с помощью интенсивного цвета в четко очерченном контуре цветовых плоскостей, использования трех-четырех основных цветов. Эмоциональное воздействие картины на зрителя создавалось насыщенными цветовыми контрастами. Картины Анри Матисса (1869 – 9954; «Разговор», 1909; «Танец», 1910; «Красные рыбы», 1911 и др.), построенные на диссонансах, передают тревогу, беспокойство, неуверенность человека XX века, создают ощущение ирреальности окружающего мира.
Музыкальный экспрессионизм, ярко заявивший о себе в творчестве композиторов Австрии и Германии (поздние симфонии австрийского композитора Густава Малера, 1860 – 1911; Арнольд Шенберг, 1874 – 1951 и его школа: А. Берг, А. Веберн и др.), отличался гипертрофированной выразительностью звучания, необычайной взвинченностью и напряженностью чувств. Экспрессионисты отказались от лада, мелодии и гармонии. Игра со звуком привела Шенберга к созданию новой формы, которую он называл звуковым мусором, и новой 12-тоновой системы – додекафонии. В основе ее лежит та или иная комбинация неповторяющихся звуков «по горизонтали (в их последовательности) и вертикали (в их одновременных сочетаниях» (Энциклопедический музыкальный словарь).
Игра с формой в творчестве кубистов (Пабло Пикассо, 1881 – 1973; Жорж Брак, 1882 – 2963 и др.) способствовала отказу от сюжета, от передачи трехмерного пространства, светотени. Кубисты подвергли мир деформации, рассекли фигуры плоскими гранями, выделяющимися сине-зелеными тонами на землистом фоне (П. Пикассо «Авиньонские девицы»), превратили картину в узор мелких геометрических линий. К примеру, в портрете Воллара, написанном Пикассо, сквозь хаос движущихся линий пробиваются высокий лоб, сжатые губы, широкий расплюснутый нос. Кубисты выдвинули тезис о значении «множественности точек зрений» (вид сзади, сбоку), о создании многомерной перспективы с помощью различных пересекающихся, ломаных, наслаивающихся друг на друга плоскостей и осевого построения картины (вертикальные, горизонтальные и диагональные оси). Пикассо использовал атрибуты игры в коллаже, впервые введенном им в искусство («Стакан, трубка, трефовый туз и игральная карта», 1914 г.).
Игровая атмосфера в творчестве основоположников абстракционизма (русский художник Василий Васильевич Кандинский, 1866 – 1944; французский живописец Робер Делоне, 1885 – 1941; нидерландский живописец Пит Мондриан, 1872 – 1944) – направления, возникшего в первые десятилетия XX века, создавалась путем беспредметных, пластических, цветовых, ритмических, геометрических композиций и импровизаций. Кандинский считал главной задачей художника не изображение натуры, а передачу «вибрации души». Он открыл новые типы художественного пространства, созданного путем сочетания геометрических форм, цветных плоскостей, прямых и ломаных линий. Геометризованные мотивы, по его мнению, должны были служить зримыми знаками духовного начала мироздания и выявлять музыкальную сущность мира. Кандинский называл свои картины «импровизациями» и «композициями» и нумеровал их. Делоне («Окна», 1912; «Солнце № 2», 1912 – 2913; «»Команда Кардиффа», 1912 – 2913 и др.) изображал силуэты невидимых предметов, создававших иллюзию движения и передававших, говоря его словами, «динамическую поэзию» «посредством цвета» в форме красных и синих пятен. Своеобразная игра Пита Мондриана с геометрическими фигурами привела к отказу от перспективы и к созданию картин из прямоугольных фигур красного и желтого цвета, отделенных друг от друга черной линией («Маяк в Весткапеле», 1910; «Пирс в океане»,1915 и др.).
В скульптуре абстракционизма культивировались острая экспрессия, схематизм, огрубление и уродливая деформация человеческого лица и тела, изображенных в виде стереометрических фигур с косыми и прямыми углами (Г. Адам «Заснувшая женщина», Р.Кутюрье «Моющаяся женщина», О.Цадкин «Скульптура в память разрушения Роттердама» и др.). Этому течению были свойственны поиски в конструктивном построении плоскости и в цветовых сочетаниях, отражающих чувства и настроения человека (белый – рождение, красный – мужество, черный – смерть и т.д.).
Для многих символистов начала двадцатого века жизнь и поэзия являлись импровизацией, игрой, основанной на фантазии, свободном парении воображения. Немецкий поэт Райнер Мария Рильке (1875 – 5926) уподобил художника, который «убедительно» пытается раскрыть все, что есть в этом мире «неясного, невысказанного, загадочного», – игроку, играющему в мяч с «Извечной»:
- Покуда ловишь мяч, что сам бросаешь,
- Все дело в ловкости и в череде удач;
- Но ежели с Извечною играешь,
- Которая тебе бросает мяч,
- И с точностью замысленный бросок
- Тебе направлен прямо в средостенье
- Всей сути (так мосты наводит Бог), —
- Осуществляется предназначенье,
- Но мира, не твое.
Русские символисты, стремившиеся к «жизнетворчеству», выходившему за пределы искусства, «играли» сложными эмоциональными созвучиями, используя смысловую полифонию и разрабатывая звучащую сторону поэтического слова. Для Константина Бальмонта (1867 – 7942), например, и жизнь и поэзия были непреднамеренной произвольной игрой. Называя себя «изысканностью русской медлительной речи», «играющим громом», он прославился своими нарочито подчеркнутыми аллитерациями, открывшими, по его словам, «уклоны, перепевные нежные звоны», «певучую силу» слов:
- Я вольный ветер, я вечно вею,
- Волную волны, ласкаю ивы,
- В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
- Лелею травы, лелею нивы.
Валерий Брюсов (1873 – 3924) увлекся усложненными и изысканными вариациями эвфонической (эвфония – благозвучие), ритмической и строфической организации стиха (сборник «Опыты»). Он отдал дань палиндромам
- («Я – око покоя,
- Я дали ладья.
- И чуть узорю розу тучи
- Я радугу лугу даря»)
и маскам, скрывавшим его подлинную сущность (по отзывам современников, их насчитывалось не менее двух десятков). Его привлекала таинственность, о чем свидетельствует стих из одной строки: «О, закрой свои бледные ноги!», заставляющий читателей домысливать и задавать себе вопросы в разгадке этого символического кода: чьи ноги? почему бледные? Русский поэт продолжил игру с цветовыми ассоциациями, начатую Ш. Бодлером (сонет «Соответствия») и А. Рембо. В стихотворении «Фонарики» Брюсов передал свое восприятие культур отдаленных эпох с помощью разных цветов: Ассирия – красная, Египет – желтый, Индия – блестящий цвет метеора, Греция – золотая, Рим – белый:
- Столетия – фонарики! о, сколько вас во тьме,
- На прочной нити времени, протянутой в уме!..
- Вот пламенные красные – подряд по десяти.
- Ассирия! Ассирия! мне мимо не пройти!
- Хочу полюбоваться я на твой багряный цвет:
- Цветы в крови, трава в крови, и в небе красный
- след.
- А вот гирлянда желтая квадратных фонарей.
- Египет! Сила странная в неяркости твоей!
- Пронизывает глуби все твой беспощадный луч,
- И тянется властительно с земли до хмурых туч.
- Но что горит высоко там и что слепит мой взор?
- Над озером, о Индия, застыл твой метеор.
- Взнесенный, неподвижен он, в пространствах —
- брат звезде,
- Но пляшут отражения, как змеи, по воде.
- Широкая, свободная аллея вдаль влечет,
- Простым, но ясным светочем украшен строгий вход.
- Тебя ли не признаю я, святой Периклов век!
- Ты ясностью, прекрасностью победно мрак рассек!
- Вхожу: все блеском залито, все сны воплощены,
- Все краски, все сверкания, все тени сплетены!
- О Рим, свет ослепительный одиннадцати чаш:
- Ты белый, торжествующий, ты нам родной, ты наш!
Загадку цвета пытался разгадать один из представителей символистской музыкальной культуры Александр Николаевич Скрябин (1872 – 1915), создавший оригинальный звуковой мир, в основе которого лежала система «цветового видения», цветотоновая шкала. Он уподоблял звуки музыкальных инструментов звукам и цветам природы, их светоносной гармонии. В архивах композитора сохранился документ, позволяющий судить о его цветовых ощущениях от звуков, тембров, тональностей, аккордов. В нем сохранены авторские сокращения и подчеркивания, причем левый столбик зачеркнут Скрябиным целиком:
Замысел «световой симфонии» возник у Скрябина при работе над «Поэмой огня» (второе название – «Прометей», 1910), о чем свидетельствуют воспоминания Л. Сабанеева, с которым композитор делился своими планами весной 1910 года: «Это поэма огня… Вся зала будет в переменных светах. Вот тут они разгораются, эти огненные языки, видите, как тут и в музыке огни… Свет должен наполнить весь воздух, пронизывать его до атомов. Вся музыка и все вообще должно быть погружено в этот свет, в световые волны, купаться в них». Тот же Сабанеев в статье, опубликованной в журнале «Музыка» от 29 января 1911 года, писал: «Те, кто слышал «Прометея» при соответствующих освещениях, должны были признать, что действительно впечатление от музыки совершенно соответствовало цветам и ими усугублялось, доводилось до крайнего напряжения. И это несмотря на крайнее несовершенство светового аппарата». Однако дерзкий замысел Скрябина не был оценен его современниками.
Игры с языком одного из «младосимволистов» Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев, 1880 – 0934) в его первых стихотворных сборниках («Симфонии», «Пепел») были построены на звуковых и синтаксических повторах, намеренных вульгаризмах, различных словесных выкрутасах:
- Гомилетика, каноника —
- Раздувай-дува-дувай, моя гармоника!
- Дьякон пляшет —
- – Дьякон, дьякон —
- Рясой машет —
- – Дьякон, дьякон —
- Что такое, дьякон, смерть?
- – «Что такое? То и это:
- Носом – в лужу, пяткой – в твердь…»
- («Веселье на Руси»)
- Огневой крюшон с поклоном
- Капуцину черт несет.
- Над крюшоном капюшоном
- Капуцин шуршит и пьет.
- («Маскарад»)
Игровой момент в прозе Белого ощущается в прологе к роману «Петербург» в умолчаниях, в обращении к читателям («Ваши превосходительства, высокородия, благородия, граждане!»), в намеках на «мнимость» «Петербурга, или Санкт-Петербурга, или Питера (что то же)»: «… Если же Петербург не столица, то его нет, только кажется, что он существует. Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается – на картах: в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкою в центре…». Стремясь усилить эмоциональное воздействие на читателя, писатель использует гротескные жесты, мимическую игру, звукозрительные образы: «… Рассвисталась по Невскому холодная свистопляска, чтобы дробными, мелкими частыми каплями нападать, стрекотать и шушукать по зонтам, по сурово согнутым спинам, обливая волосы, обливая озябшие жиловатые руки мещан, студентов, рабочих…». Повесть Белого «Серебряный голубь» (1908 – 8910) отличается игрой различных мотивов: в ней своеобразно преломились революционные веяния эпохи, гоголевская традиция, славянофильство, религиозно-философские идеи В.С. Соловьева, мистические искания символистов и мотивы статьи «Луг зеленый» самого А. Белого.
Игра с музыкальными образами, воплощающими, по мнению символистов, всеобщую гармонию, духовную цельность, способность к движению и развитию, пронизывает «Стихи о Прекрасной Даме» Александра Блока (1880 – 0921): «Запевающий сон, зацветающий цвет… запевая, сгорая, взошла на крыльцо», «Несутся звуки с колоколен, крылатых слышу голоса», «Песню цветы разбудили, – песню о белом расцвете». «Нет исхода вьюгам певучим» и т.д. Этот же мотив звучит в стихотворении «К музе» (Есть в напевах твоих сокровенных…», 1913) и в «Итальянских стихах» (1914): «Есть много песен в светлых тайниках…».
Объектом символистских размышлений являлись также детские игры. В стихотворении В. Брюсова «Детская» (1901 г.) определенный символический смысл придан игре «Палочка-выручалочка»:
- Слово скажешь, в траву ляжешь,
- Черной цепи не развяжешь.
- Снизу яма, сверху высь,
- Между них вертись, вертись.
В 1906 году в журнале «Золотое руно» (1906 г. № 7 – 7) была опубликована серия игровых новелл А. Ремизова (1877 – 1957) «Посолонь», в которых игра рассматривалась писателем как часть обряда, как «обломок древнего мифа». Основу сюжета миниатюры «Красочки», открывающей серию, составляет описание старинной детской игры, действие которой происходит на двух площадках: на «тихой» площадке Ангела и на «веселой» территории Беса. В зависимости от того, кто побеждает, «красочки»-дети переходят к победителю. По такой же схеме – правила и описание игры – построены игровые миниатюры «Кострома», «Кошки и мышки», «Гуси-лебеди», осложненные мифологическими сюжетами. В 1912 году композитор Г. Ловицкий создал балет-пантомиму «Гори-цвет» («Игра в «Красочки»), действующими лицами которого были «Ангел, Бес, Фиалка, Незабудка, Гвоздика, Ромашка, Ангелята, Бесенята, Цветы, Травы».
Теоретическое обоснование символистской разработке темы детских игр дал М. Волошин в статье «Откровения детских игр» («Золотое руно» 1907. № 11 – 12), в которой он рассмотрел детские игры в двух планах – мифологическом и эволюционном. Он воспринимал игры как «бессознательное прохождение через все первичные ступени развития человеческого духа», как «наивные, несознанные символы и гиероглифы самых острых переживаний человеческого прошлого».
Нередко символисты использовали игровой прием маски, который позволял им углубить перспективу, раскрыть символическое содержание бытовых положений и образов, возможно, отгородиться, сосредоточиться на главном. В драмах немецкого драматурга и актера Франка Ведекинда (1864 – 4918; «Пробуждение весны», «Дух земли», «Ящик Пандоры» и др.) постоянно происходит смена костюмов и социальных ролей персонажей, напоминающая карнавальный прием увенчания-развенчания. В пьесе «Такова жизнь» королевский престол занимает мясник, а король становится у него шутом. Нередко на лица персонажей Ведекинда – мюнхенских авантюристов и авантюристок – надеваются маски, в которых угадываются черты литературных персонажей – Пандоры и Клеопатры, Фауста и Мефистофеля.
Мотив маски как личины, скрывающей сущность явлений в пьесе А. Блока «Балаганчик», способствовал разоблачению иллюзий рационалистического и модернистского сознания. По признанию драматурга, он хотел «одурачить материю» и «пробить брешь в мертвечине» (тема смерти являлась одной из основных в символизме). «Волшебный мир» в пьесе Блока превращается в балаган, за которым маячит фигура Смерти. На глазах у зрителя она преображается в улыбающуюся Коломбину. Арлекин, испытавший разочарование в любви к Коломбине, бросается в окно, чтобы воссоединиться с «душой мира», но даль, видимая в окне, оказывается нарисованной на бумаге, и Арлекин, разрывая ее, летит «вверх ногами в пустоту».
Свойственные символизму «дуновения, идущие из области запредельного», гул «еще других, не их голосов, говор стихий, отрывки из хоров, звучащих в святых мыслимой нами Вселенной» (К. Бальмонт) стали предметом пародирования. Немало остроумных пародий написал В.С. Соловьев (1853 – 1900), которого символисты считали своим учителем, воприняв свойственные его поэзии и философии интуитивизм и мистику. В рецензии на третий выпуск сборника «Русские символисты» Соловьев привел в качестве примера пародийные образцы символических стихов:
- На небесах горят паникадила,
- А снизу – тьма.
- Ходила ты к нему иль не ходила?
- Скажи сама!
- Но не дразни гиену подозренья,
- Мышей тоски!
- Не то смотри, как леопарды мщенья
- Острят клыки!
- И не зови сову благоразумья
- Ты в эту ночь!
- Ослы терпенья и слоны раздумья
- Бежали прочь!
- Своей судьбы родила крокодила
- Ты здесь сама.
- Пусть в небесах горят паникадила.
- В могиле – тьма.
- Или: Не мандрагоры имманентные
- Зашуршали в камышах,
- А шершаво-декадентные
- Вирши в вянущих ушах.
В сборниках пародий «Кривое зеркало» и «Основной кол» поэт, беллетрист, литературный критик А.А. Измайлов обыгрывал пристрастие символистов к изощренной звукописи, обилию аллитераций, ко всему загадочно-мистическому, странному, воплощающему мировое Зло. Вот две пародии на стихотворение К. Бальмонта «Испанский цветок» и на стихотворение З. Гиппиус «Боль»:
- Я плавал по Нилу,
- Я видел Ирбит.
- Верзилу Вавилу бревном придавило,
- Вавила у виллы лежит.
- Мне сладко блеск копий
- И шлемов следить.
- Слуга мой Прокопий про копи, про опий,
- Про кофе любил говорить.
- О щель Термопиллы,
- О Леда, о рок!
- В перила вперила свой взор Неонилла,
- Мандрилла же рыла песок.
В атмосфере споров о символизме и его кризисе появилось направление акмеизм, крупнейшим поэтом которого был О.Э. Мандельштам (1891 – 1938). Его поэзия была открыта «всем явлениям жизни, живущим во времени» (Н.С. Гумилев «Письма о русской поэзии»). Среди этих «явлений» определенное место отводилось игровым мотивам. В стихотворениях «Теннис» (первый поэтический сборник «Камень»), «Спорт», «Футбол» и др. (опубликованы в журнале «Новый Сатирикон») поэт стремился раскрыть «внутренний образ» игры, ее тайный, не замечаемый в обыденной жизни смысл. Современность и намеки на прошлое в них сосуществуют со свойственным акмеизму материально-чувственным изображением реальной земной жизни:
- Румяный шкипер бросил мяч тяжелый,
- И черни он понравился вполне.
- Потомки толстокожего футбола:
- Крокет на льду и поло на коне.
- Средь юношей теперь – по старине —
- Цветет прыжок и выпад дискобола,
- Когда сойдутся в легком полотне,
- Оксфорд и Кембридж – две приречных школы!
- Но только тот действительно спортсмен —
- Кто разорвал печально жизни плен:
- Он знает мир, где дышит радость, пенясь…
- И детского крокета молотки,
- И северные наши городки,
- И дар богов – великолепный теннис!
- («Спорт»)
Стихотворение «Футбол» (1913 г.) явилось откликом на реальное событие, о котором рассказала А.А. Ахматова: «В годы «Цеха» мы как-то заехали (Коля и я) к Осипу или за Осипом. Он тогда жил в 1-ом корпусе на В < асильевском > О< строве >, нанимал комнату у офицера-воспитателя. Он показал нам в окно, как кадеты играют в футбол (тогда это была новинка) и прочел стихи «Футбол». Игровой сюжет вновь разыгрывается в двух временных планах, но касающихся не прошлого, а будущего. Обостренное историческое чутье, которым обладал Мандельштам, скрыто присутствует в атмосфере тревоги, «скорби», пронизывающей это стихотворение:
- Рассеен утренник тяжелый,
- На босу ногу день пришел;
- А на дворе военной школы
- Играют мальчики в футбол.
- Чуть-чуть неловки, мешковаты —
- Как подобает в их лета —
- Кто мяч толкает угловатый,
- Кто охраняет ворота...
- Любовь, охотничьи попойки —
- Все в будущем, а ныне – скорбь;
- И вскакивать на жесткой
- Чуть свет, под барабанов дробь!
- Увы: ни музыки, ни славы!
- Так, от зари и до зари,
- В силках науки и забавы
- Томятся дети-дикари.
- Осенней путаницы сито.
- Деревья мокрые в золе.
- Мундир обрызган. Грудь открыта.
- Околыш красный на земле.
Метафорическая игра с пространственным расположением объектов определяет весь строй стихотворения Мандельштама «На площадь выбежав, свободен…» (1915 г.), написанного в связи со столетием со дня смерти архитектора А.Н. Воронихина. Стихотворение построено на сопоставлении «Медного всадника» – «гиганта, что скалою целой / К земле, беспомощный, прижат», и «храма маленькое тело», являющегося вместилищем Св. Духа. В стихотворении «Есть иволги в лесах и гласных долгота» (1914 г.) обыгрываются термины стихосложения: долгота гласных, цезура (пауза внутри стиха), длительность, метрика и др.:
- Есть иволги в лесах, и гласных долгота
- В тонических стихах единственная мера.
- Но только раз в году бывает разлита
- В природе длительность, как в метрике Гомера.
- Как бы цезурою сияет этот день;
- Уже с утра покой и трудные длинноты;
- Волы на пастбище и золотая лень
- Из тростника извлечь богатство целой ноты.
Разрушительные игры со словом вели русские кубо-футуристы Велимир Хлебников, Василий Каменский, Алексей Крученых, эго-футурист Игорь Северянин и другие. Они призывали «видеть в буквах лишь направляющие речи», стремились уничтожить знаки препинания, сокрушить ритмы, понимать гласные «как время и пространство, согласные – краска, звук, запах» (манифест из сборника «Садок судей II»). «Самотворец» Хлебников упражнялся в расщеплении слова на микрочастицы, что стало у него исходным моментом для новых словообразований. Например, в стихотворении «Заклятие смехом» (1909 – 9910) представлена своеобразная таблица игрового «словесного умножения»:
- О, рассмейтесь, смехачи!
- О, засмейтесь, смехачи!
- Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно.
- О, засмейтесь усмеяльно!
- О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных
- смехачей!
- О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных
- смехачей!
Нередко поэт использовал прием построения фраз на основе паронимов: «И если люди – соль, не должна ли солонка идти посолонь?» («Кол из будущего»). Примером хлебниковской игры со звуком являются повторы на согласный п (тавтограммы) в финале мистерии «Скуфья скифа»: «Но плавал плот пленных палачей на пламени полого поля – пустыне пузыристых пазух и пуз на пенистом пазе пещерного прага пустот – пружинистой пяткой полуночных песен и плясок. Пищали пены пестро-пегой пастью и пули пузырей пучины печи пламенеющей». Хлебников создал также первую русскую палиндромическую поэму «Разин» (1920 г.).
«Словолю» Василия Каменского означало буйство, игру, не стесненную правилами и канонами: «Колокольте в бесшабашность». Или:
- Воля расстегнута,
- Сердце – без пояса,
- Мысли без шапки
- В разгульной душе.
«Самым геростратным из геростратствующих» (Герострат – житель Эфеса, который, чтобы прославиться, поджег, по преданию, храм Артемиды в 356 г. до н.э.) современники называли Алексея Крученых, проповедовавшего «заумный язык» как самоцель творчества. О своем пятистишии: «Дыр бул щыл / Убещур / скум / вы со бу / рлэз.» автор говорил, что в нем «больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина». Он стремился разрушить слово для создания нового «внесловесного» языка: «Все слова – вдребезги!». Не случайно В. Маяковский называл Крученых «футуристическим иезуитом слова».
Элементы словесной игры, эпатирующей читателей, содержались в названиях сборников кубо-футуристов («Дохлая луна», «Молоко кобылиц» и др.) и их докладов. К примеру, в зале Общества любителей художеств 13 октября 1913 года Маяковский, облекшийся в кофту яркожелтого цвета с черными полосами, выступил с тезисами докладов: «Лики городов в зрачках речетворца», «Складки жира в креслах», «Пестрые лохмотья наших душ» и др. Н. Бурлюк зачитал доклад своего брата Давида Бурлюка «Доители изнуренных жаб».
В первое послереволюционное десятилетие почитателями кубо-футуристов, особенно Велимира Хлебникова и его игр со словом, были члены творческой группы «Объединение реального искусства» (обэриуты, 1927 г.: Н.А. Заболоцкий, Д. Хармс [Даниил Иванович Ювачев], К. Вагинов и др.). Они придумывали себе звучные и загадочные псевдонимы (у Ювачева их было около тридцати), отказывались от знаков препинания и заглавных букв в начале строк, называли «реальным» искусство, очищенное от «обиходной шелухи», преобразующее в новые формы энергию действительности. В основе поэзии обэриутов лежала диалогическая структура, заумь, алогизм, гротеск, неоархаизмы, нелепости-скоморошины в духе карнавальных смеховых форм. У Хармса, например, забавный абсурдный мир, где все было наоборот, крутился, как «мяч с тремя крестами», сметавший на своем пути все заглавные буквы и знаки препинания:
- Мяч летел с тремя крестами
- быстро люди все местами
- поменялись и галдя
- устремились дабы мяч
- под калитку не проник
- устремились напрямик
- эка вылезла пружина
- из собачьей конуры
- вышиною в пол-аршина
- и залаяла кры-кры
Многие персонажи стихов Хармса представляют собой условные говорящие маски-символы, которые с первого взгляда слабо отличимы друг от друга. И только глубже вчитавшись в стих, можно понять его глубинный смысл. Ярким примером является стихотворение «Падение вод», написанное в форме беседы между мухами. «Небесные мухи», «снов живые точки», призывают своих подруг, вьющихся у самовара, взглянуть на небо, где «сидит богиня Геба», на море, где «уныние и горе над водой колышут пар». Мушиную стаю у самовара вполне устраивают встающие упруго пары, бьющийся в чашке кипяток. Так в игровой форме раскрывается столкновение небесных и земных начал.
Детские стихи Хармса написаны в форме любимого развлечения детей: дразнилок, потешек, скороговорок, считалок:
- Шел по улице отряд —
- сорок мальчиков подряд:
- раз,
- два,
- три,
- четыре,
- и четыре
- на четыре,
- и четырежды
- четыре,
- и еще потом четыре.
В стихотворении «Игра» воспроизводится ролевая игра, активизирующая воображение и интеллект детей, дающая выход их фантазии. Трое мальчишек играют в автомобиль, в «почтовый пароход» и в «советский самолет», подражая звукам выбранных ими объектов:
- Бегал Петька по дороге
- по дороге,
- по панели,
- бегал Петька
- по панели
- и кричал он:
- «Га-ра-рар!
- Я теперь уже не Петька,
- разойдитесь!
- разойдитесь!
- Я теперь уже не Петька,
- я теперь автомобиль».
Игра в абсурд, начатая футуристами, была продолжена дадаистами. Первая дадаистская группа сложилась в Швейцарии в 1916 г. Ее главой был Тристан Тцара, издававший журнал «Дада» (бессмысленное звукосочетание, заимствованное из детского языка). Он считал, что произведение искусства должно быть набором несвязных слов, вырезанных из газетного листа и беспорядочно склеенных, в результате чего должно получиться «дада-стихотворение». По словам Тцара, «дада пыталась не столько разрушить литературу и искусство, сколько созданное о них представление».
После первой мировой войны центром дадаистского движения стал Париж, где к нему присоединились молодые поэты Андре Бретон, Луи Арагон, Филипп Супо и др., позднее – Поль Элюар. Дадаисты требовали уничтожения всяких ассоциаций с реальным миром, освобождали слова от смысловых значений, от знаков препинания, обыгрывали отдельные слоги, создавали бессмысленные «фонетические» (без слов) стихотворения, очень любили стихотворную игру, результатом которой являлись так называемые «симультанные» стихи – плод коллективного творчества. Примером игры дадаистов и с содержанием, и с формой может служить стихотворение Бретона «Земной ключ», эпатирующее читателя своей откровенной нелепостью:
- Можно следить на занавесе
- Любовь уходит
- Всегда ли
- Рояль
- Все гибнет
- На помощь
- Оружие точности
- Цветы
- В голове чтобы цвести
- Происшествие
- Дверь поддается
- Дверь это музыка.
Фантастика абсурда, парадоксальное сочетание форм, алогизм, изменчивость образов стали основными особенностями сюрреализма, авангардистского направления, сложившегося в 1920-е годы во Франции в кругу писателей и художников, близких к дадаизму. Поэты-сюрреалисты (Андре Бретон, Луи Арагон, Поль Элюар и др.) использовали причудливые, несоединимые сочетания слов и образов, доведенных до крайности; изображали человека, погруженного в «волну грез»; создавали тексты на основе метода «автоматического письма», то есть фиксации мыслей, не контролируемых разумом. Один из самых неистовых сюрреалистов Робер Деснос прославился своими снами наяву. Его «стихи-ребусы» (сборник «Вареная речь», 1923) представляют собой игру в каламбуры, лишенные всякого смысла. Его коллега Арагон изобретает новые слова, отказывается от синтаксиса, «играет» каламбурами и ассоциациями в поэтических сборниках «Иллюминация» (1920), «Вечное движение» (1922). Лишена всякого смысла и книга Бретона «Манифест сюрреализма. Растворенная рыба» (1919 – 1924).
Основатели сюрреализма в живописи 20-х гг. (А. Масон «Борьба рыб», «Каталонский пейзаж» и др.; М. Эрнст «Слон Целебес», «Наполеон в пустыне», «Ангел очага» и др.; И. Танги «Угасание излишнего света», «Наследственность приобретенных признаков» и др.) следовали принципу «автоматизма», «околдовывающего разум, волю, вкус художника» (М. Эрнст). В их играх с собственным подсознанием, вызывающим разнообразные интеллектуальные и чувственные вибрации, сливаются несовместимые объекты, преобладают свободно текущие образы, появляются объемные изображения чаще всего фантастических зловещих птиц или реальных человеческих фигур в иррациональном пространстве. С помощью плоскостей, линий, формы и цвета художники-сюрреалисты стремились, отключившись от внешнего мира, проникнуть по ту сторону жизни и создать новую «сверхреальность», недоступную разуму. Они рассматривали сны как ключ к подсознанию. Каждый сон был загадкой, которую нужно разгадать.
Сложные многосюжетные построения из изолированных друг от друга объемов и изображений отличают сюрреалистические полотна испанского художника Сальвадора Дали (1904 – 1989), наделенного изобретательной фантазией и необузданным воображением. Многие его картины представляют собой различные варианты интеллектуальной игры, которая стимулирует творческую фантазию зрителей. Художник предоставляет им свободу выбора, возможность испытать свои силы и дать собственную трактовку многочисленным символам, иносказаниям, аллегориям («Частичное помрачение. Шесть явлений Ленина на рояле», 1931; «Женщина с головой из роз», 1935; «Податливое сооружение с вареными фасолинами: Предчувствие Гражданской войны», 1936; «Лебеди, отраженные в слоне», 1937; «Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната за миг до пробуждения», 1944 и др.). Отличительной особенностью манеры Дали, названной им «критически-параноической», является взаимопроникновение и взаимозависимость интуитивного прозрения «сознательной ирреальности» и реального мира.
К числу первых сюрреалистических работ художника относится «Мрачная игра» («Игра втемную», 1929), в которой присутствует множество реальных и вымышленных деталей и несовместимых образов: огромные ступени, ведущие в никуда, странный монумент с надписью на пьедестале: «GRAMME: CENTIGRAMME: MILLIGRAMME». У его подножия – лев с раскрытой пастью и передней лапой на ядре; у второго льва видна только часть удаляющегося туловища. Чуть выше ступеней представлена замысловатая композиция: тазобедренная часть женской фигуры, причудливые геометрические формы, профильное изображение головы женщины с закрытыми глазами, кузнечик, цепляющийся за ее губы. Вверху – круговорот из шляп разной формы и цвета, изображения мужского и женского лица, птичьей головы и многообразных яйцеподобных форм на фоне виртуозно исполненного светоносного неба. По признанию самого Дали, небо – это то, что он постоянно искал, «изо дня в день раздирая крепкую, призрачную, сатанинскую плоть… жизни». «Но где же оно, небо? – восклицает художник, – Что оно такое? Небо не над нами и не под нами, не слева и не справа. Небо в сердце человека, если он верует. А я еще не верую и боюсь умереть, не обретя неба». Такой же множественностью ассоциаций и интерпретаций обладает ведущий мотив картины – рука, трактованная в разных вариациях: сжимающая предметы, держащая между пальцами сигарету, обнимающая, ласкающая, протянутая, словно за подаянием. Один из исследователей творчества Дали рассматривает этот образ как чувственное воплощение человеческих страстей, пороков, страданий, радостей или как закодированный магический знак.
Своеобразным ребусом является сюрреалистическое полотно испанского художника Пабло Пикассо (1881 – 1973) «Герника» (1937 г.) – отклик на события гражданской войны в Испании, на гибель мирного испанского города, разрушенного фашистскими бомбами. Эта картина – художественный символ всемирной катастрофы, уничтожения культуры. Образы предметов, изображенных на полотне, являются характерными опознавательными знаками культурных эпох. Голова быка в левом углу заставляет вспомнить бычьи рога и маски в культурах Чатал-Хююка (Малая Азия, 7 – 7 тыс. до н.э.) и Балкан (5 – 5 тыс. до н.э.), миф о Минотавре и древнегреческие буфонии (принесение быка в жертву). Оскаленная морда лошади в предсмертной агонии, – возможно, намек на особое место этого животного в индоевропейской мифологии: древнеиндийские Ашвины («обладающий конями» или «рожденный от коня»), греческие Диоскуры (Кастор – укротитель коней), кельтская богиня Эпона (букв. «богиня лошадей»), сакральное фиговое дерево ашваттха (букв. «лошадиная стоянка») в ведийской и индуистской мифологии. Глубокий символический смысл вложен в хаотично разбросанные фрагменты человеческих лиц, рук, одна из которых сжимает горящую свечу (в христианстве свеча символизирует причастность человека к божественному свету), обломки предметов, мелко исписанные, разорванные газетные листы. Сложный сюжетный ребус картины усиливает ощущение хаоса, ужаса, безнадежного отчаяния от бомбежки.
Бесцельной игрой с формой являются произведения ирландского писателя-модерниста Джеймса Джойса (1882 – 1941). Его роман «Улисс» (первые эпизоды были опубликованы в 1914 г., книга появилась на английском языке в Париже в 1922 г.) изобилует реминисценциями из сочинений средневековых мистиков, многочисленными пародиями на стиль библейских текстов, древних ирландских сказаний, бульварных романов, научных трактатов, отдельных литературных направлений и жанров. Эпизод в публичном доме, например, пародирует Вальпургиеву ночь из трагедии Гете «Фауст». Пародирование слога и стиля отцов церкви сливается с произвольным смешением слов и названий в следующем примере: «Африканец Савелий, самый лукавый из всех ересиархов, утверждал, что бог-отец был сам своим собственным сыном… Когда Рэтлендбэконсоутгемптоншекспир или другой поэт, носящий то же имя в комедии ошибок, написал Гамлета, он был не только отцом своего сына, но также, перестав быть сыном, он был и чувствовал себя отцом всего своего рода» (граф Рэтленд, Бэкон – современники драматурга, которым приписывали его произведения, лорд Саутгемптон – покровитель Шекспира).
Соединение слов, переходящее в соединение звуков, анаграммы («Как-то так. Грот, пот, от, флот, крот»), каламбуры (обыгрывание фамилий Юнга и Фрейда: «jung and easily befreunded»), перебои, намеки и недоговоренности нередко используются, чтобы передать алогизм мысли, бессвязный поток сознания. Вот один из примеров. Блум, присутствующий на погребении Дигнема, слышит слова католического священника, старается их уловить, но его мысли рассеиваются, становятся беспорядочными: «Смутно припоминаю. Когда я в последний раз был в церкви? Gloria и непорочная дева. Иосиф, супруг ее. Петр и Павел. Довольно интересно, если знать в чем дело, несомненно поразительная организация, работает как часовой механизм. Исповедь. Каждому приятно. Тогда я вам все скажу. Покаяние. Накажите меня, пожалуйста. Мощное оружие в руках. Больше, чем врач или адвокат. Женщины так и рвутся. А я ш-ш-ш-ш-ш. А вы – ча-ча-ча-ча-ча? А почему вы? Разглядывает свое кольцо, ища оправдания. Шепчущие стены коридоров имеют уши. Муж узнает последним. Шуточки господа-бога». Поток сознания определяет весь стиль повествования, заводит читателя в сложные лабиринты словесных ребусов, для разгадывания которых требуется специальный ключ.
Сам Джойс называл свой роман мозаикой. Действительно, все произведение строится из многообразной мозаики фраз, фрагментов, ассоциаций, намеков, символов, передающих странствия человека в мрачном хаосе жизни. Исходя из названия романа – «Улисс», – Блум ассоциируется с Одиссеем, его жена Марион – с Пенелопой, Стивен Дедалус – с сыном Одиссея Телемахом. Некоторые комментаторы видят в Блуме также Агасфера, приговоренного к вечной жизни и скитаниям, в Пенелопе – олицетворение девы Марии, Вечной женственности, в Стивене – Христоса и Шекспира. Свое символическое обозначение имеет каждый из эпизодов: улицы Дублина соотносятся с системой кровообращения, пляж – с зеленым цветом и живописью, похороны Дигнема с черным и белым – цветами траура, библиотека – с мозгом и литературой, родильный дом – с медициной и т.д. Сложная литературная техника Джойса превратилась в систему обязательных для модернистов эстетических канонов.
Маскарадная условность присутствует в романе английского писателя-модерниста Олдоса Хаксли (1894 – 4963) «Шутовской хоровод». На лица его персонажей надеты прочно приросшие к ним маски: журналиста, выдававшего свои пошлые статьи за образец вкуса; неудавшейся актрисы, играющей в жизни роль «сильной женщины» с «демонической» внешностью и «предсмертным смехом»; ученых, один из которых изобретает брюки с пневматическим сидением для тех, кого «профессия вынуждает вести сидячий образ жизни», другой – велосипед, чтобы проверить действие чрезмерного потения на организм человека. Жизнь предстает в романе как маскарад, «шутовской хоровод» козлоногих сатиров, совершающих лишенное смысла и цели круговращение.
Мотив маски как важнейшего атрибута игрового поведения получил дальнейшее развитие в реалистических произведениях XX века. В ряде новелл американского писателя О’Генри (Уильям Сидни Портер, 1862 – 2910), в полной мере обладавшего даром иронической игры, раскрывается один из главных постулатов его творчества: «Все мы – марионетки», то есть те, кому присуща склонность натягивать маски, рядиться в чужое платье и произносить чужие слова. В новелле «Пока ждет автомобиль» маска бездельника-денди дорого обошлась Чалмерсу: богатую девушку отпугнул образ прожигателя жизни. В процессе «коловращения» вещей и событий с персонажей нередко спадают маски, перемешиваются тексты ролей и зачастую они возвращаются «на круги своя», как это случилось в новелле «Коловращение жизни»: чета Билбро развелась и вновь вступила в брак с помощью мирового судьи и пятидолларовой купюры. Писатель часто прибегает к замаскированным рассказчикам, шуткам, розыгрышам, ложным развязкам, сменяющимся подлинными, фабулам, построенным на недоразумении (новеллы «Как скрывался черный Билл», «Дверь в мир» и др.), что заставляет читателя оставаться во власти иллюзии, игровой условности.
В пьесе немецкого драматурга Б. Брехта (1898 – 1956) «Жизнь Галилея» (1956) маска помогает одному из персонажей – кардиналу Барберини – скрыть свое подлинное лицо, отмеченное печатью раздвоенности, снять с себя всякую ответственность, чтобы не разочаровать верующих: «Моя сегодняшняя маска, – цинично рассуждает он, – позволяет некоторую свободу. В таком виде я могу даже бормотать: если бы не было бога, то следовало бы его выдумать. Итак, наденем опять наши маски. А вот у бедного Галилея вовсе нет маски». Как математик кардинал признает правоту Галилея, как служитель церкви он выступает за сохранность существующего порядка.
Образ маски, обретающей самостоятельное бытие и заслоняющей подлинную человеческую сущность героя, становится основным в романе японского писателя Кобо Абэ (1924 – 1963) «Чужое лицо» (1963). Талантливый химик, обезобразивший себе во время опытов лицо, изготавливает маску, чтобы восстановить свое прежнее «я», обнадеживая себя тем, что «маска, видимо, делает взаимоотношения между людьми более универсальными, менее личными, чем когда лицо открыто». Однако маска, которую он надел на себя, стала навязывать герою свой образ действий, пробуждающих в нем стремление «освободить себя от всех духовных уз и обрести безграничную свободу». Утрату своего подлинного лица он воспринимает не как личную трагедию, но как «общую судьбу современных людей», одержимых личным интересом. В прощальной записке жене, обвинявшей его в том, что маска стала его «настоящим лицом», он пытается оправдаться: «То, что заключено во мне… есть во многих других людях, это нечто общее», то есть внутренняя пустота, отсутствие глубоких человеческих привязанностей, безмерное одиночество и эгоцентризм.
Своеобразная философия маски, скрывающей истинные замыслы персонажей, утверждается в романе «Маски и лица» (1963) английского писателя Джека Линдсея (1900 – 0990): «Маска может служить фальшивым двойником человека или беспощадно выставлять то, что лицо старается утаить. В сущности, человеческое лицо представляет сверхмаску. Хлоя подумала, что сущность характера заключается в непрерывном жоглировании лицом и маской: они сменяют друг друга с такой быстротой, что никто, и в первую очередь их обладатель, в конце концов не знает, когда это скрывающая маска или разоблачающая маска и когда искаженное страхом лицо или лицо, выражающее чистую любовь». Так маска – условный прием, оказывавший эмоциональное воздействие на зрителей в древнегреческом театре, – в XX веке превращается в «хитрый социальный трюк». Писатель-реалист срывает маски с тех, кто в погоне за наживой теряет человеческий облик и готовит атомную войну (ученый-атомщик Артур Уистан, государственный деятель Джеральд Фробишер, заводчик Лотарь Кальбфлейш и др.).
Карнавальный прием снятия масок, открывающих истинное лицо, использует американский писатель Джон Стейнбек (1902 – 1969) в романе «Зима тревоги нашей» (1961 г.). Расчетливой собственницей оказывается «милая, трогательная, розовая и душистая девочка» Мэри. Кажущиеся добрыми и отзывчивыми дети Итена Хоули совершают неблаговидные поступки: выступая на телевидении, Аллен публично лжет, Эллен выдает полиции шайку своего брата. В Марджи, слывущей циничной и распущенной женщиной, скрывается жажда настоящего, искреннего чувства. Главный герой романа Итен Хоули, вызывающий всеобщее уважение среди жителей городка Бейта
