Читать онлайн Ум первобытного человека бесплатно
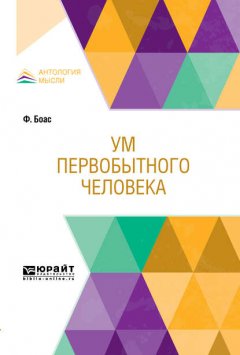
ПРЕДИСЛОВИЕ.
Я занимался проблемой, рассматриваемой на нижеследующих страницах, в течение многих лет и в разное время трактовал ее в небольших статьях. Некоторые из этих статей, в пересмотренном виде и с добавлениями, вошли в эту книгу. Я использовал также часть введения в мое «Руководство к изучению американских индейских языков» (Бюллетень 40, издание Бюро американской этнологии) и некоторые из результатов, формулированных в моем докладе об «Изменениях в телесной форме потомков иммигрантов» (том 39 «Отчетов комиссии, изучающей вопрос об иммиграции», Вашингтон).
Франц Боас.
I РАСОВЫЕ ПРЕДРАССУДКИ.
Гордясь своими удивительными успехами, цивилизованный человек смотрит свысока на низших членов человеческого рода. Он покорил силы природы и заставил их служить себе. Он превратил дремучие леса в плодородные поля. Горные недра отдают ему свои сокровища. Свирепые животные, препятствующие его прогрессу, истребляются, между тем как он заботится о размножении других, полезных ему, животных. Волны океана переносят его из одной страны в другую, а высокие горные цепи не являются для него преградою. Его гений создал из косной материи мощные машины, ждущие прикосновения его руки, чтобы служить его разнообразным потребностям.
Он смотрит с высокомерным сожалением на тех членов человеческого рода, которым не удалось подчинить себе природу, для которых океан, река или горы являются непреодолимыми преградами, которые стараются пополнять свое скудное существование продуктами пустыни, с трепетом прислушиваются к реву диких зверей, уничтожающих продукты их трудов, и стараются добыть необходимое для жизни с помощью немногих простых орудий.
Таков контраст, представляющийся наблюдателю. И неудивительно, что цивилизованный человек считает себя существом высшего порядка по сравнению с первобытным и утверждает, что белая раса представляет более высокий тип, чем все другие.
Прежде чем согласиться с этим выводом, накладывающим клеймо вечного подчинения на целые человеческие расы, мы хотим остановиться и подвергнуть критическому анализу основу наших мнений о способностях различных народов и рас. Наивное предположение о превосходстве европейских наций и их потомков, очевидно, основано на их удивительных успехах. Из того, что их цивилизация выше, мы делаем вывод, что и их способность к цивилизации выше, а из предположения, что способность к цивилизации зависит от совершенства телесного и духовного аппарата, выводится заключение, что белая раса представляет высший тип совершенства. В этом заключении, получаемом путем сравнения социального положения цивилизованного и первобытного человека, молчаливо допускается, что достигнутые первым успехи зависят исключительно, или, по крайней мере, главным образом, от его способностей.
Из утверждения, что способности европейских наций выше, непосредственно вытекает второй вывод о значении различия между типами европейской расы и рас других континентов или даже между различными европейскими типами. Бессознательный ход нашей мысли приблизительно таков: способности европейца оказываются высшими, а следовательно высшим оказывается и его физический и умственный тип, и всякое отклонение от типа белой расы непременно представляет характерную черту низшего типа.
Тот факт, что, при равенстве прочих условий, раса обыкновенно характеризуется как стоящая на тем более низком уровне, чем глубже ее отличие от белой расы, доказывает, что вышеупомянутое недоказанное предположение лежит в основе наших суждений о расах. Последствием этого предположения явились и долго тянувшиеся споры о том, встречаются ли у первобытного человека такие анатомические особенности, которые характеризовали бы его как существо низшего порядка в зоологическом ряду, и подчеркивание того, что такие черты встречаются у первобытного человека и отсутствуют у европейской расы.
Тема и характер этих споров доказывают, что в умах исследователей укоренился взгляд, согласно которому мы должны заранее предполагать, что в белой расе мы находим высший тип человека.
Этой точки зрения часто придерживаются и в суждениях, в основе которых лежат социальные различия. Допускают, что так как умственное развитие белой расы является высшим, то ей же свойственны и высшие способности. Поэтому предполагают, что белой расе свойственна наиболее утонченная умственная организация. Первоначальные психические причины не столь очевидны, как отличительные анатомические признаки, а потому при суждении об умственном состоянии какого-либо народа часто руководятся различием между его и нашим собственным социальным состоянием. Суждение о народе бывает тем строже, чем значительнее разница между интеллектуальными, эмоциональными и моральными процессами, свойственными, с одной стороны, нашей цивилизации, а с другой — данному народу. Лишь тогда, когда Тацит открывает добродетели, которые в прошлом были свойственны его собственному народу, у чужеземных племен, он ставит их в образец своим согражданам, у которых мечтатель, придерживавшийся идей давно пережитой эпохи, вероятно, вызывал улыбку сожаления.
Для ясного понимания отношений между расой и цивилизацией необходимо подвергнуть тщательному анализу эти лил недоказанные предположения. Мы должны выяснить, насколько мы в праве предполагать, что, во-первых, успехи той или иной нации обусловлены, главным, образом, ее исключительными способностями, и что, во-вторых, европейский тип, или, формулируя это понятие наиболее резко, северно-европейский тип — представляет высшую стадию развития человечества. Полезно выяснить эти пункты, прежде чем приступить к исследованию подробностей.
Относительно первого пункта можно сказать, что хотя успехи не служат непременно мерилом способностей, однако, представляется допустимым судить об одних по другим. Не была ли степень вероятности успеха одинакова для большинства рас? Итак, почему же у одной лишь белой расы развилась такая цивилизация, которая распространилась по всему миру, и по сравнению с которой все другие формы цивилизации представляются слабыми начатками, пресекшимися в младенчестве или остановившимися и окаменевшими на ранней ступени развития? Не следует ли считать, по крайней мере, вероятным, что раса, достигшая высшей ступени цивилизации, была наиболее одарена, и что расы, оставшиеся на дне, не были способны подняться до более высокого уровня?
Чтобы найти ответ на эти вопросы, рассмотрим вкратце общий ход истории цивилизации, перенесемся мыслью за несколько тысячелетий до нынешнего времени, к той эпохе, когда цивилизация восточной и западной Азии находилась в младенческом состоянии. С течением времени эта цивилизация передавалась от одного народа к другому, при чем некоторые из народов, являвшихся представителями высшего типа культуры, отступали на задний план, тогда как другие занимали их место. Мы видим, что на заре истории цивилизация держалась в известных странах, в которых она усваивалась, то одним народом, то другим. При многочисленных столкновениях, происходивших, в этот период, более цивилизованные народы нередки оказывались побежденными. Однако победители заимствовали культуру от побежденных и продолжали дело цивилизации. Таким образом, центры цивилизации перемещались в пределах ограниченных районов, и прогресс шел медленно или совсем приостанавливался. В этот период предки тех рас, которые ныне принадлежат к числу наиболее цивилизованных, ни в каком отношении не стояли выше таких первобытных людей, каких мы находим в настоящее время и странах, которых не коснулась цивилизация нового времени.
Имела ли цивилизация, достигнутая этими древними народами, такой характер, что мы могли бы считать эти народы более даровитыми, чем какую бы то ни было иную расу?
Прежде всего, мы должны иметь в виду, что ни одна из этих форм цивилизации не была продуктом гения какого-нибудь отдельного народа. Идеи и изобретения передавались от одного народа к другому, при чем, хотя сношения между ними отличались медленностью, однако, всякий народ, принимавший участие в развитии цивилизации в древние времена, вносил свою долю о общий прогресс. Можно привести бесчисленное множество доказательств того, что идеи распространялись, пока народы находились в общении друг с другом, и что ни раса, ни язык, ни расстояние не могли ограничить этого распространения идей. Мы должны преклоняться пред гением всех народов, представителями какой бы группы — хамитской, семитической, арийской или монгольской — они ни являлись, так как все они содействовали развитию древних цивилизаций.
Теперь мы можем поставить вопрос, не выработали ли и другие расы равноценной культуры? По-видимому, цивилизация древнего Перу и центральной Америки выдерживает сравнение с древними цивилизациями Старого Света. В обоих случаях мы находим стоявшую на высокой ступени развития политическую организацию, разделение труда и сложную организацию духовенства. Производились большие архитектурные работы, требовавшие сотрудничества множества индивидуумов; приручались животные, разводились растения, было изобретено искусство письма. Изобретения и познания народов Старого Света были, по-видимому, несколько многочисленнее и обширнее, чем изобретения и познания народов Нового Света, но не подлежит сомнению, что в общем их цивилизация стояла на приблизительно столь же высоком уровне[1]. Этого для нас достаточно.
В чем же заключается различие между цивилизацией Старого и Нового Света? По существу это различие во времени. Первая достигла известной стадии развития на три или четыре тысячелетия раньше, чем вторая.
Хотя большей быстроте развития Старого Света придавалось особое значение, однако, по моему мнению, она никоим образом не доказывает превосходства рас Старого Света, но достаточно объясняется законами теории вероятности. Когда два тела проходят один и тот же путь, с переменною скоростью двигаясь то быстро, то медленно, то чем длиннее проходимый ими путь, тем вероятнее, что в их относительном положении обнаружатся случайные различия. Так, напр., два ребенка, прожившие лишь несколько месяцев, оказываются весьма сходными по своему физиологическому и психическому развитию; юноши одинакового возраста отличаются друг от друга гораздо больше; а из двух стариков одинакового возраста — у одного силы могут еще вполне сохраняться, а другой может оказаться дряхлым, главным образом, вследствие случайного ускорения или замедления развития. Разница в продолжительности периода развития не означает еще качественной разницы между ними, обусловливаемой наследственностью.
Рассматривая таким же образом историю человечества, мы можем сказать, что разница в несколько тысяч лет не имеет значения по сравнению с продолжительностью существования человеческого рода. Время, потребовавшееся для развития существующих рас, может быть определяемо лишь путем догадок, но мы можем быть вполне уверены, что оно весьма продолжительно. Нам известно также, что человек существовал в восточном и западном полушариях в эпоху, продолжительность которой может быть определена лишь на основании геологических данных. Недавние исследования Пенка[2] о ледниковом периоде в Альпах привели его к тому выводу, что с появления человека прошло более ста тысяч лет, и что цивилизация Магдаленской эпохи, характеризующаяся значительным развитием специализации, имеет за собой не менее, чем двадцатитысячелетнюю давность. Нет оснований полагать, что эта стадия была достигнута человечеством повсюду в один и тот же период времени; но мы должны принять за исходный пункт отдаленнейшие времена, в которые мы находим следы человека. Итак, разве имеет какое-нибудь значение, что одна группа в течение ста тысяч лет достигла той же стадии развития, которой другая группа достигла в течение ста четырех тысяч лет? Разве недостаточно истории жизни народов и исторических перемен для полного объяснения такого рода замедления, так что нет надобности и допускать различия в способностях народов к социальному развитию[3]. Это замедление имело бы значение лишь в том случае, если бы можно было доказать, что, независимо от других условий, оно неоднократно встречается у одной и той же расы, тогда как у других рас наблюдается большая быстрота развития.
Тем не менее заслуживает внимания тот факт, что в настоящее время все члены белой расы фактически в большей или меньшей степени принимают участие в прогрессе цивилизации, между тем как цивилизация других рас оказалась неспособной распространиться среди всех племен или народов данной расы. Это вовсе не значит, что все члены белой расы были способны создать и развить зачатки цивилизации с одинаковой быстротой: нельзя доказать, что для родственных друг другу племен, которые развивались под влиянием цивилизации, созданной немногими членами этой расы, без этой помощи не потребовалось бы гораздо более продолжительного времени для достижения того высокого уровня, на котором они находятся в настоящее время. Однако это, по-видимому, свидетельствует о замечательной способности к усвоению цивилизации, не проявлявшейся в такой степени ни у какой другой расы.
Итак, следует выяснить, почему племена древней Европы легко усваивали цивилизацию, тогда как в настоящее время мы наблюдаем, что первобытные племена приходят в упадок и вырождаются при соприкосновении с цивилизацией, вместо того, чтобы благодаря ей развиваться. Не является ли это доказательством более высокой организации обитателей Европы?
По моему мнению, нет надобности далеко искать причин этого факта, и не нужно предполагать, что эти причины заключаются в больших способностях европейских и азиатских рас. По внешнему виду первобытные и более цивилизованные люди древней Европы были сходны между собой. Поэтому не существовало основной трудности, препятствующей возвышению первобытных племен: отдельная личность, усвоившая себе более высокую цивилизацию, уже не считалась принадлежащей к низшей расе. Таким образом, в древности в колониях возможен был рост общества путем присоединения к нему личностей, вышедших из народа, культура которого была более примитивна.
Далее, опустошительное влияние болезней, свирепствующих ныне среди обитателей территорий, ставших недавно доступными белым, не было столь сильно, вследствие постоянного соседства народов Старого Света, всегда соприкасавшихся друг с другом. С другой стороны, захват Америки и Полинезии сопровождался занесением к уроженцам этих стран новых болезней. Страдания и опустошения, причиненные эпидемиями вслед за открытием вышеупомянутых стран, слишком известны, так что нет надобности их подробно описывать. Во всех тех случаях, когда численность населения уменьшается, в редко заселенной местности наступают почти полное расстройство экономической жизни и разрушение социальной структуры.
Кроме того, контраст между той культурой, представителями которой являются белые в новое время, и первобытной культурой гораздо глубже, чем контраст между древними культурными народами и теми, с которыми им приходилось соприкасаться. В настоящее время, главным образом благодаря колоссальному развитию фабричного производства, промышленность отсталых народов, неспособных конкурировать с производительностью, свойственною машинному производству белых, гибнет вследствие дешевизны и огромного количества продуктов, ввозимых белыми торговцами, между тем как в древности продукт ручного труда высшего качества конкурировал с продуктом ручного труда низшего типа. Корда для приобретения пригодных к употреблению орудий или изделий от торговца достаточно одного дня работы, между тем. как для изготовлении соответственных орудий или материалов самим туземцем понадобилось бы несколько недель, вполне естественно, что туземное население вскоре перестает заниматься более медленными и утомительными процессами.
Следует также принять в расчет, что в некоторых странах, особенно в Америке и в некоторых частях Сибири, первобытные племена подавляются численностью расы, переселяющейся в населенную ими страну и столь быстро вытесняющей их из их старинным убежищ, что не оказывается времени для постепенной ассимиляции. В древности, несомненно, не существовало такого громадного численного неравенства, как ныне наблюдаемое во многих странах.
Итак, условия для ассимиляции в древней Европе были гораздо благоприятнее, чем в тех странах, где в наше время первобытные народы соприкасаются с цивилизацией. Поэтому нам нет надобности предполагать, что древние европейцы отличались большею одаренностью, чем другие расы, не подвергавшиеся до недавнего времени влиянию цивилизации[4].
Этот вывод можно подтвердить еще и другими фактами. В средние века арабы, несомненно, достигли более высокой стадии цивилизаций, чем многие европейские нации в этот период. Обе эти цивилизации развились в значительной степени из одних и тех же источников, они должны быть рассматриваемы, как ветви одного и того же дерева. Арабы, являвшиеся носителями цивилизации, вовсе не были членами той же расы, к которой принадлежат европейцы, но никто не станет оспаривать их важных заслуг. Интересно наблюдать, каким образом они повлияли на негритянские расы Судана. В раннюю эпоху, главным образом между второй половиной восьмого века и одиннадцатым, веком христианского летоисчисления, Судан подвергался нашествиям хамитских племен, и магометанство быстро распространялось в Сахаре и в западном Судане. С того времени возникали и разрушались в борьбе с соседними государствами обширные империи, и достигалась сравнительно высокая культура. Завоеватели вступали в браки с туземцами, при чем смешанные расы, из коих некоторые оказываются почти чисто негритянскими, поднялись высоко над уровнем других африканских негров. Один из лучших примеров этого представляет, быть может, история Борну. Барт[5] и Нахтигаль[6] ознакомили нас с историей этого государства, сыгравшего весьма важную роль в истории Северной Африки.
Почему же магометане были способны цивилизовать эти племена и поднять их почти до того уровня, которого сами они достигли, между тем как белые не были в состоянии в сколько-нибудь значительной степени повлиять на негров в Африке? Очевидно, это объясняется различием в способах распространения культуры. Между тем как магометане влияют на народы таким же образом, каким древние цивилизовали европейские племена, белые посылают в негритянские страны лишь продукты своих мануфактур и немногих лиц из своей среды. Подлинного смешения между более образованными белыми и неграми никогда не происходило. Смешение негров с магометанами особенно облегчается благодаря многоженству, при чем завоеватели вступают в браки с туземными женщинами и воспитывают своих детей, как членов своих семейств.
Распространение китайской цивилизации в восточной Азии можно сравнить с распространением древней цивилизации в Европе. Благодаря колонизации и смешению с родственными племенами, а в некоторых случаях истреблению мятежных подданных, за которым следовала колонизация, установилось замечательное однообразие культуры на обширной территории.
Наконец, если мы рассмотрим низшее положение, занимаемое негритянской расой в Соединенных Штатах, хотя негры живут в теснейшем соприкосновении с современной цивилизацией, мы не должны забывать, что старое расовое чувство подчинения цветной расы по-прежнему сильно, и что око оказывается ужасным препятствием для возвышения и прогресса этой расы, несмотря на то, что для нее открыты школы и университеты. Скорее мы могли бы удивляться тому, как много сделано в продолжение краткого промежутка времени в борьбе с тяжкими препятствиями. Вряд ли можно сказать, что стало бы с неграми, если бы они могли жить в совершенно одинаковых условиях с белыми. Рассмотрение шансов негров в Соединенных Штатах в труде мисс Овингтон[7] убедительно доказывает неравенство условий экономического прогресса для негров и белых даже и после уничтожения неравенства, устанавливаемого законами.
На основании вышеприведенных соображений мы приходим к следующему выводу: у разных рас развилась цивилизация, сходная по типу с тою, от которой произошла наша собственная цивилизация. Некоторые благоприятные условия облегчили быстрое распространение этой цивилизации в Европе. Из этих условий сильнее всего влияли одинаковый физический внешний вид, близкое соседство, незначительность различий в способах производства. Когда впоследствии цивилизация начала распространяться и на других континентах, те расы, с которыми соприкасалась цивилизация нового времени, не находились в столь же благоприятном положении. Резкие различия расовых типов, предшествовавшая изолированность, обусловливавшая во вновь открываемых странах опустошительные эпидемии, и более значительный прогресс цивилизации делали ассимиляцию гораздо более трудной. Быстрое расселение европейцев по всему свету уничтожало все возникшие в разных странах и обещавшие дальнейшее развитие начатки. Таким образом, ни одной расе, за исключением восточно-азиатской, не было дано шансов для того, чтобы развить независимую цивилизацию. Распространение европейской расы пресекло рост существовавших независимых зародышей, не считаясь с умственными способностями тех народов, среди которых оно совершалось. С другой стороны, мы видели, что нельзя придавать большого значения более раннему возникновению цивилизации в Старом Свете, которое удовлетворительно объясняется как случайный успех. Словом, исторические события, по-видимому, гораздо более способствовали развитию цивилизации, чем способности различных рас, так что, следовательно, успехи рас не дают нам права предполагать, что одна раса даровитее другой.
Найдя таким образом ответ на первый из вышеуказанных вопросов, мы можем приступить к разрешению второго, а именно: насколько мы имеем право рассматривать те анатомические признаки, по отношению к которым иноземные расы отличаются от белой, как доказательство того, что эти расы оказываются низшими. В одном отношении ответить на этот вопрос легче, чем на предыдущий. Мы признали, что один успех не дает нам права предполагать у белой расы большие умственные способности, чем и других, если мы не в состоянии подтвердить наше предположение доказательствами. Из этого вытекает, что не следует истолковывать различий между белой расою и другими в смысле превосходства белой расы над остальными, если такого соотношения между ними нельзя доказать анатомическими или физиологическими данными.
Не лишнее пояснить примером легко и очень часто вкрадывающуюся логическую ошибку. В старательном исследовании, произведенном несколько лет тому назад, г. Р. Б. Бин[8]демонстрировал известные характерные различия в форме всего мозга и его частей между балтиморским негром и балтиморским белым. Различия эти заключаются в форме и относительной величине лобной и затылочной долей и в величине мозолистого тела. Истолкование этого различия таково, что меньшие размеры передних долей и мозолистого тела указывают на низшее умственное развитие. Этот вывод был опровергнут Франклином П. Моллем[9]. Здесь, где нас главным образом интересует логическая ошибочность таких выводов, достаточно обратить внимание на тот факт, что в результате сравнения длинноголовых и короткоголовых индивидуумов одной и той же расы, например, длинноголовых французов северной Франции и короткоголовых французов центральной Франции, получились бы подобного же рода различия, но что в таком случае не обнаружилось бы такой готовности вывести отсюда заключение относительно больших или меньших способностей.
Конечно, не подлежит сомнению, что в характерных физических чертах человеческих рас обнаруживаются значительные различия. Цвет кожи, волосы и очертания губ и носа явственно отличают африканца от европейца. Следует разрешить вопрос: в каких отношениях находятся эти черты к умственным способностям расы? Этот вопрос можно рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, можно утверждать, что раса, у которой оказываются особенности, характерные для низших стадий в животном ряду, представляет во всех отношениях низший тип. Во-вторых, мы можем обратить внимание, главным образом, на центральную нервную систему и исследовать, выше ли ее анатомическое строение у одной расы, чем у другой.
Для выяснения первой точки зрения я упомяну о некоторых из образований в человеческом теле, признаваемых характерными для низших рас, так как они встречаются в качестве типичных черт развития у животных. Сюда относится изменение в форме височной кости, которая у человека обыкновенно отделена от лобной кости клиновидною и теменною костями. Оказывается, что у некоторых лиц височная кость занимает по отношению к клиновидной и к теменным костям больше места, чем обыкновенно, и соприкасается с лобной костью. Это преобладает у обезьян. Доказано, что это изменение встречается у всех рас, но не одинаково часто.
Особая форма большеберцовой кости, известная под именем платикнемия (поперечное сплющение), наблюдалась на скелетах древнейших останков человека в Европе и также на скелетах различных рас. Другими характерными чертами, напоминающими низшие формы, являются особенности в образовании суставных поверхностей большеберцовой кости и бедра, найденные у некоторых человеческих типов: кость инков, или кость, находящаяся между теменными костями и затылочной костью, встречающаяся у всех рас, но особенно часто у перуанцев и у обитателей древних пуэблосов; мелкие носовые кости и их срастание с верхней челюстью, так называемые fossae praenasales, и некоторые вариации в расположении артерий и мышц. Все эти изменчивые черты встречаются у всех рас, но степень изменчивости не везде одинакова. Вероятно, такие вариации могут быть рассматриваемы, как характерные черты человека, еще не успевшие стать устойчивыми, так что в этом смысле их можно признать все еще подверженными процессу эволюции. Если это истолкование правильно, то, по-видимому, мы можем признать те расы, у которых характерные черты человека устойчивее, обладающими более высокой организацией.
Можно также классифицировать расы соответственно разным типичным чертам таким образом, что одна из них представляется наиболее удаленной от типов высших животных, а другие — менее. Во всех этих классификациях между человеком и животным оказывается значительный пробел, вариации же, наблюдаемые при переходе от одной расы к другой, незначительны по сравнению с этим пробелом. Так, мы находим, что, по сравнению с черепом, размеры лица негров больше, чем размеры лица американца, размеры лица которого, в свою очередь, больше, чем размеры лица белого. Нижняя часть его лица имеет большие размеры. Альвеолярная дуга выдвинута вперед, получая таким образом вид, напоминающий высших обезьян. Нельзя отрицать, что эта черта составляет в высшей степени постоянный характерный признак черных рас, и что она представляет тип, несколько более приближающийся к животному, чем европейский тип. То же самое можно сказать и о широких и приплюснутых носах негров и монголов.
Если мы примем общие теории Клаача[10], Штраца[11] и Шетенсака[12], признающих австралийца древнейшим и наиболее обобщенным типом человека, то мы можем также обратить внимание на тонкие позвонки, на неразвитость кривизны позвоночного столба, на которые впервые обратил внимание Кешингэм[13], и на особенности ноги, напоминающие о животных, живущих на деревьях, ноги которых должны были служить для лазания с ветки на ветку.
Относительно истолкования всех этих наблюдений, необходимо обратить особое внимание на то, что те расы, которые мы привыкли называть «высшими», никоим образом не стоят во всех отношениях в конце ряда и не оказываются наиболее далекими от животных. У европейцев и у монголов, самый большой мозг, у европейцев — небольшое лицо и выдающийся нос; все это черты, более удаленные от вероятного животного-предка человека, чем соответствующие черты других рас. С другой стороны, у европейцев имеются и низшие отличительные черты, свойственные австралийцам: и те и другие в сильнейшей степени сохраняют волосатость животного предка, тогда как специфически свойственное человеку развитие красных губ наиболее резко выражено у негров. Соотношения между частями тела у негров также более резко отличаются от соответствующих соотношений у высших обезьян, чем у европейцев.
Истолковывая эти данные с точки зрения современной биологии, мы можем сказать, что черты, специфически свойственные человеку, появляются у различных рас с переменною интенсивностью и что отклонение от животного-предка развилось и различных направлениях.
Раз даны все эти различия между расами, возникает вопрос: имеют ли они какое-либо значение по отношению к умственным способностям? В данный момент я могу позволить себе не касаться различий в величине и в структурном развитии нервной системы и ограничиться значением других черт для умственных способностей. Общая аналогия умственного развития животных и человека побуждает нас приводить низшие умственные черты в связь с зверообразными чертами. Мы должны, однако, различать здесь между теми характерными анатомическими признаками, о которых мы говорили, и развитием мускулов лица, туловища и членов, вызванным привычною деятельностью. В руке, никогда не употребляемой для родов деятельности, требующих такого утонченного приспособления, которое характерно для психологически сложных действий, не окажется формирования, вызываемого развитием каждого мускула. В лице, мускулы которого не отзывались на нервные возбуждения, сопровождающие глубокие мысли и утонченные чувства, окажется недостаток индивидуальности и утонченности. Шея, выдерживавшая тяжелые грузы и не выполнявшая разнообразных требований деликатных изменений положения головы и тела, покажется массивной и неуклюжей. Эти различия, относящиеся к физиономии, не должны сбивать нас при наших истолкованиях. Но даже и без них мы склонны делать выводы относительно умственной жизни на основании отступающего назад лба, грузной челюсти, больших и тяжеловесных зубов, а пожалуй даже и на основании чрезмерной длины рук или необычного развития волосатости.
Со строго научной точки зрения эти выводы, по-видимому, вызывают в высшей степени серьезные сомнения. Относительно этих проблем были произведены лишь немногие исследования, но их результаты оказались вполне отрицательными. Важнейшее из этих исследований, — сделанная Карлом Пирсоном[14] тщательная попытка исследовать отношение ума к величине и форме головы. Его выводы столь важны, что я повторю их здесь: «По моему мнению те, которые a priori считают вероятной такую связь, должны были бы доказать, что иные измерения и более тонкие психологические наблюдения привели бы к более определенным результатам. Меня лично результат настоящего исследования убедил в том, что у человека мало связи между внешними физическими и психическими характерными чертами». По моему мнению, все произведенные до сих пор исследования заставляют предполагать, что да самом деле не оказывается никакой прямой связи между характерными признаками: систем костной, мускульной, внутренностей и органов кровообращения и умственными способностями людей (Мануврие)[15].
Переходим к важному вопросу о величине мозга, которая, по-видимому, оказывается единственною анатомическою чертою, имеющею прямое отношение к занимающему нас в данное время вопросу. Кажется правдоподобным, что, чем больше размеры центральной нервной системы, тем даровитее раса, тем больше ее умственные способности. Дадим обзор известных фактов. Для установления величины центральной нервной системы применяются два метода: определение веса мозга и определение емкости черепной полости. Из этих методов первый обещает наиболее точные результаты. Конечно, число европейцев, вес мозга которых был определен, значительно превышает число индивидуумов других рас. Однако, имеется достаточно данных для того, чтобы установить как несомненный факт, что вес мозга у белых больше, чем вес мозга у большей части других рас, в особенности у негров. Вес мозга белого мужчины равняется приблизительно 1360 граммов. Исследования емкости черепов вполне согласуются с этими результатами. По Топинару[16] емкость черепа мужчин неолитического периода в Европе равняется приблизительно 1560 куб. сант. (в 44 случаях); емкость черепа нынешних европейцев — такова же (в 347 случаях); монголоидной расы — 1510 куб. сант. (в 68 случаях); африканских негров — 1405 куб. сант. (в 83 случаях); негров Тихого океана — 1460 куб. сант. (в 46 случаях). Следовательно, здесь мы имеем ясно выраженное отличие в пользу белой расы.
Истолковывая эти факты, мы должны поставить вопрос: доказывает ли возрастание величины мозга возрастание способностей? Это представлялось бы весьма вероятным, и можно было бы привести факты, свидетельствующие в пользу этого предположения. Первым из этих фактов является относительно большая величина мозга у высших животных и еще большая его величина у человека. Далее, Мануврие[17] измерил емкость черепов тридцати пята выдающихся людей. Он нашел, что она в среднем равнялась 1665 куб. сант. по сравнению с 1560 куб. сант., т.-е. с общим средним, полученным на основании измерений емкости черепов 110 индивидуумов. С другой стороны, он нашел, что емкость черепов сорока пяти убийц равнялась 1580 куб. сант., т.-е. так же превышала общее среднее. Такой же результат получился и путем взвешивания мозга выдающихся людей. Мозг тридцати четырех из них обнаруживал среднее увеличение в 93 грамма по сравнению с средним весом мозга, равняющимся 1357 граммам. Другой факт, который можно привести в пользу теории, гласящей что больший мозг сопровождается большими способностями, заключается в том, что головы лучших английских студентов больше голов заурядных студентов (Гальтон)[18]. Но не следует преувеличивать значения аргументов, вытекающих из этих наблюдений.
Во-первых, не у всех выдающихся людей мозг необычайно велик. Наоборот, в ряду их было найдено небольшое количество необычайно малых мозгов. Далее, большая часть величин веса мозга, составляющих общий ряд, определяется в анатомических институтах; индивидуумы, туда попадающие, слабо развиты вследствие плохого питания и жизни при неблагоприятных обстоятельствах, тогда как выдающиеся люди являются представителями гораздо лучше питающегося класса. Так как плохое питание уменьшает вес и размеры всего тела, то оно вызовет и уменьшение размеров и веса мозга. Следовательно, не установлено достоверно, что наблюдаемая разница всецело обусловлена большими способностями выдающихся людей. Это может так же объяснить большие размеры мозга специалистов по сравнению с необученными рабочими (Феррайра)[19]. Следует перечислить дальнейшие факты, ограничивающие значение вышеприведенного вывода. Важнейшим из них является различие в весе мозга между мужчинами и женщинами. Когда сравниваются мужчины и женщины одинакового роста, оказывается, что мозг женщины гораздо легче мозга мужчины. Тем не менее, способности женщины, качественно, может быть, отличающиеся от способностей мужчины, не могут быть признаны стоящими ниже последних. Следовательно в данном случае, меньший вес мозга повсюду сопровождается одинаковыми способностями. Из этого факта мы делаем тот вывод, что возможно, что меньший мозг мужчин других рас выполняет ту же самую работу, которая производится большим мозгом людей белой расы. Но это сравнение производится не при полном равенстве условий, так как мы можем предположить, что между мужчиной и женщиной существует известное структурное различие, обусловливающее разницу в размерах между полами, так что сравнение между мужчиной и женщиной не тождественно со сравнением между различными мужчинами.
Несмотря на эти ограничения, увеличение размеров мозга у высших животных и недостаточное развитие у индивидуумов микроцефалов являются основными фактами, делающими более чем вероятным, что возрастание размеров мозга обусловливает возрастание способностей, хотя это соотношение и не оказывается столь непосредственным, как часто предполагают.
Нетрудно найти объяснение того, что между весом мозга и умственными способностями не оказывается точного соответствия. Функционирование мозга зависит от нервных клеток и волокон, отнюдь не составляющих всей массы мозга. Мозг со многими клетками и сложными связями между клетками может содержать в себе меньше соединительной ткани, чем другой мозг, нервная структура которого проще. Другими словами, если существует тесная связь между формой и способностями, ее следует искать скорее в морфологических чертах мозга, чем в его размерах. Связь между величиной мозга и количеством клеток и волокон существует, но эта связь слаба (Дональдсон)[20].
Несмотря на многочисленные попытки найти такие структурные различия между мозгами у различных человеческих рас, которые могли бы быть непосредственно выражены в психологических терминах, не было получено никаких достоверных результатов. Состояние наших нынешних знаний было хорошо резюмировано Франклином П. Моллем[21], на исследование которого я уже ссылался. Он полагает, что вследствие значительной изменчивости индивидуумов, составляющих каждую расу, чрезвычайно трудно определять расовые различия, и что пока не найдено расовых различий, выдерживающих серьезную критику.
Теперь мы можем резюмировать результаты нашего предварительного исследования. Мы нашли, что недоказанное предположение тождественности культурных успехов и умственных способностей основано на ошибке суждения, что вариации в культурном развитии можно объяснить и общим ходом исторических событий, не прибегая к теории материальных различий между умственными способностями у различных рас. Мы нашли, далее, что подобная же ошибка лежит и в основе обычного предположения, согласно которому белая раса представляет физически высший тип человека, и что анатомические и физиологические соображения не подтверждают этих взглядов.
II ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ТИПЫ.
Убедившись в том, что высокая степень нашей цивилизации не обусловливается непременно превосходством анатомической организации носителей этой цивилизации сравнительно с другими расами, мы можем заняться более подробным исследованием характерных признаков различных подразделений человеческого рода. Ясно, что наши исследования могут основываться не на неопределенных описаниях путешественников, делающих замечания о громадных пищеварительных органах первобытных людей, об их небольшом росте, недостаточном развитии их членов или даже об их сходстве с обезьянами, а на серьезном изучении характерных анатомических признаков.
Здесь можно различить две проблемы, которые слишком часто смешивались при рассмотрении характерных умственных признаков цивилизованных и первобытных людей. Первая из этих проблем относится к различиям между расами, а вторая — к различию между социальными слоями одной и той же расы. Соответственно смыслу терминов «цивилизованный» и «первобытный», вполне понятно, что могут существовать как цивилизованные группы, принадлежащие к различным расам (напр., к китайцам и европейцам), и как цивилизованные, так и первобытные группы, принадлежащие к одной и той же расе (напр., к сибирским юкагирам и к китайцам, или к группе образованных негров в Соединенных Штатах и к первобытным негритянским племенам на африканском прибрежьи). Проблемы, представляемые различиями между разными человеческими расами и различиями между социальными группами в пределах одних и тех же рас, конечно, вполне различны, и каждая из них должна быть рассматриваема отдельно.
У обеих проблем есть одна общая особенность, которую следует отметить, прежде чем надлежащим образом приступить к их рассмотрению. Сравнивая индивидуумов, принадлежащих к какому-либо расовому или социальному типу, мы находим, что они вовсе не однообразны, но обнаруживают значительные различия. Когда мы стараемся думать о норвежце и о негре, нашему уму представляются два совершенно различных типа: норвежец — высокого роста, с белокурыми, несколько волнистыми волосами, голубыми глазами, светлой окраской кожи, тонкими чертами лица и тонким носом; негр — среднего роста с черными и курчавыми волосами, черными глазами, темной кожей, выдающейся челюстью и массивным приплюснутым носом. Однако эти картины представляют собою лишь отвлечения того, что, как мы думаем, мы чаще всего подмечали в каждом типе. Сравнивая между собою норвежцев или негров, мы находим, что в каждом из указанных народов у всякого индивидуума есть свои особенности, несвойственные другим. Норвежцы бывают высокого и низкого роста, волосы их светлы или темны, прямы или волнисты, цвет глаз их колеблется от коричневого до голубого, цвет кожи у них бывает светлый или смуглый, черты лица у них более или менее тонки. То же самое наблюдается и у негров. Степень черноты, характерная особенность подбородка, заключающаяся в том, что он выдается, приплюснутость носа — обнаруживают весьма значительные вариации. Наблюдения показали, что во всех случаях этого рода преобладает один определенный тип, одна известная комбинация черт; отклонения же от этого типа в том или ином направлении становятся тем реже, чем они значительнее. Так, у норвежцев обнаруживается преобладание известной степени светлой окраски. Индивидуумы, у которых цвет волос гораздо светлее, чем обыкновенно, тем реже встречаются, чем значительнее различие между цветом их волос и встречающимся обычно; точно так же и лица, у которых цвет волос гораздо темнее, чем обыкновенный, встречаются тем реже, чем больше отклонение цвета и волос от обыкновенного. Степень распространенности подобных вариаций не всегда одинакова. В некоторых случаях индивидуумы, составляющие группу, обнаруживают замечательное сходство или однообразие типа; в других случаях весьма замечательно разнообразие типов, встречающихся в одном и том же обществе. Мы называем ряд тем более изменчивым, чем чаще в нем встречаются отклоняющиеся от нормы типы. Итак, средняя величина различий между индивидуумами, составляющими ряд, и обыкновенным типом может служить мерилом изменчивости ряда.
Эти соображения имеют первостепенное значение при всех попытках сравнивать различные расы. В некоторых случаях встречаются различия, оказывающиеся достаточно глубокими для того, чтобы легко и определенно отличить одну расу от другой. Так, цвет кожи, цвет и форма волос и очертания губ и носа определенно отличают африканского негра от северного европейца. Однако, сравнивая все человеческие расы и типы, мы находим, что существуют бесчисленные переходы, затрудняющие констатирование того, что какая-нибудь определенная черта является специфической особенностью одного тина. Так, например, нетрудно было бы найти у членов американской расы губы и носы, приближающиеся по форме к губам и носам негров. То же самое можно сказать и о цвете волос и кожи. Эта неопределенность различий между разными типами вызвана вышеуказанною изменчивостью типов.
Например, у негров — толстые губы, однако их толщина не одинакова у всех их. В некоторых случаях она весьма мала, в других — очень велика. У европейцев — тонкие губы, но мы можем встретить индивидуумов, у которых губы очень толсты. Таким образом оказывается, что встречаются негры, губы которых отклоняются от нормального типа, будучи необыкновенно тонкими, вследствие чего они оказываются сходными с губами тех европейцев, у которых они необыкновенно толсты. Чем менее отличаются друг от друга два типа, тем больше окажется в обеих группах сходных друг с другом индивидуумов. Из сказанного вытекает также, что, чем значительнее изменчивость каждого типа, тем вероятнее, что некоторые индивидуумы обоих типов окажутся сходными между собою при сравнении их друг с другом. Пожалуй, мы можем всего лучше выразить это, сказав, что разновидности, составляющие каждый тип, перекрывают друг друга. Во многих случаях, и притом в некоторых из наиболее важных для нашего исследования, это перекрывание значительно. Так, я отметил различие в среднем весе мозга между разными расами. Однако Бес мозга настолько изменчив, что встречается значительное перекрывание, и даже средняя величина мозга белой расы встречается во многих случаях у других рас. Представительницей мозга средней величины у белых сможет служить группа лиц, емкость черепа которых равняется 1450—1650 куб. сант. Эта группа обнимает собою 55 процентов африканских негров и 58 процентов меланезийцев. Такой же результат получается при сравнении числа лиц, обладающих большой емкостью черепа. Мы находим, что у 50 процентов всех белых емкость черепа превышает 1550 куб. сант., а, с другой стороны, емкость черепа превышает эту величину у 27 процентов негров и у 32 процентов меланезийцев. Если бы мы могли предположить прямое соответствие между размерами мозга и способностями, что, как мы уже видели, недопустимо, то мы могли бы, самое большее, предвидеть у негров недостаток людей высоко гениальных, но мы не должны были бы ожидать, что у огромной массы негров, живущих среди белых и находящихся под благотворным влиянием лучших людей этой расы, обнаружится сколько-нибудь значительный недостаток способностей.
С другой стороны, мы находим у различных рас столь обособленные и столь мало изменчивые характерные признаки, что перекрывание вполне или практически исключено. Примерами таких признаков могут служить курчавые волосы негров по сравнению с прямыми волосами монголов; высокие и узкие носы армян и плоские носы негров; различия в пигментации северных европейцев и туземцев Центральной Африки.
В результате исследований о характере изменчивости, основанных на измерениях тела, на изучении социальных и экономических явлений, а также изменчивых физических явлений, как например, метеорологических данных, было установлено, что почти всегда распределение численных величин наблюдений приблизительно подчиняется одному и тому же закону. (Локк, Баулей)[22].
Было выяснено, что представляющие явление величины распределены таким образом, что известные численные величины встречаются очень часто, и что чем больше разница между наблюдением и величиною встречающеюся в наибольшем числе случаев, тем меньше число таких наблюдений. Характер этого распределения показан на фиг. 1-й, где горизонтальная линия представляет численные величины, полученные при наблюдениях, а вертикальные расстояния представляют многократность того наблюдения, которому соответствует вертикальное расстояние.
Фиг. 1
При теоретическом распределении, представленном на фиг. 1, найдены следующие величины роста некоторого количества людей:
1415 — 1955 мм……………………………….5 случаев.
1455— 1495 „ ………………………………….11 ,,
1495 — 1535 „ ………………………………….44 ,,
1535 — 1575 ,, …………………………………135 ,,
1575 — 1615 „ ………………………………….325 ,,
1615—1655 „ …………………………………..607 ,,
1613 — 1695 „ ………………………………….882 ,,
1695—1735 „ …………………………………..1000 ,,
1735— 1775 ,, …………………………………..882 ,,
1775 —1815 ,, ………………………………….607 ,,
1815 — 1855 ,, …………………………………325 ,,
1855 — 1895 „ ....................................................135 ,,
1895 — 1935 „ …………………………………44 ,,
1935— 1975 „ ………………………………….11 ,,
1975 — 2015 ,, …………………………………5 ,,
Когда мы сравниваем два ряда этого класса, сгруппированные вокруг различных величин, они могут перекрывать друг друга. Например, у людей высокого роста и у людей низкого роста, возможно было бы следующее теоретическое распределение численных величин роста:
I. / II. /
1415—1455 мм. / 1425—1455 мм. / 5 случаев
1455—1495 мм / 1455—1485 мм / 11 случаев
1495—1535 мм / 1485—1515 мм / 44 случаев
1535—1575 мм / 1515—1545 мм / 135 случаев
1575—1615 мм / 1545––1575 мм / 325 случаев
1615—1655 мм / 1575—1605 мм / 607 случаев
1655—1695 мм / 1605—1635 мм / 882 случаев
1695—1735 мм / 1635—1665 мм / 1000 случаев
1735—1775 мм / 1665—1695 мм / 882 случаев
1775—1815 мм / 1695—1725 мм / 607 случаев
1815—1855 мм / 1725—1755 мм / 325 случаев
1855—1895 мм / 1755—1785 мм / 135 случаев
1895—1935 мм / 1785—1815 мм / 44 случаев
1935—1975 мм / 1815—1845 мм / 11 случаев
1975—2015 мм / 1845—1875 мм / 5 случаев
В этих двух рядах в группе величин роста от 1575 мм. до 1695 мм. оказывается 1814 случаев в первом ряду, 3371 случай во втором ряду; т.-е. в обоих классах оказывается 1814 индивидуумов, и 1557 (т.-е. 3371—1814) — оказывается в классе людей высокого роста, отдельно взятом. На фиг. 2-й я представил эти два ряда, пользуясь одною системою координат.
Фиг. 2.
Очевидно, все индивидуумы, принадлежащие к обоим рядам и представленные на площади, заключенной между двумя кривыми, находятся в обоих рядах; лишь остальные, оказывающиеся вне этой площади и принадлежащие к одной из групп, не находятся в другой.
Принимая во внимание эти факты, относящиеся к типам и к вариациям, мы можем перейти к рассмотрению характерных особенностей первобытных и цивилизованных людей и членов различных рас.
Сначала мы обратим внимание на различие между цивилизованными и первобытными людьми, оказывающимися членами одной и той же расы. Для белой расы это различие уже не может быть наблюдаемо, так как не существует первобытных белых в точном смысле этого слова. Тем не менее, мы можем находить известные аналогичные случаи. Некоторые из крестьян в далеких горных местностях Юго-восточной Европы ведут образ жизни, не особенно отличающийся от образа жизни тех, кого мы обыкновенно называем первобытными людьми, ибо, поскольку дело идет о питании и о занятиях, образ жизни занимавшихся земледелием индейцев Северной Америки, в эпоху Колумба, или некоторых занимающихся земледелием негритянских племен совершенно сходен с их образом жизни. Образ жизни некоторых рыболовов, живущих на европейском побережье, также может быть уподоблен образу жизни американских или азиатских рыболовов. Более непосредственные сравнения могут быть сделаны по отношению к населению Восточной Азии, где мы можем сопоставить культурных китайцев и первобытные племена, живущие на берегах Амура, северных японцев и айносов, цивилизованных малайцев и горные племена Суматры и Филиппинских островов. Подобные же сравнения оказываются возможными для негритянской расы, если мы Сопоставим немногочисленный образованный класс негров в Америке и африканские племена, и для американской расы, если мы сопоставим образованных индейцев, в особенности тех, которые живут в Южной Америке, и племена, обитающие в прериях и в девственных лесах.
Очевидно, что во всех этих случаях мы сравниваем группы одного и того же происхождения, но живущие в различных экономических, социальных и иных условиях, зависящих от окружающей среды. Если мы находим между ними различия, то эти различия могут обусловливаться, прямо или косвенно, лишь окружающею средою. Таким образом, нам приходится заняться основной проблемой: насколько человеческие типы устойчивы, и насколько они изменчивы под влиянием окружающей среды.
Трудно приступить к этому исследованию путем прямого сравнения между типами первобытных и цивилизованных людей, принадлежащих к одним и тем же расам, отчасти вследствие того, что нелегко найти материал, отчасти вследствие того, что часто однородность расы представляется сомнительною. Но непосредственно очевидно, что всякое исследование изменчивости типов людей, живущих под влиянием различных типов окружающей среды, поможет нам выяснить занимающий нас вопрос, так что мы должны перейти к более общему рассмотрению проблемы устойчивости или изменчивости формы человеческого тела.
Принципы биологической науки не позволяют нам предполагать постоянную устойчивость телесной формы. Все наше современное понятие развития разновидностей и видов основано на допущении вариации, совершающейся или путем накопления изменений или сразу. Вариации, открытые в человеческом теле, вполне согласуются с этой точкой зрения, и я могу принести здесь несколько слов из замечательного трактата Видерсгейма[23] о тех указаниях на историю человека, которые дает его строение: «В течение филогенетического процесса тело человека подвергалось ряду изменений, отчасти все еще находящих выражение в его онтогении. Имеются указания на то, что изменения в его организации все еще продолжают совершаться, и что человек будущего будет отличаться от нынешнего человека». Лучшей иллюстрацией этих изменений служат формы органов, подвергающихся редукции. Так, мы можем наблюдать, что у современного человека малый палец на ноге часто содержит две фаланги. Это явление, вероятно, вызвано недостатком функционального употребления, и оно наблюдалось как у рас, ходящих босиком, так и у рас, носящих обувь, так что его нельзя приписать искусственным причинам. В зубах также проявляется тенденция к постепенной редукции, в особенности сказывающаяся в изменчивых размерах коренных зубов и верхних боковых резцов. Третий коренной зуб, или зуб мудрости, часто сохраняется, и у большинства рас величина его значительно уменьшается. Сохранение или слабое развитие верхнего бокового резца также часто встречается. Подобную же редукцию можно наблюдать на нижнем конце грудной полости, где обнаруживаются значительные вариации в развитии ребер и грудной кости.
Значение этих явлений заключается в том факте, что в эволюционном ряду ненормальные случаи, встречающиеся у разных рас неодинаково часто, являются новыми чертами развития, которые увеличили бы дифференциацию между человеком и низшими формами, если бы они стали нормальными. В действительности не доказано, что эти черты встречаются чаще и обращаются в постоянные характерные признаки; но это представляется более чем вероятным.
Сильным аргументом в пользу этого вывода является существование рудиментарных, не функционирующих органов и временное появление низших черт в течение онтогенетического развития.
Было выяснено, что некоторые из этих редукций, — например, сохранение боковых резцов — наследственны и таким образом могут стать постоянными. Этим до некоторой степени объясняется то, что, как наблюдалось, известные вариации встречаются чаще у первобытных племен, чем у цивилизованных людей. Первобытные племена большею частью очень малочисленны, или в течение долгих периодов, кода они численно возрастали, их сношения с иноземцами были редки. Если в такой группе в каком-либо из первоначальных семейств обнаруживалась известная особенность, последняя должна и теперь встречаться чаще у этого племени, чем у других племен. Этого рода случаями являются лишние позвонки, часто встречающиеся у индейцев на острове Ванкувере, а вероятно, и torus palatinus, часто встречающийся у лапландцев. Вопрос о том, можно ли объяснить таким же образом часто встречающуюся у индейцев, обитателей пуэблосов, и у перуанцев «кость инков», остается нерешенным. Поэтому возможно, что большая изменчивость известных рас по отношению к этим явлениям не есть выражение низшей или высшей — смотря по обстоятельствам — степени развития всей группы, но доказывает существование большого числа членов семейств, обладавшего этой особой характерной чертой. В этих случаях мы имеем дело не с самопроизвольными вариациями, но с их наследственным воспроизведением. Иными словами, если бы нам пришлось принять тот вывод, что большая изменчивость означает низшую или высшую стадию развития, то необходимо было бы предварительно доказать, что эти вариации появляются самопроизвольно у любого члена группы, а не принадлежат известным семействам, в которых данная черта наследственна. Иначе необходимо будет доказать, что в обширных группах рода человеческого тем семействам, в которых обнаруживается особая аномалия, была свойственна большая вероятность переживать других, чем остальным.
Как бы то ни было, то обстоятельство, что такие вариации встречаются, доказывает, что нельзя предполагать, что человеку свойственна устойчивая форма. Само собою разумеется, вопрос о том, какова продолжительность времени, нужного для того, чтобы какая-либо из рассматриваемых нами вариаций стала постоянным признаком, вовсе не разрешен.
Общая тенденция антропологического исследования заключалась в том, чтобы предполагать постоянство характерных анатомических черт нынешних рас, начиная с европейских рас ранней неолитической эпохи. Наиболее решительный из сторонников этой теории, Колльман[24], утверждает, что древнейшие человеческие останки, найденные в неолитических отложениях Европы, представляют типы, все еще встречающиеся в неизменном виде среди нынешнего цивилизованного населения этого континента. Он пытался отождествить все разновидности, найденные среди доисторического населения неолитического периода, с разновидностями, живущими в настоящее время.
Все исследования, производившиеся для выяснения распределения форм головы и других антропометрических черт, обнаружили их однообразие на протяжении обширных сплошных пространств и в течение продолжительных периодов. Естественным выводом отсюда было то, что антропометрические формы сохраняются благодаря наследственности, а потому эти формы оказываются устойчивыми (Деникер)[25].
Существует лишь одно исключение из этого правила. Во всех тех случаях, когда антропометрические черты подвергаются весьма значительным изменениям в течение периода роста, сказывается влияние благоприятных или неблагоприятных причин. Исследования, произведенные Гудом и Бекстером[26] во время междоусобной войны, показали, что представители европейских наций, родившиеся в Америке, выше ростом, чем представители тех же наций, родившиеся в Европе. Было высказано предположение, что лучшее питание, или, быть может, вообще лучшие гигиенические и экономические условия, могут вызвать повышение роста людей. Эти выводы были подтверждены измерениями детей, обучающихся в школах в Бостоне, произведенными Баудичем[27] и антропометрическими исследованиями Пеккэма[28] в Мильвоки. Эти изменения в росте, вызванные изменившимися условиями, были недавно доказаны и в Европе, где Амман[29] показал, что рост населения Бадена существенно повысился и течение последних тридцати лет. Другие данные, подтверждающие этот вывод, были добыты путем изучения различных социальных классов, при чем Баудич нашел повышение роста, начинающееся с детей необученных рабочих и возрастающее у детей обученных рабочих, членов торгового класса и лиц, занимающихся свободными профессиями, и путем наблюдений, обнаруживающих соответствие между характером улиц, населенных состоятельными людьми и бедняками, и ростом их обитателей (Риплей)[30]. Тем не менее эти изменения в росте не были истолкованы как изменения в типе, так как их, конечно, можно объяснить устранением задерживающих влияний, препятствующих многим индивидуумам достигнуть нормального роста.
Результаты наблюдений над ростом подтверждаются другими антропометрическими исследованиями, относящимися к различным профессиям. Наиболее достоверен факт различия между типами моряков и солдат, измеренных в течение междоусобной американской войны, основанный на наибольшем количестве наблюдений. Было установлено, что у моряков ноги столь же длинны, как у негров, и что у них соответственно короче туловище, между тем как их руки столь же длинны, как у армейских солдат. Мы можем также обратить внимание на исследования, производившиеся в наших колледжах и доказывающие, что многие измерения, в значительной степени зависящие от функций групп мускулов, изменяются очень быстро под влиянием упражнения. Само собой разумеется, следует признать, что различия в функционировании мускулов в детском возрасте, которое продолжается и в дальнейшей жизни, должны вызывать постоянные или, по крайней мере, временные различия в строении.
Исследование условий роста показывает, как должны развиваться такие изменения в форме тела. Оставляя в стороне развитие организма до рождения, мы находим, что ко времени рождения некоторые части тела до такой степени развиты, что они не очень далеки от свойственных им окончательных размеров, тогда как другие совершенно неразвиты. Так, череп сравнительно велик ко времени рождения, он быстро растет в течение краткого времени, но очень скоро достигает размеров, приближающихся к его окончательной величине, и затем продолжает расти очень медленно. С другой стороны, конечности растут быстро в течение многих лет. Другие органы начинают быстро развиваться лишь в гораздо более поздний период жизни. Таким образом оказывается, что действующие на тело в разные периоды роста замедляющие или ускоряющие влияния могут вызывать совершенно различные результаты. После того как рост головы почти закончился, замедляющие условия могут все еще влиять на длину конечностей. Лицо, быстро растущее в течение более продолжительного периода, чем череп, может подвергаться различным влияниям позднее, чем последний. Одним словом, влияние окружающей среды может быть тем более выражено, чем менее развит подвергающийся ему орган. Данные относительно неравномерной скорости роста различных частей тела приведены у Вейссенберга[31].
Поскольку было изучаемо влияние замедления, оно, по-видимому, оказывается прочным. Иными словами, ущерб, вызванный замедлением в развитии, никогда не возмещается продолжительным развитием. Если, вследствие неблагоприятных влияний, дитя росло медленно в течение нескольких лет, то оно, вероятно, будет продолжать расти дольше, чем другие, нормальные дети, но в общем итоге его рост навсегда останется слишком малым (Боас и Виселер)[32]. С другой стороны, дети, развитие которых ускорялось, рано достигнут зрелости, но тем не менее в общем итоге их рост окажется относительно большим. Из этого рассмотрения действия, оказываемого замедлением и различием в периоде роста, вытекает, что не только абсолютная величина тела, но и соотношения в нем должны подвергаться влиянию периодов замедления или ускорения.
Таким образом, общая тенденция исследований роста подчеркивает важность действия быстроты развития на окончательную форму тела. Болезнь в раннем детстве, плохое питание, недостаток чистого воздуха и физических упражнений оказываются замедляющими причинами, обусловливающими то, что растущий индивидуум известного возраста является по своему физиологическому развитию моложе, чем здоровый, хорошо питающийся индивидуум, пользующийся обилием свежего воздуха и хорошо упражняющий свою мускульную систему. Однако, вследствие замедления или ускорения изменяется дальнейший ход развития, так что конечная стадия окажется тем более удовлетворительной, чем меньше было замедляющих причин.
Судя по ходу развития тех немногих простых родов умственной деятельности, которые были изучены, представляется более чем вероятным, что умственное развитие подчинено законам, представляющим полную аналогию с законами физического развития (Мейман)[33].
Эти факты, относящиеся к росту, имеют фундаментальное значение для правильного истолкования часто обсуждавшихся явлений ранней остановки роста. Мы видели, что у членов одной и той же расы продление периода роста идет рука об руку с неблагоприятным развитием, между тем как благодаря сокращению периода роста при всех физических измерениях получаются большие величины и достигается превосходство умственной деятельности. Само собой разумеется, что сюда не относятся патологические случаи полной преждевременной остановки развития или чрезмерного развития, — случаи карликового роста или микроцефалии, равно как и случаи гипертрофического роста органов. Отсюда вытекает, что при суждении о физиологическом значении остановки роста нельзя придавать самостоятельного значения тому простому факту, что рост прекращается у одной расы раньше, чем у другой, без наблюдений относительно быстроты роста.
Все еще остается неразрешенным вопрос, насколько возможны такие изменения в человеческих типах, которых нельзя объяснить ускорением или замедлением роста.
Ригер[34] сделал попытку объяснить различия в форме головы действием физиологических и механических условий, и Энгель[35] подчеркивает действие давления мускулов на форму головы. Вальхер[36] пытается объяснить разные фермы головы рассмотрением положения головы младенца в колыбели. Он думает, что, если ребенок лежит на спине, получаются круглые головы, а если он лежит на боку — длинные головы. Однако различия в форме головы на протяжении обширных пространств в Европе, где обращение с младенцами одинаково, невидимому, слишком велики, чтобы это объяснение могло быть принято.
Было произведено некоторое число наблюдений, убедительно доказывающих различие между городским и деревенским типами. Эти наблюдения были впервые произведены Амманом[37], который установил, что в Бадене городское население отличается от деревенского формой головы, ростом и пигментацией. Он допускает вывод, что мы имеем в данном случае действительное изменение в типе, вызванное, однако, не прямым действием окружающей среды, а скорее устранением в городской жизни известных типов; иными словами, действие естественного отбора.
Это наблюдение согласуется с наблюдениями, произведенными Ливи[38] в итальянских городах, где также обнаруживается различие по сравнению с окружающими местностями. Сравнения нормального лондонского населения с лицами, содержимыми в госпиталях, произведенные Шребзаллем[39], не противоречат допущению известной степени соответствия между болезненностью и физическим типом, хотя однородность материала, относящегося к такой столице, как Лондон, и взятого из различных социальных слоев большого города, всегда остается сомнительной.
Другое объяснение, даваемое Ливи, по-видимому, удовлетворительно объясняет различие между городским и деревенским населением, не заставляя прибегать к допущению какого-либо значительного действия естественного отбора, предполагающего невероятное соответствие, с одной стороны, между смертностью и плодовитостью, а с другой — между такими чертами, как форма головы и пигментация. Поскольку наблюдалось изменение типа в городах, оно носит такой характер, что в городе всегда обнаруживается большее сходство с средним типом всего обширного округа, в котором он расположен. Бели местное деревенское население заметно короткоголово, а общий тип на протяжении того более обширного района, из которого набирается городское население, более длинноголов, то городское население окажется в большей степени длинноголовым, и обратно. Если нельзя доказать, что в достаточном количестве определенных семейств происходит отбор, то это объяснение представляется более простым и удовлетворительным.
До последнего времени не было представлено доказательств действительных изменений типа, за исключением вышеупомянутых наблюдений, произведенных Лимоном и Ливи над характерными физическими признаками деревенского и городского населения, и некоторых других наблюдений относительно влияния высоты над уровнем моря на физическую форму. В спорах о распределении различных человеческих типов в Европе, особенности формы тела в известных местностях, — например, в горах центральной Франции, в некоторых частях Тосканы, в провинции Зеландии в Голландии, в юго-западной Норвегии, — объяснились сохранением древних расовых типов, влиянием естественного отбора, или прямым влиянием окружающей среды, смотря по тому, представлялось ли в данном случае исследователю необходимым указывать ту или иную причину или комбинацию каких-либо двух или всех причин, как подходящее объяснение трудно объяснимого явления (Риплей)[40]. Само собой разумеется, что рискованное применение недоказанных, хотя и возможных теорий не может служить доказательством действия, оказываемого отбором или окружающею средою на изменение типов. Действие отбора может быть доказано лишь исследованием тех из обнимаемых типом членов, которые остаются в живых, по сравнению с членами, устраняемыми смертью, или изменчивости населения, находящейся в связи с отбором известного типа. Влияние окружающей среды требует прямого сравнения родителей, живущих в одной окружающей среде, с детьми, живущими в другой окружающей среде.
Я не могу указать ни одного случая, в котором было бы бесспорно доказано влияние отбора. Кажется вероятным, что действие этого фактора могло проявиться в колониях преступников в прежние периоды, в заселении запада Америки энергичнейшими членами нашего восточного населения и в дополнительной чистке сильных элементов в некоторых частях новой Англии, но у нас нет фактических данных для установления связи несомненно происходившего отбора с физическими типами.
С другой стороны, мне удалось доказать существование прямого влияния окружающей среды на телесную форму человека путем сравнения иммигрантов, родившихся в Европе, и их потомков, родившихся в городе Нью-Йорке (Боас)[41]. Я исследовал четыре группы населения: южных итальянцев, представляющих средиземно-морский европейский тип, характеризующийся низким ростом, длинной головой, смуглостью кожи и темными волосами; центрально-европейский тип, характеризующийся средним ростом, короткой головой, светлыми волосами и светлой окраской кожи; северо-западный европейский тип, характеризующийся высоким ростом, длинной головой, светлой окраской кожи, белокурыми волосами. Далее, я исследовал длинный ряд восточно-европейских евреев, сходных в некоторых отношениях с центрально-европейской группой. Для исследования я выбрал следующие черты: изменение головы, рост, вес и цвет волос. Из этих черт лишь рост и вес находятся в тесной связи с быстротой роста, между тем как измерения головы и цвет волос лишь в слабой степени подвержены этим влияниям. Различия в цвете волос и в развитии головы не принадлежат к вышеупомянутой группе, в которой определяемые измерением окончательные величины зависят от физиологических условий в течение периода роста. Судя по всему тому, что мы знаем о них, они зависят, главным образом, от наследственности.
В результате нашего исследования, мы пришли к неожиданному выводу: родившиеся в Америке потомки представителей этих типов отличаются от своих родителей, при чей эти различия развиваются в раннем детстве и сохраняются в течение всей жизни. Далее замечательно, что каждый тип изменяется на особый лад. У родившегося в Америке сицилийца голова становится круглее, чем у родившегося не в Америке. Это обусловливается уменьшением длины и увеличением ширины. Лицо становится уже, рост и вес уменьшаются. Голова родившегося в Америке центрального европейца становится менее длинной и менее широкой, при чем уменьшение ширины превышает уменьшение длины, и таким образом получается удлинение головы. Ширина лица весьма значительно уменьшается; рост и вес увеличиваются. Изменения родившихся в Америке потомков шотландского типа не выражены, за исключением увеличения роста и веса. У родившегося в Америке еврея голова уже, чем у родившихся в Европе; поэтому получается значительное удлинение головы. Его лицо уже; рост и вес увеличились. Ни у одного из этих типов не было найдено выраженных различий в цвете волос между лицами, родившимися в Америке и родившимися в других странах.
Чтобы понять причины, вызывающие эти изменения типа, необходимо знать, как велика продолжительность времени, которое должно пройти от переселения родителей до тех пор, пока наступает заметное изменение типа потомства. Это исследование было произведено главным образом для головного индекса, подвергающегося в течение периода роста индивидуума лишь небольшим изменениям. Исследование евреев очень ясно показывает, что головной индекс у лиц, родившихся в других странах, практически один и тот же, при чем возраст индивидуума во время переселения безразличен. Этого можно было бы ожидать в тех случаях, когда иммигранты — люди взрослые или почти достигшие зрелости; но интересно отметить, что даже у детей, приезжающих в Америку, когда им год или небольшое количество лет от роду, оказывается головной индекс, характерный для лиц, родившихся в других странах. Этот индекс равняется, в среднем, 83. Сравнивая величину итого индекса с величиной индекса у лиц, родившихся и Америке, соответственно времени, прошедшему с их переселения, мы находим резкое изменение. Величина головного индекса понижается до 82 для лиц, родившихся непосредственно после переселения их родителей, и падает до 79 во втором поколении, т.-е. у детей, родившихся в Америке детей иммигрантов. Иными словами, действие американской окружающей среды сказывается непосредственно и медленно возрастает по мере возрастания времени, прошедшего между переселением родителей и рождением ребенка.
Условия, наблюдаемые у сицилийцев и у неаполитанцев, совершенно сходны с условиями, наблюдаемыми у евреев. Головной индекс лиц, родившихся в других странах, сплошь остается на почти одном и том же уровне. У лиц, родившихся в Америке непосредственно вслед за прибытием их родителей, обнаруживается увеличение головного индекса. В этом случае переход, хотя и быстр, но не настолько резок, как у евреев, вероятно потому, что место рождения лиц, родившихся за год до переселения или через год после него, не вполне достоверно. Эта. недостоверность обусловливается привычкой итальянцев переезжать из Италии в Америку и обратно, прежде чем окончательно поселиться в Америке, и неопределенностью их ответов на вопрос о месте рождения ребенка, о котором иногда приходилось умозаключать на основании возраста ребенка и года переселения его матери. Пока существует эта недостоверность, вряд ли существующая в данных, относящихся к евреям, не представляется необходимым предполагать какую-либо иную причину для объяснения большей постепенности изменений головного индекса во время, близкое к переселению.
Переселение итальянцев относится к столь недавнему времени, что лица, родившиеся через много лет после прибытия их родителей в Америку, весьма немногочисленны, лиц же второго поколения вовсе не оказывалось. Поэтому, вряд ли возможно решить, продолжает ли индекс возрастать вместе с продолжительностью времени, прошедшего между переселением родителей и рождением ребенка.
Эти замечательные явления нелегко объяснить. Каковы бы ни были их причины, изменение в форме не подлежит сомнению. Можно было бы, однако, высказать предположение, что эти изменения вызываются не глубокими физиологическими причинами, а изменением известных внешних факторов. Состав переселяющегося населения может быть таков, что лица, прибывшие в Америку в разные периоды, обладали различными характерными физическими признаками, и что эти последние ныне отражаются в потомках старых поколений при сравнении их с лицами, переселившимися сравнительно недавно. Однако, можно показать, что различия между евреями, иммигрировавшими в разные периоды между 1860 и 1909 гг., настолько незначительны, что ими не может быть объяснен тип потомков иммигрантов. Этот важный пункт может быть точнее выяснен путем применения иного метода. С этой целью я сравнивал головной индекс всех иммигрантов известного года с головным индексом их потомков. Из этих сравнений вытекает, что различия, обнаруживающиеся во всем ряде, существуют также между иммигрантами, прибывшими в Америку в известном году, и их потомками. Следовательно, это чисто статистическое объяснение явления может быть отвергнуто.
Более значительные трудности для исследования представляет гипотеза, согласно которой механические воздействия, которым подвергаются дети, могут иметь решающее влияние на форму головы, и изменения в способах качания в колыбели и укладки в постель, производимые некоторыми иммигрантами почти непосредственно вслед за их прибытием в Америку, объясняют изменения формы головы. Если бы это было верно, то непрерывные изменения у евреев свидетельствовали бы только о том, что американский метод качания в колыбели применяется тем чаще, чем дольше данное семейство прожило в Америке. Некоторые исследователи утверждали, что положение, при котором ребенок лежит на спине, способствует возникновению короткоголовости, а положение, при котором он лежит на боку, способствует возникновению длинноголовости (Вальхер)[42]. Существуют веские доказательства того, что затылок сплющивается при употреблении очень жесткой подушки и в тех случаях, когда дитя постоянно лежит на спине. Так бывает, например, у многих индейских племен, и подобные результаты могли бы получаться, если: бы спеленутому ребенку приходилось постоянно лежать на спине. Распространенность рахитизма в Нью-Йорке свидетельствует об искривлении, вызываемом давлением.
Не будучи в состоянии опровергнуть существования таких влияний, я полагаю, что против допущения их имеются веские соображения. Если мы предположим, что у еврейских детей, родившихся в других странах, головы менее длинны, чем у родившихся в Америке, вследствие того, что они бывают спеленуты и чаще лежат все время на спине, чем дети, родившиеся в Америке, могущие свободно передвигаться, то мы должны сделать тот вывод, что у родившихся в Америке детей происходит известное уменьшение других диаметров головы, могущее служить возмещением за это уменьшение длины. Так как это возмещение распределено по всем направлениям, то его размеры в каком-либо одном направлении окажутся весьма малыми (Боас)[43].
Наблюдавшееся уменьшение ширины головы настолько значительно, что его нельзя рассматривать просто как следствие возмещения; но нам приходится допустить еще и добавочную гипотезу, согласно которой дети, родившиеся в Америке, так долго лежат на боку, что у них сужение головы производится механическим давлением. Те же самые соображения применимы и ко всем другим типам. Итак, если в одном случае более свободное положение ребенка увеличивает длину его головы, то трудно объяснить, почему у богемцев те же самые причины уменьшают оба горизонтальные диаметра головы, и почему у сицилийцев длина уменьшается, а ширина увеличивается.
По моему мнению, изменение ширины лица всего яснее показывает, что вовсе не механические воздействия, которым подвергается ребенок, вызывают те изменения, о которых идет речь. Головной индекс весьма незначительно уменьшается со второго года до достижения зрелости. Итак, очевидно, что дети, приезжающие в Америку вскоре после рождения, не могут в значительной степени подвергаться влиянию американской окружающей среды по отношению к их головному индексу. С другой стороны, если мы станем рассматривать измерение, заметно возрастающее в течение периода роста, то мы можем ожидать, что у детей, родившихся в других странах, но рано привезенных в Америку, рост в целом может измениться под влиянием американской окружающей среды. Наилучший материал для этого исследования представляют богемцы, среди которых имеется сравнительно много взрослых индивидуумов, родившихся в Америке. Если расположить цифры, показывающие ширину лица у богемцев в порядке, соответствующем их возрасту во время переселения, то обнаруживается их уменьшение у тех, которые прибыли в Америку в раннем детстве, при чем это уменьшение тем значительнее, чем моложе они были. Продолжая это сравнение с лицами, родившимися в Америке через год, два года или более после прибытия их матерей в Америку, можно констатировать, что ширина лица продолжает уменьшаться. Итак, обнаруживается, что американская окружающая среда обусловливает замедление возрастания ширины лица в период, когда уже невозможны механические влияния.
Я не производил аналогичного исследования роста, так как в данном случае его увеличение можно было бы приписать просто улучшению питания большинства иммигрантов из северной и центральной Европы после их переселения в Америку.
Существует другая гипотеза, с помощью которой можно было бы объяснить наблюдаемые изменения типа. Если предположить, что среди родившихся в Америке потомков иммигрантов немало таких, которые в действительности оказываются детьми американцев, а не их мнимых отцов, то происходила бы общая ассимиляция американским типом. В социальном отношении это отнюдь не представляется правдоподобным; но ввиду важности занимающего нас явления, его следует рассмотреть. Я не думаю, что какие-либо из производившихся наблюдений свидетельствуют в пользу этой теории. Изменения, встречающиеся у богемцев, приезжающих в Америку в раннем детстве, то обстоятельство, что у различных типов изменения происходят в различных направлениях, в особенности укорочение голов у богемцев и у итальянцев, — не свидетельствуют в пользу этого предположении. Далее, если бы изменения вызывались смешением рас, то между отцами и детьми, родившимися в Америке, должно было бы оказываться меньше сходства, чем между отцами и детьми, родившимися в других странах, но нет никаких указаний на то, что так бывает в самом деле.
Сравнения отцов и матерей с их детьми, родившимися в других странах, также доказывают, что эта гипотеза не выдерживает критики. Эти сравнения показывают, что различия одинаковы как у отцов и детей, так и у матерей и детей, так что, очевидно, соотношения между отцами и их детьми и между матерями и их детьми вызываются одними и теми же условиями.
Серьезные сторонники теории отбора могли бы утверждать, что все эти изменения обусловливаются результатами изменений в проценте смертности для лиц, родившихся в других странах и в Америке; что или за границей или в Америке для лиц известных типов существует большая вероятность умереть, и что таким образом, эти изменения вызываются постепенно. В общем, те, кто утверждает существование такого, по моему мнению, весьма неправдоподобного соответствия между головным индексом, шириною лица и т. д. и процентом смертности, которое может быть предполагаемо лишь для того, чтобы отстаивать теорию отбора, а не на основании каких-либо действительных фактов, должны были бы доказать свое утверждение. Я признаю желательным разрешение этого вопроса фактическими наблюдениями; но пока не будут произведены таковые, мы можем поставить на вид, что самая быстрота изменений после переселения и отсутствие изменений, которые вызывались бы отбором, благодаря смертности у взрослых иноземцев, потребовали бы столь сложного сличения причины и действия для установления соответствия между смертностью и телесной формой, что теория стала бы невероятной вследствие ее сложности
Утверждать, что все различные европейские типы становятся одинаковыми в Америке без смешения, исключительно благодаря действию новой окружающей среды, значило бы идти слишком далеко. Во-первых, я исследовал лишь действия одной окружающей среды, но все заставляет полагать, что в Америке развивается несколько различных типов; но мы оставим это в стороне и разберем лишь наши нью-йоркские наблюдения. Хотя длинноголовый сицилиец становится в Нью-Йорке более круглоголовым, а круглоголовые богемец и еврей — более длинноголовыми, однако, нельзя установить приближение к однообразному общему типу, ибо мы еще не знаем, как долго будут продолжаться изменения, и приведут ли все они к одинаковому результату. Признаюсь, я не считаю такого результата вероятным, ибо доказательство пластичности типов не подразумевает, что эта пластичность беспредельна. История британских типов в Америке, голландцев –– В Ост-Индии, испанцев –– в Южной Америке, свидетельствует в пользу предположения строго ограниченной пластичности. Конечно, наше исследование должно основываться на этом, более консервативном фундаменте, пока нельзя доказать существование неожиданно многообъемлющей изменчивости типов. Одна из важнейших проблем, выдвигаемых этим исследованием, заключается в том, чтобы определить, как далеко может простираться неустойчивость или пластичность типов.
Как бы ни были значительны эти телесные изменения, если мы признаем правильность наших выводов относительно пластичности человеческих типов, это необходимо влечет за собою и признание значительной пластичности склада ума человеческих типов. Мы наблюдали, что в телесных чертах, почти получивших свой окончательный вид ко времени рождения, в новой окружающей среде обнаруживаются весьма важные видоизменения. Мы видели, что другие черты, развивающиеся в течение всего периода роста и, следовательно, подверженные непрерывному действию новой окружающей среды, видоизменяются даже у индивидуумов, прибывших в Америку в детстве. Из этих фактов мы должны заключить, что основные черты ума, которые находятся в тесной связи с физическими свойствами тела, и развитие которых продолжается в течение многих лет после прекращения физического роста, тем более подвержены далеко простирающимся изменениям. Правда, это — умозаключение по аналогии, но если нам удалось доказать изменения в форме тела, то те, которые, несмотря на эти изменения, продолжают утверждать абсолютное постоянство других форм и функций тела, обязаны доказать это.
Для правильного понимания важности изменений в форме человеческого тела желательно рассмотреть тип нынешнего человека с несколько иной точки зрения.
Прошло уже немало лет с тех пор, как Фритч[44] указал в своих исследованиях по антропологии Южной Африки, что существует особое различие в форме тела бушменов и готтентотов по сравнению с формой тела европейцев, а именно у первых оказываются более тонкие формы костей, но кость очень плотна по своему строению; между тем как у европейцев скелет представляется более тяжелым, но более сетчатым по своему строению. Подобные же различия можно наблюдать и при сравнении между скелетами диких и прирученных животных, при чем из этого наблюдения был сделан вывод, что по своему физическому телосложению бушмены до известной степени сходны с дикими животными, между тем как европейцы походят по своему строению на прирученных животных.
Эта точка зрения, с которой человеческую расу в ее цивилизованных формах следует сравнивать не с формами диких животных, а скорее с формами прирученных животных, представляется мне весьма важною. Более подробное изучение условий, в которых живут различные расы, наводит на мысль, что в настоящее время даже наиболее первобытные человеческие типы почти повсеместно подверглись изменениям, зависящим от привычки к домашней жизни.
Следует ясно различать разные типы изменений, вызываемых приручением. С одной стороны, тела приручаемых животных подвергаются значительным изменениям, обусловливаемым изменениями в питании и в телесных функциях. С другой стороны, отбор и скрещивание играли важную роль в развитии рас прирученных животных.
Некоторые изменения первого рода обусловливаются регулярным и более обильным питанием, другие изменения вызываются видоизменениями родов пищи, употребляемой домашними животными по сравнению с дикими животными того же вида; дальнейшие изменения вызываются различными способами функционирования мускульной и нервной системы. Эти изменения не вполне одинаковы у плотоядных и у травоядных животных. Например, собаками кошка в прирученном состоянии питаются довольно регулярно, но даваемая им пища имеет совершенно иной характер, чем та, которую едят дикие собака и кошка. У тех людей, пища которых состоит почти исключительно из мяса, собак обыкновенно кормят вареным мясом, или точнее вареными, сравнительно менее питательными частями животных; между тем у других племен, пользующихся в значительной степени растительной пищей, собак часто кормят маисовой кашей и другими растительными веществами. То же самое можно сказать о наших кошках, которых кормят вовсе не исключительно мясной пищей. Диким плотоядным животным приходится делать для добывания пищи несравненно большие усилия, чем прирученным плотоядным животным. Очевидно, что вследствие этого мускульная и нервная системы животных могут подвергаться значительным изменениям.
Мускульные усилия травоядных животных, поскольку они кормятся на пастбищах, не столь существенно изменяются. Привычки пасущегося ручного рогатого скота и овец приблизительно таковы же, как и привычки пасущихся диких животных того же класса, но быстрые движения и бдительность, нужные для предохранения стада от плотоядных животных, совершенно исчезли. Те животные, которых кормят в хлевах, живут в чрезвычайно искусственных условиях, и у них могут происходить существенные изменения.
По моему мнению, изменения, обусловливаемые этими причинами, можно наблюдать на древнейших типах прирученных животных, находимых в неолитических деревнях Европы, в которых туземные европейские виды являются в прирученном состоянии (Келлер)[45]. Их, можно также наблюдать на разных континентах у собак, представляющих замечательные отличия от дикого вида, от которого они произошли. Даже эскимосская собака, являющаяся потомком серого волка и все еще скрещивающаяся с серым волком, отличается телесной формой от этого дикого животного (Бекман)[46]. Можно наблюдать видоизменения и у недавнего прирученных животных, например, у чукотского северного оленя, отличающегося по типу от дикого северного оленя, живущего в той же местности (Богораз)[47]. Судя по нашим сведениям о методах приручения у таких племен, как эскимосы и чукчи, я считаю весьма неправдоподобным, чтобы отбор сколько-нибудь существенно способствовал возникновению видоизменений формы, встречающихся у этих рас первобытных прирученных животных Их однообразие все еще довольно хорошо выражено, хотя у них образовались типы, отличающиеся от дикого вида.
По-видимому, более определенно выраженной дифференциации прирученных форм не происходит, пока человек не начинает, более или менее сознательно, отбирать и изолировать особые породы. Для такого изолирования представлялось тем больше благоприятных случаев, чем раньше был приручен какой-либо особый вид. Поэтому мы находим, что число различных пород оказалось наибольшим у тех животных, которые всего дольше находятся в прирученном состоянии.
Количество разновидностей прирученных видов также было увеличено неумышленным или умышленным скрещиванием различных видов, от которых происходят многие породы, предков которых часто трудно выяснить.
Итак, по-видимому, существуют три различных причины, вызывающие у прирученных животных развитие разных типов: во-первых, влияние перемены питания и образа жизни; во-вторых, сознательный отбор; в-третьих, скрещивание.
Первая и третья из этих причин оказывали сильнейшее влияние на развитие человеческих рас. Условия жизни человеческих племен повсюду таковы, что лишь у очень немногих из них способ питания сходен со способом питания диких животных, а рассмотрение стадий человеческой культуры показывает, что подобные условия преобладали в течение долгого периода. Но моему мнению, можно с уверенностью утверждать, что но всех тех случаях, когда человек занимается земледелием, когда он является собственником стад прирученных животных, употребляемых в пищу, снабжение пищей стало регулярным, и оно достигается использованием мускульной системы в весьма специализированных направлениях. Например, у негров центральной Африки, сады которых расположены вблизи их деревень, обработка садов составляет, главным образом, занятие женщин, между тем как мужчины занимаются разными специализированными видами промышленности. Эти племена не прибегают к таким телодвижениям, при посредстве которых дикие животные защищаются от врагов. Способы ведения войны таковы, что одна мускульная сила не имеет в военном деле решающего значения, но превосходство оружия и стратегия имеют такое же значение, как простая сила и проворство. Условия, в которых живут американские индейцы-земледельцы в долине Миссисипи и в лесах южной Америки имеют сходный характер с вышеупомянутыми.
В качестве образчика пастушеского народа, питание которого очень регулярно, мы можем упомянуть племена, разводящие северных оленей в Сибири или рогатый скот в Африке.
Мы знаем, конечно, что у всех этих племен наступают периоды голода, обусловливаемые неурожаем или эпидемиями, поражающими стада, но нормальное положение дел характеризуется довольно регулярным и обильным снабжением пищей.
Условия, в которых живут племена, занимающиеся рыбной ловлей, не особенно отличаются от вышеупомянутых, и мы находим, что благодаря методам, позволяющим накоплять запасы, и благодаря избытку снабжения пищей в продолжение одного сезона, при котором пищи хватает на остающуюся часть года, питание этих людей также довольно регулярно. Следовательно, и в этом случае мускульные усилия, требуемые для добывания пищи, специализированы, и они отличаются от мускульных усилий, требующихся для простого преследования дичи.
Единственными современными племенами, среди которых цивилизация оказывает незначительное действие на виды телесной деятельности, являются те, которые, как южно-африканские бушмены, австралийцы, эскимосы арктической Америки, цейлонские ведды, добывают себе средства к существованию ежедневной погоней за животными или собиранием растений или небольших беспозвоночных, рассеянных на обширном пространстве.
В связи с этими условиями находится также характерный выбор пищевых веществ разными племенами, как-то исключительно мясная пища некоторых племен (быть может, наиболее выраженная у эскимосов) и исключительно растительная пища других племен, очень распространенная, например, в южной Азии. По всей вероятности как тот, так и другой род пищи оказывает значительное влияние на телесную форму этих рас.
Вторая группа причин, оказывающая сильнейшее влияние на развитие различных рас прирученных животных, а именно сознательный отбор, вероятно, никогда не играла весьма значительной роли у человеческих рас. Мы не знаем ни одного случаи, подтверждающего, что браки между лицами определенных типов одинакового происхождения были воспрещены. По-видимому, тот отбор, который мог совершаться при развитии первобытного общества, скорее принадлежал к типу естественного отбора, благоприятствующего сочетанию подобных, или это был такой сложный отбор, как тот, который обусловливался социальными законами относительно браков, не допускавшими браков между лицами, находящимися в известных степенях родства друг с другом, а часто и между членами различных поколений. Так, благодаря весьма обыкновенной форме ограничения брака, у известных племен дети брата и сестры вступают в брак друг с другом, между тем как ни детям братьев, ни детям сестер не дозволено вступать в брак между собой. Подобные ограничения встречаются в большом количестве, и они, может быть, произвели известное действие, свойственное отбору, хотя вряд ли можно предположить, что они вызвали очень заметные результаты в смысле изменения форм человеческого тела (Пирсон)[48].
В некоторых случаях косвенным последствием социальных законов было увековечение различий между, отдельными частями населения или, по крайней мере, замедление их полного смешения. В этом случае законы эндогамии относятся к группам различного происхождения, и его можно наблюдать, например, у каст в Бенгалии, где низшим кастам свойственен характерный южно-индийский тип, между тем как высшие касты сохраняют тип племен северо-западной Индии (Рислей и Гет)[49]. Однако существование многочисленных промежуточных каст доказывает, что даже и там, где законы относительно эндогамии столь строги, как в Индии, они не могут предотвратить смешения крови. На вопрос, повлекла ли за собой в крайних случаях эндогамия у небольших групп, как у древних египтян, развитие резко выраженных типов, нельзя дать ответа; но известно, что ни один из этих типов, когда они встречаются среди многочисленного населения, не сохранился.
Что же касается третьего элемента приручения, то он, вероятно, имел очень важное значение в развитии человеческих рас. Скрещивания между различными типами до такой степени обыкновенны в истории первобытного населения и до такой степени редки в истории диких животных, что в этом случае аналогия между прирученными животными и человеком становится весьма явственной. Случаи гибридных форм в природе почти повсюду редки; между тем, как мною указано выше, прирученные животные подвергались бесчисленным скрещиваниям. Скрещивания между в высшей степени различными человеческими типами также происходят очень часто. Как пример, я могу упомянуть браки между хамитскими племенами Сахары и негритянскими племенами Судана (Нахтигаль)[50]; смешение между негритосами и малайцами, столь частое на малайском полуострове (Мартин)[51], и, вероятно, в значительной степени обусловившее характерное распределение типов во всем Малайском архипелаге; смешение, происходившее на островах Фиджи; смешение айносов и японцев в северной части Японии; европейцев и монголов в восточной Европе; не говоря уже о сравнительно недавних смешениях европейцев с другими расами, обыкновенно происходивших при расселении европейской расы по всему миру.
Эта точка зрения, а именно взгляд на человека, как на прирученное существо (за единственным, быть может, исключением немногих охотничьих племен), имеет большое значение и для ясного понимания проявлений его умственной деятельности. Поведение первобытных прирученных животных, например, эскимосской собаки или чукотского северного оленя, резко отличается от поведения диких животных. Пожалуй, можно оказать, что, в общем, умственный кругозор прирученных форм, по-видимому, шире, при чем эта широта кругозора возрастает по мере того, как приручение подвигается вперед. Случаи, в которых проявления умственной деятельности прирученных животных несовершеннее, чем у диких животных, встречаются, но они не столь часты, как противоположные случаи. Примером этого рода могут служить овцы.
Таким образом, мы приходим к тому заключению, что окружающая среда оказывает важное влияние на анатомическое строение и на физиологические функции человека, и что, вследствие этого, нужно ожидать различий в типе и в действиях между первобытными и цивилизованными группами одной и той же расы. Представляется вероятным, что одну из главнейших причин этих видоизменений следует усматривать в том, что при развитии цивилизации человек все более и более привыкает к домашней жизни.
III ВЛИЯНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ТИПЫ.
Теперь мы можем перейти к рассмотрению другого элемента, определяющего физический тип человека. Хотя мы уже видели, что окружающая среда, в особенности привычка к домашней жизни, имеет далеко простирающееся влияние на телесную форму человеческих рас, эти влияния играют совершенно второстепенную роль по сравнению с далеко простирающимися влияниями наследственности. Если даже допустить наибольшую степень влияния окружающей среды, все же легко убедиться в том, что все существенные черты человека обусловливаются, главным образом, наследственностью. Потомки негров всегда будут неграми, потомки белых — белыми; мы можем даже пойти значительно дальше и признать, что существенные детальные характерные черты типа всегда будут воспроизводиться в потомках, хотя они могут в значительной степени видоизменяться под влиянием окружающей среды. Я склонен полагать, что влияние окружающей среды имеет такой характер, что, хотя у одной и той же расы может вырабатываться иной тип при переходе из одной окружающей среды в другую, однако, она вернется к старому типу, если будет вновь перенесена в старую окружающую среду. Это не было доказано фактическими антропологическими данными, но представляется рациональным сделать это предположение по аналогии с тем, что мы знаем о том, что происходит в таких случаях с животными и растениями. Конечно, было бы чрезвычайно желательно выяснить этот вопрос соответственными исследованиями.
Для более ясного понимания расовой проблемы представляется необходимым определеннее охарактеризовать наследственность. В спорах антропологов нового времени относительно способа унаследования родительских черт детьми отстаивались две теории. Френсис Гальтон и его сторонники[52] допускали, что форма тела индивидуума определяется тем расовым типом, к которому принадлежат родители, при чем, однако, он видоизменяется тенденцией возвращаться к типу промежуточному между специальными вариациями, представляемыми родителями. Например, если отец какого-либо индивидуума чрезвычайно высок, а мать несколько выше среднего роста, то предполагается, что у детей будет обнаруживаться тенденция к росту, несколько приближающемуся к общему типу, но в то же время зависящему от промежуточной величины, лежащей между ростом матери и ростом отца. С другой стороны, развитие учение Менделя о наследственности (Локк, Бетсон)[53] побудило других исследователей предположить, что дети лиц двух различных типов могут представлять собой смешанный тип, но что их потомки обнаружат тенденцию возвращаться или к одному или к другому из родительских типов, или что влияние одного из родительских типов может преобладать над влиянием другого родительского типа. Исследований, относящихся к этой проблеме, не очень много; но полученные до сих пор результаты, по-видимому, в общем, свидетельствуют скорее в пользу видоизмененной формы наследственности в смысле Менделя, чем в пользу наследственности, характеризующейся возвращением детей к среднему типу между родителями, или к типу, зависящему от такого среднего типа.
Несколько лет тому назад мне представился случай исследовать значительное число индейцев смешанного происхождения, т.-е. родившихся от индейских матерей и белых отцов[54]. Наиболее характерным различием между американскою индейскою и европейскою расами, поскольку эти различия могут быть выражены количественно, оказывается ширина лица. Обширный ряд измерений ширины лица, произведенных у лиц смешанного происхождения, убедительно доказал, что ширина лица не имеет тенденций группироваться вокруг известной промежуточной величины, лежащей между шириной лица у белой расы и шириной лица у индейской расы, но что у детей оказывалась выраженная тенденция походить или на индейскую или на белую расу. Иными словами, та черта наследственности в смысле Менделя, которая вызывает появление смешанных характерных признаков у первого гибридного поколения, не наблюдалась, а вместо этого наблюдалась ясно выраженная тенденция возвращаться к тому или иному типу и сравнительная редкость промежуточных форм. По-видимому, эти результаты свидетельствуют еще и о том, что при этом смешении индейская форма преобладает над белой формой, но не в смысле Менделя, требующего наличности господствующих черт у известного определенного числа индивидуумов, а лишь в том смысле, что индейский тип встречался несколько чаще, чем европейский, вследствие чего средняя ширина лица всего ряда оказалась несколько ближе к индейской, чем к белой группе.
Одного этого исследования никоим образом недостаточно для полного определения черт наследственности, характерных для рассматриваемого явления; но оно решительно и бесспорно указывает на то, что, по крайней мере, в этом случае, мы имеем дело с явлением, названным Карлом Пирсоном «альтернативною наследственностью». Стоит отметить, что не во всех чертах тела индейцев смешанного происхождения обнаруживается одна и та же тенденция; так, например, относительно роста можно наблюдать общее увеличение роста лиц смешанного происхождения по сравнению с ростом чистых рас.
Феликс фон Лушан[55] обратил внимание на сходное явление, встречающееся у смешанного населения южной Малой Азии, где, по его мнению, им найдено альтернативное унаследование формы головы, в особенности в отношениях между шириной и длиной головы: у некоторых людей удерживаются короткие, высокие формы голов, свойственные сходному с армянским типу внутренней Малой Азии, между тем, как у других оказываются длинные низкие головы семитов Сирии.
Для ясного понимания законов наследственности представляется важным знать, встречается ли подобное альтернативное унаследование признаков при браках между лицами, принадлежащими к одному и тому же типу. Я имел возможность исследовать этот вопрос путем изучения восточно-европейских евреев, живущих в Нью-Йорке. Простое соображение показывает, что, если у детей обнаруживается тенденция принадлежать к типу промежуточному между типами родителей, то в одной семье в детях обнаружится одинаковая степень взаимного сходства, при чем безразлично, как велико различие между родителями. Ведь если дети просто имеют тенденцию воспроизводить средний тип, то безразлично, чрезмерно ли низкого роста мать, а отец чрезмерно высокого, или родители оба среднего роста. В обоих случаях промежуточная величина оказалась бы одною и тою же, а поэтому нам следовало бы ожидать, что действие на детей оказалось бы одним и тем же. С другой стороны, если существует какого-либо рода альтернативность в унаследовании признаков, то действие на семью оказывалось бы совершенно иным. Следовало бы ожидать, что в семье, в которой родители оба приближаются к типическому среднему, дети также окажутся близкими к этому среднему. С другой стороны, если мать чрезмерно низкого роста, а отец — чрезмерно высокого, то следовало бы ожидать, что некоторые из детей будут воспроизводить низкий рост матери, а другие — высокий рост отца. Окажется, следовательно, что в случае альтернативного унаследования признаков, мы должны ожидать у детей возрастания разнообразия. Сопоставление материала, добытого путем исследования нескольких тысяч семейств, весьма определенно показывает, что у детей, родители которых оба принадлежат к одному и тому же расовому и даже к одному и тому же местному типу, изменчивость возрастает весьма значительно с возрастанием разницы между родителями; так что мы можем допускать выраженную тенденцию к альтернативному унаследованию признаков в этих случаях. Нет, однако, никаких доказательств преобладания одного типа над другим.
Было произведено значительное количество исследований об интенсивности наследственности по отношению к родителям и к деду и к бабушке, и, несмотря на недостоверность количественного результата, по-видимому, можно установить, что для каждого из родителей наследственность выражается величиной, приблизительно равняющеюся одной трети (Пирсон, Боас)[56]. Довольно трудно отчетливо выяснить значение этой величины. Я могу, однако, вкратце пояснить его следующим образом. Если рост матери отличается от расовой нормы на 9 сант., — если, например, она на 9 сант. выше, чем средний индивидуум, — то мы можем ожидать, что ребенок окажется на одну треть девяти сант., Т.-е. на 3 сант. выше среднего. Таким образом, окажется, что, если родители оба отличаются от среднего в одном и том же направлении, то действие обоих будет суммироваться. Если оба они отличаются от свойственного их народу среднего на одну и ту же величину, то совокупное действие обоих родителей может быть выражено коэффициентом, приблизительно равняющимся двум третям. Если бы, например, и отец и мать оказались на 9 сант. выше среднего типа, то следовало бы ожидать, что ребенок окажется приблизительно на две трети среднего, т.-е. на 6 сант. выше среднего роста.
Хотя еще нет определенных сведений о степени наследственности по отношению к предшествующим поколениям, однако, представляется вероятным, что дед и бабушка вместе оказывают на потомство влияние, измеряющееся приблизительно двумя девятыми; прадед и прабабушка вместе — влияние, измеряющееся приблизительно двумя двадцатью седьмыми, и т. д.
Изучая эти проблемы согласно статистическим теориям и принимая в расчет наблюдения относительно сходства братьев и сестер, можно показать, что теория альтернативного унаследования признаков не может быть принимаема в слишком буквальном смысле. Ведь, если бы наблюдалось абсолютное возвращение какой-либо черты к чистым типам предков, то мы могли бы сказать, что вероятность того, что два брата воспроизвели бы телесную форму одного и того же предка, была бы весьма невелика, ибо количество предков в дальних поколениях очень велико. Иными словами, должна существовать еще добавочная причина сходства между братьями и сестрами. Можно показать, что в случае, если унаследованию признаков свойственна вышеуказанная сила, и если телесная форма известного поколения обусловливается только альтернативным унаследованием признаков, действие которого исходит от родителей, деда и бабушки, прадеда и прабабушки и т. д., и это действие направлено прямо на рассматриваемое поколение, при чем одни и те же индивидуумы не встречаются на разных местах в ряду предков, то в результате между братьями и сестрами оказывалось бы гораздо менее сходства, чем действительно наблюдается. Если количество всех предков невелико, то повторение одних и тех же форм стало бы более вероятным и однородность ряда возросла бы. В общем, данные, по-видимому, всего лучше объясняются, если мы предположим, что существует не только альтернативное унаследование признаков, но и прямая зависимость от комбинации двух родительских типов.
Считаю нужным повторить, что эти результаты получены не с абсолютной достоверностью, и что представляется невероятным, что законы наследственности одинаковы по отношению к разным чертам предков. Я не стану обсуждать вопроса о том, насколько эти черты следуют законам унаследования признаков в смысле Менделя. В настоящее время на этот вопрос нельзя дать определенного ответа (Дэвенпорт)[57].
Эти проблемы имеют фундаментальное значение для более ясного понимания условий, влияющих на форму местных человеческих типов.
В многочисленном населении, столь неустойчивом в своих привычках, как население нынешней Европы и нынешней Америки, количество предков одного лица возрастает очень быстро. Число родителей равняется двум; дедов и бабушек — четырем; прадедов и прабабушек — восьми; теоретическое число предков за двадцать поколений до нынешнего превышало бы миллион или, точнее, оно равняется 1.048.576. Двадцать поколений представляют, соответственно коэффициенту роста населения в новое время, приблизительно семьсот лет; соответственно коэффициенту роста населения в прежнее время, самое меньшее, приблизительно четыреста лет. Эти числа получились бы для ряда поколений, представленного первородными детьми мужского пола; для первородных детей женского пола соответствующие числа были бы приблизительно пятьсот и триста пятьдесят лет. Однако, если мы станем рассматривать действительное происхождение семейства, в состав которых входят и индивидуумы, родившиеся позднее, то мы можем, пожалуй, предположить, что двадцати поколениям в Европе соответствует от восьмисот до девятисот лет, а у первобытных народов, быть может, немногим менее, так как в прежние времена различия в быстроте смены последовательных поколений в Европе и у первобытных народов были не очень велики. Отсюда вытекает полная невозможность того, чтобы столь большое число предков, какое требуется теорией, могло способствовать развитию индивидуумов, составляющих нынешнее поколение. Причина этого ясна. Благодаря бракам между членами одних и тех же семейств, значительные количества предков окажутся фигурирующими в двух экземплярах в различных отцовских и материнских линиях. Итак, ряд фактических предков каждого индивидуума представляется гораздо более сложным, чем можно было бы предполагать, исходя из чисто арифметического рассмотрения вопроса. Поучительно, например, вычисление, произведенное для составления таблицы предков германского императора. По О. Лоренцу[58], количество его предков в последовательных поколениях было таково:
Поколение / Техническое число. / Фактическое число.
I / 2 / 2
II / 4 / 4
III / 8 / 8
IV / 16 / 14
V / 32 / 24
VI / 64 / 44
VII / 128 / 74
VIII / 256 / 116[59]
IX / 512 / 17759
X / 1024 / 25659
XI / 2048 / 34259
XII / 4096 / 53359
Для ряда, обнимающего собой сорок королевских фамилий, получены следующие средние:
Поколение / Среднее число
I / 2,00
II / 4,00
III / 7,75
IV / 13,88
V / 23,70
VI / 40,53
При сравнении этих условий в густо населенных частях современной Европы и Америки, с их колеблющимся населением, с условиями, наблюдаемыми у первобытных племен, сразу выясняется, что число всех предков каждого типа в небольших общинах должно быть гораздо меньше, чем число предков в вышеупомянутых современных государствах. Характерный пример представляют эскимосы, живущие на берегах Смитового пролива в северной Гренландии. Судя по всему тому, что мы знаем о них, представляется чрезвычайно невероятным, чтобы в прошлом численность этой общины могла когда-либо превышать несколько сот человек. На основании наших сведений об истории эскимосских общин, мы могли бы скорее предполагать, что первоначально она состояла лишь из немногих семейств. Эта община бывала отрезана от внешнего мира в течение очень долгих периодов. Возможны были случаи присоединения новых лиц извне, пожалуй, один раз в каждое столетие, но в общем эта община оставалась совершенно изолированной. Очевидно, следовательно, что количество предков этой группы никоим образом не может равняться такому числу, как требуемый теорией миллион, но все индивидуумы должны оказаться находящимися в родстве друг с другом, благодаря свои дальним предкам.
Если принять в расчет законы наследственности в том виде, как они формулированы выше, то, по-видимому, в общине такого типа, насчитывающей немного более двухсот индивидуумов, предок каждого индивидуума, начиная с восьмого поколения, должен оказаться одним и тем же, потому что для восьмого поколения теоретически требовалось бы двести пятьдесят шесть индивидуумов, т.-е. больше, чем в самом деле оказывается в общине, и существование таких индивидуумов, у которых не было бы довольно большого числа близких и дальних предков, общих для них и для всех остальных членов общины, чрезвычайно невероятно, если не невозможно.
Отсюда непосредственно вытекает, что в целом ряде изменчивость, обнаруживающаяся в колебаниях около типического для этого среднего ряда, должна быть скорее невелика, так как у всех членов группы окажется известная степень фамильного сходства. Это однообразие типов будет, конечно, тем больше, чем однообразнее группа предков.
С другой стороны, этими условиями объясняется и другая характерная черта изолированной группы. Благодаря постоянному воспроизведению типов одних и тех же предков в целой группе, тип целого народа становится весьма сходным с характерными чертами небольшой группы предков; и чем малочисленнее эти группы, тем вероятнее, что тип местной группы окажется совершенно отличающимся от типа всего народа, к которому принадлежит эта местная группа.
Мне кажется, что эти условия в значительной степени объясняют существование различных местных типов у первобытных рас. Если мы находим, например, что в Северной Америке резко выраженный тип свойственен арктическому побережью континента, что совершенно отличающийся от него тип встречается в бассейне Мекензи, а иные типы — в определенных местностях на берегах Тихого Океана, опять-таки иные типы в бассейне Миссисипи, особый тип на юго-востоке, особый тип на берегах Рио-Гранде и в Мексике, то представляется правдоподобным, что можно объяснить их происхождение возрастанием небольших изолированных групп, которое, как мы видели, непременно должно влечь за собою дифференциацию типа.
Этот взгляд на происхождение местных рас вполне согласуется с замечательными результатами, полученными Иоганнсеном в его исследованиях о наследственности[60]. Он искусственно воспроизводил условия, господствующие в небольшой общине, и усиливал их действие, выбирая типы одинаковой формы и размножая их путем самооплодотворения. Он выращивал таким способом бобовые растения из бобов одинакового веса, и ему удавалось ограничивать вариации типа, так что практически любой род бобов определенного веса и определенной формы мог быть разводим с сохранением типа своего предка и без сохранения случайных вариаций предков. В тех случаях, когда группа предков восходит к ограниченному числу индивидуумов, как у наших изолированных племен, вариация не будет, конечно, до такой степени ограниченной; но характерное развитие устойчивого типа вполне аналогично опыту, произведенному Иоганнсеном.
Здесь можно еще указать и на другое явление, пока мало исследованное, но весьма заслуживающее внимания. Мы видели, что в устойчивых общинах в редко населенных странах родство между членами племен оказывается весьма близким, и что это родство непременно повлияет на тип и на его изменчивость. С течением времени между двумя районами, население которых развивалось таким образом, могут установиться сношения, и возможно множество браков между их обитателями. Само собой разумеется, что, хотя между двумя типами, по-видимому, существуют лишь небольшие различия, в результате получится полный беспорядок в формах наследственности, так как сочетается большое количество людей, предки которых различны. Например, южные итальянцы и испанцы являются представителями двух типов, не очень отличающихся друг от друга по физическим чертам, но разделенных в течение веков. Небольшие итальянские деревенские общины, подобно испанским, обладают всеми характерными признаками общин, в которых эндогамные браки продолжались в течение долгого периода. В Аргентинской республике между этими двумя типами установилось общение и их члены часто вступают в брак друг с другом. У нас нет наблюдений о действии этого смешения на характерные физические черты, но было отмечено, что распределение рождаемости мальчиков и девочек оказывается совершенно иным, чем в семьях, где родители оба или испанцы или итальянцы (Перль)[61]. Понятно также, что это может быть одним из элементов, вызывающих изменение типа городского населения по сравнению с деревенским в Европе, и, быть может, это играло роль при изменении типа, наблюдаемом у потомков европейских иммигрантов в Америке, ибо, хотя наблюдения производились над чистыми типами, в Америке браки между уроженцами различных деревень гораздо чаще, чем в Европе.
После того как мы рассмотрели влияние наследственности и окружающей среды, поскольку они определяют характерные черты различных человеческих типов, остается прибавить несколько слов относительно индивидуумов, составляющих каждый тип, и относительно различного распределения индивидуумов в различных типах.
Мне уже не раз приходилось упоминать об явлениях вариации у человеческих рас; и я уже отмечал, что, поскольку дело идет об индивидуальных чертах, мы находим, что размеры вариаций в каждом человеческом типе настолько велики, что постоянно встречается перекрывание рядов, в которых обнаруживаются вариации, в разных типах. Мы видели, например, что средней величины мозг европейцев очень часто встречается у негров, и что лишь для чрезмерно малого негритянского мозга не существует параллельных форм у европейцев, а соответственно этому и для чрезмерно большого мозга, встречающегося у европейцев, не существует параллельных форм среди мозгов негров. Степень изменчивости по отношению к различным физическим чертам весьма различна у разных рас. Например, большая часть европейских типов отличается своей значительной изменчивостью. То же самое можно сказать и относительно полинезийцев и некоторых негритянских племен. С другой стороны, такие народы, как европейские евреи, и даже в еще большей степени североамериканские индейцы, отличаются сравнительно гораздо большим однообразием. Степень изменчивости представляет значительные различия по отношению к различным физическим чертам. Очевидно, например, что цвет и форма волос у северных европейцев гораздо разнообразнее, чем цвет и форма волос у китайцев. В Европе цвета волос встречаются от белокурого до черного, при чем есть много лиц с рыжими волосами, и форма волос также очень разнообразна: от прямой до высоких степеней волнистости. С другой стороны, у китайцев не встречается таких же вариаций в темноте окраски, так как у них отсутствуют белокурые и индивидуумы с курчавыми волосами. Подобные же наблюдения могут быть произведены и относительно роста, формы головы и любой иной черты тела, которая может быть выражена при посредстве измерений.
Причина различий изменчивости отчасти указана в наших предшествующих замечаниях. Мы видели, что изменчивость народа уменьшается, если он произошел от малочисленной однообразной группы; с другой стороны, изменчивость может значительно увеличиться, если происхождение группы очень разнородно, или если предки принадлежат к совершенно различным типам. Во всех исследованных случаях, даже и в тех, в которых изменчивость невелика, между индивидуумами, составляющими племенную или национальную или иную социальную единицу, все же остаются значительные различия в телесных формах, при чем то, что верно относительно физических черт, очевидно, не менее применимо и к умственным чертам, но трудно выразить характерные черты ума числами, при посредстве которых определяется изменчивость. Однако, при ознакомлении с племенами, быт которых, очевидно, наиболее прост в социальном отношении, обнаруживается существование известных индивидуумов, принадлежащих к разнообразнейшим типам по своему характеру и уму. Если же мы станем рассматривать умственное состояние в зависимости от телесной формы, то большое разнообразие строения тела, в особенности мозга, обнаруживающееся даже и в наиболее однообразной группе, делает вероятными весьма значительные различия в индивидуальных свойствах.
Сказанное выше относительно перекрывания вариаций у различных рас и типов и значительной изменчивости в каждом типе можно также выразить, сказав, что различия между разными человеческими типами, в общем, не велики по сравнению со степенью изменчивости в каждом типе.
Важность этих наблюдений в сфере умственного развития составит предмет нашего дальнейшего рассмотрения.
IV УМСТВЕННЫЕ ЧЕРТЫ ПЕРВОБЫТНОГО И ЦИВИЛИЗОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА.
В предшествующих главах мы рассмотрели биологические условия различных рас и разных социальных групп, поскольку эти условия образуют основу умственной деятельности. Мы должны теперь обратить внимание на психологические характерные черты человечества при изменении расовых свойств и условий, зависящих от окружающей среды.
Если мы станем рассматривать нашу проблему с чисто психологической точки зрения, то нам предстоит придерживаться тех же приемов, которых мы держались при нашем рассмотрении анатомической проблемы. Мы должны постараться ясно указать типические различия между умом человека и умом животных, которые мы должны иметь в виду, приступая к нашему исследованию. При рассмотрении психических различий между цивилизованным и первобытным человеком, мы должны разграничить две проблемы: проблему различий в культурном состоянии членов одной и той же расы и проблему различий в характерных чертах разных рас; иными словами, мы должны разграничить проблемы влияний, оказываемых окружающею средою, и проблемы влияний наследственности.
Для целей нашего исследования нам нет надобности углубляться в рассмотрение первой из вышеуказанных проблем, а именно различий между умом животного и умом человека. Эти различия столь резки, что относительно них существуют лишь незначительные разногласия, или их вовсе не оказывается. Двумя внешними чертами, в которых находит выражение различие между умом животного и умом человека, являются существование у человека организованной членораздельной речи и пользование орудиями, находящими различное применение. И то и другое составляет общее достояние всего человечества. Никогда не встречалось такого племени, которое не обладало бы хорошо организованным языком; никогда не встречалось такой общины, которой не были бы известны употребление инструментов для разбивания, резания или сверления и применение огня и оружия, служащего для самозащиты и для добывания средств к существованию. Хотя у животных имеются способы общения при посредстве звуков, и хотя, по-видимому, давке у низших животных имеются способы для осуществления сотрудничества между различными индивидуумами, нам неизвестно ни одного случая, в котором у животных было бы установлено существование подлинной членораздельной речи, из которой исследователь мог бы извлечь абстрактные принципы классификации идей.
Возможно также, что высшие обезьяны иногда пользуются для защиты ветвями деревьев или камнями, но ни для одного из представителей животного ряда не констатировано, что он употребляет сложные орудия. Лишь по отношению к жилищам мы находим некоторое приближение к более сложным родам деятельности; но эти роды деятельности остаются абсолютно неизменными у каждого вида, — как мы выражаемся, инстинктивными, — и они вовсе не свидетельствуют о какой-либо индивидуальной свободе применения, составляющей основной признак человеческих изобретений. Происхождение у животных видов инстинктивной деятельности, ведущей к сложным механическим построениям, все еще не выяснено; но отношение принадлежащего к данному виду индивидуума к этим родам деятельности отличается от отношения человека к его изобретениям полным отсутствием свободы контроля.
Мы привыкли говорить, что существенной характерной чертой умственных процессов человека является способность к рассуждению. Хотя животные могут так же, как человек, совершать действия, приспособленные к достижению какой-либо цели, основанные на воспоминании о результатах прежних действий и на подходящем выборе действий, соответствующих известному намерению, у нас, тем не менее, нет никаких данных, которые показывали бы, что абстрактные понятия, сопровождающие действие, могут быть составляемы животными, между тем как все человеческие группы, от первобытнейших до стоящих на высших ступенях развития, обладают этой способностью.
Этих немногих замечаний относительно общих умственных черт человека достаточно. Приступая к рассмотрению расовых и социальных характерных черт человеческого ума, мы встречаемся с особою трудностью. Мы всегда мыслим в терминах, свойственных окружающей нас социальной среде. Но виды деятельности человеческого ума представляют у народов, населяющих мир, бесконечное разнообразие формы. Для ясного понимания их исследователь должен стараться вполне отрешиться от мнений и эмоций, в основе которых лежит та специфическая социальная среда, с которой он сроднился. Он должен, по мере возможности, приспособлять свой ум к уму изучаемого им народа. Чем более ему удается освободиться от односторонности, вытекающей из группы идей, свойственных той цивилизации, среди которой он живет, тем успешнее он будет истолковывать человеческие верования и действия. Он должен прослеживать новые для него черты склада мысли. Он должен становиться причастным к новым эмоциям и понимать, как при непривычных для него условиях те и другие влекут за собою определенные действия. Верования и обычаи людей и то, каким образом индивидуум отзывается на события повседневной жизни, — все это дает нам много случаев наблюдать проявления человеческого ума при изменяющихся условиях.
Ясно, что мысли и действия цивилизованного человека и мысли и действия, констатируемые при наличности более первобытных общественных форм, доказывают, что в разных группах человеческого рода ум, подвергаясь влиянию одних и тех же условий, отзывается на них совершенно различным образом. Двумя основными характерными чертами в. первобытном обществе представляются: недостаток логической связи в выводах, недостаток контроля по отношению к воле. При составлении мнений, верования становятся на место логического доказательства. Эмоциональное значение мнений велико, и вследствие этого они быстро влекут за собой действия. Воля представляется неуравновешенной, так как она легко поддается сильным эмоциям, но оказывает упорное сопротивление тогда, когда дело идет о пустяках.
К сожалению, такие описания умственного состояния первобытных людей, как те, которые мы находим у большинства путешественников, слишком поверхностны для того, чтобы ими можно было пользоваться для психологического исследования. Очень немногие путешественники понимают язык посещаемого ими народа; но как можно судить о племени лишь по описаниям переводчиков или по наблюдениям, относящимся к бессвязным действиям, мотивы которых остаются неизвестными? Но даже если язык народа известен путешественнику, последний обыкновенно выслушивает его рассказы, не будучи способен вникнуть в них. Миссионер проникнут сильным предубеждением против религиозных идей и обычаев первобытных людей, а торговец не интересуется их верованиями и варварскими искусствами. Таких исследователей, как Кэшинг, Каллавэй и Грэй, которые серьезно старались вникнуть во внутреннюю жизнь народа, немного, и их можно пересчитать по пальцам. Тем не менее, в основе большей части аргументов всегда лежат рассказы торопливых и поверхностных наблюдателей. Было сделано множество попыток описать характерные психологические черты первобытного человека.
Я здесь упомяну о попытках Клемма[62], Каруса[63], де-Гобино[64], Нотта и Глиддона[65], Вайца[66], Спенсера[67], Тайлора[68]. Их исследования заслуживают внимания как описания характерных черт первобытных людей, но ни об одном из них нельзя сказать, что они описывают психологический характер рас, независимо от их социальной среды. Клемм, и Вуттке характеризуют цивилизованные расы как активные, а все другие — как пассивные и предполагают, что все элементы и начатки цивилизации, встречающиеся у первобытных людей — в Америке или на островах Тихого Океана — обязаны своим существованием раннему соприкосновению с цивилизацией. Карус разделяет человечество на «народы дня, ночи и зари». Де-Гобино называет желтую расу мужским элементом, черную — женским и считает лишь белых благородной и одаренной расой. Нотт и Глиддон приписывают животные инстинкты лишь низшим расам, утверждая, что белой расе свойственен высший инстинкт, возбуждающий и направляющий ее развитие.
Верование в высшие наследственные способности белой расы возродилось в связи с современным учением о прерогативах ума лиц, призванных к господству, нашедшим наиболее смелое выражение в сочинениях Ницше.
Все такие взгляды представляют собой обобщения, в которых или не принимаются надлежащим образом в расчет социальные условия жизни рас и, таким образом, причина смешивается с действием, или же они продиктованы научными или гуманитарными интересами, желанием оправдать рабство или стремлением предоставить наибольшую свободу наиболее одаренным.
Тайлор и Спенсер, дающие остроумный анализ умственной жизни первобытного человека, не допускают существования расовых характерных черт, хотя эволюционная точка зрения труда Спенсера, по-видимому, часто приводит к этому выводу.
Вайц[69] держится совершенно иной точки зрения. Он говорит: «По распространенному мнению, стадия культуры, достигнутая народом или индивидуумом, является в значительной степени или исключительно продуктом его способностей. Мы утверждаем, что обратное положение, по меньшей мере, столь же верно. Выражение «способности человека» означает лишь указание на то, что он способен сделать в ближайшем будущем, и эти способности зависят от прежних стадий культуры и от той стадии культуры, которой он достиг».
Взгляды этих исследователей показывают, что относительно характерных признаков первобытных рас в психологии господствует еще большее смешение понятий, чем в анатомии, и что не установлено ясного разграничения между расовой и социальной проблемами. Иными словами, в основе аргументации лежат частью предполагаемые характерные черты умственной жизни рас, какова бы ни была стадия их культуры, частью же характерные черты племен и народов, достигших различных стадий цивилизации, при чем не принимается в расчет, принадлежат ли они к одной и той же расе или к различным. Однако эти две проблемы совершенно различны: первая из них является проблемой наследственности, вторая — проблемой окружающей среды.
Итак, мы признаем возможность двух объяснений различных проявлений человеческого ума. Возможно, что в умах различных рас обнаруживаются различия организации, так что законы умственной деятельности могут оказываться неодинаковыми для всех умов. Но возможно также, что организация ума в действительности тождественна у всех человеческих рас, что умственная деятельность повсюду подчиняется одним и тем же законам, но что ее проявления зависят от характера индивидуального опыта, подверженного действию этих законов.
Вполне очевидно, что роды деятельности человеческого ума зависят от этих двух элементов. Организация ума может быть определена как группа законов, определяющих формы мысли и действия, независимо от того, на какой предмет направлена умственная деятельность. Такого рода законам подчинены способ отличения одних представлений от других, ассоциация представлений с прежними представлениями, действия, вызываемые стимулами, и возникновение эмоций, порождаемых стимулами. Эти законы в значительной степени определяют проявления ума. В них мы усматриваем наследственные причины.
Но, с другой стороны, легко показать, что влияние индивидуального опыта весьма велико. Человеческий опыт накопляется, главным образом, благодаря часто повторяющимся впечатлениям. Один из основных законов психологии гласит, что повторение умственных процессов увеличивает легкость, с которою совершаются эти процессы, и уменьшает степень сопровождающей их сознательности. Этот закон выражает хорошо известные явления привычки. Когда известное представление часто ассоциируется с другим предшествовавшим представлением, одно из них обыкновенно будет вызывать другое. Когда известный стимул часто вызывает известное действие, он будет клониться к тому, чтобы обыкновенно вызывать то же самое действие. Если стимул часто порождал известную эмоцию, он будет клониться к тому, чтобы воспроизводить ее всякий раз. Эти причины принадлежат к группе причин, данных в окружающей среде.
Итак, объяснение деятельности человеческого ума требует рассмотрения двух различных проблем. Первая из них относится к вопросу об единстве или разнообразии организации ума, а вторая относится к разнообразию, порождаемому различием содержаний ума, в том виде, как они бывают даны в различных социальных и географических средах. Задача исследователя в значительной степени заключается в разграничении этих двух причин и в выяснении роли каждой из них в развитии особенностей ума.
Мы займемся сперва вопросом о том, существуют ли различия в организации человеческого ума. С тех пор как Вайц основательно рассмотрел вопрос об единстве человеческого рода, не подлежит сомнению, что характерные умственные признаки человека в главных чертах одинаковы во всем мире; но остается неразрешенным вопрос, существует ли достаточное различие в степени, чтобы дозволить нам предполагать, что нынешние человеческие расы могут быть рассматриваемы как стоящие на различных ступенях эволюционного ряда; имеем ли мы право приписывать цивилизованному человеку более высокое положение по организации, чем первобытному человеку.
Главная трудность при разрешении этого вопроса была указана выше. Она заключается в недостоверности того, какие из характерных черт первобытного человека являются причинами низкого уровня культуры и какие обусловлены последним; или какие из характерных психологических признаков оказываются наследственными и не могут быть устранены влиянием, оказываемым цивилизацией. Основная трудность собирания удовлетворительных наблюдений заключается в том факте, что в настоящее время не существует таких больших групп первобытных людей, которые были бы поставлены в условия, обеспечивающие им действительное равенство с белыми. Между нашим обществом и их обществом всегда остается резкое различие, и поэтому нельзя ожидать, чтобы их умы функционировали таким же образом, как наш. То же самое явление, на основании которого мы пришли к тому заключению, что для первобытных рас в настоящее время не представляется благоприятных случаев для развития их способностей, не позволяет нам судить об их природных способностях.
Представляется целесообразным, прежде всего, обратить наше внимание на эту трудность. Если можно показать, что известные умственные черты оказываются общими для всех членов человеческого рода, цивилизация которых носит первобытный характер, то вывод, согласно которому эти черты являются, главным образом, социальными или основанными на характерных физических признаках, обусловливаемых социальною окружающей средой, становится гораздо более убедительным.
Я выберу для выяснения занимающего нас вопроса лишь немногие из характерных умственных черт первобытного человека, а именно: подавление импульсов, способность сосредоточить внимание, способность к оригинальному мышлению.
Сперва мы рассмотрим вопрос, насколько первобытный человек способен подавлять импульсы (Спенсер)[70].
Впечатление, выносимое многими путешественниками, а также основанное на опытах, производившихся в Соединенных Штатах, таково, что общей чертой первобытных людей всех рас и сравнительно менее образованных людей нашей расы является то, что они не умеют сдерживать эмоций, что они легче поддаются импульсам, чем люди цивилизованные или высоко образованные. Я полагаю, что этот взгляд в значительной степени объясняется тем, что высказывающие его лица не выясняют, в каких именно случаях в разных формах общества требуется строгое сдерживание импульсов.
Большею частью, чтобы доказать эту предполагаемую особенность, указывают на непостоянство первобытного человека, на изменчивость настроения и на силу страстей, возбуждаемых в нем причинами, по-видимому, маловажными. Относительно этого я прямо скажу, что путешественник или исследователь измеряет непостоянство людей значением, приписываемым им таким действиям и намерениям, по отношению к которым они не обнаруживают настойчивости, и что он взвешивает импульс, вызывающий взрывы страсти, применяя свой масштаб. Приведу пример. Путешественник, желающий как можно скорее достигнуть своей цели, обязывает людей отправиться в путь в известное время. Для него время чрезвычайно дорого. Но какое значение имеет время для первобытного человека, не сознающего, что следует окончить определенную работу к определенному времени? Между тем как путешественник сердится и негодует по поводу замедления, его наемники продолжают весело болтать и смеяться, и их невозможно побудить к усилиям иными способами, кроме того, чтобы вызвать в них желание угодить господину. Не были бы они правы, если бы стали порицать многих путешественников за их импульсивность и отсутствие самообладания, когда их раздражает такая маловажная причина, Как потеря времени? Наоборот, путешественник жалуется на непостоянство туземцев, скоро перестающих интересоваться предметами, занимающими его.
Для того, чтобы надлежащим образом сравнить непостоянство дикарей и белых, следует сравнивать их поведение в таких предприятиях, которые одинаково важны для каждого из них, т.-е., когда нам нужно дать верную оценку способности первобытного человека сдерживать импульсы, мы не должны сравнивать сдержанность, требующуюся от нас в известных случаях, и сдержанность, проявляемую в тех же случаях первобытным человеком. Если, например, наш социальный этикет воспрещает выражение чувств личного огорчения и беспокойства, то мы должны помнить, что личный этикет у первобытных людей может не требовать какого-либо сдерживания чувств этого рода. Мы должны, скорее, искать таких случаев, в которых сдержанность требуется обычаями первобытных людей. Таковы, например, многочисленные случаи, для которых установлено табу, т.-е. запрещение питаться известными веществами или выполнять известного рода работу, что иногда требует значительного самообладания. Когда эскимосская община голодает, а ее религиозные предписания запрещают ей воспользоваться греющимися на льду тюленями, то степень самообладания целой общины, удерживающей ее членов от умерщвления этих тюленей, конечно, очень велика. Другими примерами могут служить настойчивость первобытного человека при изготовлении им своей утвари и своего оружия, его готовность подвергаться лишениям и тягостям, нужным;, как он уверен, для исполнения его желания; например, готовность индейского юноши поститься в горах в ожидании появления своего духа хранителя; или храбрость и выносливость, проявляемые ими, с целью добиться приема в ряды мужчин своего племени; или часто описываемая выносливость, проявляемая индейскими пленными, подвергаемыми пытке их врагами.
Утверждали также, что первобытный человек обнаруживает недостаток сдержанности в своих вспышках страсти, вызываемых незначительными раздражениями. По моему мнению, в этом случае различие между цивилизованным и первобытным человеком в способе отзываться на раздражение также исчезает, если мы обратим надлежащее внимание на социальные условия, в которых живет индивидуум.
Что сказал бы первобытный человек относительно благородной страсти, вспыхнувшей перед началом междоусобной войны в Америке и проявлявшейся во время этой войны? Не показались ли бы ему права невольников в высшей степени неважным вопросом? С другой стороны, имеется много доказательств того, что его страсти столь же сдерживаются, как и наши, но только в других направлениях. Примером могут служить многочисленные обычаи и ограничения, регулирующие половые отношения. Различие в импульсивности может быть вполне объяснено различным значением, придаваемым мотивам в том и в другом случае. Одним словом, постоянство и сдерживание импульсов требуются от первобытного человека так же, как и от цивилизованного, но в других случаях. Если они не требуются так часто, то причины этого следует искать не в присущей первобытному человеку неспособности проявлять таковые, а в социальном состоянии, не требующем их проявления в такой же степени.
Спенсер[71] упоминает, как частный случай этого недостатка сдержанности, непредусмотрительность первобытного человека. Я полагаю, что правильнее было бы говорить не о непредусмотрительности, а об оптимизме. «Почему бы мне завтра не иметь такого же успеха, как сегодня?» — таково основное чувство первобытного человека. По моему мнению, это чувство не менее сильно развито у цивилизованного человека. На чем, как не на вере в устойчивость существующих условий, основана коммерческая деятельность? Почему бедняки без колебаний вступают в брак, не будучи в состояний заранее откладывать сбережения? Мы не должны забывать, что у первобытнейших людей голодная смерть представляется таким же исключительным случаем, как у цивилизованных людей финансовый кризис; и что для таких периодов нужды, которые наступают регулярно, всегда заготовляются запасы. Наше социальное состояние устойчивее, поскольку дело идет о приобретении необходимейшего для жизни, так что исключительные условия не часто наступают; но нельзя утверждать, что большинство цивилизованных людей всегда способно свести концы с концами. Мы можем признать различие в степени непредусмотрительности, обусловливаемое различием социального положения, но не специфическое различие между низшим и высшим типами людей.
В связи с недостатком способности подавлять импульсы находится еще и другая черта, приписываемая первобытному человеку всех рас, — его неспособность сосредоточиться, когда приходится пользоваться более сложными умственными способностями. Я упомяну пример, который, как мне кажется, способствует выяснению ошибки, допускаемой при этом предположении. В своем описании туземцев западного берега острова Ванкувера Спрот говорит: «Вообще ум туземца кажется образованному человеку сонным... Когда его внимание вполне пробуждено, он проявляет живость в ответах и находчивость в споре. Но краткий разговор утомляет его, в особенности, если задаются вопросы, требующие с его стороны напряжения мысли или памяти. Тогда ум дикаря как бы колеблется взад и вперед просто вследствие своей слабости»[72]. Приведя эту цитату, Спенсер прибавляет ряд других свидетельств, подтверждающих это утверждение. Я знаю упоминаемые Спротом племена по личным сношениям с ними. В действительности вопросы, предлагаемые путешественником, большей частью кажутся индейцу маловажными, и он, понятно, скоро устает от разговора, который ведется на иностранном языке, и в котором он не находит ничего для себя интересного. В действительности этих туземцев легко заинтересовать, и часто первым уставал я. Сложная система обмена, существующая у туземцев, также вовсе не свидетельствует об умственной неподвижности в делах, их касающихся. Без мнемонических пособий они составляют план систематического распределения своей собственности таким образом, чтобы увеличить свое богатство и улучшить свое социальное положение. Эти планы требуют большой предусмотрительности и постоянного внимания.
Наконец, я желаю упомянуть о той черте умственной жизни первобытного человека всех рас, на которую часто указывалось как на главную причину неспособности известных рас достигнуть более высокого уровня культуры, а именно об отсутствии у них оригинальности. Говорят, что консерватизм первобытного человека настолько силён, что индивидуум никогда не уклоняется от традиционных обычаев и верований (Спенсер)[73]. Правда, в этом утверждении заключается известная доля истины, поскольку у первобытных людей существует большее количество обязательных обычаев, чем в цивилизованном обществе, по край ней мере в наиболее высоко развитых типах последнего, однако, в жизни первобытных людей нет недостатка в проявлениях оригинальности. Упомяну об очень частом появлении пророков среди новообращенных равно как и среди языческих племен. Что касается последних, мы очень часто узнаем о новых догматах, вводимых такими индивидуумами среди их. Правда, очень часто можно установить влияние идей окружающих племен на эти догматы, но они видоизменяются благодаря индивидуальности данной личности и прививаются к общепринятым верованиям народа. Хорошо известен тот факт, что мифы и верования распространяются, и что в процессе распространения они подвергаются изменениям (Боас)[74]. Не подлежит сомнению, что это часто совершалось благодаря независимой мысли индивидуумов, свидетельством чего может служить возрастающая сложность эзотерических доктрин, доверяемых жрецам. По моему мнению, одним из лучших примеров такой независимости мысли является история церемоний пляски духов в Северной Америке (Муней)[75]. Доктрины пророков, проповедывающих учение о пляске духов, были новы, но в основе их лежат идеи их народа, их соседей и учения миссионеров. Понятие о будущей жизни у индейского племени, живущего на острове Ванкувере, подверглось, таким образом, изменению, поскольку возникла идея о том, что мертвые оживают в детях их собственного семейства. Такая же независимость мысли сказывается в цитируемых у Овиедо[76] ответах индейцев Никарагуа на вопросы об их религии, заданные им Бобадильей.
Мне кажется, что в направлении умственной деятельности индивидуумов, развивающих, таким образом, верования племени, обнаруживаются такие же черты, как у цивилизованных философов. Лицам, изучающим историю философии, хорошо известно, насколько сильное влияние оказывают на ум даже и величайшего гения распространенные в его время мысли. Это хорошо выразил один немецкий писатель (Леман)[77]. Он говорит: «Характер философской системы точно так же, как и всякого другого литературного произведения, определяется, во-первых, личностью ее творца. Всякая подлинная философия отражает в себе жизнь философа так же; как всякая настоящая поэма — жизнь поэта. Во-вторых, она носит общий отпечаток данного периода, и чем могущественнее провозглашаемая ею идея, тем сильнее она проникнута жизненными течениями мысли, свойственными данному периоду. В-третьих, на нее влияет особое направление философской мысли данного периода».
Если это можно сказать даже и о величайших умах всех времен, то что же удивительного в том, что в первобытном обществе на мыслителя сильно влияют распространенные в его время мысли? Бессознательные и сознательные подражания являются факторами, влияющими на цивилизованное общество не менее, чем на первобытное, как показал Г. Тард[78], доказавший, что как первобытный, так и цивилизованный человек подражает не только таким действиям, которые полезны, и для подражания которым можно указать логические основания, но и действиям, для усвоения или сохранения которых нельзя указать никакого логического основания.
По моему мнению, вышеизложенные соображения выясняют, что во многих случаях различия между человеком цивилизованным и первобытным оказываются скорее кажущимися, чем действительными; что вследствие особых характерных черт социальных условий, эти условия легко производят такое впечатление, как будто ум первобытного человека функционирует совершенно иначе, чем наш, между тем как в действительности основные черты ума одинаковы.
Это означает не отсутствие всяких различий или невозможность найти таковые, а лишь то, что следует применять иной метод исследования. Невероятно, что умы рас, у которых обнаруживаются различия в анатомическом строении, функционируют совершенно одинаковым образом. Различия в строении должны сопровождаться различиями в функциях как физиологических, так и психологических; и подобно тому, как мы нашли явные доказательства различия в строении между расами, мы должны предвидеть, что будут открыты и различия в характерных умственных чертах. Так, меньшая величина или меньшее количество нервных элементов, вероятно, влекут за собой уменьшение умственной энергии, и немногочисленность связей в центральной нервной системе, вероятно, вызывает неповоротливость ума. Как указано выше, вероятно, будут открыты некоторые небольшие различия этого рода, например, между белыми и неграми, но они еще не доказаны. Так как все структурные различия количественны, то следует ожидать, что окажется, что умственные различия имеют такой же характер. Подобно тому как мы нашли, что вариации в строении перекрывают друг друга, так что многие формы оказываются общими для индивидуумов всех рас, мы можем ожидать, что многие индивидуумы не будут отличаться друг от друга по способностям, между тем как статистическое исследование, охватывающее целые расы, обнаружило бы известные различия. Далее, подобно тому как известные анатомические черты оказываются наследственными в известных семьях, а следовательно и у племен, а, быть может, даже и у народов, точно так же и умственные черты характеризуют известные семьи и могут преобладать у племен. Однако, по-видимому, невозможно удовлетворительно разграничить социальные и наследственные черты. Попытка Гальтона[79] установить законы наследственного гения и позднейшие изыскания в том же направлении намечают способ исследования этих вопросов, который окажется полезным, поскольку он открывает метод определения влияния наследственности на умственные качества.
Выяснив, таким образом, что, поскольку специфические различия, допускаемые между цивилизованным и первобытным человеком и выведенные ив сложных психических реакций, могут быть сведены к одним и тем же основным психическим формам, мы вправе отклонить, как бесполезное, рассмотрение наследственных умственных черт различных разветвлений белой расы. Много было толков о наследственных характерных чертах евреев, цыган, французов и ирландцев: но я не нахожу, чтобы когда-либо были удовлетворительно выделены внешние и социальные причины, под влиянием которых складывался характер лиц, принадлежащих к этим народам, и, более того, мне неясно, каким образом можно было бы это сделать. Легко указать несколько внешних факторов, влияющих на тело и на ум, — климат, питание, занятие, — но, коль скоро мы приступаем к рассмотрению социальных факторов и умственного состояния, мы не в состоянии определенно сказать, что является следствием и что — причиной. По-видимому, превосходное рассмотрение внешних влияний на характер народа было дано А. Вернихом[80] в его характеристике японцев. Он находит, что некоторые из их особенностей обусловливаются недостатком энергии мускульной системы и пищеварительных органов, в свою очередь, обусловливаемым; неудовлетворительным питанием; затем он признает наследственными другие физиологические черты, влияющие на ум. И все же насколько неудовлетворительными представляются его выводы, после того как японцы проявили энергию и выносливость в своем развитии в новое время и в борьбе с русскими!
Можно было бы ожидать, что последствия плохого питания многих поколений оказывают влияние на умственную жизнь бушменов и лапландцев (Вирхов)[81]; но все же, после вышеприведенного примера, мы можем, конечно, не спешить высказать какие-либо определенные заключения.
Итак, мы, по-видимому, не вправе объяснять различие в умственном состоянии разных групп людей, в особенности находящихся в близком родстве между собою, наследственными причинами, пока мы не в состоянии доказать наследственность физиологических и соответствующих им психологических черт, независимо от социальной и природной окружающей среды.
Этого рода труд начат экспериментальными исследованиями школьных детей в области простых проявлений умственной деятельности и простых физиологических процессов; в трудах Кембриджской научной экспедиции к Торресову проливу (Риверс)[82] была произведена первая систематическая попытка изучения простых психических реакций первобытных людей; подобным же исследованиям были подвернуты те первобытные люди, которые фигурировали на Всемирной выставке в Сен-Луи. Эти исследования систематически производились доктором Вудвортом[83]. Пока результаты их, в общем, оказываются неблагоприятными для теории, согласно которой существуют очень глубокие различия между разными расами.
Остается выяснить еще один вопрос, относящийся к нашему исследованию органической основы умственной деятельности, а именно вопрос: была ли органическая основа для человеческих способностей улучшена благодаря цивилизации, и в особенности, может ли органическая основа для умственных способностей первобытных рас быть улучшена цивилизацией? Мы должны рассмотреть как анатомическую, так и психологическую сторону этого вопроса. Я уже указал, что цивилизация обусловливает анатомические изменения такого же рода, как изменения, сопровождающие приручение животных. Вероятно, рука об руку с ними идут изменения умственного характера. Однако, наблюдавшиеся анатомические изменения ограничиваются этой группой явлений. Мы не можем доказать, что в человеческом организме произошли какие-нибудь прогрессивные изменения; в частности, нельзя доказать возрастания величины или сложности строения центральной нервной системы, обусловленного накопляющимися действиями цивилизации.
Еще труднее доказать прогресс в развитии способностей. Мне кажется, что, вероятно, влияние цивилизации на эволюцию человеческих способностей очень преувеличивалось. Психические изменения, являющиеся непосредственным следствием приручения или цивилизации, могут быть значительны. Эти изменения обусловливаются влиянием окружающей среды. Сомнительно, однако, наступили ли какие-либо; прогрессивные изменения или такие изменения, которые передаются благодаря наследственности. Число поколений, подвергавшихся этому влиянию, в общем, представляется слишком небольшим. Для обширных частей Европы мы не можем предположить, чтобы это число превышало сорок или пятьдесят поколений, и даже это число, вероятно, слишком велико, поскольку в средние века большая часть населения находилась на весьма низких ступенях цивилизации.
Кроме того, тенденция человеческого размножения такова, что наиболее культурные семьи исчезают, между тем; как другие семьи, менее подвергавшиеся влияниям, регулирующим жизнь культурнейшего класса, занимают их место. Поэтому то, что движение вперед наследственно, гораздо менее вероятно чем то, что оно передается путем воспитания.
При выяснении благотворных действий цивилизации, усваиваемой путем передачи, вообще придается большое значение случаям возвращения индивидуумов, принадлежащих к первобытным расам и получивших образование, в первобытное состояние. Эти случаи возвращения в первобытное состояние истолковываются как доказательство неспособности ребенка, принадлежащего к низшей расе, приспособиться к нашей превосходной цивилизации, даже когда ему предоставляются наиболее благоприятные условия. Правда, упоминается значительное число таких случаев. Упомяну о том огнеземельце, который, по словам Дарвина[84], прожил в Англии несколько лет и, возвратившись на родину, вернулся к образу жизни своих первобытных соотечественников; и о девушке из западной Австралии, которая вышла замуж за белого, но внезапно бежала в чащу, умертвив своего мужа, и стала снова жить с туземцами. Случаи этого рода действительно бывали, но ни один из них не описан с достаточными подробностями. Общественное положение и умственное состояние упоминаемых индивидуумов никогда не подвергались тщательному анализу. Я склонен думать, что даже в крайних случаях, несмотря на полученное этим индивидуумами лучшее образование, их положение в обществе всегда было изолированным, между тем как благодаря узам родства продолжала существовать их связь с их нецивилизованными собратьями. Та сила, с которою общество удерживает нас в себе и не дает нам возможности выйти из своих пределов, не могла оказывать на них столь же сильного действия как на нас. С другой стороны, состояние, достигнутое многими неграми в условиях нашей цивилизации, имеет, мне кажется, не меньшее значение, чем очень старательно и. усердно подобранные немногочисленные случаи возвращения в первобытное состояние. Наряду с ними можно, по моему мнению, поставить те случаи, когда среди туземных племен живут белые люди, почти всегда впадающие в полуварварское состояние, и когда члены преуспевающих семейств предпочитают неограниченную свободу общественным стеснениям и бегут в пустыню, где многие из них ведут жизнь, ни в каком отношении не стоящую выше жизни первобытного человека. При исследовании поведения членов иноземных рас, получивших образование в европейском обществе, мы должны также иметь в виду влияние мыслей, чувств и действий, к которым они привыкли в раннем детстве, и о которых у них не сохранилось никакого воспоминания. Если верно предположение С. Фрейда, согласно которому эти забытые влияния остаются живой силой в течение всей жизни, при чем их действие тем сильнее, чем более они забыты[85], то нам пришлось бы сделать вывод, что многие из мелких черт индивидуумов, которые мы обыкновенно считаем наследственными, приобретаются благодаря влиянию тех индивидуумов, среди которых ребенок провел первые пять лет своей жизни. Все наблюдения над силой привычки и над интенсивностью сопротивления, оказываемого изменениям в привычках, подтверждают эту теорию.
Наше краткое рассмотрение некоторых из проявлений умственной деятельности человека в цивилизованном и в первобытном обществе привело нас к тому выводу, что эти функции человеческого ума являются общим достоянием всего человечества. Следует заметить, что, согласно нашему нынешнему методу рассмотрения биологических и психологических проблем, мы должны предположить, что эти формы развились из низших форм, существовавших в прежнее время, и что, несомненно, некогда должны были существовать расы и племена, у которых охарактеризованные здесь свойства были совершенно неразвиты или лишь слабо развиты; но верно и то, что у нынешних человеческих рас, как бы ни были они первобытны по сравнению с нами, эти способности весьма развиты.
Возможно, что у разных человеческих типов могут обнаруживаться некоторые различия в степени развития этих функций; но я не думаю, что мы можем в настоящее время дать верную оценку наследственных умственных способностей разных рас. Сравнение их языков, обычаев и родов деятельности наводит на мысль о том, что, может быть, эти способности развиты у них неодинаково, но различия недостаточны для того, чтобы мы были вправе отводить одним народам низшие ступени, а другим высшие. Следовательно, эти соображения, в общем, приводят к отрицательным выводам. Мы не склонны признать, что в умственной организации различных человеческих рас оказываются различия в основных чертах. Поэтому, хоти нам и неизвестно, как распределены способности у человеческих рас, мы тотем сказать, что средне способности белой расы в такой же степени встречаются у большого числа индивидуумов всех других рас. Вероятно что некоторые из этих рас не дают такого большого количества великих людей, как наша раса; однако нет оснований предполагать что они неспособны достигнуть того уровня цивилизации, на котором стоит большая часть нашего народа.
V РАСА И ЯЗЫК.
В предыдущей главе я старался показать, что главные характерные черты ума первобытного человека встречаются у первобытных племен всех рас, и что поэтому нельзя придти к тому заключению, что эти умственные черты являются характерными расовыми признаками.. Однако этот отрицательный вывод, всецело основанный на рассмотрении немногих отдельных черт, очень часто упоминаемых в описаниях первобытных племен, не дает нам положительного доказательства полного отсутствия соответствия между умственной жизнью и расовым происхождением. Итак, мы должны обратить внимание на те случаи, в которых можно предполагать, что между умственной жизнью и расовым происхождением существует непосредственное соотношение.
Некоторые исследователи в самом деле утверждали существование такого рода соотношения, в особенности между языком и расовыми типами, и все еще продолжают держаться того мнения, что родство лингвистическое и родство расовое являются как бы эквивалентными друг другу терминами. Примером, выясняющим эту точку зрения, могут служить продолжительные споры относительно родины «арийской расы», в которых белокурый северо-западный европейский тип отождествляется с древним народом, у которого развивались индоевропейские или арийские языки.
Если бы можно было показать, что различные языки принадлежат различным расовым типам и что эти языки свидетельствуют о различных ступенях развития, или что в них выражаются различные типы мышления, то у нас получилась бы надежная база, которая дала бы нам возможность судить о характере каждого народа, как отражающемся в его языке. Далее, если бы мы могли показать, что известные культурные типы принадлежат известным расам и чужды характеру других, то наши выводы опирались бы на гораздо более солидные основания.
Итак, это приводит нас к рассмотрению важного во всех отношениях вопроса; существует ли между типами, языками, и культурами столь тесная взаимная связь, что всякая человеческая раса характеризуется известной комбинацией физического типа, языка и культуры.
Ясно, что если бы существовало это соответствие в точном смысле, то и попытки классифицировать род человеческий с какой-либо из этих трех точек зрения неизбежно приводили бы к одним и тем же результатам: иными словами, каждою из этих точек зрения можно было бы пользоваться независимо или в сочетании с остальными при изучении отношений между различными группами человечества. В самом деле, этого рода попытки часто производились. Некоторые классификации человеческих рас основаны всецело на анатомических признаках, при чем часто принимаются в расчет еще и географические соображения; другие классификации основаны на рассмотрении сочетания анатомических и культурных черт, признаваемых характерными для известных групп человечества; далее существуют классификации, основанные, главным образом, на изучении языков, на которых говорят люди, являющиеся представителями известного анатомического типа.
Производившиеся таким образом попытки приводили к совершенно различным результатам (Топинар)[86], Блюменбах, один из первых ученых, пытавшихся классифицировать человечество, различал пять рас: кавказскую, монгольскую, эфиопскую, американскую и малайскую. Ясно, что эта классификации основана как на анатомических, так и на географических соображениях, хотя характеристика каждой расы является главным образом анатомической. Кювье различал три расы: белую, желтую и черную. Гэксли[87] строже держался биологической базы. Он соединил часть блюменбаховых монгольской и американской рас в одну, отнес часть южно-азиатских народов к австралийскому типу и подразделил европейскую расу на темноцветную и светлоцветную разновидности. Численное преобладание европейских типов, очевидно, побудило его установить более тонкие различия в этой расе, которую он разделил на ксантохроическую, или светлоцветную и меланохроическую, или темноцветную расы. Легко было бы установить имеющие такое же значение подразделения в других расах. Еще явственнее сказывается влияние точек зрения на культуру в таких классификациях, как классификации Гобино и Клемма, из которых последний различал активную и пассивную расы соответственно культурным успехам различных человеческих типов.
Наиболее типической попыткой классифицировать человечество на основании как анатомических, так и лингвистических точек зрения является попытка Фридриха Мюллера[88]. Он кладет в основу своих главных делений форму волос, между тем как все дальнейшие подразделения основаны на лингвистических соображениях.
Попытка установить соответствие между многочисленными предложенными классификациями обнаруживает их полную беспорядочность и противоречивость, так что мы приходим к тому выводу, что, быть может, между типом, языком и типом культуры нет тесной и постоянной связи. Поэтому мы должны рассмотреть действительное развитие этих разных черт у существующих рас.
В нынешний период мы можем наблюдать много случаев, в которых полное изменение языка и культуры происходит без соответствующего изменения в физическом типе. Это можно сказать, например, о североамериканских неграх, народе преимущественно африканском по происхождению, по культуре же и по языку, напротив того, по существу дела — европейском. Правда, известные пережитки африканских культуры и языка встречаются у наших американских негров, но по существу дела их культура есть культура необразованных классов того народа, среди которого они живут, язык их, в общем, тождественен с языком их соседей, — англичан, французов, испанцев и португальцев, смотря по тому, какой язык господствует в разных частях материка. Можно было бы возразить, что африканская раса была переселяема в Америку искусственно и что в прежние времена не происходило значительных иммиграций и переселений этого рода.
Однако история средневековой Европы доказывает, что значительные изменения в языке и в культуре неоднократно совершались без соответствующих изменений в крови.
Новейшие исследования физических типов Европы очень ясно показали, что распределение типов не изменялось в течение долгого периода. Не рассматривая деталей, можно сказать, что легко отличить альпийский тип, с одной стороны, от северо-европейского, а с другой стороны — от южно-европейского типа (Риплей)[89]. Альпийский тип представляется довольно однообразным на протяжении обширной территории, каковы бы ни были язык и национальная культура, преобладающая в той или иной области. Средне-европейские французы, германцы, итальянцы и славяне до такой степени принадлежат почти к одному и тому же типу, что мы вправе предположить между ними значительную степень родства по происхождению, несмотря на лингвистические различия.
Подобного рода примеры, в которых мы находим неизменность крови при значительных изменениях в языке и культуре, встречаются в других частях света. Можно упомянуть, например, о цейлонских веддах. Этот народ глубоко отличается по типу от соседних сингалезов, язык которых он, по-видимому, усвоил и от которых он, очевидно, заимствовал и некоторые культурные черты (Саразин)[90]. Примером этого могут служить японцы северной части Японии, из которых многие, несомненно, происходят от айносов (Бельц)[91], и сибирские юкагиры, которые, в значительной степени сохранив чистоту крови, были ассимилированы по отношению к культуре и языку соседними тунгузами (Иохельсон)[92].
Итак, очевидно, что, хотя во многих случаях народ не подвергался значительному изменению в типе благодаря смешению, но его язык и культура совершенно изменялись. Можно показать, что в других случаях народ сохранял свой язык, подвергаясь материальным изменениям, относившимся к крови и к культуре или к той и к другой. Примером этого могут служить европейские мадьяры, сохранившие свой старый язык, но смешавшиеся с людьми, говорящими на индоевропейских языках и усвоившие во всех отношениях европейскую культуру.
Подобные условия должны были существовать у атабасков, составляющих одну из больших лингвистических семей Северной Америки. Масса населения, говорящего на языках, принадлежащих к этой лингвистической семье, живет в северо-западной Америке, между тем как на других диалектах говорят мелкие племена в Калифорнии, а еще на других говорит масса населения в Аризоне и в новой Мексике[93]. Родство между всеми этими диалектами является столь близким, что их следует признать разветвлениями одной обширной группы, и приходится предполагать, что все они произошли от языка, на котором некогда говорили на протяжении сплошной территории. В настоящее время в на селении, говорящем на этих языках, обнаруживаются глубокие различия по типу, а именно, обитатели берегов реки Мекензи весьма отличаются от калифорнских племен, а последние, в свою очередь, отличаются от племен новой Мексики (Боас)[94]. Формы культуры в этих разных местностях также совершенно различны культура калифорнских атабасков сходна с культурой других калифорнских племен, тогда как на культуру атабасков новой Мексики и Аризоны повлияла культура других народов этой местности (Годард)[95]. В высшей степени вероятно, что разветвления этого племени» переселялись из одной часто этой обширной территории в другую, где они смешивались с соседним населением, и таким образам тес характерные физические черты изменились, а язык сохранился. Конечно, этого процесса нельзя доказать без исторических свидетельств.
Эти два, по-видимому, противоположные друг другу явления, а именно сохранение типа при изменении языка и сохранение языка при изменении типа, все же находятся в тесной взаимной связи и во многих случаях идут рука об руку. Примером этого может служить расселение арабов вдоль северного берега Африки. В общем, арабский элемент сохранил свой язык; но в то же время браки с туземными расами были обыкновенны, так что у потомков арабов часто сохранялся их язык и изменялся тип. С другой стороны, туземцы до некоторой степени отказались от своих языков, но продолжали вступать в браки между собой, и, таким образом, их тип сохранился. Поскольку какое-либо изменение этого рода находится в связи со смешением, изменения того или другого типа всегда должны происходить одновременно, и их причисляют к изменениям топа или к изменениям языка, смотря по тому, на тот или на другой народ обращено наше внимание, или, в некоторых случаях, смотря по тому, какое изменение резче выражено. Случаи полной ассимиляции без всякого смешения между подвергающимися этому процессу народами, по-видимому, редки, или даже их вовсе не бывает.
Случаи неизменности типа и языка и изменения культуры гораздо более многочисленны. В самом деле, все историческое развитие Европы, с доисторических времен, представляет бесконечный ряд примеров этого процесса, который, по-видимому, совершается гораздо легче, так как ассимиляция культур происходит повсюду без фактического смешения крови, как результат подражания. Доказательства диффузии культурных элементов можно найти в каждой культурной стране, охватывающей области, где говорят на нескольких языках. В Северной Америке хорошим примером этого служит Калифорния, так как там говорят на нескольких языках и наблюдается известная степень дифференциации типа, но в то же время преобладает значительное однообразие культуры[96]. Другим примером может служить побережье новой Гвинеи, где, несмотря на значительную местную дифференциацию, преобладает известный, довольно характерный, тип культуры, иду щей рука об руку со значительной дифференциацией языков. Из народов, стоящих на более высокой ступени цивилизации, можно привести, как пример, обитателей всего района, находящегося под влиянием китайской культуры.
Эти соображения в достаточной степени выясняют, что, по крайней мере, в настоящее время судьба анатомического типа, языка и культуры не непременно одинакова: тип и язык народа могут остаться неизменными, а его культура может измениться; неизменным может остаться его тип, но его язык может измениться; или его язык может остаться неизменным, а тип и культура — измениться. Итак, очевидно, что попытки классификации человечества, основанные на нынешнем распределении типов, языков и культуры, должны приводить к различным результатам, смотря по точке зрения: классификация, опирающаяся главным образом на одни типы, приведет к установлению системы, представляющей более или менее точно кровное родство людей, не совпадающее непременно с их культурными связями; точно так же как классификации, основанные на языке и культуре, не должны непременно совпадать с биологической классификацией.
Если это верно, то такой проблемы, как вышеупомянутая арийская, в действительности, не существует, так как эта проблема — прежде всего лингвистическая, относящаяся к истории арийских языков; предположение же, согласно которому этот язык в течение всего хода истории должен быть языком известного определенного народа, между членами которого всегда существовало кровное родство, равно как и другое предположение, согласно которому этому народу всегда должен был быть присущ известный культурный тип, — совершенно произвольны и не согласны с наблюдаемыми фактами.
Тем не менее, следует признать, что теоретическое рассмотрение истории типов человечества, языков и культур заставляет нас предполагать, что в раннюю эпоху существовали такие условия, при которых каждый тип был гораздо более изолирован от остального человечества, чем в настоящее время. Поэтому культура и язык, принадлежащие отдельному типу, должны были оказываться гораздо резче обособленными от культуры и языка других типов, чем в нынешний период. Правда, такого состояния нигде не наблюдалось, но из наших сведений об историческом развитии почти неизбежно вытекает предположение, согласно которому оно существовало в очень ранний период развития человечества. Если это так, то возник бы вопрос: характеризовалась ли изолированная группа в ранний период непременно одним типом, одним языком и одной культурой, или в такой группе могли быть представлены разные типы, разные языки и разные культуры.
Историческое развитие человечества представляло бы более простую и более ясную картину, если бы мы были вправе предположить, что в первобытных обществах эти три явления находились в тесной взаимной связи. Однако подобное предположение совершенно недоказуемо. Наоборот, при сравнении нынешнего распределения языков с распределением типов представляется правдоподобным, что даже в самые ранние эпохи биологические единицы могли быть шире, чем лингвистические, и, вероятно, шире, чем культурные единицы. По моему мнению, можно утверждать, что во всем мире биологическая единица — если не обращать внимания на мелкие местные различия — гораздо шире, чем лингвистическая единица: иными словами, группы людей, являющиеся по телесному виду столь близко родственными, что мы должны рассматривать их как представителей одной и той же разновидности человечества, обнимают собой количество индивидуумов, значительно превышающее число людей, говорящих на таких языках, о которых нам известно, что они генетически родственны друг другу. Примеры этого рода можно указать во многих частях света. Так, европейская раса — разумея под этим термином приблизительно всех тех индивидуумов, которых мы без колебания причисляем к членам белой расы — обнимала бы народы, говорящие на индоевропейских, на баскском и на урало-алтайских языках. Западно-африканские негры представляли бы индивидуумов известного негритянского типа, говорящих, однако, на разнообразнейших языках. То же самое можно было бы сказать, из азиатских типов, о сибиряках; из американских типов, — о части калифорнских индейцев.
Поскольку у нас имеются исторические свидетельства, нет оснований полагать, что когда-либо существовало меньшее число различных языков, чем теперь; наоборот, все наши данные свидетельствуют о том, что в прежние времена языков, не находящихся в родстве между собой, было гораздо больше, чем теперь. С другой стороны, число вымерших типов представляется скорее небольшим, так что нет оснований предполагать, что в ранний период существовало более точное соответствие между количествами различных лингвистических и анатомических типов. Итак, мы приходим к тому заключению, что в раннюю эпоху каждый человеческий тип, вероятно, существовал в виде нескольких небольших изолированных групп, у каждой из которых были свой язык и своя культура.
Мы можем заметить здесь, что, с этой точки зрения, значительное разнообразие языков во многих отдаленных горных местностях не должно быть объясняемо как результат постепенного вытеснения остатков племен в недоступные округа, но скорее оно представляется пережитком такого более древнего общего состояния человечества, когда каждый материк был населен сравнительно небольшими группами людей, говорившими на разных языках. Нынешнее соотношение должно было развиться путем постепенного исчезновения многих древних племен и их поглощения или устранения другими, занявшими, таким образом, более обширную территорию.
Как бы то ни было, наиболее вероятным оказывается предположение, согласно которому нет надобности допускать, что первоначально всякий язык и всякая культура были приурочены к одному типу, или что всякий тип и всякая культура были приурочены к одному языку; словом, что когда-либо существовало точное соответствие между этими тремя явлениями.
Из предположения, согласно которому между типом, языком и культурой первоначально существовало точное соответствие, вытекало бы и дальнейшее предположение, согласно которому эти три черты развивались приблизительно в один и тот же период и притом развивались совместно в течение продолжительного времени. Это предположение никоим образом не представляется правдоподобным. Те основные человеческие типы, представителями которых являются негроидная и монголоидная расы, должны были дифференцироваться задолго до образования форм речи, ныне признаваемых в мировых лингвистических семьях. По моему мнению, даже дифференциация важнейших подразделений великих рас предшествует образованию существующих лингвистических семей. Во всяком случае, биологическая дифференциация и образование речи были в этот ранний период подвержены действию тех же самых причин, которые ныне действуют на них, и весь наш опыт показывает, что эти причины могут вызывать значительные изменения в языке гораздо скорее, чем в человеческом теле. Главным образом на этом соображении основана теория, согласно которой между типом и языком не оказывается соответствия даже и в продолжение периода образования типов и лингвистических семей[97].
Очевидно, сказанное выше об языке еще в большей степени подтверждается по отношению к культуре. Иными словами, если известный человеческий тип рассеялся по обширной территории, прежде чем его язык принял форму, которую теперь можно проследить в родственных ему лингвистических группах, и прежде чем его культура приняла определенный тип, дальнейшее развитие которого может быть ныне установлено, то невозможно установить соответствие типа, языка и культуры, если бы даже таковое когда-либо и существовало; но вполне возможно, что в действительности такого соответствия никогда и не было.
Вполне понятно, что известный расовый тип мог рассеяться на протяжении обширной территории в течение периода генезиса речи, и что языки, развившиеся у разных групп этого расового типа, стали настолько различными, что теперь невозможно доказать их генетическое родство. Точно также культура могла развиваться в новых формах, настолько совершенно чуждых связи с прежними типами, что уже невозможно открыть прежние генетические родственные связи, даже если они и существовали.
Если мы станем на эту точку зрения и, таким образом, устраним гипотетическое допущение, согласно которому существует соответствие между первобытным типом, первобытным языком и первобытной культурой, то мы признаем, что всякая попытка классификации, основанная более чем на одной из этих черт, не может быть последовательной.
Можно добавить, что понятие, выражаемое употреблявшимся выше общим термином «культура», может быть подразделяемо со многих точек зрения, при чем можно ждать разных результатов, смотря по тому, примем ли мы за основание при нашей классификации изобретения, типы социальной организации или верования.
После того, как мы показали, таким образом, что язык, культура и тип не могут быть рассматриваемы, как находящиеся в постоянной связи друг с другом, и признали, что у одного и того же человеческого типа развились различные языки, все еще остается нерешенным вопрос о том, имеют ли языки, развившиеся у какого-либо племени, характер превосходства или они стоят ниже других. Утверждали, например, что высоко развитые флексийные европейские языки стоят значительно выше громоздких агглютинативных или полисинтетических языков северной Азии и Америки (Габеленц)[98]. Утверждали также, что отсутствие фонетической разборчивости, отсутствие способности к абстракции являются характерными чертами первобытных языков. Важно выяснить, действительно ли эти черты присущи каким-либо языкам первобытных людей. Рассмотрение этого вопроса заставляет нас вернуться к выяснению характерных умственных черт, приписываемых различным человеческим типам.
Мнение о недостаточной фонетической дифференциации опирается на тот факт, что известные звуки первобытных языков истолковываются европейцами иногда как один, иногда как другой из привычных для нас звуков: их называли альтернативными звуками. Однако, во всех этих случаях более точное изучение фонетики показало, что эти звуки вполне определенны, но, что благодаря способу их произношения, они являются промежуточными между привычными звуками. Так например звук м, произносимый при очень слабом смыкании губ и с полураскрытым носом звучит для нашего уха отчасти как м, отчасти как б и отчасти как в, и, смотря по слабым, случайным, изменениям, при произнесении его слышится то один, то другой из этих звуков, хотя на самом, деле этот звук не более изменчив, чем наше м. Случаи этого рода весьма многочисленны, но ссылаться на них, как на доказательство недостаточной определенности звуков в первобытных языках, значило бы ложно их истолковывать (Боас)[99]. В самом деле, ограничение числа звуков, по-видимому, необходимо в каждом языке, чтобы возможно было быстрое, общение. Если бы число звуков, употребляемых в каком-либо языке, было безгранично, то, вероятно, не существовало бы той правильности, с которой совершаются движения сложного механизма, нужного для произнесения звуков, а следовательно быстрота и правильность произношения, а вместе с тем и правильное истолкование тех звуков, которые мы слышим, стало бы трудным или даже невозможным. С другой стороны, благодаря ограничению числа звуков, движения, требуемые для произнесения каждого из них, становятся автоматическими; прочно фиксируются ассоциации между тем звуком, который мы слышим, и мускульными движениями и между слуховым впечатлением и мускульным ощущением артикуляции. Таким образом, ограниченные фонетические ресурсы необходимы для легкости общения.
Второй чертой, на которую часто указывают для характеристики первобытных языков, является отсутствие способности к классификации и к абстракции. Здесь, опять-таки, нас легко вводят в заблуждение наша привычка пользоваться классификациями, свойственными нашему языку и поэтому считать их наиболее естественными и игнорирование принципов классификации, применяемых в языках первобытных людей.
Следует выяснить себе, что составляет элементы всех языков. Основной и общей чертой членораздельной речи является то, что группы произносимых звуков служат для передачи идей, и каждая группа звуков имеет определенный смысл. Языки отличаются друг от друга не только характером своих составных фонетических элементов и групп звуков, но и группами идей, находящих выражение в определенных фонетических группах.
Общее число возможных комбинаций фонетических элементов также беспредельно, но лишь ограниченное число их применяется для выражения идей. Отсюда вытекает, что число всех идей, выражаемых различными фонетическими группами, количественно ограничено. Мы называем эти фонетические группы «основами слов».
Так как объем личного опыта, для выражения которого служит язык, бесконечно разнообразен, и весь этот опыт должен выражаться при посредстве ограниченного числа основ слов, то очевидно, что в основе всякой членораздельной речи должна лежать обширная классификация опытов.
Это совпадает с основной чертой человеческой мысли. В нашем нынешнем опыте не оказывается двух тождественных чувственных впечатлений или эмоциональных состояний. Тем не менее, мы классифицируем их, соответственно их сходствам, в более или менее обширные группы, границы которых могут быть определяемы с разных точек зрения. Несмотря на индивидуальные различия, мы признаем в наших опытах общие элементы и считаем их родственными или даже тождественными, если у них оказывается общим достаточное число характерных признаков. Таким образом, ограничение числа фонетических групп, выражающих различные идеи, является выражением того психологического факта, что многие различные индивидуальные опыты кажутся нам представителями одной и той же категории мысли.
Примером могут служить термины, служащие в разных языках для обозначения цветов. Хотя число цветовых оттенков, которые могут быть различаемы, очень велико, однако, лишь небольшое количество их обозначается специальными терминами. В новое время число этих терминов значительно увеличилось. Во многих первобытных языках группировки желтого, зеленого и голубого цветов не согласуются с нашими. Часто желтый и желтовато-зеленый цвета соединяются в одну группу, зеленый и голубой — в другую. Типической, всюду встречающейся чертой является употребление одного термина для обозначения большой группы сходных ощущений.
Эту черту человеческой мысли и речи можно сравнить с ограничением всего ряда возможных артикулирующих движений, путем выбора ограниченного числа привычных движений. Если бы вся масса понятий со всеми их вариантами выражалась в языке совершенно разнородными комплексами звуков или основами слов, не находящимися ни в какой связи друг с другом, то близкое родство идей не выражалось бы в соответственном родстве их звуко вых символов, и для их выражения требовалось бы бесконечно большее число различных основ слов. В таком случае ассоциация между идеей и служащей ее представительницей основой слова не становилась бы достаточно прочной для того, чтобы ее можно было во всякий данный момент воспроизводить автоматически без рефлексии. Благодаря автоматическому и быстрому пользованию артикуляциями, из бесконечно большого количества возможных артикуляций и групп артикуляций было выбрано лишь ограниченное число артикуляций, изменчивость которых ограничена, и ограниченное число звуков. Точно таким же образом бесконечно большое число идей было сведено, путем классификации, к меньшему числу идей, между которыми, благодаря их постоянному применению, установились прочные ассоциации, которыми можно пользоваться автоматически.
Теперь важно подчеркнуть тот факт, что в группах идей, выражаемых специфическими; основами слов, в разных языках обнаруживаются весьма существенные различия, и что они никоим образом не соответствуют одним и тем же принципам классификации. Беря пример из английского языка, мы находим, что идея «воды» выражена в большом числе разнообразных форм. Один термин служит для обозначения воды, как жидкости; другой — воды, занимающей большое пространство, «озера»; другие — воды, как текущей в большом или небольшом количестве (река и ручей); еще другие термины обозначают воду в форме дождя, росы, волны и пены. Вполне понятно, что это разнообразие идей, каждая из которых выражается в английском языке при посредстве особого независимого термина, могло бы быть выражено в других языках производными от одного и того же термина.
Другими примером того же рода могут служить слова, служащие для обозначения «снега» в языке эскимосов. Здесь мы находим одно слово, обозначающее «снег на земле», другое — «падающий снег», третье — «снежный сугроб», четвертое — «снежную вьюгу».
В том же языке тюлень в различных положениях обозначается различными терминами. Одно слово является общим термином, для «тюленя», другое означает «тюленя, греющегося на солнце», третье — «тюленя, находящегося на плавающей льдине», не говоря уже о многих названиях для тюленей разных возрастов и для самца и самки.
Как пример такого способа группировки терминов, выражаемых нами независимыми словами, при котором эти термины подводятся под одно понятие, может служить дакотский язык. Термины «ударять», «связывать в пучки», «кусать», «быть близким к чему либо», «толочь», — сплошь произведены от общего, объединяющего их элемента, означающего «схватывать», между тем как мы пользуемся для выражения разных идей различными словами.
Очевидно, что выбор таких простых терминов должен, до известной степени, зависеть от главных интересов, народа. Там, где необходимо различать многие стороны известного явления, каждая из которых играет в жизни народа совершенно независимую роль, могут развиться многие независимые слова, тогда как в других случаях могут оказываться достаточными видоизменения одного термина.
Таким образом, оказывается, что каждый язык может, с точки зрения другого языка, казаться произвольным в своих классификациях: то, что представляется одной простой идеей в одном языке, может быть характеризуемо в другом языке рядом различных основ слов.
Тенденция языка выражать сложную идею одним термином была названа «holophrasis» (Пауель)[100]. По-видимому, всякий язык может, с точки зрения другого языка казаться голофрастическим. Вряд ли можно признать эту тенденцию основной, характерной чертой первобытных языков.
Мы уже видели, что своего рода классификацию выражений можно найти во всяком языке. Благодаря этой классификации идей по группам, каждая из которых выражается независимой основой слова, понятия, смысл которых трудно выразить посредством одной основы, непременно должны выражаться комбинациями или видоизменениями элементарных основ в соответствии с теми элементарными идеями, к которым сводится данная идея.
Эта классификация и необходимость выражать известные опыты посредством других опытов, которые находятся в связи с ними и, ограничивая друг друга, определяют ту специальную идею, которую нужно выразить, — подразумевают присутствие известных формальных элементов, определяющих отношения простых основ слов. Если бы каждая идея могла быть выражена одной основой слова, то возможны были бы языки без форм. Однако идеи должны быть выражаемы путем сведения их к нескольким идеям, находящимся в связи с ними, а потому роды связи становятся важными элементами в членораздельной речи. Отсюда вытекает, что все языки должны содержать в себе формальные элементы, и число их должно быть тем больше, чем меньше число элементарных основ слов, служащих для определения специальных идей. В языке, располагающем очень обильным фиксированным запасом употребляемых слов, число формальных элементов может стать очень небольшим.
Убедившись, таким образом, в том, что все языки требуют известных классификаций и формальных элементов и содержат их в себе, мы приступим к рассмотрению отношения между языком и мыслью. Утверждали, что сжатость и ясность мысли народа в значительной степени зависят от его языка. Та легкость, с которою мы выражаем в наших новых европейских языках широкие отвлеченные идеи одним термином и с которою широкие обобщения формулируются в простых фразах, признавалась одним из основных условий ясности наших понятий, логической силы нашей мысли и точности, с которой мы устраняем в наших мыслях не относящиеся к делу детали. По-видимому, многое говорит в пользу этого взгляда. Если сравнить современный английский язык с некоторыми из наиболее конкретных по свойственной им выразительности индейских языков, то контраст поразителен. Когда мы говорим: «Глаз есть орган зрения», индеец может оказаться неспособным образовать выражение «глаз», может быть, ему придется указывать, имеется ли в виду глаз человека или глаз животного. Индеец может также оказаться неспособным легко обобщить отвлеченную идею глаза, как представителя целого класса объектов; но, может быть, ему придется специализировать мысль выражением вроде «этот глаз здесь». Далее, он, пожалуй, не в состоянии выразить одним термином идею «органа», но ему придется подробно определять ее при посредстве выражения вроде «орудия видения», так что вся фраза может принять форму вроде «глаз неопределенного лица есть орудие его видения». Все же следует признать, что общая идея может быть хорошо выражена в этой более специфической форме. Кажется весьма сомнительным, насколько в самом деле можно считать ограничение употребления известных грамматических форм препятствием при формулировке обобщенных идей. Гораздо вероятнее, что отсутствие этих форм обусловлено отсутствием надобности в них. Первобытный человек, разговаривая со своим собратом, не имеет обыкновения рассуждать об отвлеченных идеях. Его интересы сосредоточиваются на занятиях его обыденной жизни; а когда затрагиваются философские проблемы, они обсуждаются или в связи с определенными индивидуумами, или в более или менее антропоморфных формах религиозных верований. В первобытной речи вряд ли встречаются рассуждения о качествах без связи с объектом, которому качества принадлежат, или о деятельностях или состояниях, рассматриваемых без связи с идеей деятеля или субъекта, находящихся в известном состоянии. Таким образом, индеец не станет говорить о доброте, как таковой, хотя он, конечно, может говорить о доброте какого-либо лица. Он не станет говорить о состоянии блаженства без отношения к лицу, находящемуся в таком состоянии. Он не станет упоминать о способности к движению, не указывая индивидуума, обладающего такой способностью. Таким образом, оказывается, что в языках, в которых идея обладания выражается элементами, подчиненными именам существительным, все отвлеченные термины всегда являются с притяжательными элементами. Однако, вполне возможно, что индеец, приученный к философской мысли, взялся бы за освобождение основных именных форм от притяжательных элементов и, таким образом, дошел бы до отвлеченных форм, точно соответствующих отвлеченным формам наших новых языков. Я сделал этот опыт, например, на одном из языков острова Ванкувера, в котором ни один отвлеченный термин никогда не встречается без своих притяжательных элементов. После некоторых разговоров я нашел, что очень легко развить идею отвлеченного термина в уме индейца, который признал, что слово без притяжательного местоимения имеет смысл, хотя оно и не употребляется в языке. Мне удалось, например, изолировать, таким образом, термины для выражения «любви» и «сожаления», обыкновенно встречающиеся лишь в притяжательных формах вроде «его любовь к нему» или «мое сожаление к вам». В правильности этой точки зрения можно убедиться также и по отношению к языкам, в которых притяжательные элементы являются как независимые формы, например, в языках сиуксов. В этих языках чистые отвлеченные термины весьма обыкновенны.
Есть также данные, свидетельствующие о том, что можно обходиться без других, столь характерных для многих индейских языков, специализирующих элементов, когда, по той или иной причине, представляется желательным обобщить какой-либо термин. Беря пример из одного из западных языков (Квакиутль на острове Ванкувере), идея «сидеть» почти всегда выражается неотделимым суффиксом, обозначающим место, на котором сидит какое-либо лицо, как-то: «сидит на полу в доме», «на земле», «на отлогом берегу», «на груде вещей» или «на круглой вещи» и т. д. Однако, когда по какой-либо причине требуется подчеркнуть идею сидения, может употребляться форма, выражающая просто «будучи в сидячем положении». В этом случае также оказывается налицо способ, которым, можно пользоваться для обобщенного выражения, но случаи его применения представляются редко, или, быть может, никогда не представляются. По моему мнению, то, что верно в этих случаях, верно и для строения всякого языка. Тот факт, что обобщенные формы выражения не употребляются, не доказывает неспособности образовать их, но доказывает лишь то, что образ жизни народа таков, что они не нужны, но что тем не менее они развивались бы по мере надобности.
Эта точка зрения подтверждается также изучением числовых систем первобытных языков. Хорошо известно, что существуют многие языки, в которых числительные не идут далее двух или трех. Из этого делали тот вывод, что люди, говорящие на этих языках, неспособны образовать понятие дальнейших чисел. По моему мнению, это истолкование существующего положения дел совершенно ошибочно. Такие народы, как индейцы Южной Америки (у которых встречаются эти неполные числовые системы) или эскимосы (у которых старая система чисел, вероятно, не шла далее десяти), вероятно, не нуждаются в обозначениях дальнейших чисел, так как предметов, которые им приходится считать, немного. С другой стороны, чуть только эти самые люди начинают соприкасаться с цивилизацией и приобретают мерила ценностей, которые приходится считать, они очень легко усваивают дальнейшие числительные из других языков и развивают более или менее совершенную систему счета. Это не означает, что всякий индивидуум, которому никогда не приходилось пользоваться высшими числительными, легко усвоил бы более сложные системы; но племя, как целое, по-видимому, всегда оказывается способным приспособиться к требованиям счета. Следует иметь в виду, что счет не становится необходимым, пока предметы не рассматриваются в такой обобщенной форме, что их индивидуальность совершенно теряется из виду. Поэтому возможно, что даже лицо, владеющее стадом прирученных животных, знает их по именам и по их характерным признакам, никогда не желая считать их. Члены военной экспедиции могут быть известны по именам и не подлежать счету. Словом, нет доказательств того, что недостаточное применение числительных, каким-либо образом связано с неспособностью образовать понятия дальнейших числительных, когда понадобится.
Чтобы правильно судить о влиянии, оказываемом языком на мысль, следует иметь в виду, что наши европейские языки в их нынешнем виде в значительной степени сформировались благодаря отвлеченному мышлению философов. Такие термины, как «сущность» и «существование», многие из которых теперь употребляются обыкновенно, являются по своему происхождению искусственными средствами для выражения результатов отвлеченной мысли. Таким образом, их можно признать сходными с искусственными, несвойственными языку отвлеченными терминами, образование которых возможно в первобытных языках.
Таким образом, препятствия к обобщению мыслей, заключающиеся в форме языка, представляются лишь маловажными, и, вероятно, один язык не помешал бы народу перейти к более обобщенным формам мышления, если бы общее состояние его культуры требовало выражения таких мыслей; скорее, при таких условиях язык формировался бы благодаря состоянию культуры. Поэтому существование какого-либо прямого соответствия между культурой племени и языком, на котором оно говорит, вероятно лишь постольку, поскольку язык формируется благодаря состоянию культуры, но известное состояние культуры не обусловливается морфологическими чертами языка.
Таким образом, мы нашли, что язык не дает искомого средства для того, чтобы установить различия в умственном состоянии разных рас.
VI УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРНЫХ ЧЕРТ.
Остается рассмотреть один вопрос, а именно: представляют ли некоторые племена низшую культурную стадию, если взглянуть на них с эволюционной точки зрения?
Наш обзор показал, что почти при всех попытках охарактеризовать ум первобытного человека принимаются в расчет не расовые аффилиации, а лишь стадии культуры, и результаты наших попыток определить характерные расовые различия имеют сомнительную ценность. Ясно, следовательно, что антропологи нового времени не только предполагают родовое единство человеческого ума, но молчаливо пренебрегают количественными различиями, которые, конечно, могут встречаться. Поэтому мы можем основывать наши дальнейшие соображения на теории сходства функций ума у всех рас.
Однако наблюдение показало, что не только эмоции, ум и воля человека повсюду сходны, но между различнейшими народами оказывается гораздо более значительное сходство, относящееся к деталям мышления и действий. Это сходство, очевидно, касается таких деталей и оказывается настолько значительным, что Бастиану пришлось говорить об ужасающей монотонности основных идей человечества во всем мире.
Таким образом, оказалось, что метафизические понятия человека могут быть сведены к немногим общераспространенным типам. Точно так же обстоит дело и по отношению к общественным формам, законам и изобретениям.
Далее, в высшей степени сложные и, по-видимому, нелогичные идеи и в высшей степени странные и сложные обычаи встречаются там и сям у некоторых племен в таких формах, что нельзя предположить, что они имеют общее историческое происхождение. При изучении культуры какого-либо племени можно найти у многих весьма различных народов черты, представляющие более или менее близкую аналогию с отдельными чертами культуры этого племени. Примеры таких аналогий были собраны в большом количестве Тайлором[101], Спенсером[102], Фрэзером[103], Бастианом[104], Андрее[105], Постом[106]и многими другими, так что нет надобности подробнее доказывать здесь этот факт. Достаточно привести несколько примеров. Из более общих идей я могу упомянуть о веровании в страну душ умерших, расположенную на западе, при чем для того, чтоб попасть в нее, нужно переправиться через реку; это известное всем нам из греческой мифологии верование распространено также и среди туземных племен Америки и Полинезии. Другим примером может служить идея множественности миров, из которых один или несколько находятся над нами, другие простираются под нами, при чем в центральном мире живет человек; в верхнем живут боги и счастливые души, в подземном мире живут несчастные души. Эта идея знакома нам по положениям, отводимым небу и аду, но она не менее распространена в Индии, в Сибири и в Северной Америке. Другой пример представляет идея о том, что человек способен снискивать благосклонность покровительствующих ему духов-хранителей. Столь же поразительные примеры представляет другая область умственной жизни. Повсеместно распространенное умение добывать огонь трением, варка пищи, знакомство со сверлом свидетельствуют о том, что известные изобретения повсеместны. Другими явлениями этого рода оказываются известные элементарные черты грамматической структуры, вроде употребления выражений для местоимений трех лиц, — а именно для обозначения говорящего лица, того лица, к которому обращена речь, и того лица, о котором идет речь, или часто встречающееся различение чисел единственного и множественного.
Примерами специальных любопытных аналогий, встречающихся в далеких друг от друга местностях, могут служить такие верования, как верование в возможность предсказывать будущее по растрескиванию жженых костей (Андрее)[107]; тот факт, что легенда о Фаэтоне распространена в Греции и в северо-западной Америке (Боас)[108]; употребление небольшого лука и стрелы для кровопусканий у животных (Гетер)[109]; развитие астрологии в Старом и Новом Свете; сходство техники и узоров при изготовлении корзин в Африке ив Америке (Диксон)[110]; изобретение духового ружья в Америке и у малайцев.
Эти примеры наводят на мысль о тех классах явлений, которые я имею в виду. Из этих наблюдений вытекает, что, когда мы находим у разных народов аналогии в отдельных чертах культуры, следует предполагать не существование общего для них исторического источника, а то, что они возникли независимо друг от друга. Представляется правдоподобной теория, согласно которой то, что эти явления постоянно встречаются у разнообразнейших членов человеческого рода, к какой бы расе они ни принадлежали, объясняется одной обшей причиной.
Дальнейшее исследование показывает, что эти обычаи распространены не вполне одинаково, но что существует известная более или менее тесная связь между развитием производства, социальной организацией и религиозными верованиями народов, населяющих землю, так что у народа с простыми формами производства можно найти мысли, несколько отличающиеся от мыслей народа, далее подвинувшегося вперед в развитии материальной культуры. Было также констатировано, что. существует связь между этническою жизнью народа и географической средой, способствующей или препятствующей его материальному развитию.
Общую причину этого сходства действий и верований народов и племен, отделяемых друг от друга обширными пространствами, принадлежащих к различным расам и находящихся на разных ступенях культурного развития, старались найти различным, образом.
Некоторые исследователи, например, Ратцель и, в прежнее время, Карл Риттер и Гюйо, особенно подчеркивали влияние географической окружающей среды на жизнь человека. Они выдвигают те черты сходства, которые проявляются в сходных типах окружающей среды.
Другие полагают, что многие из обычаев, верований и изобретений, составляющих общее достояние людей, живущих в странах, находящихся на больших расстояниях одна от другой, являются общим наследием, полученным от древнейших времен, когда род человеческий все еще населял лишь небольшую часть земной поверхности.
Некоторые старались изолировать наиболее обобщенные формы сходных этнических явлений. Бастиан, важнейший из представителей этой группы исследователей, назвал эти формы «элементарными идеями» и старался показать, что они необъяснимы.
Наконец, психологи пытались объяснить сходства анализом умственных процессов.
Необходимо несколько подробнее рассмотреть эти четыре метода объяснения.
Нетрудно выяснить важное влияние географической окружающей среды на формы изобретений. Разнообразие жилищ, которыми пользуются племена разных стран, представляет пример этого влияния. Снежный дом эскимоса, устраиваемый из древесной коры вигвам индейца, пещерные жилища племен пустыни могут служить иллюстрациями того, каким образом обеспечивается возможность укрыться от непогоды, смотря по тому, какого рода материалы оказываются доступными. Другими примерами могут служить формы более специальных изобретений, как-то: составные луки эскимосов, употребление которых, по-видимому, вызвано отсутствием длинного упругого материала для палок, служащих для изготовления луков; способы обеспечить упругость лука, когда трудно достать упругое дерево, или когда лук должен быть очень крепким, кожаные вместилища и корзины, часто заменяющие глиняную посуду у племен, не имеющих постоянных жилищ. Мы можем также указать на зависимость выбора мест для деревень от снабжения пищей и от сообщения по доступным дорогам или от легкости сообщений по водным путям. Влияние окружающей среды обнаруживается в территориальных границах известных племен и народов, равно как и в распределении населения и в его густоте. Влияние окружающей среды можно открыть даже в более сложных формах умственной жизни, например, в. мифах о природе, объясняющих деятельность вулканов или существование странных очертаний земли, или в верованиях и обычаях, относящихся к местным характеристикам времен года.
Если в наших теориях мы придаем значение лишь наблюдениям, показывающим, что человек зависит от географической окружающей среды, и предполагаем одинаковость или сходство ума у всех человеческих рас, мы неизбежно приходим к тому заключению, что одинаковая окружающая среда повсюду вызовет одинаковые культурные результаты.
Это, очевидно, неверно, так как в формах культуры народов, живущих в одинакового рода окружающей среде, часто обнаруживаются резкие различия. Мне нет надобности пояснять это сравнением американского колониста с североамериканским индейцем или сравнением между собой народностей, последовательно поселявшихся в Англии и развивавшихся от каменного века до современной английской культуры. Однако, желательно показать, что даже у первобытных племен тип культуры вовсе не определяется одной географической средой. Доказательством этого факта может служить образ жизни эксимосов, занимающихся охотой и рыбной ловлей, и чукчей, разводящих оленей (Богораз)[111], африканских пастухов-готтентотов и охотников-бушменов при их прежнем расселении на протяжении более обширных территорий (Шульце)[112]; негритосов и малайцев юго-восточной Азии (Мартин)[113].
Вторым и более важным элементом, который следует принимать в расчет, является социальное состояние каждого народа. Можно было бы думать, что окружающая среда важна лишь постольку, поскольку она стесняет проявления деятельности, свойственные какой-либо особой группе, или благоприятствует им. Можно даже показать, что старинные обычаи, гармонировавшие с известным типом окружающей среды, обнаруживают тенденцию сохраняться при новых условиях, при которых они скорее невыгодны, чем выгодны народу. Примером этого рода, взятым из нашей цивилизации, может служить то, что мы не утилизируем такого рода пищи, к которой мы не привыкли и которую мы можем найти в недавно заселенных странах. Другой пример представляют разводящие оленей кочевые чукчи, которые возят с собой очень сложные палатки, по своему типу соответствующие прежним постоянным домам обитателей побережья и представляющие в высшей степени резкий контраст простой и легкой эскимосской палатке (Богораз)[114]. Даже у эскимосов, которым удалось так замечательно приспособиться к окружающей их географической среде, мы можем найти обычаи, препятствующие наиболее полному использованию возможностей, представляемых страною; примером этого может служить закон, воспрещающий смешанное употребление в пищу мяса канадского северного оленя и мяса тюленя (Боас)[115].
Таким образом, окружающая среда, по-видимому, оказывает значительное влияние на человеческие обычаи и верования, но лишь поскольку она способствует выработке специальных форм обычаев и верований. Однако они обусловлены, главным образом, культурными условиями, которые сами слагаются благодаря историческим причинам.
Относительно этого пункта этнографы, пытающиеся положить в основу объяснения культурного развития условия географической окружающей среды, обыкновенно утверждают, что эти исторические причины сами вытекают из прежних условий, из которых они возникли под давлением окружающей среды. Мне кажется, что это утверждение неприемлемо, раз исследование воякой отдельной культурной черты доказывает, что влияние окружающей среды вызывает известную степень приспособления, устанавливающегося между окружающей средой и социальной жизнью, но господствующие условия никогда не могут быть вполне объяснены одним лишь действием окружающей среды. Мы должны помнить, что, как бы ни было значительно влияние, приписываемое нами окружающей среде, это влияние может проявляться, лишь будучи оказываемо на ум, так что характерные черты ума должны входить в получающиеся в результате формы социальной активности. Невероятно, чтобы умственная жизнь могла быть удовлетворительно объяснена одною окружающею средою, так же как окружающая среда не может быть объяснена влиянием населения на природу, которое, как всем известно, вызвало изменения в течении рек, истребило леса и изменило фауну. Иными словами, игнорирование той роли, которую психические элементы играют при выработке форм деятельности и верований, очень часто встречающихся во воем мире, ни на чем не основано.
Вторая теория, предложенная для объяснения универсальности некоторого числа основных идей и изобретений, основана на предположении, согласно которому они представляют собой старые культурные успехи, достигнутые в период, предшествовавший общему расселению человеческой расы.
Эта теория основана на всеобщем распространении известных культурных элементов. Очевидно, она применима лишь к чертам, встречающимся во всем мире, так как, если бы мы допустили исчезновение некоторых из них в течение хода исторического развития, то могли бы получиться самые фантастические выводы. Некоторые этнологические данные, по-видимому, свидетельствуют в пользу этой теории и заставляют нас склоняться к предположению, согласно которому некоторые из повсеместных черт культуры восходят, может быть, к очень раннему времени, предшествовавшему расселению человечества, предполагаемому на основании биологических соображений. Важнейшим из них является, пожалуй, то, что собака встречается в качестве домашнего животного во всех частях света. Правда, по всей вероятности, предками собак в разных частях света являются главным образом туземные дикие собаки, но тем не менее представляется вероятным, что совместная жизнь человека и собаки развилась в древнейший период человеческой истории, предшествовавший отделению рас северной Азии и Америки от рас юго-восточной Азии. Появление динго (туземной собаки) в Австралии, по-видимому, всего легче можно объяснить, предположив, что она последовала за человеком на этот отдаленный континент.
Другие очень простые роды деятельности, может быть, возникли благодаря успехам, достигнутым древнейшими предками человека. Искусства добывания огня, сверления, резания, пиления, обделывания камня, вероятно, восходят к этой ранней эпохе, и, быть может, эти искусства составляли то наследие, на основе которого всякий народ строил свой собственный индивидуальный тип культуры (Вейле)[116]. Если бы археологические исследования показали, что орудия и другие доказательства успехов человека встречаются в геологический период, в течение которого человечество не достигло своего нынешнего распространения по всему миру, то нам пришлось бы сделать вывод, согласно которому они представляют раннее культурное достояние человека, которое он разносил с собою по всему миру. В этом заключается большое и основное значение эолитических находок, столь обстоятельно обсуждавшихся в последние годы. Язык также является чертою общею всему человечеству, так что корни его могут восходить к древнейшим эпохам.
Проявления активности, обнаруживающиеся у высших обезьян, по-видимому, свидетельствуют в пользу предположения, согласно которому известные искусства могли быть достоянием человека до его расселения. Их привычка устраивать гнезда, т.-е. жилища, употребление палок и камней являются указанием в этом направлении.
Поэтому представляется правдоподобным, что известные культурные успехи восходят к появлению человечества. Защитники этой теории, как-то: Вейле и Гребнер, полагают также, что известные изобретения, например, бумеранг, спорадически встречающиеся у рас, признаваемых родственными по происхождению, может быть, относятся к эпохе, предшествовавшей дифференциации и расселению этих рас.
Относительно многих из тех явлений, которые могут быть объяснены с этих точек зрения, совершенно невозможно представить бесспорные аргументы, доказывающие, что эти обычаи вызваны не параллельным: и независимым развитием, а общностью происхождения. Разрешению этой проблемы будут в значительной степени способствовать, с одной стороны, результаты доисторической археологии, а с другой — психологии животных.
Эта проблема становится, еще более трудной вследствие того, что культурные элементы передаются от одного племени к другому, от одного народа к другому и из одной части света в другую, что может быть доказано с древнейших времен. Как пример той быстроты, с которой передаются культурные успехи, можно упомянуть историю некоторых возделываемых растений в новое время. Табак и маниок были ввезены в Африку после открытия Америки, и эти растения быстро распространились по всему материку, так что теперь они имеют столь важное значение для всей культуры негров, что нельзя было бы подозревать их иноземное происхождение (Ган)[117]. Таким же образом мы находим, что употребление бананов распространилось почти по всей Южной Америке (фон-ден-Штейнен)[118].
Другой пример неимоверной быстроты, с которой полезное культурное приобретение может распространиться по всему миру, представляет история маиса. Упоминается, что он был известен в Европе в 1539 году. По словам д-ра Лауфера[119], он проник в Китай через Тибет между 1540 и 1570 г.г.
Легко показать, что подобные же условия существовали и в прежние времена. Исследования Виктора Гена[120] доказывают, что количество прирученных животных и разводимых растений, постепенно и непрерывно возрастало, благодаря ввозу их из Азии. Тот же самый процесс совершался и в доисторические времена. Постепенное распространение азиатской лошади, которая сперва употреблялась как упряжное животное, а позднее — для езды верхом, распространение рогатого скота в Африке и в Европе, развитие европейских зерновых хлебов могут служить поясняющими примерами. Территория, по которой распространились эти добавления к основному капиталу человеческой культуры, весьма обширна. Мы видим, что большая часть их распространяется на запад, пока не достигает берегов Атлантического океана, и на восток к берегам Тихого океана. Они проникли также и в Африку. Возможно, что употребление молока распространялось сходным путем, так как мы находим, что молоко употреблялось в пищу во всей Европе, в Африке и в западной части Азии в ту эпоху, с которой начинаются наши исторические сведения о людях, населяющих мир.
Быть может, лучшее доказательство передачи заключается в фольклоре племен, населяющих мир. По-видимому, быстрее всего распространяются фантастические рассказы. Известны сложные повести, которые не могли быть придуманы дважды и которые рассказываются берберами в Марокко, итальянцами, русскими, в джунглях Индии, на возвышенностях Тибета, в тундрах Сибири и в прериях Северной Америки, так что, может быть, из всех частей света они не проникли лишь в Южную Африку, Австралию, Полинезию и Южную Америку. Примеры такой передачи очень многочисленны, и мы начинаем убеждаться в том, что ранние сношения между человеческими расами охватывали почти весь мир.
Из этого вытекает, что, как бы ни была первобытна культура данного племени, она может быть вполне объяснена лишь в том случае, если мы примем в расчет как ее внутренний рост, так и ее отношение к культуре его близких и дальних соседей и то влияние, которое они могли оказать.
Может быть, здесь полезно указать, что, по-видимому, существовали две огромные области, в которых происходила далеко простиравшаяся диффузия. Наши краткие замечания о распространении культурных растений и прирученных животных доказывают существование взаимных сношений между Европой, Азией и Северной Африкой от Атлантического до Тихого океана. Другие культурные черты подтверждают этот вывод. В постепенном распространении бронзы из центральной Азии на запад и на восток по всей Европе и по Китаю, в области, в которой употребляется колесо, где занимаются земледелием, применяя плуг и прирученных животных, обнаруживается тот же самый тип распространения (Ган)[121]. Мы можем признать одинаковость характерных черт в этой области и в других отношениях. Клятва и ордалии весьма развиты в Европе, Африке и Азии, за исключением северо-восточной части Сибири, между тем как в Америке они почти неизвестны (Лааш)[122]. Другие общие черты культурных типов Старого Света также обнаруживаются чрезвычайно отчетливо благодаря контрасту с условиями, существующими в Америке. Одной из этих черт является важное значение формальной судебной процедуры в Старом Свете и почти полное ее отсутствие у племен северной и южной Америки, которые по их общему культурному развитию, конечно, можно сравнить с африканскими неграми. В области фольклора я могу указать на обилие загадок, пословиц и нравоучительных басен, столь-характерных для громадной части Старого Света, между тем как их не оказывается в северо-восточной Сибири и в Америке. Во всех этих отношениях Европа, большая часть Африки и Азии, за исключением ее крайней северо-восточной части, и находящиеся в связи с ней острова к востоку от Малайского архипелага образуют одно целое.
Подобным же образом ты можем проследить известные очень общие черты в большой части Америки. Всего убедительнее употребление маиса во всей той части Америки, где занимаются земледелием, но мы могли бы также указать на развитие особого типа церемониала и декоративного искусства. По-видимому, средине части Америки играли роль, представляющую некоторое сходство с ролью центральной Азии в Старом Свете, поскольку там могла быть родина многих из характерных черт цивилизации до развития более высокого типа цивилизаций Центральной и Южной Америки.
Представителем третьей точки зрения является Бастиан[123], признающий важное значение географической окружающей среды при видоизменении аналогичных этнических явлений, но не приписывающий им творческой силы. Одинаковость форм мысли, находимых в странах весьма отдаленных одна от другой, навела его на мысль о существовании известных определенных типов мысли, все равно, среди каких бы условий ни жил человек, и каковы бы ни были его социальные и психические отношения. Он назвал эти основные форумы мысли, «развивающиеся с железной необходимостью повсюду, где живет человек», «элементарными идеями». Он отрицает возможность открыть последние, повсюду оказывающиеся налицо источники изобретений, идей, обычаев и верований. Они могут быть местного происхождения, могут быть занесены, могут проистекать из разнообразных источников, но они оказываются налицо. Человеческий ум таков, что он самопроизвольно открывает их или принимает их всякий раз, когда они ему предлагаются. Теория Бастиана о постоянстве этих форм мысли кажется мне родственной взгляду Дилтея на ограниченность возможных типов философии. Сходство взглядов этих двух авторов явственно обнаруживается также в постоянных ссылках Бастиана на теории философов, сравниваемые им с теми взглядами, которых держится первобытный человек. С точки зрения Бастиана важна основная одинаковость форм человеческой мысли во всех формах культуры, как прогрессировавших, так и в первобытных.
В изложенных им взглядах можно найти известного рода ми стицизм, поскольку элементарные идеи представляются его уму неприкосновенными сущностями. Никакая дальнейшая мысль не может разъяснить их происхождения, так как мы сами вынуждены мыслить в формах этих элементарных идей.
Точная формулировка элементарной идеи до известной степени выясняет нам психологическое основание для ее существования. Например, тот факт, что так часто предполагается, что страна теней находится на Западе, наводит на мысль, что она локализируется там, где скрываются солнце и звезды. Простое констатирование того, что первобытный человек считает животных одаренными всеми качествами человека, показывает, что аналогия между многими из качеств животных и человеческими качествами вызвала взгляд, согласно которому все качества животных являются человеческими. В других случаях причины не столь самоочевидны, например, в случае широко распространенных обычаев, ограничивающих брак и вызывающих недоумение во многих исследователях. Трудность этой проблемы доказывается множеством гипотез, придуманных для объяснения ее во всех ее различных формах.
Однако проблема происхождения элементарных идей обсуждалась с психологической точки зрения, и тщательно выработанная Вундтом теория психологии народов, а также исследования социологов-психологов указывают те направления, в которых следует разрабатывать эту проблему. Для выяснения этого пункта я могу упомянуть общее рассмотрение функции ассоциаций в верованиях первобытных людей, данное Вундтом[124], или исследование внушения и гипнотизма в первобытной жизни, произведенное Штолем[125]. Более подробное обсуждение этого метода рассмотрения обыкновенных элементарных идей может быть отложено до VIII главы.
VII ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ.
Как я уже упоминал, некоторые авторы, например, Гобино, Клемм, Карус, Нотт и Глиддон, предполагали характерные умственные различия между человеческими расами. Эти взгляды возродились благодаря развитию современного национализма, с его чрезмерным восхищением тевтонской расы своими достоинствами, с его панславизмом и сходными симптомами, развивающимися в других частях света; но эти взгляды не подтверждаются результатами беспристрастного исследования.
Остается, однако, рассмотреть одну точку зрения, которая могла бы доставить основу для исследования. Разнообразие форм, в которых встречаются основные идеи, давно приводилось в связь с общими впечатлениями, относящимися к ступеням цивилизации, и при этом обращалось внимание на повторение во всем мире сходных форм, по-видимому, соответствующих возрастанию степени сложности культуры. Это привело антропологов к тому выводу, что типы человеческой культуры представляют эволюционный ряд; первобытные племена нашего времени представляют более древнюю стадию культурного развития, через .которую типы, более подвинувшиеся вперед, прошли в более ранние периоды. Если это верно, и если бы можно было показать, что отдельные племена развиваются независимо, то мы, конечно, могли бы сказать, что менее благоприятно развивавшимися должны были бы оказываться те расы, у которых более ранние типы культуры встречаются очень часто, а более поздние стадии развития — редко. Я уже упомянул об этой возможности. Поэтому теория однообразного развития человеческой цивилизации должна быть рассмотрена в нашем исследовании отношения между расовыми типами и культурным прогрессам. Исследования Тайлора и Бахофена, Моргана и Спенсера вызвали сосредоточение внимания на данных антропологии, как выясняющих постепенное развитие цивилизации. Развитие этой стороны антропологии было подвинуто вперед трудами Дарвина и его последователей, и ее основные идеи могут быть понимаемы лишь как приложения теории биологической эволюции к умственным явлениям. Взгляд, согласно которому проявления этнической жизни представляют ряд, прогрессировавший от простых начатков до сложного типа современной цивилизации, составлял основную мысль этого направления антропологической науки.
Аргументы в пользу теории, согласно которой развитие цивилизации повсюду шло сходным путем, так что у первобытных племен мы все еще можем обнаружить стадии, через которые прошла наша собственная цивилизация, в значительной степени основаны на сходствах типов культуры, находимых у различных рас во всем свете, а также и на существовании в нашей собственной цивилизации таких особых обычаев, которые могут быть понимаемы лишь как пережитки (Тайлор)[126] более древних обычаев, имевших более глубокое значение в более раннюю эпоху и все еще встречающихся в полной силе у первобытных людей.
Необходимо указать по крайней мере на некоторые из сторон этой общей проблемы, чтобы выяснить значение эволюционной теории человеческой цивилизации.
Во многих странах в социальной организации первобытных племен обнаруживаются сходные черты. Вместо того, чтобы определять происхождение так, как это делается у нас, многие племена признают дитя членом только семьи его матери и считают кровное родство лишь по материнской линии, так что двоюродные братья с материнской стороны считаются близкими родственниками, между тем как двоюродные братья с отцовской стороны считаются находящимися лишь в дальнем родстве. У других племен существует строго отцовская организация, так что дитя принадлежит только к семье своего отца, а не к семье своей матери; некоторые племена придерживаются тех же принципов, которыми руководимся мы, считая родство по обеим линиям. В связи с этими обычаями находится выбор местопребывания новобрачной четы, иногда живущей с племенем или с семьей жены, иногда с племенем или с семьей мужа. Когда чета поселяется с той социальной группой, к которой принадлежит жена, часто бывает, что с мужем обходятся как с посторонним человеком, пока не родится его первый ребенок. Эти явления были всесторонне исследованы, и было отмечено, что обычаи, относящиеся к месту жительства и к происхождению, очевидно, находятся в тесной взаимной связи (Тайлор)[127]. Как результат этих исследований был сделан тот вывод, что материнские учреждения повсюду предшествуют отцовским, и что социальная организация человечества была такова, что первоначально, может быть, не существовало никакой определенной семейной организации; затем развились материнские учреждения, за которыми, в свою очередь, последовали отцовские учреждения, а потом развилась система считать родство одинаково, как по материнской, так и по отцовской линиям.
Сходные результаты получились при изучении человеческих изобретений. Выше было указано, что разные породы обезьян иногда пользуются камнями для защиты, и что искусственные убежища животных некоторым образом указывают на начатки изобретений. В этом смысле мы можем искать происхождения орудий и утвари у животных. В древнейшие времена, от которых остались на поверхности земли человеческие остатки, мы находим, что люди пользуются простыми каменными орудиями, изготовляемыми посредством грубого обтесывания, но многообразие форм орудий постепенно возрастает. Так как возможно, что некоторые орудия изготовлялись из непрочных материалов, то в настоящее время мы не в состоянии сказать, в самом ли деле в очень раннюю эпоху в качестве орудий и утвари употреблялись лишь те немногие каменные предметы, которые можно найти ныне; но, конечно, орудия были немногочисленны и, сравнительно, просты. С того времени количество способов применения огня и орудий для резания и нанесения ударов, для скобления и просверливания все возрастало, и они делались все более и более сложными. Можно проследить постепенное развитие от простых орудий первобытного человека до сложных машин нашего времени. Изобретательный гений всех рас и бесчисленных индивидуумов способствовал достижению нынешнего состояния техники. В общем, раз сделанные изобретения сохранялись с большим упорством, и, благодаря постоянным прибавлениям, ресурсы, которыми может располагать человечество, постоянно увеличивались и умножались.
Превосходный пример общей теории развития цивилизации можно найти в теории эволюции земледелия и приручения животных, изложенной Отисом Т. Mэзоном[128], В. И. Мак-Джи[129] и Ганом[130]. Они указывают, как в самом начале развития социальной жизни животные, растения и человек жили вместе в определенной окружающей среде, и как, благодаря условиям жизни, известные растения размножались, что вело к исчезновению других, и как известных животных терпели по соседству с человеческим лагерем. Благодаря этому состоянию взаимной терпимости и поощрению взаимных интересов развилась, если в данном случае можно воспользоваться этим термином, более тесная ассоциация между растениями, животными и человеком, и в конце концов эта ассоциация привела к начаткам земледелия и к настоящему приручению животных.
К сходным результатам привели исследования относительно искусства. Исследователи старались показать, что с тех пор, как обитатели пещер во Франции рисовали очертания оленя и мамонта на кости и на отростках оленьего рога, человек пытался воспроизводить на пиктографических рисунках животных той местности, где он жил. В художественных произведениях многих народов были найдены рисунки, которые легко привести в связь с пиктографическими изображениями, утратившими, однако, свойственный им реализм формы и ставшими все более и более условными; таким образом, во многих случаях чисто декоративный мотив истолковывался как развившийся из реалистической пиктографии, постепенно утрачивавшей первоначальный характер под влиянием эстетических мотивов. На островах Тихого океана, в Новой Гвинее, в Южной Америке, в центральной Америке, в доисторической Европе найдены образчики этого направления развития (см. Марч[131], Гаддон[132], фон-ден-Штейнен[133], Гольмс[134]) которое было поэтому признано одной из важнейших тенденций эволюции декоративного искусства, начинающегося с реализма и ведущего через символическую условность к чисто эстетическим мотивам[135].
Религия представляет другой пример эволюции, типичной для человеческой мысли. Человек рано начал размышлять об явлениях природы. Все представлялось ему в антропоморфной форме. Таким образом возникли первые примитивные понятия о мире, в которых камень, гора, небесные светила рассматривались как одушевленные антропоморфные существа, одаренные волею и желающие помогать человеку или угрожать ему опасностями. Наблюдения над проявлениями деятельности собственного тела человека и его ума вызвали образование идеи души, независимой от тела; и, по мере возрастания знаний и роста философской мысли, из этик простых начатков развились религия и наука.
Одинаковость всех этих явлений в разных частях света считалась доказательством не только основного единства ума всех человеческих рас, но и верности теории эволюции цивилизации. Таким образом, было воздвигнуто грандиозное построение, с точки зрения которого наша нынешняя цивилизация представляется необходимым результатом деятельности всех человеческих рас, фигурирующих в одной величественной, процессии, ведущей от простейших начатков культуры через периоды варварства к той стадии цивилизации, на которой они стоят в настоящее время. Шествие не было одинаково быстрым: некоторые расы все еще отстают, между тем как другие решительно подвинулись вперед и занимают первое место в общем прогрессе.
Представляется желательным точнее выяснить смысл этой теории параллелизма культурного развития. По-видимому, ее смысл таков, что разные группы человечества двинулись в путь в очень раннюю эпоху, при чем общим исходным пунктом было отсутствие культуры. Благодаря единству человеческого ума и вытекающему из него сходству реакции на внешние и внутренние стимулы, они повсюду развивались в одном и том же направлении, делая сходные открытия, и у них развивались сходные обычаи и верования. По-видимому, эта теория подразумевает также известное соответствие между промышленным и социальным развитием, а следовательно и определенный порядок, в котором открытия следовали одно за другим, равно как и формы организации и верования.
При отсутствии исторических данных относи
