Читать онлайн Петербург в 1903—1910 годах бесплатно
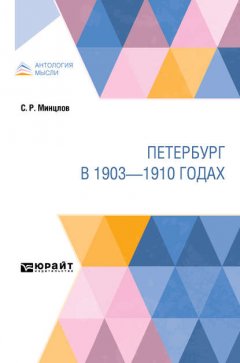
Предисловие
За всю свою жизнь я никогда не состоял ни в какой политической партии и не принимал участия в политических кружках и делах. Я всегда оставался свободным человеком и мои записи не подсказаны мне партийной дисциплиной, а являются точным отражением того, что совершалось перед моими глазами и тех настроений, которые с каждым днем все глубже и шире захватывали все слои общества и революционировали его. Мы жили на вулкане и постепенно отравлялись его газами: вот точка зрения, с которой должен будет смотреть на события этих лет историк-патолог нашего времени. Поэтому да простит мне читатель те, быть может излишние, резкости, которые он найдет в моих записях и которые свидетельствуют не о моих убеждениях, а о степени нервного возбуждения, какое мы переживали четверть века назад во дни первой революции.
С. Р. Минцлов
1903 год
4 мая. Угрюмые всегда петербуржцы повеселели: сегодня разрешено женщинам ездить на верхах конок[1]. Невольно улыбаешься, видя, как неумело, подобрав юбки, и сконфуженно, подымаются по крутым лесенкам барышни и дамы; глаз не привык встречать на империалах среди чуек и смазных сапогов нарядные жакетки и шляпы с цветами. Нынче обще-петербургское представление и первый женский дебют.
7 мая. Телеграф принес весть об убийстве уфимского губернатора Богдановича[2].
Весть эта принята обществом довольно равнодушно: смерть Боголепова и Сипягина[3] приучила уже к подобным событиям, да Богданович и не пользовался расположением.
В газетах, конечно, помещены трогательные некрологи, где он выставлялся в некоторого рода ореоле, но… чего не печатают в наших газетах!
8 мая. Дожди и дожди. Будет прискорбно, если празднование 200-летия Петербурга пройдет при такой погоде!
Городской голова Лелянов[4] возил к министру внутренних дел церемониалы торжеств для утверждения; Плеве[5], увидав их, замахал руками и произнес: «Короче, как можно короче!»
Есть слухи, что в юбилейные дни произойдут беспорядки; солдатам приказано выдать по 35 патронов на человека.
9 мая. П. П. Шенк[6], заведывающий библиотекой Императорских театров, рассказал мне любопытный случай с покойным Д. Григоровичем[7]. Он был председателем Литературно-театрального комитета и однажды явился в библиотеку, передал Шенку протокол заседания и ушел. Шенк пробежал протокол. Трактовалось о какой-то пьесе: разделывали ее, что называется, под орех: и не сценична, и деланна, и характеров нет, и т. д., и т. д.
Проходит несколько дней — в библиотеку ураганом врывается Григорович.
— Где протокол? где протокол? возбужденно спрашивает он у Шенка. Тот отдал ему бумагу, и старик Григорович стремглав бросился вон, как оказалось потом, опять в комитет.
На другой день является он в библиотеку и отдает Шенку протокол о той же пьесе. Читает он его и глазам не верит. Пьеса хвалится до небес — и сценична она и характеры выдержаны, и мастерски написана. Что за метаморфоза?.. Загадка скоро разъяснилась.
М. Г. Савина
Передав в библиотеку первый протокол, Григорович поскакал к М. Г. Савиной[8]: пьесу неизвестного автора представила она для своего бенефиса. У Савиной сидел А. С. Суворин[9].
— Помилуйте, матушка Марья Гавриловна, заговорил войдя Григорович. — Я сейчас из заседания, читали представленную вами пьесу: это, простите, черт знает что — никуда не годная вещь!.. — и пошел честить ее.
Д. В. Григорович
Марья Гавриловна молчала и улыбалась. Наконец, Григорович кончил.
— А вот позвольте вам представить автора этой пьесы, сказала Савина, указывая на Суворина.
Григоровича словно ужалило; он забормотал, залепетал, растерялся.
— Да вы про что, Марья Гавриловна? Про какую пьесу? Вы ведь представили их две… (пьеса была представлена ею только одна, и М. Г. усмехнулась). Так это я вот про ту… а эта, Алексея Сергеевича, она нет, она великолепна, она одобрена!..
Схватил шапку и убежал как мальчик, переделывать протокол[10].
Сегодня опубликовано высочайшее повеление об увольнении бессарабского губернатора фон Раабена за допущение им кишиневского погрома евреев[11]. Говорят, что истинный виновник погрома — Плеве, задумавший, якобы, его с целью отвлечения внимания общества от брожения и беспорядков, происходящих повсеместно на Руси.
10 мая. Петербург готовится к юбилею: не все их праздновать литераторам да чиновникам! На Невском и Литейном врывают в землю высокие шесты с орлами, сооружают арки и т. д. Погода прояснилась, тепло. По городу во множестве рассылаются и раскидываются прокламации, призывающие всех примкнуть к беспорядкам, предположенным во дни празднеств. Думаю, что именно вследствие этих прокламаций ничего не произойдет, и листки эти предназначены лишь для отравления спокойствия Плеве и градоначальника Клейгельса[12].
14 мая. Усиленно говорят, что рабочих на петербургские празднества не допустят и заставят работать под угрозой немедленной высылки. Сперва предполагалось торжествовать все три дня, теперь «юбилей» продлится всего один — шестнадцатого. В ночь на 17-е все украшения, флаги и пр. приказано убрать.
Стоило возводить и устраивать всю эту миллионную мишуру на один день! Лучше было бы не затевать совсем ничего и не приглашать заморских гостей за сто верст киселя хлебать!
15 мая. По фабрикам и заводам объявлено, что 16-го работы должны производиться; неявившиеся будут уволены и высланы немедленно.
Украшений мало. На Невском расставлены какие-то нелепые, плохо окрашенные красные шесты с гербами; часть их окружена как бы круглой решеткой, опирающейся на остовы кораблей; постаменты под этими кораблями зеленые. Недурна арка на Английской набережной; в основаниях ее два корабля со снастями и пушками типов петровской эпохи. Прочие части города, кроме Невского, Морской и Сенатской площади, в смысле украшений пусты. Неизвестно зачем и для кого — для провинции, что ли — газеты врут об этих украшениях. Прочитаешь их — кажется, сейчас выйдешь из дома — увидишь какую-нибудь сказку из 1001 ночи, а выйдешь — полное разочарование! С нетерпением ждут все вечера: 16-го предполагается феерическая иллюминация.
Настроение в городе тревожное, мало кто интересуется Петром Великим и юбилеем — до них почти никому дела нет, интересуются и говорят об ожидающихся скандалах. Кроме прокламаций рассылаются и подметные письма: один сенатор получил предупреждение, чтобы женщины и дети не выходили 16-го на улицу, так как помимо беспорядков будут производиться обливания серной кислотой[13].
16 мая. Утро чудесное! Пошел по Невскому пр. пешком к собору Исаакия. Пестреют флаги и драпировки, магазины закрыты. Против Невского у Николаевского вокзала стоит арка с тремя картинами: средняя изображает бурю на море и Петра, спасающего тонущих; левая — вид Петербурга, правая — вид Невы до основания города. Народ лился по обеим сторонам густой и спокойной волной; много было простонародья, все приодеты, чистенькие, трезвые: винные лавки были закрыты еще накануне.
Некоторые дома украсились художественно. Всероссийски известный пройдоха — Генрих Блок весь футляр, закрывающий новостроющийся дом его[14], завесил гигантским полотном с цифрою 200 среди нарисованных цветных гирлянд. Дурацкие шесты обвили ельником; на панели против Гостиного двора устроен сквозной зеленый трельяж, тоже перевитый ельником. Это место — лучшее в Петербурге. Против средних ворот устроен дикий уголок первобытной Невы: скалы, ели, и среди них с топором в руке стоит Петр, как бы озирая простор перед собой. Задумана декорация и выполнена художественно. Несколько наискосок, со стен Пассажа, выдвигается нос оснащенного белого корабля с надписью «Россия»; на нем опять Петр. Дума украшена безвкусно: перед какой-то размазанной по полотну яичницей, долженствующей изображать лучи восходящего солнца, вычурно и напыщенно стоит Петр, опираясь на трость; боковые картины тоже аховые, не выше работ домовых маляров; одна представляет иллюстрацию к стихотворению о починке Петром разбитой ядрами лодки рыбака; Петру сделали такую физиономию, точно он не лодку чинил, а стрельцов рубил!
Городская дума в дни празднования 200-летия Петербурга
На углу Михайловской ул. устроен деревянный фонтан — скверно выкрашенный; везде елки, елки без конца, словно на похоронах по первому разряду.
К Исаакию с Морской не пускали; на Неву доступа без билетов не было. Мосты были разведены, а через Николаевский и Литейный публику пускали по рассмотрении физиономий полицией. Многотрудные обязанности возложены на нее, бедную; и «тащщи» и «не пущщай» и физиономистом будь! Последнее слово, впрочем, трактуется по-особому: бить по физиям.
По окончании церемонии освящения нового Троицкого моста — долгонько строили его, сердешного![15] — через Машков переулок я пробрался к Неве, как раз в момент открытия пальбы. Вся река вдоль левого берега была покрыта разнокалиберными судами, увешанными гирляндами флагов; ясный день, многочисленные суда, флаги на домах — все давало красивую картину. Белые дымки, то и дело взлетавшие над крепостью и с бортов судов, делали ее еще более величественной; громы орудий не смолкали.
Народа везде море. Вдоль Невы, мимо трибун против Троицкого моста, мимо памятника дикарю без штанов с надписью «Суворов», через Царицын луг прошел я на Литейный пр. и направился домой.
Всюду было удивительно чинно и спокойно — ни свистка, ни шума, ни обычной на улицах семиэтажной брани нигде не слышалось. Зато не видел и веселых лиц; казалось, что был не народный праздник, а просто приказали сотням тысяч людей вырядиться получше и явиться в центр города; они это исполнили и пришли несколько удивленные, недоумевающие. Письма не подействовали: барынь и барышень на улицах пестрело видимо-невидимо. Однако, нашлись и такие, что этим писаньям поверили и просидели дома, все время ожидая чего-то ужасного.
Вечер. В девять с половиной час. вечера поехал прокатиться по Невскому и полюбоваться иллюминацией. Народа — гибель. Частные общественные экипажи не ходили; конки набиты битком. По обе стороны улиц — тесная, едва двигающаяся, поразительно чинная лава людей. Ни шуток, ни смеха — точно громадная процессия медленно движется за гробом, или крестным ходом.
Я проехал к памятнику Петра на Сенатскую площадь и обошел ее. Более безвкусно-нелепых украшений, чем какие стоят там, выдумать трудно.
Отступя от памятника, полукругом расставлены, начиная от царской палатки, увитые ельником мавзолеи со щитами на них. На каждом щите — года смерти царей: 1725 — год смерти Петра, 1727 — Екатерины I, и т. д., и т. д. … Не забыт и несчастный Иоанн Антонович: год его царствования красовался тоже. На последнем мавзолее виднелся на щите только вензель: Н. II. Впечатление было такое, словно мы попали на Александро-Невское кладбище. Чья фантазия родила эти мавзолеи — не знаю!
Празднование 200-летия Петербурга на Сенатской площади
Зато площадь — еще недавно угрюмая, голая, вымощенная булыжником — предстала в новом, прекрасном виде: чудным цветником, примкнувшим к парку. Работы над этой затеей шли спешные и были закончены только накануне. Публика гуляла и ожидала зрелища, но иллюминации не было. Только на темной Неве довольно эффектно осветились три судна: одно в виде звезды, на другом среди огненных рей краснела в воздухе огромная буква П. В толпе шныряли продавцы флажков, жетонов, платков; торговали этими вещицами бойко.
Наконец, разнеслась весть, что иллюминация отменена. Как, зачем, почему?! Ничего не известно. Ожидавшая зрелища публика раздражилась, да оно и понятно! Юбилеи Петербурга бывают не каждый день, и жители вправе были требовать и хотеть, чтобы им дали возможность полюбоваться хоть чем-нибудь: «особы» были приглашены на разные спектакли и обеды, а весь миллионный город, платя всякие налоги, рассчитывал только на эту иллюминацию. Многие истратили значительные для них суммы на проезд на дорого стоивших извозчиках исключительно ради нее — и вдруг отмена. Мирная толпа наэлектризовалась, и достаточно было двух-трех смелых голов, решительного какого-нибудь крика — и скандал был бы готов. Но смельчаков, или охотников, не нашлось, и лава из десятков тысяч людей продолжала течь по Невскому.
В 12-м часу вернулся домой. Только на корабле Пассажа горел красный огонь и эффектно вырисовывал из мрака первого революционера земли русской. Получилась аллегория: всеобщая тьма и среди нее — одинокий великий Петр. Не любят у нас света! И неужто власть имущим не придет в головы, или в то, что заменяет их, что если бы захотела толпа учинить беспорядки, — учинила бы их и впотьмах, как и при свете, и что, собственно говоря, сами же они подстрекали ее этой отменой к буйствам?
17 мая. Авторы подметных писем могут-таки поздравить себя с достижением цели: верхи терроризованы, и для широкого доказательства этого отменили иллюминацию.
Беспорядки, как оказалось, все-таки были. В Народном доме какие-то карманники крикнули: «тигры вырвались», и бросились в толпу. Произошла паника, и в результате, как говорят, — девять убитых и несколько раненых. Передавали, что Клейгельс, узнав о творящемся в Народном доме, с перепугу принял это за начало настоящих беспорядков и приказал не зажигать иллюминацию. У страха глава велики, хотя и то сказать: здорово у него должны были быть напряжены нервы за эти дни!
Все украшения — шесты, флаги и т. д. все, кроме громоздких арок, исчезло за ночь… Город выглядит ободранным… Позорно мы отпраздновали предполагавшуюся «неделю» Петра! Газеты полны восхвалений и восхищений насчет удачи праздника. Может быть, он и очень удался в Думе за обеденными столами, но на улицах, там, где был весь Петербург, в публичных местах… Нет, не удался наш праздник и не удался, благодаря неуместной и позорной трусости! «Все врут календари», сказал еще Фамусов; «все врут газеты», скажу и я вместе со всеми очевидцами этого торжества, на которое убили сотни тысяч!
20 мая. Сильно поговаривают о войне. Если вспыхнет где-либо — надо ждать всемирной клочки. Говорят, что Куропаткину очень хочется подраться, но Витте[16] сдерживает задор его. Не знаю что — глупость или трусость обнаруживают наши русские политики. Русские!! Опять, должно быть, придется русским людям просить государя, чтоб наградил их — пожаловал в немцы.
Июнь. Неспокойно на Руси! Везде беспорядки, беспорядки… Что-то новое и неотвратимое надвигается на нас, и как жалки и тщетны кажутся наблюдающему со стороны усилия власть имущих остановить в России колесо мирового закона!
Куда ни придешь — везде толкуют или о висящей над нами войне, или о беспорядках.
Когда я ехал в этом году в Крым, в одном купэ со мной находилась харьковская помещица, одна из очевидиц недавно бывших там и в Полтавской губернии разгромов крестьянами помещичьих усадеб. И грозного много было в этом стихийном движении, но и смешного, наивного без конца!
Разгромы были следствием пропаганды; в народе ходили толки о «золотой» грамоте, этой вечной побрякушке, за которой всегда тянулся у нас многомиллионный младенец. Будто эту золотую грамоту прислал царь и указал в ней поделить крестьянам все «панские земли» и т. д. И вот между прочими, известными всем сценами, происходили и следующие.
Во двор одного имения вваливается целая орда баб и мужиков; начался дележ и разграбление усадьбы. Одна баба облюбовала себе карету и, чтоб ее не захватили другие, уселась в нее, а мужик побежал домой за лошадью. Привел он конька, впряг в карету, и баба поехала с торжеством домой, а как на грех навстречу казаки.
— Стой! Кто такие? Чья карета?
— Моя, — отвечает уверенный в своей правоте мужик. — Мне она досталась!
Казаки его за шиворот, но мужичок продолжал защищать «свое» добро и в конце концов его растянули с его бабой и всыпали им «добрэ», как выразилась помещица.
В Полтаве было еще курьезней.
Там всю улицу перед казначейством в один прекрасный день запрудила огромная толпа баб. Стоят и ждут кто с мешком, кто с кульком в руке. Стали их разгонять местные городовые — бабы не идут.
— Да-что вам здесь надо? Чего наперли сюда, черти? — кричали на них.
— А як же, отвечали некоторые. — Мы за грошами пришли!
— За какими деньгами?
— А вот как казначейство делить будут — получим: мы и мешки припасли!
В другом месте в село, уже занятое казаками, явилась вереница подвод с мужиками, бабами и подростками и спрашивают:
— А где здесь контора, где наймают, щоб панов бить?
Что поделать с такой темнотой? И как удержать на земле темноту, когда начинает вставать солнце — просвещение?
Много возбуждений и тревог вызывает предстоящее прославление Серафима Саровского. Особенно усиленно заговорили после письма митрополита Антония в «Новом времени»[17]. Известно было, что комиссией от Святейшего Синода освидетельствованы были останки Серафима и признаны достойными прославления; но как это происходило, что нашла в гробу комиссия — газеты молчали. Письмо Антония брызнуло, как масло в огонь. Он начал с того, что вследствие ходящих по городу подметных писем и угроз силой разоблачить якобы обман духовных лиц, он, Антоний, считает нужным сообщить то, о чем не говорилось до сих пор. Да, в гробу Серафима найдены лишь кости и волосы, все прочее истлело, но не по нетленности останков судят о святости и т. д.
Кому подбрасывались эти письма, что они заключали в себе, ни я, и ни никто из моих знакомых не знал и не слыхал до прочтения этого письма. Много было споров и негодований на это новое прославление; вспоминали императора Николая I, который запретил появление чудес и святых, и таковое прекратилось, а вот теперь Второй Николай приказал им быть — и они стали являться снова, а потому настоящими чудотворцами являются цари.
Е. Н. Чаплин
Переделывают почтамт. До сего времени, чтобы сдать или отправить какую-либо корреспонденцию, публике приходилось тратить уйму времени на поиски надобной экспедиции по разным закоулкам и переулкам. Теперь же решено один из внутренних дворов многочисленных зданий почтамта накрыть стеклянной крышей и устроить общий, грандиозный зал. На эту перестройку ассигнована значительная сумма: во главе дела стоит Ермолай Чаплин[18] — почт-директор, недавно назначенный на этот пост из управляющих Сухопутной таможней. Ранее он был управляющим у светлейшей княгини Юрьевской и нажил порядочную деньгу. Между прочим, некий Мохов, подрядчик, имевший с ним дела, рассказывал мне, что как-то пришел он к Чаплину сдать что-то по условию; Чаплин ему 70 р., а расписку потребовал на 100… Дальнейших пояснений не требуется. Службой своей он почти не занимался, но показать все умел с казовой стороны[19] и удивительно мог оказываться приятным и любезным нужным ему людям. Так, напр., по таможенному тарифу свиное мясо во всех видах запрещено к вывозу; между тем в таможню прибывает на имя высокопоставленного лица ящик с вестфальской ветчиной. Помощник пакгауз, производивший досмотр вместе с членом[20], заявил, что хотя это и высокопоставленной особе, тем не менее, он не считает себя вправе нарушать закон, обязательный для всех. Член, зная Чаплина, не решился высказаться так же и пошел к Чаплину. Тот выслушал члена.
— Какое же в действительности мясо? — спросил он.
— Если вы спрашиваете меня, как Ермолай Николаевич, ответил член, — то я скажу: свиное. Если же как г. управляющий, то докладываю вам, что по моему мнению мясо говяжье.
— Хорошо-с, сказал Чаплин. — Я приду и лично досмотрю с вами.
Помощник был отстранен, передосмотр произведен, и вестфальская ветчина превратилась в оленину. Вот какие Серафимы чудотворцы бывают в таможенном мире! Почтамтские чиновники назначением к ним Чаплина очень недовольны, и причин этому много.
Прежний почт-директор Чернявский был очень вежливый человек — этот же с подчиненными, да еще такими, как почтовые чинуши, но имеющие никакой протекции за собой — Тит Титыч. Чернявский занимал квартиру в 17 комнат; этот же, как только поступил, сейчас же отнял у фельдшера квартиренку и отдал ее своему кучеру; квартиру ему самому отделывают в 31 комнату. Вся же семья его — он, сын да дочь. И это тогда, когда все кричат о тесноте почтамта, недостатке помещений, о том, что чиновники задыхаются в своих конурах и т. д.
Тридцать одна комната — не шутка! Бесцеремонность его с подчиненными настолько велика, что напр. сравнительно крупные лица в мире почтовом — экспедитора — приходят домой со службы и вдруг видят среди гостиной огромные сквозные дыры в полу; мебель и др. вещи в беспорядке, кучей свалены в угол. Что такое? Оказывается, Ермолаю нужно было вешать какие-то массивные люстры, и для этого потребовалось прорезать потолки и сверху, на полах, поставить огромные железные круги.
И он, даже не предупредив хозяев, прямо посылает рабочих, и те идут в чужие квартиры, распоряжаются с вещами, сверлят. Возмутишься вчужине[21].
Одно из нововведений Чаплина — появление на службе в почтамте женщин.
Июль. Газеты полны сообщений о Саровских торжествах. Исцелений, говорят, десятки.
Раздаются толки, будто бы освидетельствованы и прославляются останки не Серафима, а кого-то другого. Утверждают, что отыскался старик и притом из таких, которому рот зажать и на которого цыкнуть неудобно, чуть ли не какой-то отставной местный губернатор, помнивший хорошо могилу Серафима; этот старик заявил комиссии, что могилу они вскрыли не ту, но заявление это — в силу ли запоздалости, или еще почему-либо — комиссия оставила втуне. Тогда тот поскакал в Питер и заварил здесь кашу, будто бы решено по этому поводу сделать исследование и другой могилы. Ну, а если старик прав, и Серафим найдется в другой могиле, тогда что? Этот вопрос теперь у всех на губах.
Но помимо чудес были и беды. Мудрено было рассчитать точно цифру могшего привалить люда, и ошибка была сделана самая опасная: цифру богомольцев взяли меньшую; на торжества явилось <чуть> ли не вдвое большее число, чем то, на которое рассчитывали. Не было ни мест для ночлега, ни пищи; несколько дней царил буквально голод; фунт черного хлеба доходил до 25–30 и выше копеек, тогда как обычная цена его — 2–2 1/2 коп.
Август. Совершенно неожиданно ушел с поста министра финансов Витте. Ему дана почетная отставка — место председателя совета министров.
Газеты поют ему хвалебные оды, по городу же циркулируют самые разнообразные слухи.
Вчера слышал о причине почетной отставки Витте: по возвращении с востока, куда он ездил обозревать свою манчжурскую дорогу, он представил государю доклад о всем найденном. Великий же князь Александр Михайлович[22], Куропаткин и Плеве — враги его — с неоспоримыми данными в руках насели в последнем заседании на Витте и доказали, что он налгал. Витте пришлось молчать, так как на недосмотр другого свалить было нельзя. Вел. князь Александр Михайлович горячился, что у нас все порты черт знает в каком виде, между тем как на них убиты миллионы. (По городу пошел каламбур, что трагическая минута на носу, а Россия без «портов»). С заседания великий князь, несмотря на поздний час, проехал прямо во дворец и в три часа ночи Витте получил приказание прибыть поутру во дворец с управляющим Государственным банком — с Плеске[23]. Плеске находился на даче; ночью его разыскал курьер и передал приказ от Витте наутро в полной форме явиться во дворец. Весьма удивленный всем этим Плеске приехал в назначенное время во дворец; ни он, ни Витте не знали, что значил такой неожиданный вызов.
Витте, вошедший первым, три четверти часа пробыл у государя, наконец позвали Плеске. Государь взволнованно ходил по кабинету; Витте сидел в кресле бледный и осунувшийся.
— Примите дела от него, сказал государь, обращаясь к Плеске: — я назначаю вас управляющим министерством финансов.
Плеске был поражен чуть что не до онемения.
Записываю это со слов людей, которым рассказывал Плеске.
При прощании с министерством Витте был как бы пришибленный, хотя и старался скрыть это. Поговорка: «два медведя в одной берлоге не уживутся» — оправдалась; Плеве съел в конце концов Витте. Насколько правдив, не знаю, но во всяком случае очень характерен для обоих следующий рассказ, ходивший по Петербургу.
И. Репин. Портрет С. Ю. Витте (1903)
Будто Плеве, после обычного обмена с Витте ядовитыми шпильками, сказал ему:
— При подобном направлении политики вашим высокопревосходительством Россия дождется революции через каких-нибудь пять лет!
— А при вашей она дождется ее через два года, — с обычной резкостью возразил Витте.
Чиновники о Витте сожалеют. Говорят, будто бы он не набил себе карманов на таком «карманном» посту, как сделали это его предшественники. Очень может быть. Но хотя сами министры и вообще «знать» из чиновников и не берут теперь взяток — это слишком грубо — зато берут их жены. О знаменитой Матильде — жене Витте я слышал, года два тому назад, от жены лейб-медика Головина[24], Марии Александровны, следующее: как-то случилось ей зайти в Гостином дворе в ювелирный магазин. Почти одновременно с ней вошли две каких-то дамы, и хозяин засеменил перед ними. Дамы рассматривали, разбирали какие-то вещи, наконец отобрали некоторые и стали торговаться. Ювелир запросил 800 р.
— Ну нет, триста, — решительно сказала одна из дам. — И пришлите сейчас же.
Ювелир улыбнулся и развел руками.
— Для вас — извольте-с. Немедленно же будут посланы!
Дамы ушли. Головина с недоумением слушала этот разговор и обратилась к хозяину.
— Послушайте, — сказала она. — Я не знаю теперь, как иметь с вами дело! Вы запрашиваете 800, а отдаете за 300. Это же Бог знает что такое!
— А знаете-с, кто эти дамы? — таинственно спросил ювелир.
— Нет.
— Супруга его высокопревосходительства г. Витте! — многозначительно сообщил хозяин магазина.
— Да вам-то что за дело до Витте?
Тот усмехнулся.
— Верьте совести, что я не запросил ничего лишнего с них, сказал он. — А госпожа Витте дама нужная: биржа в их руках…
Головина поняла наконец.
Конечно, это не взятки… щенки борзые гоголевские! Добавлю еще, что Матильда — еврейка и ни в дворец, и ни в какие высокопоставленные дома ее не приглашали. Ее это выводило из себя, а вельмож, вынужденных лавировать между нежеланием царской семьи встречаться с этой госпожой и самолюбием всесильного еще тогда Витте, ставило в затруднительное положение.
Город до сих пор полон рассказами о похождениях великой княгини Марии Павловны, о ее приключениях по ресторанным кабинетам с Гитри, артистом Михайловского театра, результатом которых явилась стычка Гитри с великим князем Владимиром Александровичем и высылка первого из Петербурга[25]. Не менее мамаши гремела на весь Петербург и даже Россию и дочка ее, великая княжна Елена Владимировна… Про сынков и толковать нечего[26]. Всем памятно, как они шествовали по общей зале ресторана с голой француженкой, что страшно возмутило публику, и дело чуть не дошло до «скандала» (как будто появление голой в публичном месте не есть скандал!) и как они кутили и пили по всем шато-кабакам и т. д.
26 августа. Строительная горячка, несколько лет назад охватившая наш Богом подмоченный Петербург, продолжает свирепствовать. Везде леса и леса; два-три года тому назад Пески представляли собой богоспасаемую тихую окраину, еще полную деревянных домиков и таких же заборов. Теперь это столица. Домики почти исчезли, на их местах, как грибы, в одно, много в два лета, повыросли громадные домины; особенно быстро похорошела Третья Рождественская. Вообще город сильно принялся охорашиваться. Четыре-пять лет тому назад торцовой мостовой были покрыты только набережные до Троицкого моста, Невский пр., Большая Морская, Пушкинская, Караванная, Сергиевская и, частью, Миллионная. Теперь почти все улицы потянулись за ними; Литейный сбросил свои бруски-граниты и оделся в деревянные кубики. К этим перекройкам присоединились еще и другие работы: прокладывают глиняные трубы для нового городского телефона, город изрыт весь точно во время осады; пешеходы, конки, экипажи, — все лепится к одной стороне.
Замечательно и то, что иные дома стоят еще без дверей и окон, из них тянет, как из погребов, сыростью и холодом, а уже в газетах пестреют объявления о сдаче квартир в них. Нарасхват идут!
Дом Елисеева в 1906 г. Фотография К. Буллы
Понемногу открывается новый дом Елисеева[27], что против памятника Екатерины на Невском. Многие нарочно ездят на верхах конок, чтобы полюбоваться этим зданием, предназначенным, к сожалению, не для музея или театра, а для магазина — монстра по части выпивок и закусок. По углам этого нового дворца высятся громадные бронзовые статуи: Торговля, Промышленность и, вероятно, Искусство и Просвещение. Первые две уместны и понятны, а причем вторые две? Вероятно, Елисеев полагает, что искусство и просвещение тоже будут помещаться в его дворце; что ж, он прав: чем не искусство — искусство выпить и чем не просвещение — знание, чем закусить? Облупленный Александринский театр угрюмо выглядывает из-за сквера напротив в виде иллюстрации к тому, что такое в наш век искусство и что выпивка.
Кстати, курьез. На Литейном вдоль Арсенала вытянут ряд старинных пушек с дулами, направленными прямо на противостоящий Окружной суд. Ехидные языки переиначивают и говорят, что «пушки у нас направлены на правосудие»!
30 августа. Чиновничий мир озабочен предстоящим возникновением нового министерства — торговли. Департамент торговли и мануфактуры остается поэтому за штатом, и кто попадет в новое министерство и на какие места — это вопрос. Утверждают, будто бы великий князь Александр Михайлович будет главой этого министерства, и очень не хотят этого; он очень тянет за собою своих офицеров, что помимо заступания дороги старослужащим вводит особый дух, еще большее — чин чина почитай — в среду чиновничества. Хорошо служить — конечно не «канцлером», т. е. не канцлерским чиновником в этих департаментах! На службу являются к часу, походят по коридору (в Министерстве иностранных дел в коридорах царят французский язык, пшютики — будущие вороны по части прозевыванья всяческих осложнений, кроме своих служебных); все одеты по последней картинке, с проборами на затылках; поболтают, почитают газеты, полистают дела и в пять часов за ними нужно гнаться с собаками. Тепленькие места!
Слыхал, что уходит знаменитый Беллюстин — директор таможенного департамента — давно пора! Таможенный мир его ненавидит; этот господин, бывший прежде старшим юрисконсультом министерства финансов — грубый, резкий человек — явился в это ведомство с убеждением, что все таможенные — воры — это мнение было высказано им Иванову, теперешнему юрисконсульту; сделавшись таможенным, он и сам, значит, стал вором: это он и доказал в конце концов. Между прочим, года два тому назад с ним произошла «маленькая» историйка. Единственная его дочка вышла замуж за архитектора, который, разумеется, сейчас же получил место архитектора при д<епартамен>-те.
Был я как-то в редакции «Юного читателя»[28]; ко мне подходит муж издательницы — Малкин, инженер, и разговорились мы с ним. Он с Гаррисоном взял подряд на миллионные постройки пакгаузов и таможни на знаменитом Гутуевском острове[29]. Все было сделано ими, но в качестве чего-то терся при них и зять Беллюстина; пришло время получать деньги, и оказалось, что таковые причитаются не им, а зятю Беллюстина. С этой комбинацией, однако, инженеры не помирились, а обратились в департамент за разъяснениями, а оттуда к Витте. Витте, рассмотрев «дело», призвал их и сказал, что дело их возможно разобрать только судом, но что он предпочитает покончить все миром и, вместо причитавшихся им 72 тысяч, предлагает получить сейчас же, без проволочек — чего не было бы в случае суда — 36 тысяч. Подумали, подумали те… Витте человек сильный, Гаррисон имеет от него много работ (одесские пакгаузы строил он же) — и согласились.
Зять получил другую половину. Затем разгорелась история с контролером: зять получил какие-то работы в таможенном ведомстве; Беллюстин — зоркий Беллюстин, следящий недремлющим оком за ворами — не родственниками — утвердил их, несмотря на то, что за один и тот же план для однообразных построек были назначены солидные суммы за каждый чертеж особо — как за новый план.
31 августа. В городе открыли тайную типографию, принадлежавшую какому-то высокопоставленному лицу из министерства внутренних дел. Произведены многочисленные аресты. Витте будто бы сказал государю, что не мешало бы обратить особенное внимание на это министерство, так как там творятся невозможнейшие дела, и изложил все известное ему.
Это министерство действительно тепленькое и с другой стороны. Неопытные люди диву даются: чины полиции содержание получают не ахти какое, а живут отлично, одеты всегда с иголочки. Пристава — это уже полубоги; вид у них по меньшей мере фельдмаршальский, а апломба, красоты в жестах!.. Гоголевские именины в день своего ангела и на Онуфрия[30] еще во всей силе… Но именины еще ничего; бывает и похуже! В бытность мою в Одессе служил там пристав — фамилию его забыл — специалист по части изловления всяких воров. Разгорелась какая-то история, и нежданно из Москвы нагрянула в Одессу сыскная полиция; краденые вещи, из-за которых разгорелся сыр-бор, нашлись у этого самого лихача пристава. Конечно, граф Шувалов — тогдашний градоначальник — немедленно хотел отдать его под суд, но… у того помимо краденых вещей отыскались и записочки бывшего градоначальника, ныне почетного опекуна и большой шишки — Зеленого[31], из которых явствовало, что Зеленый позаимствовал у «бедного» (по формуляру) полицейского пристава, своего подчиненного — 30 или 40 тысяч… Разгадка этой шарады канула в Лету, так как Зеленый, конечно, выгородил своего, скажем деликатно, — любимца; кстати сказать, этот любимец ныне помощником полицеймейстера в той же Одессе…
Зеленый был не градоначальник, а нечто вроде неограниченного повелителя; о нем ходят целые легенды. Хам он притом был невероятный: ругался, не стесняясь, на улицах во все горло, как два извозчика; между прочим, знаю о нем — я его еще застал в Одессе — такого рода рассказец. Как-то нежданно вздумал он ночью прогуляться пешком по особо вертепистым улицам. Конечно, сбоку тротуара почтительно рысил рядом с ним струхнувший пристав; позади маршировала, как водится, остальная братия — околодочные, городовые и т. д.
«Заведения» должны были быть в тот час все закрыты; однако зоркий глаз одесского Гарун-аль-Рашида усмотрел, что двери многих трактиров только притворены, а внутри свет и шум.
— Открыты? — проронил Зеленый. — Почем берешь? — вдруг обратился он к приставу, думавшему уже, что пришел его последний час. — Да ну, смелее!
— По сто рублей, ваше превосходительство… — пролепетал пристав, пронизанный недреманным оком.
— Мало! — решил Зеленый. — Больше с них, мерзавцев, брать надо! — и величаво проследовал дальше.
П. А. Зеленый
Все лавочки и дома в Одессе были в мое время — четыре года назад — обложены негласными сборами; напр., маленькая молочная, куда иногда заходил я выпить молока, платила околоточному по 3 р. в месяц. Платили, потому что иначе не было бы житья, как говорили обложенные: замучили бы протоколами. Портные, переплетчики, сапожники — все цехи работают даром на полицию: это уже всероссийский закон — его же не прейдеши! По таможенному ведомству несколько лет тому назад было любопытное негласное распоряжение: отнюдь не принимать на службу лиц, служивших раньше в полиции. Веселая нация — русский народ!
Удивительно: в мае месяце старый Троицкий мост развели и так и забыли его у берега Петропавловской крепости; а между тем сколько жалоб и толков из-за того, что на Охту нет моста. Прислать только пару буксиров и отвезти его[32] на Калашниковскую набережную и сделать въезды — и дело бы с концом. Каким только местом думают у нас в Думе? А она у нас не только именитая, но и чиновная. По случаю юбилея городской голова Лелянов получил, к общему недоумению, чин действительного статского советника; я на его месте стал бы отныне торговать за своим прилавком в магазине (у него меховой магазин на Морской) не иначе, как в генеральской тужурке: и лестно и от публики бы отбоя не было! Одним «инаралом» больше стало у нас на Руси.
1 сентября. Сегодня опубликовано о беспорядках, произведенных армянами в Тифлисе; какой-то священник Тер-Араратов произнес даже анафему по высочайшему адресу, замененному в официальных сообщениях словом «правительству». Была пальба, убитые и раненые. Дело разгорелось по поводу отобранных у армянских церквей земель[33].
4 сентября. Странные зори стоят над Петербургом; словно весь горизонт объят пожаром и ало-фиолетовое зарево как дымом заливает небо. Несмотря на зажженные фонари, цвет неба кажется до позднего вечера мутно-огненным.
10 сентября. На Невском и др. главных улицах понемногу стали убирать, по приказу полиции, навесы над подъездами, выступавшие над всем тротуаром и опиравшиеся на железные колонки. Красоты в них было мало, зато в минуты внезапного, или очень усиливавшегося, дождя под ними спасались целые группы народа.
До каких курьезных нелепостей доходит у нас наша бдительная опекунша-полиция! Если извозчик везет троих седоков — городовые сейчас же хватаются за свои книги судеб и записывают № бляхи, что влечет за собой истечение из извозчичьего кармана трех рублей. Между тем, купчина-собственник на своей лошади может везти хоть кучу людей и никто не посмеет вмешиваться. Другая ерунда: — по воскресным дням после 5 часов вечера нигде нельзя купить спичек. Мелочные открыты, спички в них есть, а купить нельзя: воспрещено.
14 сентября. Из театральных сфер узнал, будто бы Савина подала в отставку. Известие сенсационное, но желательное. Эта почтенная старушка возомнила о себе превыше небес и положительно давила всю труппу. Я лично бывал свидетелем, как на репетициях она презрительно фыркала и строила величаво-оскорбительные физиономии на малейшие замечания режиссера Гнедича[34], и он не стыдился во время перерывов плясать перед нею на задних лапках, целовать ручки и заискивать милостей. Газеты страшно раздували талант и игру Марьи Гавриловны, да оно и понятно: отзывы пишут по большей части люди прикосновенные к театру или в качестве авторов, или приятелей их и не скупятся на похвалы нужным людям; Савина играет прекрасно, но — надо смотреть ее для сохранения впечатления не более раза-другого: она однообразна, она везде и во всем та же слегка гнусавая Марья Гавриловна; даже грим ею почти не изменяется.
История разгорелась из-за «Пустоцвета» — драмы неизвестной авторши — Персианиновой. Травлю начала «Петербургская газета»[35], напав на неизвестную еще никому пьесу и кивая попутно на Савину, под давлением которой, якобы, ставилась эта пьеса.
16 сентября. Дирекция Императорских театров заявила, что «Пустоцвет» она ставит по собственной инициативе, а не по настоянию Савиной. Савина остается. Приходится только руками развести перед степенью неуважения к себе дирекции. Да и то сказать — было бы за что ей уважать себя! Теляковский[36] — нынешний директор, — бывший гвардейский офицер, производящий впечатление переодетого в штатский костюм солдата, в бытность свою управляющим московскими театрами заслужил печальную репутацию. Делом заведовала его жена, доведшая свое безграничное нахальство до раздачи артистам ролей и вмешательства решительно во все. Какой-то машинист театра подвергался особенно преследованиям ее; тогда жена этого машиниста, доведенная до белого каления, явилась в театр и отвесила Теляковскому пару оплеух. История эта весьма порадовала в свое время закулисный мир Малого театра, Теляковский же, по примеру других битых властей, получил повышение: его сделали директором. Не будь умен, а будь бит! — говорит современная мудрость.
Перед Теляковским директором был князь Волконский, еще молодой человек, декадент и большой руки сибарит. При нем ставились и с треском уехали в Лету пьесы, вроде А. М. Федоровских, писались вызывавшие недоумение декорации, убивались уймы денег на постановки базарных опер личных его друзей, вроде «Ледяного дома» и т. д. Делом при нем заправляли Философов и редактор «Мира искусств» — Дягилев[37].
Князь известен был тем, что свободное время проводил в созерцании достаточно-таки дурацких барельефов, что на стенах Александринки (для удобнейшего созерцания у окна в его квартире устроили массивные подмостки, грозившие провалом потолку), и ушел со своего поста из-за стычки с балериной Кшесинской[38], особой к роду Романовых прикосновенной.
М. Кшесинская в костюме из балета «Камарго», в связи с которым произошла ее стычка с кн. С. Волконским
27 сентября. Был на днях в Исаакиевском соборе со специальною целью посмотреть на его знаменитость — протодиакона Малинина[39]. Народа было много, но меня провел один завсегдатай-богомолец на клирос, и я удостоился лицезреть Малинина. Это здоровенный, косоглазый детина, типичный представитель жеребячьей породы. Перед ним выходили на амвон и читали ектении басистые дьякона, но когда вышло и взревело это огромное чудовище — получилось что-то неистовое. Рыло у него — лицом никак нельзя назвать эту часть тела — все перекашивало, страшный голосина рвал ему грудь и горло, пасть разверзлась такая, что все рыло как бы исчезло в ней. Мне стало неловко: словно в церковь в самый торжественный миг впустили буйвола или носорога, и он взревел во все хайло. Рев действительно изумительный!
Что значит век психопаток! Не только у Фигнера и «душки» Собинова[40] есть сотни поклонниц, но и у этого буйвола тоже. От дам и девиц ему отбоя нет. Пьет Малинин страшно и всегда бывает подшефе; состоит любимцем у царской семьи и особенно у вел. князя Владимира Александровича[41], поэтому груб и дерзок до невозможности, как и все пользующееся фавором. Несколько лет тому назад, когда митрополит Антоний сделал ему замечание, тот обругал его в алтаре «ревельской килькой». Конечно, сейчас же раба Божьего сослали куда-то на покаяние, но изгнание его длилось недолго: в ближайший же царский день, в эти дни Малинин особенно отличался иерихонским многолетием — вел. князь Владимир спросил, почему нет Малинина, и велел возвратить его. Малинин водворился снова. Экземпляр во всяком случае поразительный!
И. Репин. Великий князь Владимир Александрович (1903)
30 сентября. Сегодня переполох в почтамте. Из Америки пришло открытое письмо на имя какого-то Короткова, Морская, д. 28, приблизительно следующего содержания: «Плеве, фон Валь, Раабен, Крушеван[42] и еще кто-то двое осуждены и будут убиты. Кости и кровь убиенных ими вопиет о мщении, не успокоимся, пока не покончим всех их. Наши уже поехали для этой цели, выезжаю завтра и я». На почтовых чиновников возложена обязанность прочитывать все открытые письма, и бранного содержания задерживаются. Конфисковано, разумеется, и это и будет препровождено в сыскную полицию. Не сомневаюсь ни минуты, что это лишь фарс со стороны какого-нибудь русского американца.
Пикантная подробность. Министерство финансов занялось развитием народных домов и попечительств о трезвости; народ, конечно, в этих домах спиртных напитков не пил, вернее, пил тайком принесенное с собою, и вот в конце концов министерство обратилось вдруг с запросом в попечительства: «Когда же наконец будут пить монопольку в них?» По крайней мере откровенно!
* * *
Много толков о Дальнем Востоке: того и гляди разразится война с японцами. Как бы именно в эту сторону не пустили г.г. Плеве и к-о<мпания> народное напряжение, взрывающееся то здесь, то там в виде беспорядков!
3 октября. Эту неделю слухи очень усердно назначали разных «особ». Между прочим, уверяли, что Клейгельс получит место киевского генерал-губернатора. Слухи остались слухами, но всплыл забавный анекдот, пущенный насчет Клейгельса. Градоначальник сей, как то у именитых русских градоначальников в обычае, любит щегольнуть русскими словцами, и из сего произошло следующее. На Петербургской стороне появился некий хулиган, Васька Кот. Производил он дебоши и скандалы, разгромлял «заведения», и полиция не знала, что с ним делать. С рук ему все сходило потому, что этот субъект, попав в первый раз в участок, стал там орать на пристава и грозить ему, что пожалуется своему «незаконному отцу» Клейгельсу. Всероссийский герб-кулак перед таким аргументом бездействовал, и дебоширник с каждым днем делался все невозможнее. Пристав терпел, терпел до последнего, наконец надел мундир и поехал к градоначальнику. Представляется ему и говорит: так и так, ваше превосходительство, явился доложить, что уж очень безобразничает в участке Васька Кот-с…
Н. В. Клейгельс
— Что же, приняли меры?
— Да ведь это Васька Кот, Ваше превосходительство…
— Что ж из этого? Что вы сделали?
— Кот-с это… Ваше превосходительство… — совсем умирая от избытка почтительности и страха, пролепетал опять пристав.
Генерал рассердился.
— Кой вы мне черт Кота этого все поминаете, кто он такой?
— Кот?.. Сын… Ваше превосходительство… Ваш сын…
— Мой?.. Что вы, ошалели? Кто вам сказал?
— Они-с… Кот…
— Притащить его, мерзавца, сюда!
Кота притащили. Генерал с пеной у рта накинулся на него,
— Как ты смел, сукин сын и такой и эдакий, болтать вздор, что я твой отец? А?! Кто тебе сказал?
— Вы-с… — развязно ответил Васька.
— Я??? — генерал остолбенел. — Когда?..
— Да в прошлом году-с… Иду я по Александровскому парку, думаю — не знаю я ни папаши, ни мамаши, и так это грустно мне. Вдруг вижу, вы изволите идти с господином приставом, увидали меня, да как крикните: «пшол вон отсюда, так-то твою мать». У меня и отлегло от души. Слава те, Господи, думаю: мамаши не знаю, зато хоть папаша обнаружил себя!
Табло![43]
Кстати сказать — «Петербургский листок»[44] поместил портрет этого хулигана; в связи ли это прославление с потешающим город анекдотом — не знаю.
Хулиганъ (босяку): Ты, да я, — насъ двое.
«Герои нашего времени». Карикатура из газ. «Петербургский листок» (1903)
6 октября. Встретил утром на Невском проспекте странного субъекта в подряснике и с высоким посохом в руке. Несмотря на снег, он шел босой и с непокрытой ничем головою. Лицо широкое, пожалуй, приятное, обросшее густой большой бородой. Навел о нем справки, сказали, что это некий странник Василий[45], путешествующий в таком виде в самые лютые морозы и собирающий на построение церквей. Говорят, что он пользуется широкой известностью не только у простого народа, но и у сильных мира сего.
В царской семье есть глубоко религиозные люди: это вдовствующая императрица Мария Феодоровна и молодая — Александра Феодоровна. Обе бывшие лютеранки… Первая перед родами великой княгини Ксении была очень больна, и кто-то надоумил ее съездить на Смоленское кладбище, где похоронена «блаженная» Ксения; народ очень чтит эту могилу и по праздникам протесниться к ней бывает немыслимо. Туда ездят и возят массы больных, и вера в частые исцеления на могиле крепко живет в петербуржцах, не ошибусь, если скажу, всех слоев общества.
Государыня поехала на Смоленское и, помолившись, дала обещание, если выздоровеет, назвать первую же дочь Ксенией. Блаженная, вероятно, была очень польщена этим, и государыня выздоровела; вскоре родилась дочь, и назвали ее Ксенией.
Молодая императрица сделалась набожной после странного случая с ней. В царской семье есть обычай заезжать невесте перед венцом в Казанский собор и молиться там; неисполнившим это предание грозит бесплодием, или рождением только одних девочек. Когда Александре Феодоровне сказали об этом, она засмеялась и в собор не заехала. Презрение ее к стародавнему обычаю не понравилось, и тогда же многие стали многозначительно покачивать с неодобрительным видом головами. Угроза предания сбылась между тем над императрицей во всей силе: у нее родятся, несмотря на всевозможных Шенков[46] и К-о<мпанию>, только девочки. Такое странное исполнение предреченного, говорят, сильно подействовало на императрицу и круто повернуло ее в сторону православия. Государыня и по сие время часто посещает могилу Ксении и молится на ней.
13 октября. Мраморный дворец в Петербурге заслужил репутацию передового и либерального. Великий князь Константин Константинович[47] пользуется, или, вернее, пользовался одно время, благодаря своему «красному» оттенку и поездкам по России, широкой популярностью. Популярность эта, как слышно было, государю не понравилась, а казус с избранием Максима Горького в академики окончательно загнал в угол великого князя. Казус этот я слышал от поэта К. К. Случевского, гофмейстера, бывшего тогда главным редактором «Правительственного вестника»[48].
Рассказывал он следующее: однажды вдруг по телефону вызывают его приехать запросто, в чем был, в Мраморный дворец. Случевский приезжает, и вел. князь Константин Константинович с весьма довольным видом сообщает ему, что Максим Горький только что выбран в академики (выбор этот был произведен под некоторым давлением К. К.) и просит Случевского поместить сообщение об этом в «Правительственном вестнике». Пораженный Случевский спрашивает, где он прикажет поместить его — в отделе правительственных сообщений, или же как извещение от Академии? Вел. князь замахал руками и так как недоумевал, куда его сунуть, то порешили тиснуть его между рубриками. Случевский (старик крайне оскорблен всем этим и равнодушно не может говорить об этом избрании) отправился домой и, не желая брать на себя ответственность за помещение такого, наверное, нежелательного в высших сферах сообщения, передал в двух экземплярах копии — министру внутренних дел Сипягину, а другую начальнику Главного управления по делам печати на разрешение.
Заметка была помещена; на другой день Случевского вызывает к себе Сипягин и показывает ему собственноручное письмо государя, подлинных выражений которого не помню, но в котором ясно сквозило глубокое недовольство происшедшим и, между прочим, стояла фраза, что М. Горький хотя и талантливый человек, но работал еще слишком мало для того, чтобы удостоиться выбора в члены Академии.
Случевский передал свой разговор с великим князем. Сипягин подошел к телефону, попросил великого князя и передал ему содержание письма государя. И тут Случевский убедился, что великий князь струсил и… и отстраняет вину от себя, отказываясь от выраженного им «настоятельного» желания видеть такую заметку в «Правительственном вестнике» и сваливая все на Случевского…
Сипягин, тем не менее, передал все дело государю в надлежащем виде; Академия затем, под председательством того же Константина Константиновича, — как унтерская вдова, сама себя высекла, — исключила Горького из числа своих членов, и великий князь сразу же как-то притих в своем Мраморном дворце.
Затем он перенес тяжелую, кажется, психическую болезнь, и ярко взошедшая было в общественном мнении звезда его померкла в тумане.
16 октября. Телеграммы сообщили, что на кн. Голицына — главноначальствующего на Кавказе, произведено было «разбойниками» покушение. Его поранили кинжалом в голову, но не опасно; газеты подвиг этот относят на счет разбойников, общественное же мнение говорит другое.
Дело в том, что этот старикашка держит там себя настоящим сатрапом, и в покушении склонны видеть личную месть каких-нибудь крепко обиженных им людей[49]. На Кавказе его очень недолюбливают.
Н. А. Рубакин
31 октября. Виделся с только что возвратившимся из-за границы Н. А. Рубакиным[50]. Много рассказывал он о наших эмигранческих, весьма многочисленных, кружках за границей; этого человека нельзя упрекнуть в консерватизме, а между тем все, что передавал он об этих наших, якобы передовых людях — все сопровождалось им неизменными словами — «грустно», «очень грустно», «безобразно». Везде там царят сплетни, дрязги, ругань, доходящая порою до драк, словом черт знает что. Занимаются главным образом болтовней, беганьем друг к другу и спорами.
6 ноября. С утра тускло и безнадежно серо; на улицах грязища такая, что в мелких калошах не везде перейдешь; на более узких улицах, вроде Бассейной и др., стены домов почти на рост человека вышиною забрызганы грязью из-под резиновых шин.
Ровно без пяти минут одиннадцать сделалось вдруг необычайно темно, совершенно как ночью; все, кто были дома, побросались к окнам; небо все клубилось какими-то странными тучами, похожими на дым от торфа, слегка отсвечивавшими по краям; казалось, вот-вот разразится гроза. Удивительное явление продолжалось минут пять, затем мало-помалу рассвело и день разъяснился. Впечатление было точно такое же, как во время полного солнечного затмения. Ничего подобного не запомнит никто.
8 ноября. На днях в Белом Острове задержали учительницу гимназий Оболенской и Таганцевой; таможенные чины, обходя вагоны, заметили, что на одной госпоже как-то странно оттопыривается платье; ее попросили в отдельную комнату, осмотрели и нашли на ней огромное количество «Освобождения»[51]. Из обеих гимназий, конечно, ее удалили, и дело, вероятно, разыграется для нее плохо. Гони природу в дверь — она войдет в окно!
Говорят, что государь и близкие его больны той же холериной, от которой умерла в Скерневицах бедная девочка — немецкая принцесса[52]. Есть слухи, будто бы все они отравились какими-то устрицами, и будто бы такие устрицы поднесены были преднамеренно. Передают и другую новость: вел. князь Кирилл Владимирович просил у государя разрешения вступить в брак с какой-то немкой, разведенной принцессой, но тот отказал ему. Вел. князь Кирилл устроил своим однополчанам-офицерам прощальную пирушку в ресторане и укатил за границу[53].
11 ноября. Сильный ветер с моря и дождь. Глухо ухают пушки, извещая о начинающемся наводнении.
12 ноября. Пушки палили всю ночь; гудение и визг в трубах ветра и отдаленные частые удары пушек производят какое-то гнетущее, тяжелое впечатление. Стрельба продолжается (половина девятого утра); на дворе сильнейшая снеговая метель: хлопья летят словно пули в направлении почти параллельном земле.
Наводнение 1903 г. На Большом проспекте
В 10 ч. утра отправился посмотреть на Неву; конка по Невскому пр. ходит в три лошади вместо обычных двух; Фонтанка выступила из берегов, Екатерининский канал и Мойка тоже; пристани пароходиков кажутся стоящими на берегах. Проезд между Александровским садом и Зимним дворцом залит водой; на площади против дворца целое озеро. Торц, которым вымощен проезд, кажется клавишами изуродованного фортепиано: вода выперла его сплошными грудами вон; Дворцовая и Адмиралтейская набережные — сплошь под водой; деревянный Дворцовый мост вспучило, въезд на него перегорожен рогаткой, но въехать и немыслимо: подъем образовался чуть не в 45 проц.<ентов>. Народа толпится гибель, мост и сухое место перед въездом — все пестреет любопытными. Нева имеет грозный вид — вся взъерошенная, свинцовая, с белыми гребнями идущих обратно валов.
Наводнение 1903 г. Большая Подьяческая
Оттуда мимо Александровского сада направился к Исаакию; вокруг него тоже озеро и настолько глубокое, что колеса экипажей тонут по ступицу; говорят, Коломна превратилась в Венецию; про Гавань и др. места и толковать нечего. У Исаакиевского собора встретил нескольких матросов, бегом волочивших спасательные лодки; кучи мальчишек с азартом помогали им, в Почтамтском переулке попалась навстречу какая-то похоронная процессия: факельщики, шествующие обыкновенно впереди, сидели верхами на конях, покрытых черными попонами и из-под длинных одеяний их выглядывали полуголые ноги в каких-то невозможных опорках; остальная черная команда висела, обхватив гроб в самых разнообразных позах, по бокам катафалка; лошади шлепали по воде, обдавая встречных ливнем грязных брызг. Родственники и провожавшие гроб пробирались по деревянным мосткам около почтамта; у иных огромные венки были надеты на шеи, многих перетаскивали вброд. Вдобавок в историко-филологическом факультете университета сильный пожар и часть за частью летят туда по этому потопу через Николаевский мост.
На моих глазах буря сломала и повалила в Александровском саду огромное дерево.
Давно не бывало ни наводнения, ни ветра такой силы!
5 ч. дня. В 3 с половиной часа поехал к Дворцовому мосту, но вода уже сильно убыла, панели освободились и только кое-где стоящие лужи да исковерканная торцовая мостовая указывали на бывшее наводнение. Вода подымалась выше 9 футов.
Масса щегольских экипажей катило к Неве, разодетые в дорогие меха дамы с детьми одна за другой высаживались у угла дворцовой ограды и направлялись к реке. Ветер продолжал дуть со страшной силой, но направление его изменилось. Что имело особенно поразительный вид — это небо! Над Петербургом раскинулся вдруг ярко-синий, совершенно южный купол. Жена говорила, что ей даже страшно, так оно необыкновенно.
На Невском у многих домов десятки людей работают помпами: залиты водой (из труб) все подвальные этажи; торговцы в нашей части города — называю так левый берег — понесли значительные убытки. А что должно делаться в Гавани?
Наводнение 1903 г. В Гавани
13 ноября. Нева хотя и спала, но все же выше ординара, и вчера поздно вечером снова стреляли пушки. На Адмиралтействе днем висели белые и красные флаги, а вечером такие же фонари.
Беднота пострадала жестоко; говорят, было несколько утонувших.
По Английскому проспекту плавали на лодках; жители Коломны, Васильевского острова и др. мест голодали до двух часов дня, так как выбраться из домов не было возможности. Несмотря на ледяную воду и холод, многие, не имея возможности добраться до домов, брели по пояс в воде; везде, где было возможно, полиция расставила ломовых извозчиков и установила таксу за перевоз через улицу — по две копейки с человека; в прошлое наводнение эти молодцы драли за такой перевоз на углу Екатерингофского и Садовой по 15 коп., а дальше, в глубине Коломны, по рублю и по полтора.
В день наводнения, вечером, при первой вести об опасности, полиция перебудила и подняла на ноги жителей всех подвалов; альгвазилы так разусердствовались, что заставили встать подвальников и у нас на Песках, в местности, где никогда не бывает наводнений. Но — отдаю дань справедливости — полиция во главе с Клейгельсом — действовала энергичноё и оказалась предусмотрительной.
17 ноября. Много негодования и толков вызывает история, происшедшая недавно в гимназии Гуревича[54].
Один из воспитанников, кажется Бажин, учился очень плохо и был оставлен на второй — нынешний год.
Успевал он по-прежнему, несмотря на старанье, неважно и, кроме того, подвергался постоянным нападкам со стороны некоторых учителей и в особенности священника. Как-то на днях поп закатил ему единицу и пожаловался еще директору. Гуревич прилетел в класс и разнес бедного малого. Тот вернулся домой и застрелился.
Тогда 8 класс возмутился и решил устроить демонстрацию. По всем гимназиям были разосланы приглашения прибыть на похороны и в день их со всех концов города явились толпы гимназистов. На панихиду приехал Гуревич, и гимназисты выгнали его вон из церкви. Шествие выстроилось грандиозное.
Один из очевидцев уверял, что позади гроба развевалось знамя с надписью «еще одна жертва педагогической рутины». На Литейном мосту шествие было остановлено полицией и отрядом казаков; приказа разойтись молодежь, конечно, не послушалась, и произошла свалка. Гроб, который несли на руках, опрокинули в грязь, в ход пошли кулаки и нагайки и — шествие было разогнано. В числе избитых гимназистов называют Гарина — сына писателя[55]; много арестованных и сильно пострадавших.
Ожидаем новое наводнение 19 числа. В простонародье упорно твердят, будто отец Иоанн Кронштадский предсказал близкое громадное наводнение и глубоко верят в истинность его.
19 ноября. Сильный юго-западный ветер. Вода поднялась, но из берегов не выступает.
20 ноября. Вода сильно прибывает. Было несколько пушечных выстрелов.
Вчера впервые появились в городе небольшие желтые автомобили, развозящие почту. Давно пора сменить тощих почтовых одров, таскавших за собой тележки!
24 ноября. В университете неспокойно. Была большая сходка и, по каким причинам, не знаю — закончилась скандалом.
Скандал же произошел и на праздновании юбилея В. Короленко.
Чествовавшие его собрались у Контана[56] и туда же явились депутации от учащейся молодежи с адресом.
Выходит к ним распорядитель, Михайловский[57], и спрашивает, что им угодно.
— «Хотим поднести адрес, разрешите пройти в зал».
— «Нет, это неудобно… мы там сейчас будем обедать… я попрошу его выйти сюда!»
Н. К. Михайловский
Молодежь, конечно, возмутилась. Как, люди являются с адресом, хотят принять участие в чествовании и вдруг их принимают чуть не в передней?
«В таком случае, заявляют, мы уходим и видеть его совсем не желаем!» Начался шум, пререкания; Михайловский ушел тем временем в зал и явился Короленко.
На него накинулись с упреками и претензиями.
Юбиляр был смущен и заявил, что он здесь не хозяин, а гость и что не его надо винить за происшедшее и т. д. и т. д. Депутации ввалились наконец в зал, прочли адреса и вручили их юбиляру; при этом отличился «маститый» Вейнберг[58], позволивши себе вслух бухнуть «чего лезут эти господа, куда их не просят!» и получивший тут же достодолжную отповедь.
Затем все уселись наконец за обед, а г. г. депутатов пригласили в соседнюю комнату, куда подали им чай.
27 ноября. Встретил Н. А. Рубакина и справился, верны ли слухи об истории на юбилее Короленко. Он присутствовал там и рассказал следующее: в зале была теснота страшная, т. к. на обед явились много более, чем записалось, и в это время ввалились депутации от молодежи. Вейнберг, «очень генеральствующий» (выражение Н. А.) грубо заявил им — «станьте, станьте к стороне, или уходите вон»; другой «генерал» Михайловский отпустил тоже что-то подобное и вот тут-то поднялся скандал. Более он ничего не знал и не слыхал.
27 ноября. Движение в учебных заведениях усиливается; слышал, что были сходки и скандалы в Лесном институте, у путейцев и т. д. Арестован профессор университета Аничков[59], провозивший через границу пресловутое «Освобождение», превратившееся для него в «Заключение». Толкуют о производящихся многочисленных арестах и обысках; предвещаются крупные беспорядки среди студенчества и рабочих.
29 ноября. Вместе с Аничковым арестована писательница Борман[60]; приключение их описывают следующим образом: в Белом Острове таможенные чиновники производили досмотр вещей в вагоне, где сидела эта парочка и, не найдя ничего, уже собрались уходить далее, как вдруг Аничков громко обращается к своей соседке и с облегчением говорит по-французски: «ну, кажется, на этот раз мы свободны»! Чиновник, понимавший французскую речь, быстро вернулся и заявил, что в таком случае просит их в ревизионный зал. Там их осмотрели и нашли кучу «Освобождения».
* * *
Рассказывают — вероятно, вздор — что какой-то студент пришел к какому-то профессору и, уходя, забыл у него на столе шифрованные документы; профессор, увидав их, струсил до смерти и поскакал с ними к градоначальнику; там якобы разобрали их и открылся целый заговор на жизнь государя. Пахнет ахинеей, а там Бог весть!
2 декабря. Стоят десятиградусные морозы при полном отсутствии снега. Тянет легкий ветер, по улицам носится пыль, ездим на колесах.
6 декабря. Много толков вызывает обыск, произведенный за границей в редакции «Освобождения». Как, на основании каких прав ухитрился добиться этого Плеве — интересный вопрос. То-то, вероятно, переполох произошел среди тайных корреспондентов этого нового «Колокола»! К счастью, никаких адресов не захвачено: об этом Струве заявил в письме в редакцию, кажется, «Франкфуртской газеты».
Либеральные кружки негодуют на Ивана Ивановича Янжула[61], — когда-то ярко-красного (в московские времена его деятельности), а теперь перешедшего под правительственный стяг. Мещерский[62] оказывается пророком: «лучший способ борьбы с российскими либералами — это производить их в действительные статские советники!»
7 декабря. Слышал много негодований из-за проектирующегося перехода податных инспекторов в министерство внутренних дел. Чуть не половина инспекторов грозит уходом со службы; думаю только, что ярые слова эти произносятся ими везде, кроме… здания министерства. Может быть, два-три человека уйдут, а остальные — переведи их хоть в департамент полиции — останутся!
8 декабря. Забавный курьез. Кто-то, фамилию забыл, — вздумал издать сборник речей императора Александра III; для этого перерыл «Правительственный вестник», где помещались они в свое время, и представил в цензуру… цензура запретила. Стало быть, одно из двух: либо Александр III говорил нецензурные речи, либо они таковы, что в большом количестве показывать их не следует!
Антоновский[63], переводчик Ницше, рассказывал мне следующий эпизодик. Несколько лет тому назад издан им был «Заратустра», цензура сделала массу урезок.
Тогда, приступая ко 2-му изданию, он все эти вырезки вставил, представил книгу в цензуру, и типография получила ее обратно неразрезанной при выпускном билете. Таким образом, 2-е издание проходит нередко с вычеркнутыми раньше местами: весь фортель заключается в том, чтобы типография вогнала книгу с добавками йота в йоту в прежний размер, тогда гг. цензора, сверив формат и количество страниц, пропускают, не читая. Правнуки не поверят нашим рассказам о том глумлении, которому подвергаются рукописи в этом анафемском учреждении!
9 декабря. Саней нет до сих пор и в помине. Поразительно темные утра: в половине девятого едва начинает брезжить слабый свет; везде видны горящие лампы. Воздух полон не мглою, а чем-то коричневатым, словно бы густым дымом от торфа. Электрические фонари на улицах тушат в четверть девятого.
13 декабря. Вчера в церкви ев. Спиридония (в Александровском саду) служил обедню Иоанн Кронштадский. Народу была гибель по обыкновению, толпа стояла и дожидалась его и на улице. Во время богослужения вдруг с хор перегнулся какой-то мужчина и исступленно крикнул: «Отец Иоанн — Господь Саваоф»!
Полиция добралась до него и вывела; прошло немного времени — в экстазе выкрикнула то же самое женщина.
Такие истории, говорят, происходят почти на каждом служении о. Иоанна. Поразительно он захватывает толпу!
Отец Иоанн Кронштадский
20 декабря. С минуты на минуту ждем войны с японцами. Уверяют, будто на третий день праздников объявят ее.
23 декабря. Есть сведения, что государь в сильно угнетенном состоянии духа и последние несчастия свои приписывает проклятиям армянского духовенства. Смерть племянницы, приехавшей с отцом по приглашению его на охоту, затем случай с собственной дочерью — ей дверцей кареты отхлопнули палец, и его пришлось ампутировать, болезнь жены — все это разом свалилось на него и подавило.
Суворин — весьма осведомленный старик — поет в своем «Новом времени» о «весне», конечно, иносказательной; ходят радостные слухи о близких реформах, конституции, падении Плеве и т. д., и т. д. И в общем не верится ничему… Для крупных реформ нужен и крупный характер, особенно при наличности гг. Плеве и присных его! Рассказывают, что государь и вел. князь Александр Михайлович изыскивают слово, в какое переименована у нас будет конституция.
28 декабря. Клейгельс действительно назначен киевским и волынским генерал-губернатором. Полная неразбериха у нас наверху: и Богу пытаются служить и чертям свечки ставят!
Недаром острят по городу, что теперь для карьеры надо поступать только в городовые: дальше дорога открыта!
31 декабря. Умер Василий Львович Величко[64], с позволения сказать поэт, и с еще большего позволения — переводчик с восточных языков, которых он не знал совершенно. Личность во всех отношениях второстепенная и притом враль первой руки. Явившись однажды из Тифлиса, где он получил хлебное местечко редактора газеты «Кавказ», на один из «литературных» обедов (наши литераторы теперь все обедают, или ужинают, или чествуют друг друга по ресторанам и, разумеется, «литературно») и начал рассказывать.
— Вышел я, — говорит, — однажды из Тифлиса в горы, гуляю, вдруг на меня наскакивают разбойники. Выхватили кинжалы: дэньги, кричат, подавай или убьэм!
— Друзья, — говорю я, — я бедный поэт, у меня нет ничего…
— Кто ты такой?
— Я Величко…
— А, Вэлычко… Знаэм; наших паэтов харашо пэрэводишь. Атпусти его, ребята…
Даже привычные российские литераторы — встретили такой рассказец молчанием и покряхтываньем. Записал все это дословно, как передавал мне в свое время покойный А. К. Шеллер (Михайлов)[65], присутствовавший на этом обеде.
Я не разделяю взгляда, по которому про покойников надо говорить лишь хорошее. Надо говорить правду; иначе внуки и праправнуки наши канонизируют какого-нибудь такого субъекта, что все святые будут в претензии!
1904 год
6 января. 4 января закрыли съезд по техническому образованию. Съезд собирался в здании университета, и что ни день, там разыгрывались инциденты. Право входа на заседания имели лишь члены; тогда, чтобы дать возможность проходить всем, члены перестали предъявлять свои билеты и поснимали значки. Секции, собранные для обсуждения вопросов о коммерческом образовании, рассуждали громоносно о вреде и позорности земских начальников, другие — технические — о свободе печати и конституции… Вопросы, несомненно, благие, но кончились они грандиозным скандалом и кошачьим концертом, устроенным двум каким-то участникам кишиневского погрома, а на другой день съезд был закрыт, и здание университета оцеплено городовыми и околоточными надзирателями.
11 января. По тем же причинам закрыты и все остальные съезды. В общем — полная путаница в представлении петербуржцев: зачем собирались эти съезды, что они натворили, за что их закрыли — все толкуют разно об этом. Относятся к происшедшему, как к какому-то весело разыгранному фарсу и интересуются только скандалами.
14 января. Каждую ночь по Николаевской дороге уходят поезда на Дальний Восток с боевыми грузами; от гвардейских полков из каждой роты взято по 15 человек и отправляют туда же. Бумаги сильно упали в цене; толки о войне увеличиваются.
17 января. Опубликовано Высочайшее повеление о разгроме непокорного и самого деятельного и интересного из земств — тверского. Один взмах пера — и нет его, другой — нет закона. Далеко зашел, однако, этот Плеве, не в цивилизованной стране живем мы, а словно где-то в персидской сатрапии!
20 января. Субъекты, изгнанные со скандалом из съезда, оказались Степановым и Прониным[66]. Первого знаю хорошо по Новоселице, где он работал в качестве подрядчика. Субъект он малограмотный, но с деньгой и убежденный ненавистник еврейства; заветнейшая мечта его была: «получить орденок, хоть паршивенький» и для этой цели он лез из кожи, жертвуя на разные благотворительные дела кучи денег.
Его хотели даже бить на съезде, но желавшего произвести это удержали, и Степанов под ругань, рев и свист выскочил на улицу без шубы и шапки. Как попали эти франты на съезд по совершенно чуждому им образованию — не могу постичь!
В результате масса обысков у читавших даже невинные рефераты и много арестов; слышал, что арестован, напр., довольно известный адвокат Переверзев[67] и др. Ходит рассказ, как всегда из «самых достоверных источников», будто бы государь совещался с министрами и спросил их мнение, долго ли может продержаться настоящее положение вещей; Плеве ответил: «Сколько угодно», другие — пять, десять лет, и только один Витте сказал: «Не более года, Ваше Величество».
Витте вообще пользуется расположением общества и даже в легендарных случаях слухи приписывают ему самую честную и прямую роль.
С Кавказа идут тоже неладные вести: готовится будто бы армянское восстание. Приезжие из Тифлиса разсказывают, якобы главноначальствующий получил извещение, что дворец его собираются взорвать подкопом, и он вызвал сапер, и вокруг дворца вырыты слуховые траншеи и ямы, в которых расставлены часовые.
24 января. В министерстве народного просвещения скандал: министр его, Зенгер[68], вдруг неожиданно для всех сделал сальто-мортале и проснулся сегодня… сенатором.
Даже обычных слов в рескрипте, в роде «Всемилостивейше увольняем» нет, а прямо: «увольняется по прошению». Толки самые оживленные и разнообразные, но наиболее упорные те — что он уволен за школы тверского земства. Рассказывают, что ревизия обнаружила в них чуть ли не сплошь анархизм, преподаватели будто бы и воспитывали детей в самом революционном духе и т. д. И когда государь, призвав Зенгера, стал говорить ему об этом, тот слушал, выпучив глаза, так как и не подозревал ни о чем подобном. Второе, в чем те же правительственные круги обвиняют Зенгера, — юдофильство и большое процентное содержание евреев в гимназиях и университетах. Скандал, во всяком случае, незаурядный: обыкновенно таких господ сдают в Государственный совет, но никак не в Сенат. Одним сторонником республики в России будет больше!
Каждую ночь на Дальний Восток идут и идут войска, артиллерия и боевые грузы. Иногда собираются целые толпы провожать их, раздается «ура», машут шапками, шлют отъезжающим лучшие пожелания. Начинает просыпаться энтузиазм. И не только в военных кругах, но и в обществе всюду наталкиваешься на разговоры о том, что Россия срамит себя теперешней политикой и настала пора проучить этих макак. Гм… макаки-то эти не выше ли нас, авосек?
Есть слухи, будто государь в самом удрученном состоянии, плачет и твердит: «пусть будет японцам уступлено все, только чтоб не началась война».
25 января. Около часу дня по улицам забегали разные оборванцы с кипами оттисков телеграмм в руках. «Объявление войны с японцами, объявление войны с Японией», выкрикивали на каждом углу. Телеграммы раскупались нарасхват. Оказалось, что японцы отозвали из Петербурга своего посланника и вследствие этого отозван и русский. Везде сильное возбуждение.
26 января. На бирже паника: бумаги опять повалились и, надо думать, понизятся еще. На улицах большое оживление, газетчики торгуют на славу.
27 января. Весь Петербург всполошился; пришла телеграмма, что японские миноноски ночью вошли в Порт-Артурский рейд и «причинили пробоины» трем нашим броненосцам, стоявшим там. Что это за «пробоины», как могли пробраться незамеченными, кстати сказать, не объявившие войны японцы, — все это загадки; телеграммы, выпущенные днем, берутся с боя; целые толпы окружают продавцов, вырывая друг у друга листки. Читают их все — извозчики, дворники… даже простонародье не жалеет пятака и гривенника, чтоб только узнать, что творится на Дальнем Востоке.
На бирже — новое падение цен.
Итак — война началась, и мы уже осрамились. Конечно, цыплят считают по осени…
Уверяют, будто пост министра финансов снова предложен государем Витте, но тот отказался. Да, теперь нужна не такая выеденная скорлупа, как Плеске!
Везде негодуют на моряков, «проспавших» подход японцев. Так ли еще это, узнать сперва надо.
В 6-й гимназии, говорят, между прочим, был обыск, думали найти революционные издания, но только нашли… очень много табаку. Веселый обыск и приятные результаты!
Кстати сказать, от многих лиц и в том числе от Л. Ф. Рогозина[69], знающих Плеве и совсем не разделяющих его взгляды на политику, — слышал, и притом не раз, что как человек, дома, он прекраснейшая и симпатичнейшая личность. Что за загадка после этого душа человеческая!
27 января, 11 с половиной ч. ночи. Зимний дворец полон представляющимся офицерством. Приезжающие оттуда сообщают последние известия: Алексеев[70] телеграфировал, что семь японских миноносок уничтожено; из судов только «Ретвизан» пострадал сильно, а остальные два подвели пластыри и вместе с остальной эскадрой вышли навстречу японцам. Теперь в эти минуты идет бой… Нервное напряжение в городе страшное, подъем духа необыкновенный.
Этой ночью государь едет в Москву для традиционного объявления войны: на Николаевском вокзале стоит уже готовый императорский поезд. Говорят, государь весьма удручен происшедшим, вдовствующая государыня тоже. Рассказывают, что из Парижа телеграмма сообщает, будто весь рейд Порт-Артура покрыт обломками миноносок и японскими телами; макаки бросались на наш флот, как бешеные. Завтра прочтем и проверим все.
В. Табурин. Чтение манифеста 28-го января в Петербурге у Аничкова моста (1904)
28 января (утро). В ночь от разрыва сердца умер Н. К. Михайловский; умер один, без всякой помощи, так как в квартире никого не было.
Утром в «Правительственном вестнике» появился манифест о войне; расхватывали номера, платя по 30–40 коп. На углах улиц вывешены телеграммы о ходе военных действий; простонародье, военные и дамы теснятся и жадно слушают чтение их.
Вчера площадь Зимнего дворца была вся запружена экипажами; гремело ура, словом, творилось нечто необычайное. В театрах играли гимн «Боже, царя храни», и публика трижды требовала повторения его. Ура не умолкало.
Москва уже пожертвовала на военные нужды миллион рублей.
Купил листок телеграмм; японцы бомбардировали Порт-Артур и подбили еще четыре наших судна; их же потери неизвестны; войска потерпели незначительный урон… И только. Что сей сон значит? Толки идут самые нелепые — вплоть до сдачи Порт-Артура.
Говорят, что Скрыдлов[71] поведет на Восток свою черноморскую эскадру, а Куропаткин примет главное начальство над сухопутной армией. Что же тогда останется делать наместнику Алексееву? Почему молчат его телеграммы о японских потерях в судах?
Адмирал Е. И. Алексеев в Порт-Артуре
Вечер. В 3 часа дня произведены в мичмана гардемарины; также произведены в офицеры старшие курсы морского инженерного и Павловского училищ. Воинский начальник и Главный штаб осаждаются офицерами и нижними чинами запаса, желающими идти на войну. Огромному большинству отказывают. Произведенная нежданно молодежь в неистовом восторге, но на улицах свеженьких офицериков не видно: ни у кого не оказалось готового обмундирования. В телеграммах есть сообщение, что японцы отбиты от Порт-Артура, и что у них погиб один крейсер. Только одна «Петербургская газета» выпустила прибавления под громкими названиями: «Победа. Разгром японского флота» и т. д., и там сказано, будто бы нашими потоплено три крейсера, а всего судов у японцев уничтожено 12; при этом исчислялось даже подробно количество убитых и раненых врагов. Перед телеграммами крупными буквами была набрана дико кликушествующая статья о «желтолицых и рыжеволосых» врагах, о мощи России, — словом, так и виднелись из строк пьяные глаза и засученные кулаки савраса, вызывающего «удариться» с ним весь мир. Номера эти расхватывались по полтиннику и несколько подняли дух в публике; многие, — да так и следует, — им не верят, но слышал толки, будто бы наборщик «Правительственного вестника», имеющего монополию на первое напечатание телеграмм с Востока, тайно продал текст той телеграммы «Петербургской газете». Дай Бог нашему теляти волка съесть!
Среди моряков толкуют, будто бы султану заплачена крупная сумма денег за пропуск черноморской эскадры, но будет сделан вид, что русские суда форсируют проход и пройдут под огнем, конечно безвредным, береговых батарей на помощь тихоокеанцам. В штабе деятельно готовятся к войне на три фронта; войска тянутся к Афганистану в виде угрозы Англии. Сколько ни приходилось сталкиваться и говорить с выдающимися сухопутными военными и моряками — все жаждут войны и более всего — с Англией, и общий хор и военных и штатских боится не Англии, не коалиций, а русских дипломатов. Это все такая патентованная, вылощенная бездарность, такая ходячая трусость, что без возмущения ни один русский человек не может говорить об этих гг.
29 января. Алексеев молчит. 7 наших броненосных судов выбыло из строя, около 70 убитых и раненых — в этом и все наши сведения.
Вчерашнее сообщение «Петербургской газеты» нигде не подтверждается: все, стало быть, выдумка.
Кстати, сегодня ее у разносчиков нет: запретили в розничной продаже за вчерашний номер на две недели.
В городе недоумение; удивительный барометр публика: малейший пустяк выводит ее из равновесия и лишает возможности думать и соображать что-либо. Предположим даже, что нас разгромили в Порт-Артуре — Корея и Манчжурия велики, есть еще где встретиться и померяться силами!
В почтамте была сегодня телеграмма из Лондона, будто бы русский броненосец потоплен японцами, а два транспорта захвачены в плен с 2000 наших войск. Чего ради молчит «Правительственный вестник»? Лучше знать самую скверную правду, чем слушать и верить — как делает публика — в десять раз преувеличенному вранью о чем бы то то ни было!
Кстати, интересная подробность: японский посланник перед выездом из Петербурга уплатил по предъявленному ему нашим телеграфом счету за тринадцать последних дней — десять тысяч рублей.
Петербург щегольнул: пожертвовал полтора миллиона на войну; со всех сторон начинают стекаться пожертвования; газеты полны сообщениями о них.
30 января. В немецких газетах есть телеграммы, что два русских крейсера — «Варяг» и «Кореец» сдались без боя японцам в Чемульпо.
По городу расклеены объявления о потерях японцев при Порт-Артуре, причем о потоплении их крейсера нет ни слова; в конце публика извещается: «ввиду распространившихся в городе разных неблагоприятных слухов из неблагонадежных иностранных источников, что подтверждения их не имеется».
Вчера около 8 ч. вечера по Невскому шли две роты стрелков, отправлявшихся на Дальний Восток. Гигантская толпа залила всю ширину улицы, солдаты шли вперемешку со всяким людом, давка чрезвычайная. Гремело ура, в воздух летели шапки.
К. Булла. Солдаты отправляются на фронт (1904–1905)
Как, однако, всколыхнулась Россия!
Иностранные газеты сильно (и по делам) нападают на Алексеева, называют его бездарностью и т. д. Номера с этими статьями и телеграммами задержаны. Биржа вчера немного окрепла, что-то произойдет сегодня? Слышал, что вчера от государя была телеграмма Алексееву с требованием немедленных донесений о подробностях боя у Порт-Артура.
Вечер. Около 8 ч. вечера по городу начались манифестации. Толпы студентов и штатских вперемежку с дамами и национальными флагами в руках направились к Зимнему дворцу, оттуда по Невскому к Аничкову с пением «Боже царя храни» и «Коль славен». Тысячеголосое ура и пение гимнов у дворцов вызвали к окнам несколько фигур придворных.
Около 11 часов вмешалась полиция и стала разгонять наиболее неугомонных, причем некоторым пламя патриотизма пришлось погасить в участке; разгоняли кулаками и ножнами «селедок»; кое-кому долго придется попомнить начало японско-русской войны!
31 января. Нашею же миною взорван наш минный транспорт «Енисей». Что и говорить, на славу начали войну! Слухов в городе — не обобраться.
Рядом с проснувшимся патриотизмом приходится наталкиваться и на другие речи: на желание, чтобы японцы поколотили нас — для нашей же пользы. Говорят, что если мы побьем, то близкое уже «освобождение» России отодвинется опять вдаль, зазнаемся, все пойдет еще хуже, чем шло. Скорбят, что все другие интересы поглощены войной, и народное движение, так разраставшееся везде, ринулось в новое русло. Я лично желаю, чтобы прежде всего не легло срама на Русь. Что делать? Пусть реформы отодвинутся на несколько лет, жаль, но раз заварилась каша — надо выходить из нее с честью!
Сильное возмущение в ультра-либеральных кружках произвела всеподданнейшая телеграмма со всякими верноподданническими чувствами от тверского, на днях так посрамленного правительством, земства.
Вчерашние демонстрации происходили, оказывается, и около французского и английского посольств. Союзникам, конечно, орали ура, пели гимны, а англичанам устроили кошачий концерт. Тут-то, рассказывают участники, полиция и попросила их «честью» разойтись по домам. В общем же полиция теперь стушевалась почти совершенно.
Похоронили Михайловского.
Многотысячная толпа заливала всю площадь; в Преображенский собор нельзя было и протискаться. К изумлению и некоторому волнению публики, вдруг из одного из дворов появился жандармский отряд и направился к собору. К счастью, опричнина сия, переговорив с распорядителями и получив, вероятно, от них заверения, что беспорядков не будет, удалилась: быть бы скандалу иначе!
Гроб понесли на руках; на самом видном месте катафалка для венков, наверху, висел венок с надписью: «от находящихся в доме предварительного заключения».
Когда процессия двинулась — навстречу ей с Литейного донеслось «ура» — шли манифестанты-правительственники.
Разговоров велось гибель в толпе, увы, главным образом о войне, о студентах «белоподкладочниках», громко именующих свой кружок «Денницею» (переделанный их врагами, сторонниками стачек — в денник, т. е. конюшню) и организующих все эти гимны на улицах. Арабажин, напр., и др. убеждены (предлагали даже пари), что Япония побьет нас, так как наша Манчжурская дорога никуда не годна и может провезти в сутки не более 2000 чел. Вообще очень многие настроены весьма пессимистически и говорят, что как бы ни закончился национальный вопрос, — народный страшно пострадает. Предвещают голод и всякие ужасы вроде вмешательства Англии, полного обнищания и т. д., и т. д. Страшен черт, да милостив Бог!
Вечер. «Варяг» и «Кореец» погибли геройски, обороняясь от целой эскадры. «Кореец» затонул сам, а «Варяг» взорвал себя в последнюю минуту на воздух; крохотная владивостокская эскадра прорвалась в море и разгромила японский город Хакодате. Честь и слава молодцам!
Крейсер «Варяг»
Ехал домой и разговорился с извозчиком.
— Вот, — говорит, — барин, хозяин у меня четыре запряжки имеет, деньги, все у него есть, а в добровольцы ушел. Не могу утерпеть, говорит. Жена, теща плачут, куды, говорят, идешь, зачем ты? Не могу, говорит, утерпеть и кончено!
— Ну а ты как, — спрашиваю, — думаешь: кто кого — мы японцев побьем или они нас?
Ванька даже плюнул.
— Вот экакеньких-то да не одолеть? — он показал рукою на аршин от земли. — Одолеем. Мы смирно сидели, терпели, ну а теперь шабаш: теперь разворочались!
— Ну, а если все-таки побьют?
— Голову то есть себе об панель тогда расшибу!
Рассказал затем, хохоча всей утробой, что видел на днях такую сценку. Шел китаец, а какой-то мальчишка лет 13 подскочил к нему и кричит (шли манифестанты) «долой шапку!» Китаец растерялся, глядит на него, а тот «кээк даст ему в ухо, китаец и брык с ног, да бежать потом. Смеху, смеху кругом что было!».
Привожу это как иллюстрацию к творящемуся теперь.
На Невском толпы хватали моряков и с криками «ура» качали их; досталось-таки и новоиспеченным мичманам. Павловское училище, как оказалось, еще только страстно ждет производства.
1 февраля. Ни градоначальника, ни министра народного просвещения в Питере еще нет; Унтербергер, про назначение которого так упорно и убедительно возвещали, по слухам отказался, отказались и другие. Да теперь и не интересуется никто ими.
По городу звенят бубенцы, наехали обычные масляничные вейки на своих коньках. Конечно, среди них много переодетых русских[72], тем не менее работают на славу.
4 февраля. В берлинских газетах есть телеграммы из Лондона и Парижа, будто наша владивостокская эскадра наскочила где-то на японские мины, и три крейсера погибли. Что-то скверно пока идут дела у нас на Востоке! Отовсюду сыплются пожертвования… то-то начнутся теперь кражи казны и этих денег! Великосветские дамы тоже занялись теперь в Аничковом дворце «работами» для раненых: пьют чай и трещат, как сороки. Таковы, по крайней мере, рассказы сведущих лиц. Белье же, т. е. настоящая работа, сдано бедным мастерицам прямо по возмутительной цене (тоже, благотворители!..) — кальсоны по и коп. и халаты по 15 коп. со штуки за работу. С раненых, дескать, должны дешевле брать!
5 февраля. Вранье в городе идет неимоверное: сегодня дошли до того, что будто взят Порт-Артур. Английские газеты тоже принесли новость в этом роде: «московские бояре возмутились и взяли и разрушили Кремль и много церквей». Дальше этой новости уже не пойдешь, а потому с сегодняшнего дня перестаю записывать всякие вести о войне. «Слишком много вранья!» — должен был бы сказать современный Калхас[73].
6 февраля. Разговаривал с одним из моряков, участвовавших в поисках (и отыскавшего) погибшего несколько лет тому назад от собственной ветхости броненосца «Русалку»[74].
В городе тогда же ходили рассказы, что не подняли ее только оттого, что пришлось бы отдать под суд все высшее морское начальство, до того корпус судна был ветх и так мошеннически был он построен. Моряк подтвердил все дословно; по той же причине погиб в свое время и «Гангут»; моряк этот, штурман торгового флота, человек, заслуживающий безусловного доверия, утверждает, что ремонты этих судов, хорошо известных ему, производились на бумаге, на деле же их только перекрашивали снаружи. На «Гангуте» вечно работали машины, выкачивая воду, просачивавшуюся во все пазы. В точно таком же состоянии, говорят, находится и прочая береговая оборона наша, вроде разных «Адмиралов» и «Не тронь меня»[75]. Последнее имечко занятное: «не тронь меня, сам развалюсь», так переиначивают его моряки.
В некоторых учреждениях, где собирали подписку об отчислении процент, из жалованья на войну, между прочим и в портовой таможне, произошли при этом скандалы: несколько поляков отказались подписаться на том основании, что «не желают помогать России, притесняющей их». Нечто подобное произошло и в институте гражданских инженеров.
В университете на днях случилось побоище: студенты избили нескольких студентов же за протест против манифестаций; драка была такая, что бойцы разошлись в разодранных мундирах, с воротничками, перевернутыми назад, или же совсем без них. Убедительное приведение к соглашению, что и говорить!
Смешные и нелепые слухи ходят среди нашего мещанства. Как пример, привожу тот, что удалось мне слышать.
Элиза Балетта
Великий князь Алексей[76], моряк, подарил своей любовнице Балетта — французской актрисе (Михайловского театра) маленькую серебряную модель корабля с бриллиантовыми гвоздиками. И вот в каком виде перешло это «событие» в народ; передается притом все это с неудовольствием, с покачиваниями голов, охами, но, разумеется, тихо: «Чего уж добра ждать; сколько денег зря губится! Алексей-то Лексаныч любовнице своей, французинке, серебряный карапь подарил, да целые дни с ней по морю на нем и катается!»
8 февраля. На улицах гремят и звенят бубенцы: их слышно даже через двойные рамы. Народа снует гибель, справляют последний день масляницы.
Относительно причин воспрещения розничной продажи «Петербургской газеты» слышал еще версию: хлопнули ее по карману будто бы за статью, где корили наших порт-артурских моряков за то, что «позорно проспали» подход японцев.
Пишу эти строки, а с Суворовского проспекта доносится пьяное «ура». «Ндравам» теперь в отношении дранья глоток не препятствуется!
На Инженерной ул. у дома Красного Креста бессменно дежурят целые толпы студентов, женщин и мужчин всех сословий; предложений так много, что попадают в ряды сестер и братьев милосердия один из десяти и даже двадцати человек. Пожертвования льются щедрой рукой.
10 февраля. Пущен нелепый слух, будто бы Алексеев отравился.
Закрыты высшие женские курсы. Начальство, без ведома слушательниц, представило верноподданнейший адрес от их имени с изъявлением разных чувств; курсистки, узнав об этом, вознегодовали — и справедливо — и устроили весьма бурную сходку. Результат — закрытие курсов. Да, трудно теперь разобраться, где истинно «верноподданнейшие» чувства, а где вынужденное присоединение к изъявлению таковых! Достаточно какому-нибудь ферту в собрании предложить такое подношение, то, если бы все остальные присутствующие не одобряли — вынуждены были бы «поднести», чтоб не подвергнуться в свою очередь поднесению какого-нибудь сюрприза вроде высылки, отсидки и т. д.
Телеграмма от Алексеева принесла весть о потоплении нами четырех японских торговых пароходов и об отбитии новой атаки миноносцев. Все-таки, что-то вроде успеха; на безрыбьи и рак рыба! По слухам, дела наши неважны и российское ротозейство сказалось вовсю: мало войск на Востоке, а наша драгоценная, стоившая миллиард Манчжурская дорога более 2000 человек в сутки не может пропустить.
12 февраля. Назначен новый градоначальник, генерал Фуллон[77] из Варшавы.
13 февраля. По рукам ходит забавная пародия на манифест о войне, начинающаяся таким образом: «Мы, Божиею милостью и т. д. … царь Ходынский и Кишиневский, Полтавский и Харьковский, царь Эриванский» и т. д. — перечислены все места, где бывали беспорядки, закончившиеся секуциями.
Экземпляры литографированы и внизу имеют подпись: «печатать разрешается. Министр вн.<нутренних> дел фон-Плеве».
15 февраля. Отправляется на войну великий князь Кирилл Владимирович. Что, спрашивается, сей герой будет там делать? Конечно, в первую голову получит Георгия. Люди будут драться, а такие господа награды получат. Опять сложит армия песенку вроде той, которую принесла с войны 1877 года:
- Оказались в эвтом бое
- Всего только два ироя —
- Их Высочества,
- Их Высочества!
17 февраля. Умер Ванновский[78], бывший военный министр и министр народного просвещения.
В народе толкуют, будто бы о. Иоанн Кронштадский «благословил на 25-летнюю войну», т. е. говоря иначе предсказал, что она протянется 25 лет.
Компетентен ли в этом деле о. Иоанн, не знаю, а что вся Европа вооружается, минируют свои гавани даже такие государства, как Голландия и Швеция, и все вот-вот кинутся друг на друга, как псы по первому «втю» — это верно!
18 февраля. Университет оцеплен двойным рядом городовых; входы в него заперты. Вокруг здания толпа студентов и штатских. Что происходит — еще не знаю, говорят, устроена грандиозная сходка.
Сегодня получил первый № «Листка освобождения»[79], нового приложения, выпускаемого теперь Струве по случаю войны. Прочитал его и задумался: трудна задача будущего историка! Как разберется он в груде противоречий и сплошного вранья? Говорю это вот почему: в этом № имеется заметка «Казенный патриотизм и учащаяся молодежь», где значится: «Патриотические манифестации состояли из 3 элементов — полицейская провокация, хулиганство и баранство», ниже опять: «Патриотические манифестации производили главным образом гимназисты и неопределенного звания люди».
Я лично и десятки знакомых моих перевидали разные манифестации: их устраивало все живое, находившееся в те моменты и в тех пунктах. Это было что-то стихийное, пробиравшее до самой глуби костей; «толп гимназистов» я не видал, — мальчишки везде и всегда сопровождают процессии, — а видел взрослых людей, почтенных отцов семейств, молодежь — и студентов, и барышень, и дам разряженных, и бедноту — все, шли в этих процессах, охваченные энтузиазмом. «Наемным» путем чувств ни у зрителей, ни у толпы вызвать нельзя, и тот, кто был в эти дни в Петербурге, никогда не забудет их. Достаточно было крикнуть одному «ура» — и все приходило в возбуждение, все становились участниками манифестаций.
21 февраля. Со всех сторон сообщают о бегствах подростков, начиная с 10–11 летнего возраста, на Дальний Восток, на войну с японцами. Из гимназий и др. учебных заведений и от родителей до сих пор, говорят, подано в сыскную полицию до полутораста заявлений об исчезновениях юных воинов; на вокзалах кассиры теперь билетов детям не продают и таковых задерживают.
23 февраля. В университете что-то не все еще ладно. Уверяют, что среди студентов и курсисток отыскался кружок лиц, решивших выразить свое сочувствие микадо и японцам посылкой ему приветственной телеграммы и сбором денег в его пользу. Телеграмма эта — передают дальше — была подана на телеграф, но, конечно, доставлена совсем другому микадо: градоначальнику, а тот поскакал с нею к государю. Всему этому, зная мудрых наших будущих людей, еще можно поверить, несомненно, они знали, куда и кому попадет их телеграмма вместо Японии и подали ее нарочно с этой целью. Но дальнейшее пахнет выдумкой; просмотрев смехотворный в сущности документ, государь заявил: «Ничего не имею против депеши и сбора денег со стороны этих гг., только пусть они то и другое отправятся лично вручить микадо».
26 февраля. Со всех сторон передают, что запрещено селиться на лето под Ораниенбаумом, в Териоках, Сестрорецке, Куоккале и т. п. прибрежных местах. В Териоках возводится укрепление; в Выборге усиливается гарнизон. От комиссионеров слыхал, что в Кронштадте чуть ли не паника: с 1 марта он объявляется на военном положении, и жители готовятся к выезду и распродают за бесценок вещи. Ожидается война с Англией.
По улицам бегают мальчишки с листками в руках и выкрикивают: «Новое чудо святителя Николая на Востоке, цена пять коп.»
29 февраля. Сегодня в газетах появилось опровержение слухов о воспрещении селиться в названных выше местностях на дачах; сообщение это как-то неуверенно набрано петитом и почти незаметно. Тем не менее, толки об этом запрещении не прекращаются, а усиливаются.
Умирает последний могикан плеяды старых поэтов, К. К. Случевский; у старика рак, и положение его безнадежно.
Старик был оригинальный человек и притом почти ослепший за последние годы; страстно любил свой «Уголок» — дачу в Гунгербурге. «У меня есть вещи, который не умрут-с!» говаривал он иногда в минуты раздражения, ударяя себя кулаком в широкую грудь. Случалось это в такие минуты, когда заговаривали о новых российских академиках и российском Пелионе — Академии, так обидно забывшей о старике.
К. К. Случевский
По пятницам у Случевского собирались поэты. Всякий, кто состряпал на своем веку какую бы то ни было книжонку с виршами, имел право идти в пятницу к К. К.: двери были открыты для всех и каждого. Убеждения в расчет не брались, но, правда, из числа «пятничных» гостей по другим дням почти никого не принимали. Таскалась к нему вся поэтическая братия, рассчитывавшая, главным образом, как-нибудь и куда-нибудь пролезть при помощи К. К., гофмейстера и человека влиятельного. Бывал там и рыжекудрый Аполлон Аполлонович Коринфский[80], мало, увы, похожий на своего тезку; Коринфский был помощником К. К. в редакции «Правительственного вестника» и, не ограничиваясь устной хвалой патрону, произвел на свет книжицу: «Поэзия К. К. Случевского» и уж не помню теперь, в этой ли книжице, в стихах ли своих, заявил с пафосом, что Россия должна гордиться поэзией Случевского. Плохо думает о России г. Коринфский! У России есть чем погордиться и помимо посредственных, а за последние года, когда старик взбрыкнул за Москвой и ударился в декадентство, и прямо плохих стишков.
Пятничные гости эти острили, говорили «экспромты», сочинявшиеся, вероятно, с субботы, и так им эти остроты нравились, что вздумали познакомить с ними и публику и стали издавать свой журнал — юмористический[81]. Пятничные вдохновения эти были оценены публикой по достоинству, и после нескольких № журнал скончался.
Все это происходило несколько лет тому назад; что представляли пятницы последнего времени — не знаю, имею однако данные полагать, что к лучшему не изменялись. Окончательно прекратились они лишь на этих днях.
4 марта. Вчера беседовал с сановниками медицинского мира и полюбопытствовал узнать — что значил сей сон — отправка почти сплошь одних евреев-врачей в действующую армию. Оказывается, как «неблагонадежный» элемент, на случай мобилизации они были зачислены в самый отдаленный и, как предполагалось недавно, не угрожаемый войной округ. Нежданно-негаданно все перевернулось, и евреи пошли в первые ряды. Правы заграничные остряки, выпустившие теперь открытые письма, на которых изображен отдыхающий Саваоф. К нему является архангел и сообщает, что на земле неблагополучно: война. Саваоф махает рукою и отвечает: «Пускай себе дерутся: сами помирятся!».
— Да русские это с японцами воюют, Ваше Божество!
— Русские? Давай когда так кушак и шапку: эти без меня не обойдутся!
Со всех сторон доводится слышать глухие толки о беспорядках и сопротивлениях властям на Руси. Где происходили они, как — никто объяснить не может. В Царстве Польском, передавали, были даже отказы солдат идти на войну и т. д.
Отмечаю вновь проснувшееся во всех ожидание чего-то изнутри России; к войне публика уже несколько поохладела; листки с телеграммами куда меньше стали находить покупателей и теперь газетчики напрашиваются к равнодушно идущим мимо прохожим. Первая, острая стадия миновала… Что-то будет, когда все пресытятся и устанут от войны?..
5 марта. Читал сегодня письмо моряка-офицера Сергея Дмитриевича Бодиско[82] из Порт-Артура, описывающее кутерьму, происшедшую там от нежданной атаки японцев; все это известно по газетам, поэтому повторять не буду.
Слух, что взорвалось второе русское судно — письмо подтвердило: только погиб не «Баян», как говорили, а «Боярин», дважды напоровшийся на собственные мины. Газеты и правительственные сообщения молчат об этом — шило в мешок прячут!
6 марта. Вчера вечером и сегодня в разных местах слышал, будто повешен некий интендант Ивков[83], продавший Японии план расположения на театре войны продовольственных пунктов.
15 марта. В двух книжных складах сообщили мне, что Н. А. Рубакину предложено на выбор: или переселение в Восточную Сибирь, или же за границу навсегда. За что свалилась на него эта напасть — никто и сам он не знает. Вероятно, за январский съезд, где, хотя он и держал себя сравнительно скромно, но тем не менее попал под всевидящее око… У. Н. А. сильнейшая астма; «заграницу» и тамошних соотечественников он не особенно долюбливает; тяжело ему придется там! В последний раз я его видел вскоре после закрытия съезда и обыска у него; он принял меня в постели. Н. А. был поражен тем, что полиция, заставшая его в минуту приступа астмы, ввиду болезни его не приступила к осмотру квартиры, и пристав, запросив по телефону начальство, извинился за беспокойство и ушел со своей командой, отложив обыск, чтобы не беспокоить больного.
19 марта. Около 8 ч. вечера, выйдя на улицу, увидал на безоблачном небе не то тучу, не то столб дыма; дошел до Невского — на каланче мерцают три фонаря и над ними один красный, значит, где-то пожар и сильный. Горело, как оказалось, внутри Апраксина двора; за Екатерининским сквером стояло над домами словно громадное северное сияние: выделялись языки огня и летевшие высоко вверх искры. Садовую улицу запруживали извозчичьи пролетки; со всех концов лились на пожар черные реки людей и экипажей.
К. Булла. Пожар в Апраксином дворе
Здание Государственного банка стояло освещенное, как днем; мимо него никого не пропускали; сквозь решетку Пажеского корпуса видно было, как в конце переулка, ближе к Фонтанке, у Министерства народного просвещения бушевало пламя. Едва удалось протискаться к Екатерининскому каналу и мимо банка пройти на Гороховую и оттуда на Фонтанку. Взлетавшие на необычайную высоту искры подолгу мерцали на небе и падали на панель канала — расстояние от места пожара огромное. Теснота была такая, что вереницы экипажей подвигались шагом; в толпе слышались разговоры, что горит склад резиновых и целлулоидовых изделий «Проводник», и будто есть человеческие жертвы; иные уверяли, что погибло сто человек. Освещенная красным отблеском огня Фонтанка представляла необычайное зрелище. На более темном правом берегу ее виднелся ряд паровых машин, накачивавших воду; паровики реготали, выбрасывали клубы дыма и сыпали искры; кругом суетились, посвечивая медными шлемами, пожарные; проносились во весь опор, гремя и звеня, бочки с водой, а из-за зданий министерств вставало и крутилось море огня.
20 марта. Сегодня газеты насчитывают 12 жертв вчерашнего пожара, но пока не разыскано еще много приказчиков сгоревших складов — Клочкова и «Проводник». Пожар длился всю ночь; дежурная часть тушила его еще утром. Вчера и сегодня в пожарном отношении какие-то фатальные дни; иду нынче по улице Гоголя и вижу, что в доме на углу Гороховой выбиты во втором этаже стекла; читаю закопченную и скорчившуюся с одного края вывеску: «Редакция газеты «Знамя»»[84]. Вчера, оказывается, вспыхнул в ней пожар и уничтожил ее, хотя к сожалению, кажется, только отчасти.
Иду дальше — в Кирпичном переулке пожарные и толпы людей: горит где-то во дворе. Сел в омнибус, еду по Невскому — у Аничкого моста встречаю летевшую на новый пожар команду; лошади, видимо, не были еще отпряжены с вечера и носили следы мыла; люди выглядели утомленными — приходилось поспевать с пожара на пожар, не отдыхая.
Что это, однако, за праздники Красного Петуха настали??.. Куда бы ни шел — везде слышишь трубные сигналы пожарных и видишь их мчащимися по улицам во весь опор?
21 марта. Упорно повторяют, будто Гершуни[85] и др. повешены, между тем из достоверных источников знаю, что они помилованы. Виселица заменена Гершуни пожизненным одиночным заключением… черт возьми, виселица много гуманнее! На суде, говорят, разыгрался инцидент, произведший сильнейшее впечатление. Защитник одного из обвиненных, офицера Григорьева[86], — Мусин-Пушкин построил свою защиту на громоносном обвинении Гершуни. «Эти люди», говорил он, указывая на Гершуни, «отбирают у таких, как Григорьев, портреты и разные письменные свидетельства, чтобы они не могли уйти от них и, пожав лавры себе, заставляют потом идти на смерть»… и т. д., и т. д.
Когда он кончил, поднялся Гершуни и спокойно, но выразительно сказал следующее: «История не сохранила нам ни того, что говорили судьи, приговорившие Гуса к сожжению, ни кто они были. Но в памяти людей осталась та старуха, которая принесла «свое» полено на костер его. История запомнит и вас, г. адвокат, и ваш грязный камень, брошенный вами в человека, стоящего в саване и с веревкой на шее!».
Все были точно придавлены к земле этими словами.
Утром сегодня получил письмо от И. А Рубакина, где он пишет, что выезжает завтра за границу, хотя «надеется, что не навсегда» и прощается со мною.
31 марта. Со всех сторон сообщают, что погиб броненосец «Петропавловск» с экипажем и адмиралом Макаровым; по одним версиям, он взорван японцами, по другим, напоролся на собственные мины. Переполох сильный, одно за другим гибнут наши лучшие суда!
Неожиданно утром сегодня разыгралась снежная метель и обсохшие было улицы опять покрылись грязью; дни стоят теплые, серые; Нева вот-вот готова вскрыться, по Фонтанке уже недели две как бегают финляндские пароходики, похожие на крыс, шмыгающих под мосты.
1 апреля. Во многих церквах идут панихиды: слух, к несчастию, оказался верным, погиб Макаров и почти весь экипаж броненосца «Петропавловск»; Яковлев[87] и великий князь Кирилл ранены, но спасены. На дворе сильнейшая метель; день словно зимний, ненастный и, несмотря на это, на углах теснятся целые толпы людей и пробегают глазами вывешенные известия с Дальнего Востока. Впечатление страшное.
Гибель «Петропавловска» 31 марта 1904 г.
Полиция сегодня утром отбирала у всех газетчиков №№ «Петербургского листка» и каких-то еще газет; сопротивлявшихся тащили в участок; в газетную экспедицию почтамта полиция явилась тоже и конфисковала все названные №№. Тем не менее, я раздобыл «Петербургский листок» и успел наскоро пробежать его; особенного ничего не заметил; в отделе происшествий наткнулся только на заметку о том, что этой ночью в «Северной гостинице» произошел сильный взрыв, исковеркавший много номеров, полы и потолки; в одной из комнат найдены куски человеческого тела, разорванного бомбой. Что это за бомба, и кто был владетелем ее — загадка; по всей вероятности, здесь кроется что-либо анархическое, сыщики зачуяли следы и потому поспешили всякие сведения о происшедшем изъять.
В два часа дня на улицах снова продавался «Петербургский листок»; купил № — на месте заметки о взрыве белая полоса. Заметку выкинули, и газету отпечатали снова.
3 апреля. Смутно поговаривают о происшествии в «Северной гостинице»; будто бы в скором времени предстояло открытие памятника Александру III на площади перед этой гостиницей — конечно, в Высочайшем присутствии; анархисты заняли №, выходивший окнами на площадь, и подготовили бомбы для покушения[88], кончившегося для них неожиданной катастрофой. Что ж, не одним порт-артурцам нарываться на собственные мины!
Ходил смотреть на гостиницу; семь окон во втором этаже (считая сверху) изуродованы, опалены; стекла и рамы выбиты; внутрь помещения никто не допускается. Жандармы уже на следу и деятельно разыскивают участников; в почтамт поступила секретная бумага о задержании и доставлении в полицию всякой корреспонденции и посылок, могущих придти на фамилию некоего Раевского и еще каких-то лиц.
В среде самой полиции раскол. Достоверно знаю, что Лопухин[89], нынешний директор департамента ее, рвет и мечет и открыто высказывает свое неудовольствие на произвол и порядки, которые при его поступлении обещал устранить Плеве и которых, «заманив» Лопухина, конечно, не переделал.
Анненский[90], казначей Литературного фонда, выслан на несколько лет в Ревель… за «образ мыслей», вероятно, т. к. никаких иных прегрешений за ним не оказалось. Старались изо всех сил убедить его, что он произносил «неудобные» речи на могиле Михайловского, но это не выгорело, т. к. он не открывал даже рта, что и подтвердили свидетели — Короленко и др. Плеве деятельно взялся за чистку Петербурга, только, ой, не напороться бы и ему на собственную мину! Анненский и ему подобные люди языка, но не действий, а «чистка» может пробудить и боевые элементы!
Слышал, будто Плеве заявил, что высылать более в срединную Россию он никого не будет — «довольно разносить везде крамолу» — а будет отправлять в балтийские провинции. Это остроумно. Действительно, балтийские губернии — это дейтчланд и до руссланд им нет решительно никакого дела; сосланный туда пропагандист на полной свободе будет чувствовать себя со связанными руками. Анненский, кажется, первый открывает компанию в новые обедованные земли!
* * *
Командующим флотом на Дальний Восток назначен Скрыдлов; перебили горшки, а потом и посылают человека беречь их! Кирилл, оказывается, жив и здоров… вода не приняла! Забыл упомянуть, что Анненского выслали столь поспешно, что не позволили даже заехать домой и сдать ключи от денежного ящика, в котором 60 000 руб. о<бщест>-ва. Это уже потеха! Добродушный Анненский показался таким страшным, что вывезти его потребовалось экстренно… следовало бы потребовать для этого к Литейному мосту свободный броненосец и на сем надежном сосуде доставить столь опасного человека в Ревель!
5 апреля. Нарочно заглянул сегодня за грязный забор, украшающий Знаменскую площадь: пустырь продолжает красоваться во всей неприкосновенности, с грудами мусора, деревянным колпаком над цоколем будущего памятника, словом, запустение полное и, очевидно, ни о каком «близком» открытии не может быть и речи. Стало быть, и толки о цели снятия комнаты в «Северной гостинице» анархистами — вымысел.
По городу циркулируют еще и другие слухи; между прочим, говорят, что бомба эта предназначалась для Плеве на панихиде по Сипягине; другие уверяют, что для взрыва при спуске новых броненосцев, строящихся на эллингах, и будто бы даже в Неве найдено вчера несколько мин для самых судов; последний вздор повторяют усиленно; о взрыве в гостинице знает и говорит весь город. Вот результат «экстренной» и умной меры — конфискации газеты; выйди она с этой заметкой, и никто не обратил бы на нее внимания — мало ли за день происходит несчастных случаев!
15 апреля. Врем напропалую; что ни дом, то новые слухи! И Куропаткин ранен великим князем Борисом (по другим сведениям, отравлен), Вильгельм продал нам пять крейсеров, за что мы делаем ему уступки в таможенном тарифе, т. е. закабаляемся еще лет на десять и. т. д., и т. д. без конца.
Завтра приезжают моряки с «Варяга» и «Корейца»; приготовляются грандиозные манифестации.
С Дальнего Востока возвращается Кирилл Владимирович; повоевал, довольно с него! Второе чадо, Бориса, говорят, тоже скоро уберут оттуда: выделывает там черт знает что.
16 апреля. В девять часов утра пошел по направлению к Николаевскому вокзалу с дочерью; по Суворовскому, Лиговке, со всех сторон спешили туда же вереницы людей. Близко подойти к Невскому оказалось невозможным; вошел в церковь Знамения и за мзду сторож препроводил меня на колокольню, откуда открывался прекрасный вид. Не только чугунная ограда — деревья вокруг церкви, фонарные столбы — все сплошь чернело народом. День был серый, холодный; вдоль панелей Невского, по которому всякое движение прекратили с 8 ч. утра, тянулись красные, синие и малиновые ряды спешенных казачьих полков. Толпа внизу все прибывала и прибывала; устье Знаменской улицы запрудилось совершенно.
На извозчичьих пролетках, случайно оказавшихся там, и двух ломовых подводах с ящиками из-под пива, на сиденьях, на козлах и на ящиках стояли дамы и дети; двое каких-то субъектов взобрались даже верхом на лошадей; балконы и окна везде были открыты, отовсюду выставлялись люди и без конца люди; лепились они и на карнизах и на нижних вывесках.
Экипажи «Варяга» и «Корейца» на Невском проспекте 16 апреля 1904 г.
Толпа снизу все выпирала и выпирала казачьи шпалеры ближе к середине Невского. Правая сторона вскоре очутилась у самых рельс; тогда казаки оборотились и пошли в атаку, отпихивая и лупя, без церемонии, кого попало, руками; ненадолго осадить народ удалось, затем толпа с гулом надвинулась снова; те опять атаковали ее, и через минуту малиновые мундиры и косматые черные папахи разбились на кучки и затерялись, как бурьян в поле. На выручку прискакала конная полиция и стала оттеснять толпу лошадьми; раздались крики, визг, местами замелькали кулаки; толпа шарахнулась назад, и казаки выровнялись снова; со всех сторон поднялся свист и кошачий концерт. Видел несколько сорванных и брошенных прочь в толпу шапок, казачьих папах и две галоши. Сверху я заметил, что казачий полковник горячо заговорил о чем-то с распоряжавшимся вызовом беспорядков приставом и затем скомандовал казакам идти вперед. Те отошли почти до рельс, толпа вздохнула свободнее, и неурядица прекратилась. Гул на Невском стоял, как над морем. Общее внимание привлекали собаки, то и дело бежавшие на рысях к вокзалу: наконец, около половины одиннадцатого начали уезжать с вокзала встречавшие; когда проезжали в коляске двое каких-то моряков, обознавшаяся толпа встретила их недружным, сейчас же прекратившимся «ура», и развеселилась; пробежавшей затем собаке тоже прокричало с десяток глоток «ура»; это вызвало общий смех. Немного погодя со стороны вокзала донесся стихийный рев тысяч голосов; весь Невский загудел от криков; в воздухе замелькали шапки, платки, флажки, показался оркестр морских музыкантов; за ними, блестя золотом эполет, шел Руднев, Беляев[91] и офицеры; немного поодаль, все с георгиевскими крестиками на груди, наплывали сине-черные ряды матросов с «Варяга» и «Корейца».
Напором толпы шпалеры казаков были снесены с мест и очутились вплотную с рядами моряков; позади них шел и играл другой оркестр.
Фуллон был настолько наивен, что печатно заявил вчера во всех газетах, что «публика следовать за моряками допущена не будет», Но не успел еще второй оркестр миновать угла Знаменской, как линии казаков разом исчезли и черное, сплошное море людей захлестнуло и площадь, и Невский проспект. Кое-где, где кучками, где в одиночку, пестрели мундиры, и поток понес их и полицию, как в тисках, по течению. Авось это научит кое-чему г. Фуллона и присных его! Такого многолюдства я не запомню в Петербурге: даже «юбилейная» толпа является безделицей сравнительно с этой! Только что скрылся оркестр, напротив Знаменья какая-то кучка запела было, и притом прескверно, «Боже, царя храни», но ее затискали, не поддержали, гимн оборвался и стих в общем гуле и гомоне. Стал накрапывать дождь. Часа два после встречи на всех перекрестках Невского и на мостах творилось нечто невообразимое. Я поехал на извозчике в объезд по ул. Жуковского и Литейной в Щербаков переулок и на углу Невского должен был стоять среди моря экипажей и сплошной массы людей ровно двадцать минут.
23 апреля. Сильный дождь со снегом; погода все время стоит отвратительная.
Только что успокоился было Петербург, и опять начали раздаваться чересчур самоуверенные голоса — разнеслась весть о бое на Ялу. Мы потеряли 30 орудий, свыше 2000 людей и спешно отступили. Новость эта вызвала чуть не панику; телеграммы опять раскупались нарасхват; везде только и разговоров, что о войне, о взятых японцами в плен 20 офицерах и 2000 солдатах, пушках, генерале Засуличе[92], виновнике этого боя, и т. д. Действительно воюют макаки с кое-каками, меткое словечко пустил в оборот старик Драгомиров![93]
Недовольство постепенно растет и растет кругом. Страшно возмущены многие, напр., назначением заведомого вора-взяточника, бывшего кронштадтского полицеймейстера, уполномоченным Красного Креста. Говорят, назначение это он получил благодаря императрице Марии Феодоровне, пред которой, вероятно, когда-то сумел блеснуть распорядительностью.
Бумаги сильно опять упали в цене. Купцы и все деловые люди жалуются на застой: особенно это заметно на книжном рынке. Ходко идут только книги о Японии и Корее, остальные не двигаются. Издательства почти совершенно приостановили деятельность; некоторые приказали даже разобрать начатые наборы новых книг.
27 апреля. Рассказывают, что виновником покушения на взрыв громадного Кронштадтского склада пироксилина, о котором на днях сообщали газеты, оказался какой-то артиллерийский штабс-капитан; когда он был арестован и увидал, что улики все налицо, то нагло заявил: «что ж, у меня сорвалось, зато брат отправил «Петропавловск» на дно!» Брат его служил на этом погибшем броненосце артиллеристом же, или минным офицером; невероятно, но… в наше время все может быть! Гибель «Петропавловска» действительно подозрительна во всех отношениях; из показаний очевидцев как бы выходит, что первый взрыв произошел на корабле; где правда — узнается, конечно, не скоро. Общие насмешки вызвал Кирилл, спешно бросившийся в воду, чтобы спасать свою драгоценную жизнь, при первом же взрыве; в недурном положении оказался бы этот «герой», если бы броненосец уцелел, и его струсившее высочество пришлось бы вылавливать потом из воды. Приезд его в Петербург прошел незаметно, и только кучка гвардейских прихлебателей встретила его «ура» на вокзале. Вероятно, в числе кричавших «ура» в его честь были и Кюба и Донон и Тумпаков[94] с компанией. Недаром прокатилась острота по городу, что: «Как же было утонуть Кириллу в море, когда он воспитание получил… в «Аквариуме»»!
С Дальнего Востока вести не первосортные: Порт-Артур отрезан и изолирован; разбитый на Ялу Засулич подсчитывает свои потери, равняющиеся чуть не 30 проц. всего состава отряда. У Засуличей, очевидно, родовое неуменье вести дела: сестра его, Вера, стреляла в свое время в полицеймейстера Трепова — и не попала[95]; этот целил в Георгиевский крест, а попал в себя самого!
28 апреля. В начале двенадцатого часа проезжал днем на финляндском пароходике по Неве к Финляндскому вокзалу и видел красивое зрелище. Начиная от дворца, вдоль набережной вплоть до Летнего сада стояли линии конных гвардейских полков; хоры играли «Боже, царя храни», а государь ехал в темном мундире с синей лентой через плечо, около коляски императрицы, запряженной цугом, с голубыми жокеями, за коляской пестрели разнородные мундиры свиты и генералов. Полки, после обычного «здравия желаем», начинали кричать «ура», но очень уж по-казенному, так что впечатление от этого «восторга» совсем неважное. Публика, конечно, ни пешая, ни экипажная, на набережную допускаема не была, и царский кортеж медленно подвигался мимо рядов солдат по казавшейся пустынной набережной. Зато из окон домов, на балконах — всюду выставлялись головы.
29 апреля. Все, сколько-нибудь остроумное, сказанное, или якобы сказанное в высших сферах, приписывают у нас Драгомирову. Так, передают, что когда вел. князь Владимир Александрович разгорелся желанием ехать на войну, и государь, поставленный им в неловкое положение, сообщил об этом совету, то Драгомиров среди общего красноречивого молчания заявил: «Я боюсь одного, Ваше Величество, японцы народ воспитанный и, пожалуй, никогда не покажут спины Его Высочеству?»
Газете «Русь» за статью Амфитеатрова о студентах[96] объявлено предостережение и воспрещена розничная продажа; Амфитеатров скоро сделается специалистом по части приканчиванья газет. Как только где-нибудь пойдут дела плохо — будут приглашать Амфитеатрова на гастроли: докончи, мол, отец родной!
Со студентами, как с биржей, «тихо». Идут беспорядки только у горняков; они повесили у себя в курилке портреты ярого руссоненавистника Бебеля. Коновалов,[97] директор, узнав об этом, пришел в курилку и велел убрать немца; в ответ на это ему заявили, что он, директор, не имеет права… входить в курилку и — распоряжаться портретом. Коновалов разгорячился, обругался, потом извинился, потом опять обругался, словом, разыгралась глупейшая история; шумят и высшие женские курсы, продолжая пережевывать старую историю об адресе.
5 мая. Забродила по городу новая ахинея: будто бы арестован в Порт-Артуре контр-адмирал князь Ухтомский[98], и его везут сюда, как устроителя взрыва на «Петропавловске». По части вранья, и притом художественного, Петербург всякому Царевококшайску сто очков вперед даст!
9 мая. Ехал сегодня утром в так называемой трясучке, — омнибусе, ходящем вдоль Невского, и вдруг, вижу, влезает в нее и становится на площадке странник Василий; опять он был, конечно, без шапки и босоногий, в одном темно-синем подряснике; все глядели на него с любопытством. Реденькие длинные волосы на голове его намокли; в руке он держал знаменитый жезл свой с крестиком наверху и огромным острым железным копьем внизу — одним из тех, что ставятся на железных оградах, только еще больше и шире.
Василий Босой
Карманы этого святого мужа отдувались от брошюр, собственных его жизнеописаний; он их раздает желающим, а если ему дают за это деньги, то тотчас же опускает их в какую-то кружку, хранящуюся за пазухой. Не так давно он судился у мирового за скандал и драку: швейцар в Казанском соборе не впускал его с жезлом, а тот обиделся и, заявив: «Мне император Александр III разрешил всюду ходить с этим посохом, а ты не пускаешь?», взял швейцара за ворот. Произошла потасовка, и порядком помятого святителя еще и оштрафовали.
15 мая. В газетах часто стали проскальзывать заметки, восхваляющие почт-директора Чаплина и приписывающие ему все улучшения последнего времени. Все эти газетные дифирамбы — вздор: за почтамт взялась энергичная рука товарища министра Дурново[99] и все делается по его инициативе. Чаплин держится Дурново в черном теле и ни во что серьезное не вмешивается. Единственное, что сделано по инициативе Чаплина — допущение женщин на службу в почтамт, да куплены новые, желтые экипажи для перевозки почт. Впрочем, есть еще одно: обстриг хвосты и гривы почтамтским лошадям; по этому поводу острят, что он и с лошадей щетинку снял.
П. Н. Дурново
В почтамте Дурново зовут каторжником и живорезом за его безмерно резкое, наглое и нетерпимое обращение с этими и без того загнанными маленькими людьми. Чуть случится что — первая фраза Дурново — «выгнать»! И говорится это отрывистым жестким тоном; весь он — маленький и худой — с тяжелым взглядом темных глаз, производит злое, отталкивающее впечатление…
Прошлое этого человека не без пикантности, и потому запишу о нем несколько слов.
В царствование Александра III был директором департамента полиции и находился в связи с женой одного из своих приставов. Барыня эта — очень красивая — вела себя ветрено и Дурново заподозрил ее в неверности. Не долго раздумывая, призвал он к себе околодочного надзирателя того участка, где жила приставша, и дал ему секретное поручение (под угрозой чуть ли не Сибири в случае болтовни) — следить за ней. Прошло несколько дней — околодочный явился к Дурново и сообщил, что барыня эта с каким-то господином заехали в гостиницу и заняли там отдельный № — Дурново приказал полицейскому немедленно взять городовых и скакать с ними в гостиницу, арестовать барыню с господином, составить об этом протокол; если же не отворят двери — он приказал последние выломать.
Околодочный явился в гостиницу и стал требовать впуска в №; конечно, его не впустили; городовые сломали дверь и глазам кучи людей, собравшихся на шум, предстали в дезабилье приставша и с нею… португальский посланник.
Скандал вышел грандиозный[100]. Португалец немедленно поскакал требовать удовлетворения к министру иностранных дел и история разгорелась. Доложили императору и тот, рассердившись, приказал Дурново «выгнать к черту». Тогда обратили внимание его, что чиновник этот весьма дельный, давно служит и стали просить смилостивиться над ним.
— Назначить дурака в Сенат! — положил наконец резолюцию Александр III — «но с тем, чтоб и нога его никогда там не была!» Злобного старика заставили извиниться перед послом и махнули его на бумаге в сенаторы. Долго сидел у моря в ожидании погоды Дурново и наконец дождался: всплыл Сипягин, всплыл и он за ним и получил в полное распоряжение свое всю почтовую часть Российской империи.
20 мая. Разнесся слух, что министр иностранных дел Ламздорф[101] получил плюху «за измену» от какого-то высокопоставленного лица, не то Долгорукого, не то Аргутинского-Долгорукого. Вообще за последнее время толки усиленно стали налегать на измену: изменил и подкуплен, якобы, Ухтомский (за 12 миллионов), Алексеев, Ламздорф и даже Куропаткин; словом, плетется обычная дребедень, всегда сопровождающая военные неудачи.
21 мая. Ламздорф действительно отколочен. Он проходил по Морской мимо ресторана, и в эту минуту оттуда выскочил субъект с палкой и начал тузить его с криком «изменник». Ламздорф бежал, а палочный герой (Долгоруков)[102] был схвачен дворниками и доставлен в Казанскую часть (там сыскное отделение); государь, которому немедленно доложили о происшедшем, лично назначил комиссию психиатров для определения состояния мозгов патриота, и десять умных, как говорит пословица, ежедневно путешествуют расхлебывать кашу одного Долгорукого. Начинают уже поговаривать об отставке Ламздорфа; сомневаюсь: у нас за битого двух небитых дают! Недаром клоун Дуров[103] лет с десяток тому назад в Москве отмочил следующую штуку: в университете разыгралась история с ректором; один из студентов, по жребию, дал ему плюху в публичном месте; студента мгновенно забрали и услали куда-то, а ректору дали орден. Только получил он этот орден — кажется, звезду — в цирке выходит на арену Дуров и тащит за руку другого клоуна — рыжего.
— Давай, — говорит, — играть с тобой!
— Как?
— А вот как: ты будешь студент, а я буду твое начальство!
— Студеент? — рыжий делает свирепую рожу и начинает сучить кулаки. — Ты начальство?..
Дуров пятится от него, пятится, наконец получает затрещину и летит на песок. Потом медленно встает, отряхивается, лезет в карман, доходящий до пяток, выволакивает оттуда огромную сусальную звезду, налепляет ее себе на бок и, горделиво выпятив пузо, обходит с геройским видом арену. Смех, конечно, был неистовый, а раба Божия Дурова тут же, с места в карьер, выслали из Москвы.
То же, что с этим ректором, будет вероятно и с Ламздорфом!
1 июня. Дачные местности заселяются по-обычному. В свое время я не записал, так как считал это вздорным слухом, которых и так записано достаточно, — происшествие в Павловском военном училище. На днях видел нескольких знакомых юнкеров, и они подтвердили его. Этой зимой кто-то из юнкеров — оставшийся не открытым, — ночью изрезал ножом огромные царские портреты в сборной зале. До лиц некоторых, напр. Николая Павловича, икс этот достать не мог и потому искромсал портреты от плеч до рамы. Скандал получился сугубый и, как ни желал замять его начальник училища, в дело ввязались жандармы, но открыть ничего не открыли. Как предполагают, одной из причин, могших вызвать такую выходку, было то, что из-за отказа в кредите на будущий год для сверх-комплектных юнкеров (а таковых в П.<авловском> уч.<и-лище> довольно много, чуть ли не 60 чел.) решено было «срезать» на экзамене 60 чел. и оставить их на 1 курсе на второй год и таким «простым» образом сразу поставить училище в норму. Иногда не все простое, оказывается, так просто!
4 июня. Смертельно ранен в Гельсингфорсе генерал-губернатор Бобриков[104], и это событие на несколько времени отодвинуло интересы войны на задний план. Всюду только и толков, что о покушении на него, но при этом почти неизменно прибавляют: «Этого и нужно было ожидать». Общественное мнение не на стороне Бобрикова; огромное большинство ругает его и называет грубым и резким человеком.
15 июня. «Биржевые ведомости»[105] вечером вышли с замаранной полосой, заключавшей сообщение, что в последнем бою под Порт-Артуром броненосец «Севастополь» получил удар миной и, чтобы не потонуть, выбросился на камни, а крейсер «Диана» получил тяжкие повреждения. Известие это, тем не менее, распространилось по городу, но особого впечатления не произвело: слишком уж привыкли мы читать каждый день: «японцы нас обошли и мы отступили»… «под натиском значительных сил противника мы отошли» и т. д.
4 июля. Сильнейший ветер со взморья, минутами кажется, что вот-вот разразится ураган как в Москве и начнет рвать трубы и крыши. Было несколько пушечных выстрелов.
Вчера газеты принесли грустную весть — умер А. П. Чехов.
Трудно жить в Петербурге летом, в знойные дни, а еще хуже того в тихие вечера после них: дышать нечем; на улицах висит сизоватая пелена каких-то промозглых испарений, начинает пахнуть даже на лучших улицах гнилью, навозом.
Старый Петербург все уничтожается и уничтожается… Нет ни одной улицы почти, где бы старые двух и даже трехэтажные дома не ломались; теперь на их месте возводятся новые кирпичные же громады… Удивительно много построек в этом сезоне, несмотря на тяжелое, военное время.
А на войне все что-то неладно. Что ни телеграмма оттуда, то «бой длился упорно, но затем было замечено обходное движение японцев и мы отступили в полном порядке», — последняя фраза сделалась стереотипом. Мы так насобачились в отступлениях, что иначе, разумеется, производить их и не можем!
15 июля. В половине одиннадцатого утра узнал, что убит Плеве[106]. Взял извозчика и сейчас же поскакал к месту происшествия — к «Варшавской гостинице». По Измайловскому проспекту шли и бежали туда же люди; меня обогнала карета Красного Креста. Ехать к вокзалу не пропускали; я слез с извозчика и вмешался в толпу, сплошь запруживавшую панели с обеих сторон. Везде сновала пешая и конная полиция. На середине мостовой против подъезда гостиницы валялись разметанные осколки кареты, изорванные в клочья подушки сиденья и окровавленная шапка; их еще не убирали; на камнях алело несколько пятен крови. Огромный многоэтажный дом, где помещается гостиница; стоял без стекол; в зданиях, что напротив и рядом, стекла выбиты тоже. В толпе было несколько очевидцев взрыва; швейцар противоположного дома рассказал мне следующее. У подъезда гостиницы торчали двое каких-то господ, один из них высокий, полный, и разговаривали, видимо, поджидая кого-то. Только что поравнялась с ними карета, в которой ехал на вокзал Плеве — один из них кинул бомбу и грянул оглушительный удар. Карету разнесло вдребезги. Кучера откинуло на мост и его замертво унесли в больницу; лошадей искалечило. Министр остался на месте в страшно изуродованном виде, с сорванной нижней частью лица: на него было страшно смотреть. На тело накинули шинель.
Кидавшие бомбу были ранены: один упал, другой с окровавленной шеей стоял, держась за чугунный столб навеса подъезда, и шатался. Кроме них, говорят, пострадало до 16 человек прохожих и находившихся в соседних домах; у одного извозчика лошади перебило ногу.
К. Булла (?). Полицейские чины осматривают место убийства Плеве (1904)
Фасад Варшавского вокзала, глядящий на мост, стоит без стекол. Доски и клочья от кареты и платьев валялись и на противоположной стороне улицы: под ноги мне попал кусок дверцы с никелированной ручкой. Карета Красного Креста стояла у гостиницы; в нее внесли одного из раненых виновников взрыва, против него и по бокам уселись два полицейских офицера, и карета помчалась назад; впереди нее и по бокам густой стеной скакала конная полиция, и рассмотреть сидевшего я не успел.
К. Булла. Остов кареты Плеве у Варшавского вокзала 15 июля 1904 г.
Толковали, будто устоявший на ногах сам заявил, чтобы его арестовали, и притом «скорее».
В публике волнения и возбужденных толков не замечалось: более было любопытства.
Дождался-таки Плеве своего часа!
Кстати сказать — полиция на месте катастрофы была любезна до сверхъестественности.
19 июля. Собирая справки по библиографическому вопросу, зашел сегодня к известному Николаю Петровичу Полякову[107] — истратившему в семидесятых годах целое состояние на издание книг, из которых многие были уничтожены цензурой, не увидав света.
Типичный, похожий на Влад. Соловьева, старик, с длинною седою бородою и еще черными, густыми клокастыми бровями — принял меня, лежа в постели, с которой не сходит уже седьмой месяц. Разговорились мы, и он порассказал много интересного; так как он не ведет дневника, то записываю все в этой своей «летописи».
Когда еще Александр III был наследником, Поляков обратился к нему с письмом (отвез его сам во дворец и передал адъютанту), в котором просил защиты. У Полякова пожгли уйму изданий, и на 65 тысяч рублей заставили понести убытка; кроме того, его предали суду за выпуск одной книги, воспользовавшись законом, вышедшим позже этого издания. В письме к наследнику, написанному вообще резко, была между прочим такая фраза: «Говорят, что Вы человек справедливый, докажите же это на деле»; главное, на что упирал Поляков — юрист сам — что суду его предавать не смели, так как закон обратной силы не имеет.
Письмо возымело действие. Под председательством наследника состоялось три тайных заседания комитета министров, и Поляков был освобожден от суда, причем из сумм Министерства внутренних дел ему вернули 10 % потерь его. Письмо же его наследник пометил в резких местах синим карандашом и велел передать Полякову, что хотя письмо написано смело, но оно ему понравилось, так как так мог писать лишь невинный и честный человек, и что он его не забудет. И в год смерти императора Александра III — Полякову довелось доказать, что он составил о нем правильное мнение.
Министр Вышнеградский[108] — скупой человек — переезжая с квартиры по уходе с министерского поста, поручил дочери все ненужные бумаги выбросить и продать вместе с прочим хламом. Та исполнила это, но по незнанию, или по ошибке, очистила и шкаф, где хранились секретные дела и тоже выбросила их в мусор.
В один прекрасный день к Полякову — а он любитель книг и известен всем букинистам, — является один из таковых и говорит:
— Вот, Николай Петрович, какое дело! Купило нас трое александровских (с «развала») старую бумагу у Вышнеградского, да такие вещи там отыскали, что не знаем как и быть нам!
— Что такое?
— Дела секретные: сто пятнадцать штук!
— Привезите несколько штук, — отвечает Поляков, — взгляну, что такое!
Тот отправился назад и привез кипу. Николай Петрович поглядел и ахнул. Забыл про больное горло, закутался и поскакал в дебри Александровского рынка. Дело было нешуточное; торговцы видели это сами и трусили. Заставили они Николая Петровича поклясться перед образом, что им худа не будет, и отдали ему все 115 дел за 250 рублей.
Привез он их домой и давай пересматривать. Дела были все серьезные и секретнейшие: напр., о тайной покупке с политическими целями железных дорог в Сербии, доклады военного министра о полной неготовности России к войне, с подробными донесениями о всех слабых сторонах крепостей, о мерах обороны, об устройстве портов, между прочим, разработанный проект ревельского, который хотели тогда превратить в военный (сделали это потом с Либавой), стоимость чего вычислили в 75 миллионов и т. д. Много дел держалось в секрете даже от министров и имело надписи: «Показать только военному министру», «Только министру иностранных дел» и т. д., с целыми уймами пометок и собственноручных бумаг государя.
В руках у Полякова был клад: отвези он его за границу — там дали бы за него сотни тысяч рублей. Но Поляков прежде всего русский человек. Он решил вернуть дела. Но как сделать это? Началось бы следствие, и прежде всего поплатились бы ни в чем не повинные старьевщики. Думал он, думал, затем отыскал ход к великому князю Михаилу Николаевичу[109] — через фрейлину, и тот ответил, что он возьмется только доложить государю, но что дело это настолько казусное, что за последствия, могущие обрушиться на Полякова, он ручаться не может. Надо было искать другое лицо.
Наконец, все уладить взялся великий князь Александр Михайлович; дела были размещены тайно от государя по министерствам. За ними к Полякову приезжал великокняжеский адъютант и увез их. Александр Михайлович настаивал на умолчании о его участии, так как Александр III не терпел, чтобы великие князья мешались в дела.
Спустя несколько дней Полякова вызывает к себе Дурново, благодарит и обещает доложить государю о такой выдающейся заслуге с его стороны; вместе с тем, с него берут подписку о молчании о происшедшем и о содержании дел. Затем Дурново стал расспрашивать, как попали они к нему; Поляков рассказал, что он купил их случайно и, так как подобное важное происшествие не могло пройти без расследования, сам стал просить о назначении следствия. Но так как Вышнеградский, чтобы выгородить себя, ни минуты не задумался бы сказать, что дела эти у него украли — Поляков выразил желание, чтобы к допросу вызвали прислугу Вышнеградского, без всякого извещения последнего — зачем и почему.
Так и сделали. Под присягой люди показали, что действительно в зал была повыкидана груда бумаги, и все было продано торговцам.
Прошло несколько месяцев — о докладе государю ни слуха ни духа.
Идет раз Поляков по Морской и видит, едет его родственник — известный Оттон Борисович Рихтер[110]; карета остановилась, Рихтер забрал его к себе и говорит горячо:
— А ведь доклада о вас государю этот сукин сын Дурново до сих пор не сделал, и знаете почему?
— Почему?
— Взятку ему отвалил Вышнеградский. Как узнал, что за история и чем пахнет она, — поскакал к нему и отвалил. (Дурново был крепко слаб на лапу).
О. Б. Рихтер
Приехали они в Комиссию прошений, где служил Рихтер, и продолжали там разговор.
— Ну да, я ж ему удружу! — закончил наконец последний: — я сам доложу государю.
Так и сделал.
Александр III был поражен. Полякову была выражена высочайшая благодарность — негласная, конечно — и прислан подарок и 1000 р. А у Дурново на вопрос, почему он не доложил в свое время о подобном деле, имел наглость смиренно ответить, что он докладывал, но Его Величество изволило позабыть, за что удостоился Высочайшего матюка, на которые был не скуп покойник.
Вот какие дела случаются в Питере и таятся в неизвестности!
Поляков просил меня сохранить рассказ его пока в тайне и не опубликовывать его, но записать его для будущего. Желание его исполнено.
В общем, смерть Плеве только всколыхнула и заинтересовала всех — не более. Петербург даже острит, что Николаю II следовало обидеться: на него не обращают никакого внимания и, очевидно, считают царствующими его министров (Сипягин, Боголепов, Плеве). Зато на него, говорят, впечатление произведено ужасное. 15-го предполагалось производство юнкеров в офицеры, так по крайней мере ждали и говорили юнкера, но ничего подобного не произошло; по слухам, у государя сделалась желтуха.
20 июля. На другой день после убийства Плеве все редакторы периодических изданий были экстренно вызваны в Цензурный комитет и там им было «поставлено на вид», что о смерти Сипягина говорилось в печати весьма мало и в слишком сдержанном тоне, и поэтому в настоящем случае «предлагается им отнестись к событию с более горячим участием и поместить «соответственные» статьи». Особенно ядовиты молчанием «Русские ведомости»!»[111]
30 июля. В третьем часу дня мне показалось, что стреляют пушки; вышел на улицу — вижу, дворники суетятся везде у домов и вывешивают флаги. Говорят, будто государыня родила наследника.
Вечер. То-то, я думаю, радость во дворце: действительно родился наследник и назван по имени Тишайшего царя; таков ли он будет! Да и будет ли вообще когда-нибудь на троне?
31 июля. Вчера вечером была иллюминация; несмотря на летнюю, глухую пору, на улицах сновала оживленная толпа; весть о рождении наследника всколыхнула всех, не говорю уже о простом народе, но даже и либеральные кружки. Общество к этому вопросу относилось слегка иронически, как всегда к людям, у которых родятся только девочки.
По поводу государя даже острили, что он усиленно «интригует» против брата, наследника, но что толка из этого все не выходит. «Интриги» теперь увенчались успехом.
4 августа. Ехал сегодня от 12-й линии на таможенном пароходе — на Гутуевский; сейчас же за Балтийским судостроительным заводом, близ строящегося броненосца «Слава», увидел несколько военных шлюпок с матросами, занимавшимися усердными поисками чего-то в реке. Обратился к знакомому, постоянно курсирующему в тех местах, и он сообщил, что ищут бомбы. В день смерти Плеве некий субъект нанял ялик и стал переезжать через Неву; близ броненосца он вдруг начал выбрасывать какие-то предметы в воду; яличник задержал его, и оказалось, что он вез бомбы[112] — вроде той, от которой погиб Плеве. Вот эти-то брошенные бомбы и разыскивают, но безуспешно, до сих пор. Предполагают, что он хотел подготовить взрыв «Славы», когда ее повели бы на буксире, но это, конечно, вздор, так как такая бомба хотя и достаточна для гибели всемогущего министра, но для броненосца — пустяки.
Историю с этими бомбами, вероятно, брошенными растерявшимся сообщником убийцы для сокрытия концов в воду, я слышал на другой же день после смерти Плеве, но счел ее тогда за продукт разыгравшейся народной фантазии.
8 августа. Льет дождь, глухо доносятся пушечные выстрелы. Нева в этом году начала пошаливать необыкновенно рано, лето было преотвратительное даже для Петербурга.
27 августа. Виленский генерал-губернатор кн. Святополк-Мирский[113] назначен министром внутренних дел. С любопытством ждем — что будет. Виленцы им были довольны и от одного тамошнего помещика-поляка слышал, что при Мирском у них были «блаженные времена»: поляки всюду допускались на равных правах с русскими на службу и только остающееся в силе запрещение полякам покупать там земли напоминало прошлое и «Кахановскую эпоху». Одно пока достоверно известно про князя, что он очень болезненный человек и старый, несмотря на свои 47 лет.
П. Д. Святополк-Мирский
Странное дело — публика будто обладает даром предчувствия: одно время усиленно заговорили про гибель и плен «Петропавловска» — через очень небольшой промежуток времени именно этот броненосец взлетел на воздух; затем вдруг стали черт знает что болтать про адмирала Ухтомского, дошли даже до такого вздора, что убежденно толковали, будто он арестован за измену и что его везут в оковах из Порт-Артура. Прошло несколько месяцев и Ухтомский осрамился в бою, растерял эскадру и неопубликованным приказом отрешен от командования, а на его место назначен Виренн[114], бывший командир заслужившего добрую славу крейсера «Баян».
22 сентября. Кто-то пустил по городу в ход якобы приказ по войскам микадо.
«1. Кто убьет генерала Куропаткина, — тому 10 миллионов иен.
Кто убьет Стесселя, тому 5 миллионов.
Кто убьет Мищенко… Фока… и т. д., и т. д., — награды спускаются до 100 000 иен».
Затем:
«Кто убьет генерала Орлова — того на десять лет в тюрьму.
Кто убьет князя Ухтомского — тому смертная казнь».[115]
2 октября. Общее настроение пессимистическое. Упорно твердят, будто Куропаткин перешел в наступление вследствие заявления царя: «Пора переходить в наступление», и вот в результате новые неудачи.
Все чают больших благ от нового министра Святополк-Мирского… не оказался бы он в конце концов Окаянным! Императрица-мать назначением его очень недовольна, так как она сторонница политики Плеве, но царь будто бы заявил ей, что если ей новый курс не нравится, то в Дании еще много места для нее. Блажен, кто верует…
На войне дела, кажется, поправляются. Пора, а то уже начинали острить, что скоро вместо «Боже, царя храни» национальным гимном у нас сделается «кина-чонг» — из оперетки «Гейша»![116]
12 октября. Несмотря на воцарение нового министра, аресты в городе продолжают идти своим чередом. Причина — якобы подготовлявшаяся антивоенная демонстрация.
В 39 № журнала «Право»[117] была помещена сильная статья на тему о том, что слова министра — суть слова царя, так как министр у нас только исполнитель, и виленская речь Святополк-Мирского рассматривается как указание на желание свыше конституции. Мирский, очевидно, струхнул от такого нежданного реприманда, и № 40 с продолжением статьи задержан. Между прочим, очень верна и характерна одна фраза из этой статьи, что Россия представляла до сих пор собой дортуар в участке. По недосмотру иностранной цензуры проскользнули в английских журналах к нам забавные карикатуры, изображающие Николая II: он предлагает разным лицам министерское кресло, а под креслом наложены бомбы.
Царь на охоте в Финляндии: «Черт побери, в третий раз упускаю медведя! Господа, нет ли у кого-либо при себе бомбы?» (карикатура из немецкого журнала «Югенд»)
19 октября. Вчера студентами университета была подана петиция на имя государя о прекращении войны с Японией.
Начались опять демонстрации и довольно нелепые. 17-го числа в Казанский собор — излюбленное студентами место для скандалов, явилось несколько человек молодежи и один из них обратился к священнику с просьбой отслужить панихиду по Молчанове — имени его не помню. Священник заметил, что в праздник, да еще в царский день, панихиду в соборе служить неудобно. Тогда студент вышел из алтаря к ожидавшим его товарищам и громко возвестил им об отказе; толпа возбужденно заговорила; ее стали оттеснять к выходу, и вот тут-то произошла сцена избиения дворником какой-то курсистки, описанная в газетах. В общем, демонстрация кончилась благополучно, благодаря спокойствию и уменью градоначальника говорить с толпой.
Другая демонстрация произошла Выборгской стороне перед тюрьмою.
Студент Молчанов, арестованный по делу Плеве, повесился в тюрьме и перед смертью послал письмо отцу своему, в котором просил его никого в его смерти не винить и писал, что ему надоело жить, что он чувствует себя лишним, ненужным и не годным никуда, а потому накладывает на себя руки.
Депутация студентов, не зная ничего о подобном письме, явилась на квартиру к отцу Молчанова и стала выражать свои чувства по поводу новой жертвы произвола. Старик показал им письмо и не знаю, вежливо или нет — выпроводил от себя опешившую депутацию.
Перед тюрьмой было устроено шествие с венками на палках, перевязанных красными лентами; затем процессия явилась на Финляндский вокзал и стала требовать экстренного поезда на Успенское кладбище, где похоронен Молчанов. Поезда не дали, а вместо него явился градоначальник и, отпустив всю полицию, один вошел в толпу демонстрантов, потолковал с ними, и все мирно разошлись по домам.
21 октября. Усиленно говорят об уходе Мирского, утверждают даже, будто он подал прошение об отставке. Причины — недовольство им за чересчур либеральные речи, обещания и послабления… В преемники ему прочат плевенца — некоего Штюрмера[118].
Газеты последних двух дней вдруг сделались совершенно бесцветными, точно замерли в ожидании после нескольких дней свободы.
Порт-Артур при последнем издыхании; очень дурное впечатление произвели на всех последние телеграммы Стесселя, где он просил благословения царя и «матушек»-цариц.
22 октября. Встретил сегодня на Суворовском проспекте бабу, странницу лет пятидесяти, шла она, переваливаясь, как утка, в посконном платье и белом платке на голове; в руке торжественно несла жезл вроде того, что у странника Василия, только покороче и победнее. Парочка оригинальная и питерцам небезызвестная.
3 ноября. Много говорят о скандальчике, учиненном на днях в Михайловском театре.
В Царской ложе сидел вел. князь Алексей Александрович и, когда на сцене появилась вся в бриллиантах его любовница Балетта, поднялось шиканье; Алексей с грозным и недоумевающим видом высунулся из ложи, чтобы лучше рассмотреть, что происходит — шиканье усилилось, начали даже раздаваться свистки. В антракте перед этим какой-то господин, став у барьера оркестра, громко и горячо сказал при падении занавеса: «Вот, любуйтесь, господа, куда ушли наши деньги, пожертвованные на флот: на бриллианты любовнице этого господина» и указал рукой на Алексея.
Упорно твердят, что растрата эта — факт; озлобление против этих двух братьев, Владимира и Алексея, большое.
6 ноября. Сильный ветер; Фонтанка вздулась наравне с берегами.
7 ноября. Ночью проснулся от сильного стука в окна: град и дождь с такой силой били в них, что, казалось, вот-вот все стекла разлетятся вдребезги. С Невы доносились, возвещая о наводнении, пушечные выстрелы.
8 ноября. Почти обнажился от лесов новый громадный дом Зингера[119] на Невском против Казанского собора; весь он построен из железа и камня. Немножко переложили строители золота для ознаменования, что мол мы, значит, при капитале, но это ничего. В общем, Петербург прихорашивается, да и пора сменить наши угрюмые ящики, именуемые домами, на что-нибудь более удобное и красивое!
Дом Зингера на Невском проспекте
20 ноября. Переживаем новое смутное время Российского государства. Старики, помнящие хорошо брожение 60-х годов, говорят, что тогда не было ничего подобного. Тогда оно — ясное и определенное — было делом нескольких групп, теперь же оно почти всеобщее. И главное — полная смута в умах; даже сам министр Святополк как будто не знает, чего хочет и куда приведет его «новый курс». И это шатание политики ведет к общим сомнениям в том, что дадут ли нам хотя что-либо из того, чем поманили: со всех сторон начинают раздаваться голоса: когда так, все к черту!
Вчера произошел крупный скандал на Моховой ул. Начало его, собственно говоря, было дней десять тому назад в помещении Мирового съезда, где в юридическом обществе предполагался реферат об изменении законодательства о печати. Заседание это, по чьей-то неостроумной мысли, решили сделать публичным. Разумеется, народа, главным образом студенчества всех видов, явилось гибель; зал не мог вместить всех, и председательствовавший заявил, что заседание отлагается, и будет приискано новое, более обширное помещение для такой многочисленной аудитории. Тогда какой-то юный студент вскочил на стул и крикнул на весь зал, что он, «представитель социалистов», приглашает всех присутствовавших пожаловать в воскресенье (14) на Казанскую площадь и там всенародно обсудить вопрос о пересмотре законов.
Выходка смехотворная, но возбуждение теперь вообще так велико, что смеха она не вызывала; по городу начали расходиться в большом числе прокламации и приглашения на сходку, причем предполагалось произвести ее с оружием в руках… Полиция, конечно, об этом знала, и накануне я слышал даже о мерах, принятых ею на всякий случай, причем в виду «нового курса» отряды городовых были переодеты в штатское платье и пущены в публику.
Сверх ожидания, манифестация не удалась: народа набралось порядочно, но — или не было главарей, или духа не хватило — всесословная сходка эта тянулась вяло и тихо; полиции видно не было, никто никого не трогал, и манифестанты чувствовали себя довольно глупо. Наконец, приехал Фуллон, как всегда без всякой свиты, очень умело поговорил с толпой, и она стала весьма мирно расходиться. Тем всенародное обсуждение законов и кончилось. Юридическое о<бщест>-во для нового чтения реферата избрало зал Тенишевского училища, и вот вчера устремились туда желавшие слушать со всего Петербурга. В зал, вмещавший 700 ч.<еловек>, набилось около 3000; давка была невероятная, тем не менее, с улицы буквально ломились новые толпы; вся Моховая битком была набита народом. Вышли распорядитель и Фуллон, и первый заявил, что в зале негде упасть яблоку, и что здание может развалиться от такого количества людей; чтение реферата обещано было повторить.
По уходе их, спустя несколько минут, толпа интеллигентных дикарей вновь принялась ломиться вперед, и дело дошло до того, что кто-то из приставов выхватил шашку; раздались крики и угрожающий рев, толпа рванула дверям, и тогда пешие городовые начали оттеснять ее; все-таки в общем все кончилось бы сравнительно хорошо, но вдруг вылетел на помощь пешим конный отряд; несколько человек было смято и попало под лошадей, и толпа в паническом ужасе бросилась кто куда. На Симеоновской произошел хаос и смешение языков; движение конок, и экипажей, все временно остановилось от массы народа, как саранча, заполнившей улицу.
Консервативных голосов что-то не слышно, притаились. Нет дома, где бы не толковалось теперь о конституции, смутах и 19 февраля, в которое ждут вторичного освобождения.
Война совсем где-то на заднем плане.
21 ноября. Вчера умерла известная Петербургу целительница Надежда Юльевна Шабельская. Она была вдова гвардейского офицера и ютилась со своей приятельницей Каррель в небольшой квартирке на углу Фонтанки и Лештукова переулка; денег за визиты к ней не брала, хотя особыми достатками не обладала и была удивительно симпатичная и приветливая женщина; кто ее знал, или побывал у нее по рекомендации знакомых (иначе к ней попасть было нельзя) — уходил от нее очарованный. Лечила она пассами и хотя отрицала внушение и магнетизм в своей системе, тем не менее она весьма близка и к тому и другому. Во всяком случае, многих обе эти женщины облегчили и, говорят, были даже случаи полных исцелений жестоких болезней.
Прозвище молва дала Шабельской — святая. Теперь она лежит в часовне при Владимирской церкви; весь гроб ее полон цветами; народа на панихидах очень много. Послезавтра хоронят ее на Смоленском кладбище; проводы, вероятно, будут весьма торжественные.
После нее остались два ревностных и «сильных» ученика — ее подруга Каррель и неизвестный мне Кудрявцев, господин с симпатичным, вернее просветленным какою-то душевною силой, лицом.
29 ноября. Вчера скопище учащихся политиков обоего пола устроило демонстрацию против Гостиного двора и на Михайловской ул. Были, конечно, красные флаги и т. д. Окончилось побоищем. В газетах есть правительственное сообщение об этом. Был, говорят, только пролог: настоящую историю собираются устроить в день суда над убийцей Плеве — 30 ноября. На Невском проспекте какие-то люди открыто приглашали публику явиться к зданию суда и участвовать в освобождении подсудимых. Публика от таких пригласителей отшатывалась весьма пугливо…
30 ноября. Убийцы Плеве, Сазонов и Сикорский, приговорены: первый бессрочно, а второй на 20 лет каторги[120].
День прошел сравнительно мирно: у суда толпилось, правда, много народа, но особых инцидентов не было. С Выборгской стороны студенчество сделало попытку толпой человек в 600 перейти через мост с красными флагами, но казаки оттеснили их. Тем и ограничилось все. История обычная: если много обещают, то наверное мало сделают.
1 декабря. На три месяца приостановлен «Сын отечества»[121]. Снова заговорили об уходе Святополка, на место его прочат Витте.
Ходит маловероятный слух, что 6 декабря выйдет манифест о конституции. Эдакое, можно сказать, угощение да станет «он» подносить себе в день именин!
6 декабря, 3-го числа министры были у государя: происходило совещание относительно конституции, причем Ермолов[122] сказал очень сильную и либеральную речь. Решено, что в министерствах будут участвовать выборные люди от земств.
10 декабря. Плохие советники у государя! Сегодня напечатано во всех газетах его «собственноручное начертание» (эко язык-то эфиопский!) с выражением негодования на телеграфное ходатайство черниговского земского собрания (о реформах). Начертал: «Нахожу поступок дерзким и бестактным»…
«Весну», по-видимому, хотят прекратить, но мыслимо ли это? Куда толкают этого безвольного человека окружающие его?
Негодование начертание вызвало всеобщее.
14 декабря. Дождались, наконец, манифеста — довольно туманного[123], но все же подающего надежды на близость лучшего будущего. Поживем — увидим!
15 декабря. В газетах появилось «правительственное сообщение»… Видно, вчерашний манифест показался слишком многообещающим и потому из-под него поспешили высунуть кукиш. Чудные у нас на Руси законы: только издадут один, сейчас же вслед начинают закапывать его «разъяснениями», «дополнениями» и «сообщениями».
Желание победы японцам в общем все усиливается. «Авось японец поможет», говорят не только здесь, но и голоса из провинции.
20 декабря. Заграничная почта пришла вчера вечером и сегодня утром с опозданием на 12 часов. Говорят, что где-то взорван мост: приготовлено было покушение на государя, поехавшего провожать войска на Дальний Восток, но царский поезд будто бы успел проскочить благополучно, и запоздалый взрыв разрушил только мост позади него. Официальных сведений об этом пока не имеется.
21 декабря. Порт-Артур сдался… На улицах простой народ обращается с вопросом — правда ли это, и приходится отвечать — да. Все подавлены.
И что возмутительней всего — новость эту мы узнаем не от своего правительства, а из парижских и берлинских телеграмм. У нас же опубликованы только дурацкие телеграммы Стесселя, что 6 декабря он торжественно праздновал «тезоименитство», и кричали «ура» на параде.
В Артуре убит Кондратенко[124], истинная душа обороны; недаром шла такая молва о нем. Умер Кондратенко — умер и Артур с ним!
Вечер. Вечерние телеграммы хватают подробностями за сердце. Горит «Севастополь», взрывают и топят «Ретвизан», «Победу», «Палладу»… Уничтожаем самих себя! Правду сказали «Новости дня»[125]: «Сдан Порт-Артур, выстроенный на миллиарды полунищего народа и залитый его кровью». Беспримерней этой войны по возмутительности ничего не было в нашей истории! За что платил свои миллионы не полунищий, а нищий русский народ? За ничего не делающих дипломатов, не видящих, что творится у них перед самым носом, за мерзавцев министров и т. д.?? Украли ни к чему не годную и ненужную нам страну, ухлопали в нее миллиарды и, обманывая всех, не нашли нужным даже приготовиться к обороне, не снабдили этот многострадальный Артур ни снарядами, ни припасами и люди там гибли без еды, без оружия и без медикаментов.
Воровство идет везде возмутительнейшее; Красный Крест пойман с поличным: из вернейших источников знаю, напр., что громадные ящики с «хинином» на Дальний Восток в действительности заключали в себе только по фунтовой коробке с ним и т. д., и т. д.
21 декабря. О Стесселе, как о человеке, давно уже и со всех сторон (даже от бывших его сослуживцев-офицеров) слышал только дурное. Отдаю ему должное за защиту Артура, но должен сказать, что телеграммы его на меня и на многих производили отвратительное впечатление. Так пишут или дуры-бабы из глухих деревень, или прохвосты. «Держимся молитвами матушек-цариц» — чудодейственные молитвы этих матушек были у него на каждом шагу!
Покушение на государя было; слышал о нем в измененной версии — будто бы взорвалась бомба в самом поезде.
Среди монархических партий есть сильное течение в сторону бывшего наследника Михаила Александровича[126]. Его хвалят и поговаривают, что в один прекрасный день мы можем узнать о дворцовом перевороте.
Так ли это — наверное не знаю, но что государь как бы опасается этого, доказывает то, что, отлучаясь из Петербурга во все свои путешествия, он увозит с собой и брата, несмотря на то, что отношения между ними совсем не нежные. Поскорее бы это всеобщее напряжение разрешилось чем-нибудь! Вечная жизнь в таком Артуре невозможна!
23 декабря. Хотел купить новую газету «Наши дни»[127]; оказывается, вчера ей запретили розничную продажу. За последнее время газеты вырастают как грибы, но и исчезают из обращения, как мухи!
Возродившийся «Сын отечества», «Наша жизнь», «Р.<усская> правда»[128] — все успели нахватать предостережений и запрещений; идет своего рода газетная вакханалия: все точно торопятся высказаться покруче, пока есть возможность к тому.
Говорил с академиками Генерального штаба; уверяют, что у Куропаткипа не 400 000 войска, как сообщали газеты, а всего 200 000. По их словам, дело стоит на мертвой точке: сибирская дорога может доставлять теперь только необходимый фураж, провиант и пр. для этой массы людей и подкрепления могут идти по ней только за счет голодовок армии.
Нечего сказать, хорошенькое положение!
Интересно бы подсчитать, во что обошлась нам эта манчжурская авантюра, включая Китайскую дорогу, Дальний и пр.?
31 декабря. Общественное мнение начинает заметно изменять курс в отношении к Стесселю; развенчивать людей мы любим чрезвычайно, и достаточно кому-нибудь написать или сделать что-либо выдающееся из ряда — сейчас начинаем искать, не другой ли кто это сделал, но во всяком случае нет дыма без огня. За тысячу верст чувствуется что-то неладное; странно и то, что Стессель торопится вернуться в Россию и не пожелал разделить со своими полками и генералами их участь и в Японии. Говорят в оправдание его, что ему нужно представить отчет государю, но это детский лепет; отчет его уже сделан: — «Флот уничтожен, и Артур сдан». Этим и все сказано. Точно торопится Стессель поспеть к государю ранее остальных генералов и адмиралов…
1905 год
3 января. Забастовал Путиловский завод. По слухам, неспокойно и на Франко-Русском, изготовляющем машины для флота.
4 января. Забастовал Франко-Русский завод.
В Питере в числе других находится корреспондент-англичанин, командированный сюда для специального наблюдения за возникшими общественными движениями; с грехом пополам он объясняется по-русски и очень негодует на наши привычки. «Помилуйте», — говорит, — «везде в и ч. люди уже в постелях, а здесь к одиннадцати часам начинают только съезжаться». Корреспондент этот торчит на всех наших «митингах» и собраниях, внимательно выслушивает ораторов и все заносит в свою книжку.
Бастующие рабочие у ворот Путиловского завода. Январь 1905 г.
5 января. Не работают уже шесть заводов. Оригинальнее всего, что стачка эта ведется под руководством какого-то священника[129], шествующего всюду во главе депутаций. Пока что протекают они мирно. По газетным сообщениям, причина их — домашние счеты с администрацией; городские слухи добавляют некоторый плюс, а именно — недовольство рабочих тем, что 80-ти миллионный заказ дан правительством Германии, тогда как собственные русские заводы вынуждены наполовину сокращать деятельность и штаты. Конечно, не сами рабочие додумались до этого; среди них давно ведется оживленная агитация.
Интересны результаты пропаганды в Малороссии. В Полтавской губернии запасные не хотели идти и были потешные, хотя по существу глубоко верные, замечания с их стороны.
— За що нам идти воеваты? — спрашивали хохлы.
— Как за что? За веру, царя и отечество!
— Яка там вира? Бусурманска; отечества нема — там Кытай; и царя нема — вин там рендатель!.. (арендатор).
6 января. Яковлев (Николай Матвеевич, бывший командир броненосца «Петропавловск»), только что вернувшийся из дворца с Крещенского парада, сообщил, что во время салюта с Васильевского острова — там были поставлены гвардейские батареи — вдруг зазвенели и посыпались в зале, где он находился, стекла и куски люстры. На полу он нашел потом крупную картечину. На улице в толпе произошел переполох, оказались раненые. По ошибке ли, или преднамеренно какое-то орудие вместо холостого заряда хватило по Иордани, где находился государь, картечью. Бедняги артиллеристы поплатятся жестоко!
Очень озабочены охраной Балтийского судостроительного завода от забастовки; предположено послать в него военную команду.
8 января. Сегодня не вышло ни одной газеты — все забастовало.
Толпы рабочих весьма чинно расхаживали вчера по улицам, заходили на фабрики и даже в небольшие заведения вроде переплетных, сапожных и т. п. и везде прекращали работу. Извозчик, на котором я ехал утром на Варшавский вокзал, сообщил, что часов в шесть утра слышен был сильный взрыв, но где он произошел — неизвестно. Я ездил в Лугу, на всех станциях ожидали с нашим поездом газет и оживленно допрашивали, что творится в городе; на обратном пути слышал толки в вагоне, будто убит градоначальник, и что на завтра, в воскресенье, ожидаются беспорядки. На Пороховых заводах забастовали тоже; вероятно, там происходит что-нибудь особенное, так как туда поскакали жандармский эскадрон и конная полиция. Это первая грандиозная забастовка на Руси; рабочих здесь целая армия, и нужно очень немного, чтоб разразился бунт.
В вагонах Варшавской дороги грязь была невероятная; спрашиваю истопника — почему это? — тот ответил, что никто из чистильщиков не явился; в мастерской рабочие забастовали тоже и даже пробовали устроить прекращение движения поездов, но это не удалось им. Истопник с большим возмущением сообщил мне об отношениях к ним начальства и порядках у них. Действительно скоты!
Напр., его отправили с поездом запасных в Иркутск; он пробыл бессменно в дороге 2 месяца, и ему не потрудились выдать вперед жалованье; предупредили о таком назначении за 4 часа и, не успей он перехватить у товарища 10 р., или не найди их — «подох бы с голода, как собака» (его выражение). По выражению лица и голоса видно было, что человек глубоко, всем нутром чувствует это отношение к нему, как к собаке. Затем — новый начальник дороги вдруг распорядился, чтобы за кипяток, раньше выдававшийся служащим на станциях бесплатно, взыскали по 1 коп. за чайник, за поездку это составит добрый гривенник, что бедному человеку, получающему их в обрез, чувствительно. Кроме того, тот же начальник велел уменьшить скидку, которою служащие пользовались в буфетах…
Словом, везде и всюду бепредельное проявление «нраву моему не препятствуй: желаю и конец!».
9 января. Из газет вышел только «Правительственный вестник», такой же пустой, как и само правительство.
В час дня отправился посмотреть, что творится на Невском; швейцар сообщил мне, что утром с ближайших фабрик валила толпа, но на Кирилловской ул. их встретили казаки и, несмотря на мирные заявления рабочих, что они идут к царю, заставили их свернуть в боковые улицы.
Кавалерия в Петербурге 9 января 1905 г.
Вышел из подъезда, вижу, по Суворовскому проспекту где стоят спешившись, держа коней в поводу, где разъезжают отряды драгун в красных фуражках; перекрестки Невского охраняли пешие и конные заставы, приблизительно по взводу пехоты и по полуэскадрону кавалерии; солдатики, по случаю ветра и мороза, развели костры и выплясывали около них; во дворах по 1-й Рождественской улице стояли походные кухни. Конечно, движение по Невскому было прекращено.
Шествие демонстрантов 9 января 1905 г.
Взял извозчика и велел ехать к Адмиралтейству; народа в том направлении шло много, но оборванцев и пьяных видно не было; фабричные, все принаряженные и выглядевшие очень прилично, попадались на каждом шагу; иные, по-двое, ехали на извозчиках. У Полицейского моста движение по панелям было невозможно; народ стоял густой стеной, многие взобрались даже на перила и оттуда смотрели, что происходит впереди. Вереницы экипажей плелись шаг за шагом, и на углу Морской, запруженной с обеих сторон, остановились окончательно: у Александровского сада их не пропускали; под аркой Главного штаба чернела особенно густая полоса толпы; я отпустил извозчика и направился туда посмотреть на Дворцовую площадь. Криков и особенного шума не было, толпа вела себя чинно.
У Зимнего дворца 9 января 1905 г.
Втиснулся в самую гущу под аркой и увидал, что площадь пуста; близ дворца стояли какие-то спешенные войска; ни со стороны Миллионной, ни из-под арки никого на площадь не пропускали; выезды из улиц охраняли эскадроны конногвардейцев. Постояв несколько минут и видя, что все обстоит более чем мирно, я решил зайти со стороны Миллионной: оттуда доносились крики, и один из эскадронов, обнажив палаши, поскакал туда.
Только что успел я завернуть за угол Невского, вдруг позади раздались вопли; опрометью понеслись с Морской, хлеща лошадей, извозчики, собственные экипажи, люди; я прижался в выемке стены к запертой двери табачного магазина Елисеева и пропустил мимо ошалевшую толпу; были в ней и студенты, и простонародье, и барышни, сующиеся везде, где им не следует быть. Затем бросился назад к углу и увидал, что конногвардейцы, очистив арку и часть Морской, шагом возвращаются обратно; бить, очевидно, никого не били, а только напугали. Не успел я взойти на Полицейский мост — со стороны Александровского сада грохнул залп; минуту спустя — другой. «Холостыми это, холостыми палят», заговорили кругом, но мне они показались не холостыми: совсем другой звук у последних. На набережной Мойки кучами чернели рабочие; иные вели зажигательные речи; особенное внимание мое привлекла какая-то женщина-брюнетка, в платке и черной кофте поверх желтого платья. Она металась от одной кучки к другой и все спрашивала: «Где наш-то союз? Не выдавайте, братцы, что же вы? Идемте!» Против придворной капеллы, у моста, толпа была возбужденнее; раздавался свист и крики; против нее, загораживая весь проезд ко дворцу, стояли ряды конногвардейцев; несколько человек из толпы были вываляны в снегу; одного, сильно помятого, усадили на извозчика и повезли прочь — их сбила с ног конница во время атаки; по говору кругом, солдаты били не плашмя, а как следует. Как всегда, было много трусов, мявшихся и вполголоса уговаривавших наиболее горячих: «Да брось, пойдем лучше отсюда», но были и прямо вдохновенные типы; один, еще молодой парень, стал среди моста и, потрясая кулаками, кричал: «Пущай убьют! Все едино конец, скорей будет!»
Солдаты колыхались на своих огромных конях и только поглядывали, но никто, даже полицейский, находившийся рядом, не тронул его. Разогнанная всего за несколько минут назад толпа все прибывала; видел двух студентов, вполголоса говоривших: «Только спокойно держитесь, братцы, помните — главное, спокойствие!» Некоторые из вновь подходивших рабочих здоровались с ними, как со знакомыми: очевидно, движение это не без руководительства, и студенчество не беспричастно.
Постоял в толпе минут с десять, послушал озлобленный говор и направился к Марсову полю; за мной раздался вой и крики; оглянулся и вижу, что кавалерия, блестя палашами, летит на мост, и толпа бежит врассыпную. Противоположная сторона Мойки, сплошь залитая пародом, всколыхнулась и загудела. Послышались свистки, ругань. «Убийцы, убийцы! Подлецы! Палачи!» неистово орали десятки голосов, а гг. конногвардейцы, во главе с выхоленными офицерами, уже шагом следовали под этот концерт по противоположному берегу, окончательно очищая его от публики.
У придворно-конюшенных зданий и на Марсовом поле стали обгонять меня извозчики с ранеными; стрельба оказалась настоящею. Беспомощно прислонившиеся к сопровождавшим фигуры в черных пальто с кровавыми пятнами то спереди, то сбоку производили тяжкое впечатление; рабочие, кучками стоявшие по дороге к Цепному мосту и видевшие их, возбужденно грозили по направлению дворца кулаками; одна женщина разрыдалась и, крича: «Что ж это делают с вами? Жить не дают, да и бьют еще?» — разразилась проклятиями. Много я их наслушался за сегодняшний день! Один извозчик, везший бесчувственного раненого, сам, видимо, взволнованный, громко пояснял останавливавшимся встречным: «Раненого везу; пулей вдарило; у Ликсандровскаго саду палили!» Извозчиков с такими поклажами проехало мимо меня четверо. Полиция вела себя удивительно галантно и ни во что не вмешивалась; сегодня обычную ее роль исполняли военные.
Расстрел демонстрации на Дворцовой площади g января 1905 г. Кадр из фильма В. Висковского «Девятое января» (1925), распространявшийся в виде фотографии и ставший символом «Кровавого воскресенья»
Фамилия священника, руководившего и вдохновлявшего рабочих — о. Георгий Гапон: говорят, личность исключительная и пользующаяся среди них популярностью почти до значения пророка. Третьего дня происходило на Васильевском острове громадное сборище рабочих; свящ. Гапон с возвышения благословлял всех крестом, и многочисленная толпа присягнула «стоять до конца друг за друга».
Г. Гапон
Говорят, что в ночь после этого свящ. Гапон был схвачен, но насколько это верно — не знаю. На водокачке и электрических станциях работали сегодня солдаты: купцы уже пользуются случаем и накинули цены на керосин, с трех с половиной коп. прыгнувший на 10.
Во многих местах идут сборы в пользу рабочих; совет присяжных поверенных уже собрал 800 р., и приношение это рабочими было встречено восторженно.
Думаю, что рабочие, к сожалению, не выдержат!
Из среды их была выбрана депутация к царю, но, конечно, эта депутация не увидит его; когда кто-то высказал эту мысль на Василеостровском собрании рабочих — раздались голоса: «Так долой царя тогда! Зачем такой нам нужен?»
Да, если бы войска были хоть наполовину так подготовлены, как рабочие — не желтый штандарт развевался бы, вероятно, сегодня над Зимним дворцом, из которого, кстати сказать, Николай заблаговременно укрылся в Царское! Толков в городе не обобраться.
10 с пол. час. вечера. Опять ездил по городу; на углах многих улиц войсковые биваки; в жаровнях горят уголья; около составленных в козлы ружей виднеются лазаретные фуры; солдаты сидят и стоят, греясь у огней. Пред дворцом расположены войска всех трех родов оружия; по улицам то и дело проезжают конные разъезды или медленно проходят пехотные патрули. На Невском тротуары чернеют от народа; несмотря на поздний час, оживление необычайное. Извозчики рассказывали, что на Гороховой ул. и за Нарвской заставой были большие побоища, и убито много людей; в больницах будто бы нет уже места — так много раненых. Путиловских рабочих в город, по слухам, не пустили. На завтра ожидается продолжение. Но что и начало и продолжение значат при пустых руках?
10 января. В 9 ч. утра вышел из дома; Суворовский между 2-й улицей и Невским был запружен эскадронами драгун и казаков, державшими коней в поводу. Невский просп. имел обычный вид; ходили конки, многолюдства не было. Уселся на верх конки и поехал к Адмиралтейству.
Подъезд дворца вел. князя Сергея Александровича, что у Аничкова моста, изуродован: все зеркальные стекла со стороны Фонтанки и три с Невского выбиты. «Поленьями жарили», повествовали очевидцы, ехавшие вместе со мной. «Да стекла какие крепкие — рраз, рраз по нем, а оно все цело!»
Газетный киоск против Казанского собора и окна в кондитерской Бормана[130] разбиты вдребезги. Остальные магазины нетронуты.
У дома гр. Строгановых, у Полицейского моста, группы прохожих рассматривали стены; последние выкрашены в темный цвет, и на них ярко белеют многочисленные выщербины — следы от пуль. На Дворцовую площадь пропускали свободно; войск на ней видно не было, хотя во многих дворах Невского я заметил скрытых казаков. Весь угловой полукруг панели у Александровского сада и камни под оградой залиты кровью; дворники посыпали это место песком, но, тем не менее, кровь ярко проступала всюду; ближайшие деревья сада носили следы от пуль. Много народа внимательно рассматривало это место вчерашней казни.
По рассказам, мирно ведшая себя сначала толпа, раздраженная избиениями, разгромила 4-ю линию Васильевского проспекта и Большой пр. на Петербургской стороне. Отправился на остров.
Николаевский мост охраняла пехота, мирно сидевшая на грудах досок; по линиям разъезжали патрули уланов. Было людно, но спокойно. На 4-й линии дома почти не пострадали; выбиты в нескольких дрянных лавчонках грошовые стекла, и только; жестокая бойня и расстреливанье происходило на ней у Среднего проспекта. На Малом дело было еще серьезнее; стекол перебито порядочно, спилено и повалено несколько телеграфных столбов, рассказывали, что там была устроена баррикада, но я ее не видел.
Большой проспект на Петербургской стороне пострадал сильно; магазинов на нем уйма, и все крупные; стекла почти во всех выбиты, винный погреб Шитта разбит и разграблен; такому же разгрому и грабежу подверглись и другие магазины: напр. с готовым платьем и колбасные; торговля почти везде прекращена, большинство дверей и окон забиты наглухо белыми досками, или закрыты щитами и заперты. Оба тротуара кишели народом — больше всего дамами и разных сортов девицами, разглядывавшими места погрома. Открыто было всего десятка два магазинов, но и на их окнах были щиты, а у дверей стояли другие, чтобы в каждую минуту иметь возможность наглухо закрыть все.
Публика спокойна, ни криков, ни особо возбужденных лиц заметно не было.
В вышедшем сегодня клочке «Правительственного вестника» сообщается, что убито 76 и ранено 233 человека; цифры эти лживы[131], так как за одной Нарвской заставой уложено больше путиловцев. Путиловцы двинулись со своего завода с образами и крестным ходом, имея во главе облаченного в ризы свящ. Гапона; расположенный у заставы Павловский полк встретил их залпами, причем по одним версиям перебито и переранено 1000 человек, а по другим 500; свящ. Гапон будто бы убит; пули попали и в образа. Так встретил царь-отец депутацию детей, отправлявшуюся к нему!
Больницы в городе переполнены действительно; у двух, мимо которых проезжал, стояли толпы женщин, отыскивавших своих пропавших мужей и братьев; в ворота их почему-то не впускали.
Озлобленная дикой и незаслуженной расправой, толпа отплатила за это на Морской нескольким офицерам; избит, между прочим, до полусмерти какой-то генерал и кавалерийский полковник.
Между убитыми есть и дети; находившиеся у Александровского сада очевидцы рассказывают, что толпа стояла там мирно и на площадь пройти не порывалась. Несмотря на это, офицер, командовавший пехотой, вздумал орать и приказал разойтись. Его не послушались, и он заявил, что будет стрелять; не подействовало и это; тогда грянули два, слышанные мною залпа, и уложили многих, в том числе и несколько детей, взобравшихся на садовую решетку; судя по тому, что лично видел, — я вполне этому верю, тем более, что слышал одно и то же от разных лиц.
Возмущение всеобщее, особенно против гвардейских офицеров, из числа которых многие с увлечением разыгрывали роль самых зазнавшихся и наглых околодочных; настоящие околодочные совершенно не вмешивались во вчерашнюю историю.
Если б царь так позорно не ускакал из города, а принял бы депутацию рабочих, если бы хоть сколько-нибудь сердечно отнесся к положению их — какой бы громадный козырь он получил в свои руки! Эх, вспоминаются слова Грозного: «пономарем бы тебе родиться, Федя, а не царевичем!»
Половина шестого вечера. Наш Суворовский проспект тонет во мраке: электричество не действует. Сейчас прибежала в страхе прислуга и сообщила, что на углу 8-й в нашем доме выбили окна в магазине Ветчинкина; находимся как бы в осадном положении.
Керосина нет нигде; цену за него догнали до 30 коп. за фунт; трехкопеечное открытое письмо в лавках стоит пять.
Пишу эти строки, а на улице спешно закрывают магазины и гасят везде огни; тьма стоит кромешная.
Половина восьмого вечера. Сейчас вернулся с обхода. Вышел из двери — на лестнице горят, поставленные на стулья, свечи; швейцар держит дверь на замке. На улице глубокая темнота; кое-где светятся сквозь занавески окна — и только. На панелях смутно рисуются кучки стоящих и идущих людей. Магазины закрыты все. На углу 8-й улицы остановился около четырех рабочих и разговорился с ними. Один только что вернулся от Гостиного двора и рассказывал, как его громили: «это все хулиганы, швырковой народишко, пакостят!» негодуя, восклицал он. «Мастеровой разве станет? Не затем шли!» Затем обрушился на студентов, и стоявшие с ним, хотя и вяло, но поддерживали его. «Еще с ними расчет у нас должен выйти! Что они присосались к нам? Зачем свое к нашему делу припутали?» Как выяснил дальнейший разговор, студенты чисто экономическому движению рабочих стараются придать революционный характер и огромное большинство недовольно этим.
Направился я с одним из рабочих к Невскому; в одиночку идти было опасно, так как хулиганы разгулялись и бушуют везде вовсю; полиция скрылась, как под землею, да и что может сделать какой-нибудь городовой в этой тьме с десятками и сотнями валящих куда-то людей? Конечно, сообщение везде остановлено. Бассейная и Знаменская ул. освещены: там газовые фонари — газовый завод, вероятно, успели охранить. Магазины, тем не менее, закрыты и на освещенных улицах. Спутник мой сообщил, что вопреки слухам, будто некоторые заводы восстановили работы, — не действует ни один; оказывается, поджидали колпинцев, но на поезд их не допустили; тогда те двинулись в город пешком и разобрали железнодорожный путь, прервав таким образом общение с Москвою; в 8 час. вечера назначена на Невском всеобщая сходка. По дороге колпинцы спиливали телеграфные столбы и рвали проволоки. Уверяли, будто вчера Семеновский полк отказался стрелять, и почетную работу эту выполняли преображенцы; расстреливали народ во многих местах, между прочим, у мостов и на Каменноостровском проспекте.
Знаменская была усеяна кучками людей, толпившимися у подъездов; ворота везде были заперты и из-за железных решеток отовсюду выглядывали лица. Невский темен и мрачен, как гроб; нигде ни фонаря, ни освещенного окна, панели полны стоящим народом; киоск на углу исковеркан. В толпе рассказывали, что незадолго до нашего прихода у Николаевской ул. подожгли такую же газетную будку и туда, светя факелами, прискакала пожарная часть с лестницами и бочками. Встретили ее, конечно, улюлюканьем и смехом. Не больше, как за полчаса до нас, казаки отгоняли народ от Знаменья: рубили шашками, «но не дюже», а иные так и просили даже: «Братцы, да расходитесь же, неприятно нам бить вас»! Да нет, не затем пришли! Бейте, коль вам мясо человеческое нужно!
Каждого проезжавшего мимо офицера, заметного по серому цвету пальто, толпа провожала свистом и воем; у Лиговского бульвара стояла казачья сотня, но при мне ни во что не вмешивалась; надо думать, что утомились-таки солдаты, хотя на помощь петербургским войскам вызваны полки из Царского, Пскова и др. мест. Обещают, что завтра перестанет действовать водопровод; это будет, действительно, фунт! Между прочим, рабочие, узнав, что лавочники повышают цены, обещали разгромить за это лавки; в одном месте рабочий зашел купить керосину и, услыхав, что за два фунта с него требуют 50 коп., взял и облил данным ему керосином все съестные припасы на прилавке.
Хозяйки спешно закупили до закрытия магазинов всякую всячину: завтра, вероятно, ничего нельзя будет достать.
Между прочим — утром сегодня слышал, что Святополк-Мирский подал в отставку, и отставка эта принята. Кандидатами называют четырех: двух Оболенских, Штюрмера и еще четвертую каналью под стать названным. Думают, стало быть, вернуться к плевенскому режиму. Что говорить, самое время… для того, чтоб ускорить революцию! В общем, день сегодня прошел тише, хотя на окраинах была стрельба; результаты ее неизвестны.
10 ч. вечера. У нас на проспекте зажглись некоторые электрические фонари; на лестницах нет света по-прежнему.
11 января, вторник. Водопровод действует, и на улице спокойно. На Суворовском проспекте магазины торгуют; на углах Невского по-прежнему стоят войсковые охраны, но уже сильно уменьшенные. Конки по Невскому не идут, очевидно, по распоряжению полиции, тогда как везде по другим улицам они пущены. Движение на Невском несколько усиленное, публика, главным образом, преобладает любопытствующая; от Знаменья и вплоть до Аничкова моста в магазинах за ночь перебита масса стекол; между прочим, разбито громаднейшее стекло у Соловьева на углу Литейной — стоило оно несколько десятков тысяч. Газетные киоски, за исключением одного, у Казанской ул., разнесены, а некоторые и сожжены; за Аничковым мостом погромов магазинов, кроме одного бормановского, не было. Выбоины от пуль на доме Строгановых уже заштукатурены и закрашены, но, тем не менее, очень заметны; дом, т. е. половина его, ближайшая к мосту, был точно вспрыснут пулями; некоторые пробили рамы и если никто из находившихся в нижнем этаже не убит и не ранен, то это чудо. Из-под песка на панели видны сплошные темно-красные пятна крови; людей расстреливали там почти в упор, и пули пронизывали по нескольку человек. В Гостином дворе со стороны Невского повреждений мало; главный разгром, говорят, был со стороны Садовой, но туда я не сворачивал. Торговля в Гостином и на Невском почти прекращена; на панелях спешно пилят доски или прямо прилаживают к окнам крышки столов и приколачивают их гвоздями; вид города такой, точно он осажден неприятелем, и ожидается вторжение; в немногих торгующих магазинах приотворены только двери — окна сплошь забиты и закрыты.
Из газет вышел опять полулист «Пр.<авительственного> вестника» и «Ведомостей градоначальника» с перепечатками вчерашних сообщений. Какой-то уродливый, но сметливый карла примостился на тумбе около разбитого киоска у Гостиного двора и продавал московские газеты по гривеннику; публика расхватывала их у него чуть не с боя.
Петербургский градоначальник И. А. Фуллон и Г. А. Гапон с представителями «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» (1904)
Рассказывают, что вчера у Мариинской больницы на Литейном просп. произошло побоище: там, по слухам, находится свящ. Гапон — одни говорят убитый, другие раненый — и народ желал его видеть; к этой толпе присоединилась другая — отыскивавшая своих родных, но в больницу их не пустили и в результате произошло новое столкновение и новые пациенты для больницы. Во многие мелкие промышленные заведения возвращаются рабочие и заявляют о желании начать работы, но хозяева, опасаясь мести и погрома со стороны толпы, отказывают сами; некоторые обещали уплатить им за эти дни жалованье, но только, чтоб не начинали работ.
Передают, будто горят Колпино и газовый завод; на послезавтра обещаны еще небывалые беспорядки; многие учебные заведения закрыты.
Магазин Невского стеаринового товарищества, находящийся близ Казанской ул., полон покупателями; все запасаются свечами, так как в лавках они иссякают и вздорожали до 35 коп. за фунт, вместо 26; магазин допродает уже последки, с завода же везти ничего нельзя, так как рабочие не пропускают подвод с ящиками. Любопытно, что будут делать питерцы, если стачка продлится еще с неделю? О чем думают гг. революционеры? Очевидно, нет настоящего вожака у движения; начал было сильно выдвигаться свящ. Гапон, но с ним счеты уже покончены. Как рассказывают, администрация устраивала на него облавы, но он счастливо избежал их при помощи оберегавших его рабочих. Спектаклей вчера в театрах не было, нет их и сегодня. Начавшиеся представления в воскресенье были прерваны; между прочим, в Александрийском театре, после первого действия, в райке начался скандал, кричали оттуда, что не время забавляться, кто-то провопил Варламову[132]: «Костька, ты хороший парень, перестань, стыдно нынче камедь ломать!» и т. д. и т. д.
Сенная площадь — там молодцы в лавках все дюжие — обороняла сама себя, и лупка хулиганам происходила у них «первый сорт». Их перехватывали, накрывали мешками и бузовали беспощадно.
Между офицерами ходят те же толки об отказе семеновцев и Егерского полка стрелять по толпе; сильно возмущен навязанной ему ролью полиции конно-гренадерский полк, в котором есть сильно пострадавший от побоев офицер. Измайловский, а по другим передачам Павловский полк (форма у них почти одинаковая), за Нарвской заставой во время стрельбы по крестному ходу убил свыше ста семидесяти человек; переранено огромное число и между ними много совершенно неповинных и непричастных ни к чему лиц: убит, напр., лавочник, услыхавший пальбу и выскочивший на порог своей лавки и т. д. Есть убитые гимназисты и студенты — эти уже в городе. На Васильевском острове рабочие оборонялись от войск кирпичами; там, на Малом проспекте, тоже легло много голов.
Войска, по сведениям от власть имущих, сбились с ног, да так и должно быть: им надо охранять все, везде и каждую минуту. К какой роли свели гвардию: исполнять роль палачей в столице!
12 января. В городе полное спокойствие, и все вчерашние тревоги были напрасны; напрасно потратились и магазины на доски для заколачивания дверей и окон: нигде ничего не тронуто, скопищ не было тоже. Щиты теперь почти везде сняты. Ночью, — я возвращался домой около двух часов, — улицы были освещены и пустынны, и только кое-где патрулировали казачьи разъезды по 2–3 человека в каждом. Электричество и газ действовали повсюду. В обществе страшное возмущение стрельбой. По рукам ходят литографированные копии с письма свящ. Гапона ко князю Святополк-Мирскому. Привожу его дословно.
«Ваше Высокопревосходительство!
Рабочие и жители г. С.-Петербурга разных сословий желают и должны видеть царя 9 января 1905 г. в 2 ч. дня на Дворцовой площади для того, чтобы выразить ему непосредственно нужды всего русского народа. Царю нечего бояться: я, как представитель фабричных рабочих, и мы, сотрудники, товарищи и рабочие, даже все так называемые революционерные группы разных направлений, гарантируем неприкосновенность его личности. Пусть он выйдет, как истинный царь, с мужественным сердцем к своему народу и примет из рук в руки нашу петицию. Этого требует благо его, благо обывателей Петербурга и благо нашей родины.
Иначе может произойти конец той нравственной связи, которая до сих пор еще существует между русским царем и русским народом. Ваш долг, великий нравственный долг, перед царем и всем русским народом, немедленно, сегодня же довести до сведения его императорского величества как все вышесказанное, так и прилагаемую здесь петицию.
Скажите царю, что я, рабочие и многие тысячи народа мирно и с верой в него бесповоротно решили идти к Зимнему дворцу. Пусть же он с доверием отнесется на деле, а не в манифесте, к нам».
Подписи.
Затем более мелко:
«Копия с сего, как оправдательный документ нравственного характера, снята и будет доведена до сведения всего русского народа».
Прими только царь депутацию, поговори с ней, и какой бы эффект, какую бы популярность сразу создал бы он себе! Но вместо этого навстречу мирным людям были пущены штыки и пули… Да… кто идет ко дну с камнем на ногах, тому не вынырнуть! Говорят, что Мирский настаивал на приеме депутации, и царь собирался уже ехать в Петербург, как вдруг отменил поездку.
Газет нет и сегодня; кстати — единственное сообщение, дозвоволенное Телеграфному агентству[133] 9 числа в другие города — именно эта фраза. Дальнейшие сообщения московских газет опираются только на «Правительственный вестник». Правительство точно думает «скрыть» происходившее на глазах у миллиона людей. Нет, залпы были слишком громки для того, чтобы остаться в тайне! Вместо разумных мер для успокоения города сегодня выпалили манифестом: «признали мы за благо отменить в Петербурге градоначальство и учредить генерал-губернаторство»…
Весьма мудро, но еще почти сто лет тому назад Крылов написал: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!» К мудрому манифесту вышло и мудрое дополнение: бывший обер-полицеймейстер Москвы, недостреленный там Трепов[134] назначен генерал-губернатором. Повышение такой классической фигуры, — это уже издевательство и вызов всему Петербургу! Мирский, к сожалению, ушел, и власть его пока в руках товарища министра Дурново.
Д. Ф. Трепов
Надо думать, скоро появятся на сцену запоздалые бомбы. По ком промахнулась Москва, по тому попадет Питер!
В Москве, как слышно, тоже начинаются забастовки; сегодня знаменитый Татьянин день: чем-то порадует нас матушка первопрестольница?
Рабочих на улицах не видно почти совершенно: говорят, будто бы вся масса их повалила в Петергоф к царю; войска исчезли тоже, вероятно, они стянуты к местопребыванию высочайших особ.
На улицах увеличилось количество мужчин, просящих милостыню — безусловно не профессиональных нищих. Это несомненно один из результатов неудачной забастовки.
Теперь у нас, можно сказать, действительно полная свобода печати: «Правительственный вестник» может печатать все, что ему угодно, — опровержений не будет! Этим он пользуется и сообщает, разделенные на пять, цифры убийств. Сведующие люди находят, что он действует еще по-божески.
Отовсюду, начиная с рабочих, слышно о намерении последних расправиться со студентами; что за счеты между ними, определенно не знаю, но озлобление на них большое. Чуть ли не им многие приписывают даже неудачу дела. В общем, думаю, что иностранные корреспонденты, понаехавшие в Питер «наблюдать революцию», поражены: революционеры-рабочие вели себя спокойно и корректно, а буйствовали и безобразили гвардейские офицеры и хулиганы. Нда, во всякой стране свои обычаи!
13 января. Тихо. Жизнь вошла в обычную колею, хотя по Невскому изредка лениво патрулируют маленькие отряды городовых с околодочными во главе. «Революция» кончилась… На стенах домов расклеены везде обращения министра финансов и генерал-губернатора к рабочим, в которых уверяют, что государь император близко принимает к сердцу интересы рабочих, а потому призывает их возвратиться к работам.
В переводе на более понятный язык это значит, что будет устроена комиссия для разбора этих интересов и нужд, в помощь ей дадут штук пять подкомиссий, и пойдут они препираться и переписываться, дондеже свет стоит.
Свящ. Гапон, как уверяют теперь, только контужен, и рабочие скрывают его; в городе начались аресты, причем иных забирают и сажают, как острят, «до отыскания причин». Во многих гимназиях, напр. у Гуревича, у Стоюниной, у Стеблин-Каменской открыто идут сборы на рабочих; учителя Тенишевского училища и Стоюниной (называю тех, о которых мне известно достоверно) беседуют с учениками о последних событиях, оценивая их, разумеется, по заслугам. Присяжные поверенные устроили тоже нечто вроде стачки и решили пока воздерживаться от ведения гражданских дел.
Все это показывает, насколько назрела потребность в ином режиме в обществе.
До 9 января был момент, когда Николай II мог разом повернуть курс истории в свою пользу; риска с его стороны не было, но даже если бы и был — момент требовал и стоил его! Прими царь депутацию на площади, обставь прием нарочно возможно торжественней и призрак революции, которой так боится он, разом бы померк и отошел вдаль. Одним ударом приобрел бы он популярность и любовь в стране — и он этого не сделал, не схватил чутьем того, что висело в воздухе, чувствовалось всеми! Царизм проиграл сражение, это несомненно; скольких сторонников он разом сделал врагами себе!
Некоторые из раненых рабочих вне себя восклицали: «Нет теперь ни государя, ни Бога!»
Слово «бомба» и сожаление, что они не пущены были в ход, слышится везде, во всех кружках, даже самых умеренных; революционеры уверяют, что движение рабочих застало их врасплох; это — ложь, так как только мертвые не знали в Петербурге о готовившемся событии, и только наивное простонародье могло полагать, что все произойдет именно так, как оно хочет.
На Малом проспекте избивали сегодня студентов; одни ли рабочие упражнялись в этом, или благосклонное участие принимали и другие — не знаю!
В общем, точную цифру убитых и раненых привести нельзя, так как очень многие были увезены прямо на собственные квартиры или к частным докторам, и узнать о них можно только случайно; во всяком случае, судя по сведениям, идущим со всех сторон, количество пострадавших в эти дни надо считать около полуторы тысячи человек и отнюдь не более 2 <тысяч>.
Почты из Германии сегодня не было: почтовые чиновники привезли весть, что там грандиозная забастовка и разрушен путь близ Эйдкунена.
14 января. Жизнь вошла в обычную колею; заводы и фабрики начали кое-где работать.
Город полон рассказов и толков о происшедшем; мрачное и сильное впечатление производят рассказы лиц, искавших по больницам пропавших близких и видевших груды трупов. Только очень и очень немногим «по протекции» разрешено было взять своих покойников из больниц; остальным обещали выдать мертвецов в понедельник, но когда те явились за ними утром — мертвецкие и сараи были уже пусты: полиция, чтобы избежать новых манифестаций, в ночь вывезла всех на Преображенское кладбище и похоронила в общих могилах; где кто зарыт — неизвестно. В гробы-ящики складывалось по 4 и более человек; один знакомый, имеющий родственников, служащих на Николаевской железной дороге, говорит, что убитых вывезено было на Преображенское кладбище сорок вагонов. Так ли это в действительности, и по скольку человек находилось в этих 40 вагонах — судить не берусь и, если окажется возможным, постараюсь выяснить в будущем; думаю только, что цифра очень преувеличена.
Высланы за границу два корреспондента-француза, за распространение сведений, не согласных с данными «Правительственного вестника». В последнем появилась сегодня телеграмма, произведшая на многих гнусное впечатление: будто все движение рабочих было устроено на деньги Англо-Японского союза, приславшего для этой цели в Россию 18 миллионов. Может быть, какие-нибудь кружки, неразборчивые к средствам, и пользовались японскими деньгами, но рабочие чисты. Кто видел их в то время, тот не может сомневаться в этом: люди шли за идею, а не подкупленные. Наконец, за разбитие петербургских стекол это слишком большая плата; за 18 миллионов можно бы было устроить кое-что посерьезнее!
От врачей, лично принимавших у себя на квартирах раненых во время беспорядков, слышал, что раны многих, несмотря на малый калибр пуль, были ужасны; никелевые оболочки на пулях прескверные и, надрываясь еще в стволе ружья, действовали как пресловутый «дум-дум». Война отошла совсем на задний план и даже еще дальше; что там творится — никто ничего не знает, да и не хочет знать.
На улицах продаются, кроме официальных, московские газеты и еще какое-то, неизвестно когда вынырнувшее на свет «Военное время».
15 января. Вышли почти все газеты; писать что-либо о беспорядках им запрещено, и «Новое время» прямо заявило, что кроме перепечатки из «Правительственного вестника» ничего сообщить не может. «Слово»[135] и «Русь», несмотря на это, поместили дельные передовые статьи и, надо думать, попадут на цугундер.
Завтра ожидаются студенческие беспорядки.
16 января. В редакциях газет «Наши дни» и Наша жизнь» и у сотрудников их произведены были усиленные обыски; проф. Ходского[136], редактора второй, раздели чуть не до рубашки. Газеты эти не выходили до сих пор, так как забраны все статьи и все материалы из редакций. Вероятно, Трепов прослышал, что названные газеты решили пойти на закрытие и собирались подробно описать события этих дней, и напечататься притом в огромном количестве экземпляров для возможно широкого оповещения России.
17 января. Никаких студенческих демонстраций вчера не было. Студенты спешно запасаются штатским платьем, так как со всех сторон сообщают о случаях избиения их рабочими.
Знаменитая телеграмма о 18 англо-японских миллионах оказалась фабрикацией некоего Череп-Спиридовича[137]; Сергей расклеил ее в тысячах экземплярах по Москве и только тогда, так сказать с полувысочайшей санкции, ее напечатали в Петербурге правительственные газеты. Английский посол заявил протест и справедливо: в глупости обвинять англичан нельзя!
18 января. Идут усиленные аресты. Арестованы: Максим Горький, Богучарский, Анненский, Пименова, Кареев, Мякотин[138] и т. д. — целый ряд литераторов.
Утром не прибыла почта из Варшавы; почтальоны, приехавшие оттуда, передают, что там бунт, и Варшава горит. Все возможно! Наступают словно последние времена государства русского. За что ни ухватись — все ползет по швам!
Имеем газеты, «гласность», а живем, как в лесу. В газетах в изобилии имеются сведения о том, что делает король на Сандвичевых островах, и ровно ничего о том, что творится у нас кругом. Москва и дальнейшие города правду о нас узнают только с «оказией», письма же по почте не доходят, на что слышатся повальные жалобы. Перлюстрация производится грандиозная. Не доходят даже телеграммы, срочные и с оплаченным ответом, если касаются события 9 января: знаю этому примеры…
Дикие, темные времена!
19 января. Толки об отказе Семеновского полка участвовать в избиении, по проверке, оказались мифом.
В «Инвалиде»[139] опубликована отставка «по болезни» кн. Святополк-Мирского.
Среди мрачных историй нашего времени приходится отмечать иногда и перлы высокого юмора. Так, Святейший (?!) Синод «по указу Его Императорского Величества» опубликовал и приказал вставить в церковные ектеньи следующие два прошения.
1. О еже не помянута грехов и беззаконий наших и истребити от нас вся неистовыя крамолы супостатов, Господу помолимся.
2 О еже утвердити в земли нашей безмятежие, мир и благочестие, Господу помолимся.
Господа Бога тревожат — Он-де все выслушает, — а на собственный хвост оглянуться нужным не находят!
20 января. Из газет узнал, что вчера государем была принята какая-то подозрительная депутация рабочих… Не лучше ли бы было начать с этого, а главное не припутывать каких-то политических тенденций к действительным целям действительных рабочих??.. Фраза из речи его: «Я вас прощаю» — это верх изумительности! Людей расстреляли, избили за желание видеть царя и изложить лично ему свои нужды и их же милостиво прощают за это!!.
По слухам, Гапон находится в Швеции и уже прислал оттуда прокламации к рабочим. Город кишит прокламациями: есть, между прочим, «призывы к революции», подписанные Горным и Технологическим институтами.
21 января. Вчера провалился Египетский мост, но, к счастью, никто не убит и не утонул. Судьба, кажется, хотела отомстить за петербуржцев; вместе с мостом рухнула в Фонтанку часть эскадрона конных гренадер[140], переезжавших реку, тоже достаточно-таки отличившихся в битве 9 января. Крушение моста наделало много шума; что такое был этот мост — говорит катастрофа, а как чинили его, расскажу я со слов подрядчика, три года тому назад умывшего руки и отошедшего на покой.
К. Булла. Катастрофа на Египетском мосту (1905)
Мост этот нужно было разобрать и поставить новый; вместо этого «на ремонт» его было ассигновано думой 575 р. Но и эта сумма значилась только на бумаге, подрядчику же выдали всего 175 р., заставив расписаться в полной сумме… правда, зато никакого ремонта с него никто не спрашивал. «И так в России все ведется!» воскликнешь вместе с Шекспиром.
Приехавший с театра войны профессор Академии генерального штаба Колюбакин[141] рассказывает, что настроение войск бодро действительно, а не по газетным версиям; в Куропаткина верят, но у последнего не хватает решимости. Это, впрочем, видно и из картин бывших уже боев. Интересны отзывы о Стесселе: «мерзавец и трус». В Китайскую войну его выручила храбрость Анисимова, командира 12 стр.<трелкового> сиб.<ирского> полка; в штабе знали, что это за гусь, и когда он остался на Квантуне главным начальником, Куропаткин, бывший еще тогда в подчинении у Алексеева, хотел отозвать его перед самой осадой Артура, но Алексеев отказал в этом: Стессель умел заискивать перед ним.
Генералы Фок, Смирнов, Кондратенко — все были в ссоре со Стесселем, Смирнов[142] даже не разговаривал с ним, и только Кондратенко, ведший всю оборону, был между ними связующим звеном.
Записываю этот рассказ, так как то же самое слышал от многих военных, близко стоящих к делам Востока.
Как мы ведем войну и чего стоим в настоящее время, показывает следующее: Владивосток — исконная крепость на Дальнем Востоке, хорошо укреплена с моря; с суши же возведены так называемые «временные» укрепления, т. е. способные противостоять лишь полевым орудиям. Такого сорта формы[143] «найдены достаточными», так как с суши мы «не предполагаем» возможной осаду…
Под Порт-Артуром мы «не предполагали» возможным употреблять для осады орудия свыше 6-д.<юймов>, японцы же привезли 11-д.<юймовые>, и все пошло к черту от этих «не предполагавшихся» снарядов.
Словом, за все эти оказавшиеся «непредположения» нам наколотят шею, и кто же — вчерашние «макаки», предлагавшие нам перед заключением договора с Англией союз, от которого мы отказались, как от чего-то с величием России несогласного, чуть ли не унизительного!
Японские войска торжествуют победу в Порт-Артуре. Японский эстамп (1905)
Особенно возмущают военных два факта: отсутствие в такое особенно страдное время главного работника и вдохновителя в их мире — именно начальника главного штаба. Очевидно, говорят, эта должность не нужна, раз во время войны в течение почти года не замещают ее. Действительно: с начала кампании, т. е. с уходом Сахарова[144] в министры, место начальника гл. штаба пустует. В штабе идет неурядица, так как кому охота впрягаться в лямку каторжника для того, чтобы по окончании войны предоставить это место другому? А между тем, что может быть важнее начальника главного штаба в военное время?
Затем, негодуют на замещение важнейшего в военном отношении из генерал-губернаторств — туркестанского, интендантским генералом Тевяшевым[145], человеком не только глубоко ограниченным, но и буквально ничего не знающим, кроме цен на солдатские штаны. Все эти «веселенькие» явления, за которые потом приходится платиться целой стране, результаты протекций…
Министром внутренних дел назначен бывший московский губернатор Булыгин; Трепов, Булыгин — все это ставленники Сергея Александровича[146], и хорошего ждать от них трудно.
Великий князь Сергей Александрович
Как выясняется, депутация, ходившая к царю — простой «ход» перед западом, общественное мнение которого надо было чем-нибудь умаслить. Собрана она была по распоряжению полиции, явилась во дворец в виде толпы безмолвных баранов для выслушания заранее написанной речи, и только… Судя по газетам, пародия эта за границей, кажется, имела успех. Впрочем, разве можно в наше время узнать правду из газет??..
22 января. Министр юстиции, Муравьев[147], совершил новый ловкий ход: получил назначение в итальянские послы…
В достопамятное собрание министров, обсуждавших с государем вопрос о конституции, Муравьев отличился наиболее консервативной речью; вместе с бессмертным кащеем Победоносцевым они доказали, что государь (это «самодержавный»-то монарх!) не имеет права ограничивать власть свою.
У революционных партий Муравьев давно занесен на черную доску; после же татарской речи его с ним решено было управиться, как с Плеве, и Муравьев был извещен, что имя его стоит первым в списке осужденных на смерть. Любитель самодержавия, как умный человек, почуял, что в воздухе действительно начинает пахнуть бомбами, и увильнул в послы, не теряя значения и положения, добытых им в жизни подобными же ловкими изворотами.
Так судят о происшедшем в обществе, и вот слова, которыми неизменно сопровождаются разговоры о нем: «ловкая каналья». Этот эпитет Муравьев имел полное право включить в герб свой!
Сегодня уже в правительственном сообщении число убитых 9 января (перечислены по фамилиям) возросло до 130. Эта цифра тоже неверна, так как в нее включено еще только одиннадцать неопознанных трупов, между тем в действительности неопознанными осталось немало, да иначе и быть не могло при спешке с похоронами и по многочисленности мест, где были разбросаны мертвые.
23 января. Уволена артистка Императорских театров — Куза[148].
9 января она проезжала в своей карете мимо стоявшего отряда Преображенского полка и, высунувшись из окна, крикнула офицерам: «Поздравляю вас с первой победой»! Ей пустили вслед ругательства, а затем донесли по начальству, и в результате Кузе было предложено оставить труппу.
А. Головин. Портрет Е. И. Куза (ок. 1900)
На театре войны творится черт знает что. По имеющимся у меня сведениям из Академии генерального штаба, Гриппенберг дал телеграмму государю[149], в которой заявляет, что служить более с Куропаткиным и лить понапрасну кровь он не желает и просит уволить его. Последнюю битву завязала его армия, одержала уже успех, но Куропаткин не только не поддержал, но еще приказал отступить; во время отхода мы потеряли 10 000 чел., между тем как атака и взятие японских позиций обошлась всего в 2000.
Гриппенберг вызван для личных объяснений к государю.
Так торжественно отправленный на войну, чуть не триумфатором, Скрыдлов явился с нее сильно поджав хвост и, кажется, на этом франте, весь век занимавшемся фокусами и саморекламированьем, поставлен окончательный крест. Еще более раздутая знаменитость — Стессель выясняется все более и более во весь рост и в самом гнусном виде… Как это все больно, как это обидно! Все это очень волнует общество.
24 января. Оттепель. На 28 января ожидаем манифеста, которым будет нам «все» дано, что желаем… так будто бы выразился Трепов и Георгий Михайлович (великий князь). Блажен, кто верует!.. А пока, в ожидании манифеста, по городу распространяются неизвестно где напечатанные памфлеты и стихи на царя и царицу.
26 января. На Путиловском заводе — пострадавшем более всех во время расстреливания, и на резиновой мануфактуре опять нелады и забастовка. Рабочие возмущены приказом Трепова о назначении им депутации к государю, причем выбрать в депутаты приказано только «из благонадежных», т. е. по усмотрению полиции, а не тех, кого хотели бы рабочие. Разумеется, «депутация» эта только и могла, что упасть в ноги и окончательно осрамить их дело, к которому свыше, для оправдания себя, так ловко успели уже подклеить революционную подкладку. И как быстро гипнотизируется общество: люди, вчера еще знавшие истинное положение вещей, после уверенной правительственной лжи начинают сомневаться, а многие и верят в нее!
Арестованных писателей, профессоров и т. д. выпускают одного за другим. Спрашивается — для чего было сажать их? Для пущего озлобления общества?
В учебных заведениях — говорю про высшие — смута. Решается вопрос об общей забастовке; среди младших курсов недовольство против нее большое, так как, в случае прекращения занятий в этом году, первые курсы снова должны держать конкурсные экзамены. Трепов вчера, созвав высшие персоналы институтов и др., заявил им, чтобы было произведено голосование среди учащихся относительно продолжения занятий. Если за последнее окажется большинство — меньшинство будет исключено, и занятия пойдут своим чередом; если наоборот — все высшие учебные заведения будут им закрыты на год, а учащиеся не только навсегда исключены, но и все высланы из столицы, без права въезда в нее.
28 января. В мастерских Варшавской жел. дороги убит рабочими главный мастер; на Путиловском подготовлялось убийство целого ряда мастеров, но кто-то выдал заговор, и мастера успели скрыться, а выдавший и вместе с ним еще несколько человек поплатились жизнью. Так говорят в городе, добавляя, что убит Смирнов — злосчастный упрямец, из-за которого и начал бастовать Путиловский завод, где он состоит директором[150]. Около трех часов дня туда спешно поскакал конногвардейский эскадрон и жандармы; дело там несомненно неладно.
В Казанском соборе служили панихиду по Михайловскому; народа, главным образом всякого студенчества, набралось гибель; по выходе толпа запела «Со святыми упокой», но была рассеяна полицией и казаками; говорят, работали нагайки; но много ли и как — еще не знаю.
Манифеста, разумеется, нет как нет. «Обещанного три года ждут», говорит пословица. И получают кукиш, добавлю я от себя!
29 января. Мстят Максиму Горькому: по распоряжению властей снимают везде с репертуара новую пьесу его «Дачники». Ставят, говоря иными словами, Горького в угол… то-то умники! По городу ходит басня, будто бы в пресловутые дни этого месяца ожидали революцию и уже было выбрано (кем?) временное правительство, среди которого значился и Максим, вследствие чего его и арестовали.
3 февраля. На заводах все еще неспокойно, то тут, то там происходят забастовки. Все слои общества, даже московское купечество, дружно высказываются за конституцию; есть адресы к государю, написанные прямо замечательно. Начинаются елейно, а кончаются неизменным припевом о земском соборе. Эти два слова теперь у всех на языке.
В Тенишевском училище произошел водевильчик — по плевенским временам трагедия. Среди уроков явился в один из классов министерский инспектор (училище это в ведении министерства финансов) и задает одному из учеников вопрос — что вы проходите теперь по истории? Ученик попался, как на грех, недалекий. «Об ограничении императорской власти в России» — выпалил простофиля.
Конечно, произошло замешательство; кто-то усиленно стал подсказывать «в царствование Анны Иоанновны», но впечатление было уже произведено. Инспектор встал и, заявив: «Я, вижу, застал вас здесь врасплох!», с многообещающим видом оскорбленной добродетели удалился. Острогорский (директор)[151] решает теперь шараду: что будет с ним и училищем; оно давно «в подозрении» у начальства, или у бюрократии, как теперь в моде выражаться.
Тенишевское училище
4 февраля. В Москве убит взрывом бомбы главный советник государя, великий князь Сергей Александрович. Телеграммы об этом произвели большой и притом радостный эффект в городе: «Кто будет № 2?» задают вопросы друг другу. Ставленники Сергея — Трепов и Булыгин, очутились без почвы под ногами и вряд ли будут долго у власти.
Положение Трепова глупейшее: сидит вместо государя во дворце безвыездно, как в каземате, под охраной сыщиков и пр. челяди; как будто может все сделать, но в сущности властен только над маленькими людьми, а большие щетинятся, особенно Государственный совет.
Разрушенная взрывом карета великого князя Сергея Александровича в Кремле. Снимок фотографа Уголовного отделения Министерства юстиции
5 февраля. Сергея разорвало на куски. Кинул бомбу субъект в рабочем костюме лет 35, говорит с иностранным акцентом. Работа заграничная, что говорить! И тут нам, видно, «немец» потребовался! Петербуржцы не только радуются, но и поздравляют друг друга с этим убийством. Славную репутацию заслужил покойник!
Выпущен Высочайший манифест, по обычаю высокопарно надутый и приглашающий всех соединиться в молитвах за упокой души Сергея и высказывающий уверенность, что вся Россия разделяет скорбь царствующего дома. Люди радуются, а их скорбеть зовут!
Интересно, как будут хоронить Сергея; в Питер везти опасно: хватят бомбой в процессию — разом от всей фамилии только мокрое место останется; полагаю, что выдумают благовидный предлог и погребут его в Москве, где он царствовал. И чего ради люди так судорожно держатся за власть: живут, как загнанные звери в норах, боятся показаться куда-нибудь, дрожат перед каждым шагом и все-таки не хотят поступиться ничем! Именно «ничем», так как, в сущности, что такое, как не фикция, власть теперешнего государя? — это власть — Плеве — Сергея — Марии Федоровны — Витте и т. д. и т. д., только не его самого. А уж им ли бы не жить, что называется, всласть?
Приехал с войны Гриппенберг.
6 февраля. Высшие круги возмущены прибытием Гриппенберга; запальчивый генерал кинул, как уверяют, армию и прискакал в Питер без всякого разрешения. Поступок смелый, и настолько крупный, что, надо думать, что у Гриппенберга есть и большие основания к нему.
7 февраля. На заводах везде работают, но поговаривают, что мы накануне обшей железнодорожной стачки; Виндавская дорога уже не работает. Окончательно прекращены занятия и во всех высших учебных заведениях. Оригинальным путем идет у нас революция: забастовками!
Вел. князь Владимир, Мария Федоровна и Трепов, говорят, получили и продолжают получать письма с извещениями о приговоре их к смерти. Никто из высочайших на улицах не показывается, а еще недавно, стоило выйти на Невский или Морскую, и непременно встретишь кого-нибудь из них.
На три месяца поставлены в угол газеты «Наша жизнь» и «Наши дни» за «непрекращающееся вредное направление».
8 февраля. Грандиозная обще-университетская сходка студентов приняла резолюцию: прекратить занятия до сентября месяца. Такие же вести приходят и отовсюду. Сходка, между прочим, закончилась скандалом: один из студентов вынул красный флаг с надписью: «Долой самодержавие» и воткнул его в громадный портрет государя, стоявший в зале. Затем портрет был разодран окончательно.
9 февраля. Завтра «временно» хоронят в Москве то, что осталось от Сергея; ни государь, ни братья убитого присутствовать не будут…
Прощен живший до сих пор за границей великий князь Павел Александрович, попавший в опалу за женитьбу на баронессе Пистолькорс[152].
11 февраля. Воспрещена розничная продажа газеты «Русь». На заводах опять нелады, многие остановились.
13 февраля. Забастовки охватывают всю Россию; на некоторых железных дорогах прекращается движение; на Кавказе идет форменная резня; прекратили рейсы в Батум пароходные общества русские и иностранные… Картинка, в общем, размышления достойная!
Напомнили мне сегодня очень давно слышанный мною рассказ об разговоре Николая I с известным Авелем[153]. Николай велел его позвать к себе и спросил, кто будет царствовать после его сына, Александра.
— Александр, — ответил Авель.
— Как Александр? — изумился император. — Старшего сына его зовут Николай! (в то время последний был жив и здоров).
— А будет царствовать Александр, — подтвердил Авель.
— А после него?
— После него Николай.
— А потом?
Монах молчал; царь повторил вопрос.
— Не смею сказать, государь, — ответил тот.
— Говори!
— Потом будет мужик с топором! — сказал Авель.
Рассказ этот я слышал еще мальчиком в царствование Александра III.
Не грядет ли и впрямь царство мужика с топором?
Интересно, как широко охватила идея освобождения не только все классы, до и все возрасты: в гимназии Стоюниной[154], по получении известия о смерти Сергея, священник решил отслужить панихиду и на уроке заявил об этом классу, добавив, что это долг всех верноподданных.
«Совсем мы не верноподданные!» дружно закричали девочки (лет 14–15), и ни одна на панихиду не явилась. У Гуревича вышло еще проще: на приглашение идти в церковь гимназисты ответили, что если будут служить молебен по случаю происшедшего, то они пойдут, на панихиду же идти не желают. И не пошли.
Сведения эти безусловно верные.
Среди забастовок есть и курьезные: забастовала… консерватория. Требования ее сводятся к уменьшению платы и праву бесплатного посещения опер (это тогда только для них одних Мариинский театр существовать будет!) и т. д. Единственный разумный пункт, кроме первого, — требование вежливого обращения со стороны профессоров и профессорш, позволяющих себе отпускать учащимся «дураков» и «дур» и сравнивать их по таланту с коровами и другими, столь же музыкальными особами.
10 февраля. Приехал Стессель; у Знаменья и на противоположной стороне Невского стояли небольшие кучки народа, замечался усиленный наряд полиции — и только. Ничего подобного встрече «варягов» и «корейцев»… На вокзале его приветствовали разные «председатели», но в общем все прошло незаметно… Бросалось только в глаза полное отсутствие моряков; между последними и стесселевцами идет какая-то вражда, но из-за чего, почему — неизвестно.
Почтамт во взбудораженном настроении: в экспедиции его подкинули прокламации с угрозами взорвать здание, если к 19 февраля все не забастуют. Многие этой ерунде верят и сильно встревожены; трусит между прочим и Ермолай и шатается по экспедициям в неурочные часы для поддержания бдительности в своих подчиненных.
17 февраля. На 19 число ждем чего-то грандиозного во всех отношениях. Со всех сторон говорят о новой забастовке, о серьезных погромах и стычках с оружием в руках против войск. Обещана даже новая Варфоломеевская ночь. Каково настроение у многих — можно себе представить; всякий слух принимается на веру, и достаточно будет произойти пустяку, чтобы вспыхнула паника.
20 февраля. Полное спокойствие. Ночи на 18 и на 19 дворники во всех домах под командою старших просидели спрятанные за воротами; войска были наготове тоже, но и 18 и 19 — сорочины 9 января — прошли тихо, несмотря на многочисленные прокламации, усердно разбрасывавшиеся по заводам и в которых все призывались к возмездию «Николаю Кровавому».
Этой ночью Петербург казался вымершим: на сравнительно оживленном всегда Невском и пр. улицах совершенно не встречалось обычных путников из интеллигенции; изредка попадался кое-кто из простонародья. Так напуганы питерцы обещанием Варфоломеевской ночи!
26 февраля. В 4 ч. утра сегодня в меблированных комнатах «Бристоль», что против Исаакиевского сквера, произошел взрыв. Выбиты рамы и стекла во всей середине дома, причем особенно сильно пострадал второй и первый этажи. В 10 ч. утра я проходил мимо; проезд для экипажей около дома закрыт конной полицией; окна спешно исправляются. Передают, будто виновник взрыва — какой-то субъект в форме студента[155]; катастрофа произошла в его комнате; есть убитые и раненые, так как разрушены и соседние комнаты в обоих этажах. Вероятно, приготовлялась бомба, угодившая в самого автора…
На войне новый разгром: взят японцами Мукден, сожжены наши миллионные склады и т. д., и т. д.
Сражение под Мукденом в феврале 1905 г. Лубочная картина
4 марта. Высочайшим приказом смещен Куропаткин и назначен Линевич[156].
6 марта. Носятся слухи об арестах в Пажеском корпусе. Взрыв в «Бристоле», разорвав на куски виновника и превратив в щепки всю комнату, случайно не тронул чемодана, в котором отыскались переписка и разные бумаги, указавшие на прикосновенность к делу камер-пажа, фельдфебеля роты Его Величества, Верховского. При обыске у последнего нашли будто бы бомбы… Кроме него, говорят, арестованы и посажены в Петропавловку еще три пажа.
9 марта. Уже недели две или более, как изменены (безо всякого оповещения публики) бандероли на папиросах: с них исчез государственный герб — орел. Это подало повод к толкам, что акциз с табака и винный негласно проданы правительством Ротшильду. Говорят об этом усиленно.
14 марта. Слух об аресте в Пажеском корпусе подтверждается. Биржа угнетена страшно, и рента наша опустилась еще. Объявлен новый заем по курсу 96 за 100 и 51/2 % заем этот внутренний, так как внешний не удался… между тем заем японцев прошел с успехом! Вести со всех сторон плохие: в Варшаве пошли в ход бомбы, в десятках других городов — стрельба губернаторов, полицеймейстеров и даже городовых. Мужики грабят помещиков; словом, разлад и беспутица полнейшие… Настроение у большинства какое-то устало-подавленное: нервы притупились. Все разговоры, сходки, волнения наши, порывы — все это толчение воды в ступе! Уж теперь ясно видно, что пресловутая конституция будет простое надувательство, «обман глаз», как говорит народ, и ничего более. Ждать пути приходится только от бомб и только на них и начинает рассчитывать все большее и большее число людей. Указывают на май месяц, как на срок наступления революции; я в это не верю — слишком много называли нам сроков, и ничего в эти сроки не было!
17 марта. Около 1 1/2 ч. дня на Морской произошло загадочное событие. Трое одетых в штатское платье проходили мимо стоявшего на углу Почтового пер. посыльного; один из них толкнул его; посыльный огрызнулся, и в ту же минуту двое других штатских разом схватили его сзади. Посыльный успел вырвать из своего кармана револьвер и сделал два выстрела, но оба впустую. В ту же минуту у места свалки оказалась карета; в нее втиснули схваченного, и все трое штатских умчались с ним. Оказалось, что штатские были сыщики и уже два дня выслеживали посыльного. История последнего такова: несколько дней тому назад на упомянутом углу появился новый посыльный; местные артельщики, стоявшие на противоположном углу, конечно, сейчас же приметили коллегу, но никто не знал его. На другой день они дали знать в полицию, что появился самозванец в форме их артели; учредили за ним надзор, и посыльный оказался совсем другой птицей[157]. Кого караулил незвестный — не знаю; говорят, будто Трепова, который впервые за все время сегодня решился, наконец, выехать в Государственный совет.
Придет же в голову нелепая затея переодеваться в форму артельщиков, знающих друг друга наперечет, и помещаться перед глазами у них! Не богат мозгами, видно, попавшийся.
18 марта. Из двух источников слышал, что на наследника, маленького Алексея, произведено было покушение. По одним версиям, его хотели украсть, по другим задушить, причем мамка явилась спасительницей его. Предание свежо, а верится с трудом!
Николай II и младенец-цесаревич Алексей
21 марта. Говорят, будто на Морской в Трепова стреляли, но неудачно. Не преувеличила ли молва происшествие на уг.<лу> Морской и Почтамского пер.? Даже количеством выстрелов они сходятся. Всюду толкуют о близкой революции, политические разговоры просто оттошняли: где собрались двое, там уже идут горячие дебаты о политике; вся Россия, можно сказать, состоит теперь из министров!
3 апреля. Многие с тревогой ждут наступления мая; со всех сторон на него указывают, как на месяц, в который должна произойти революция. Так ли или не так, только правительство, видимо, подготовляется к худшему; с Дона, напр., выписаны еще казаки, ни одна гвардейская часть не посылается на войну и т. д. Слышал, что рабочие вооружены чуть не поголовно; деньги и оружие будто бы в большом количестве непрерывно идут к ним из-за границы. Вообще толков и арестов много; многие обыватели намереваются покинуть Питер и переселиться на дачи до 1 мая; дачи в Финляндии идут нарасхват, так как только эта окраина признается теперь наиболее безопасной от грядущего террора.
Немало разговаривают о каком-то загадочном происшествии: застрелился молодой гвардейский офицер и две родственницы, кажется, племянницы Трепова; причина — открытие их участия в чем-то политическом.
6 апреля. Все сильнее разгораются толки о грядущих беспорядках. Срок наступления их перенесли уже на первый день Пасхи, и намеченными жертвами называют не более и не менее, как всю питерскую интеллигенцию. Слухи об этом ходят повсюду; многие уезжают, другие собираются выехать из города; общее настроение тревожное. Слышал, будто бы несколько лиц, пользующихся некоторой популярностью среди рабочих, получили анонимные дружеские предупреждения от них; затем будто какая-то дама, учительница, встретила в глухом месте вечером босяка и на просьбу его о милостыне дала ему, со страха, все, что имела с собой — рубль. Босяка, оказавшегося безместным рабочим, это так тронуло, что он в виде благодарности сообщил учительнице, что на первый день будут избиения, и она хорошо сделает, если оставит город на всю Святую.
«Только 2 коп.! Черт побери! А я кажется ясно сказал, что требую 10 коп.! (……брань)». Почтовая открытка 1900-x гг.
10 апреля. Весь город говорит о близких избиениях; уверят, что народ будет врываться в квартиры и избивать интеллигенцию наподобие Пскова и др. мест. В литературных кружках заявляют, что избиение это организует полиция и пострадают наиболее неприятные правительству лица.
14 апреля. Погода теплая и хорошая. Вчера заговорили о тревожащих всех слухах «Биржевые ведомости»; сегодня отозвались «Петербургская газета» и «Русь»: в Думу сделаны запросы, какие меры примет город для предотвращения погромов.
Лично я в возможность их не верю; Петербург не Кишинев, и правительству устраивать Варфоломеевские ночи не время; хулиганству же, на которое, между прочим, тоже указывают толки — такая затея не по плечу: интеллигенции здесь все же больше, чем их братии.
В общем — огромное большинство общества сильно утомлено политиканством, во многих домах гостям ставят условия — о войне и политике не говорить. И правильно!
Осточертели все эти нелепые толки вкривь и вкось; проку от них нет, а только одно раздражение и надсадка ушей и горла. Нервничаем все сильно.
15 апреля. На улицах расклеены объявления Трепова, призывающие обывателей успокоиться и заверяющие, что слухи об избиениях ложны, и что всякая попытка к чему-либо подобному будет немедленно энергично подавлена.
16 апреля. На перекрестках усиленное количество полиции: во дворах многих домов поставлены отряды солдат; весть об этом подействовала успокоительно.
17 апреля. Вот и 17 число… Везде тихо и мирно, хотя пьяных хоть пруд пруди с самого утра. Полиция расправляется с ними энергически. «Тащщи» и «не пущщай» сегодня действует в полной силе, да оно так и следует: в праздники из Питера хоть уезжай, до того отвратителен он со своими потоками пьяных людей на тротуарах, заражающих воздух запахом водки и сверхъестественными ругательствами!
Но накануне больших праздников, особенно Пасхи, Питер интересен.
Я всегда встречаю Светлый Праздник на улице; кто хочет получить настоящее настроение, хочет ощутить душой праздник, тот не должен идти в церковь. Домовые церкви, куда устремляется большинство интеллигенции — это выставки нарядов и противны они донельзя; прочие храмы все до единого способны привести в исступление: теснота в них страшная, давка самая бесцеремонная, пихают вас как на рынке и, разумеется, там уж не до настроений!
Петербург. Александро-Невская лавра в 1900-х гг.
В прежние года я ходил обыкновенно в Александро-Невскую лавру и из сада следил за службой. Голоса едва долетают вглубь старых березовых аллей, вокруг церкви толпится народ с бесчисленными звездочками огней в руках, на колокольне ярко пылают смоляные бочки, фантастически озаряя белые стены и колокола.
Наконец из дверей церкви, склоняясь, показываются хоругви; это красивейшие минуты — выходит крестный ход, раздается торжественное «Христос воскресе».
Вчера очень удаляться от дома я не решился, хотя и плохо верил толкам. Прошел к Смольному монастырю, оттуда вернулся по Суворовскому проспекту.
Извозчики, конечно, отсутствовали совершенно, по обе стороны беспрерывно лил народ; встречалось довольно много солдат и, кое-где, офицеров. Некоторые шли весьма медленно и, дойдя до 2-ой улицы, поворачивали обратно к Смольному: вероятно, в эту ночь были наряжены негласные патрули…
На улицах у церквей везде устроены длинные скамьи для священия пасх; особенно красива была площадь вокруг церкви Рождества Христова, вся полная народом и огоньками; почти у всех в руках были пасхи и куличи. В церковь, конечно, протискаться нечего было и думать!
Начал накрапывать дождь и я вернулся домой.
30 апреля. Видел скверно напечатанные пишущей машиной прокламации, вернее, воззвания «революционного комитета», призывающие к оружию на завтра. Воззвания эти найдены подброшенными на парадных лестницах; написаны они глупо и все еще твердят про «январскую кровь»… Питерцы уже поостыли к ней; впечатления так долго здесь не держатся!
Сентябрь. Срамная война с Японией срамно и окончена: мы отдали половину Сахалина, Манчжурскую дорогу и т. д., и т. д. Мир ратификован. Ни одной победы, ни одной светлой страницы, на которой бы мог отдохнуть глаз! Разнузданность, воровство, бездарность — вот с чем выступили мы в борьбу со сплоченным народом. Как и Крымская война, эта открыла нам глаза, но вопрос, всем ли и надолго ли? Уроки Крыма забыты были очень скоро!
2 октября. Хоронили ректора Московского университета князя С. Трубецкого[158]. У клиники Елены Павловны собралась огромная толпа; впереди колесницы выстроились бесконечные пары студентов и разных учащихся с венками; полиция почти отсутствовала и порядков не наводила, а потому он был образцовый. Шествие тронулось на Суворовский проспект. Я шел почти сейчас же за гробом, но мало-помалу отстал. Толпа пела «Коль славен», но крайне нестройно; в одном месте пели начало, в другом конец, а в третьем совсем иное.
Против Николаевской академии вдруг раздались крики, вопли, и толпа, как безумная, шарахнулась к тротуарам; многие бросались и влезали на железную ограду. Оказалось, что жандарм, следовавший близ гроба и на которого начали кричать из толпы: «Долой полицию, вон сволочь», повернул лошадь и поехал прочь. Ближайшие, думая, что он хочет напасть на них, перепугались и произвели панику в задних рядах. Кое-как все успокоились, шествие пошло дальше; часть студентов — вероятно, распорядителей — шедшая близ гроба, опять запела «Коль славен», позади раздалась марсельеза и «Вы жертвою пали». Жандармы исчезли окончательно и поступили умно.
Когда вышли на Невский, гроб уже сворачивал к вокзалу. У забора, ограждающего до сих пор место будущего памятника Александру III, виднелись шапки и султаны отряда конной полиции; мы протеснились до площади, но дальше пройти возможности не было. Гроб уже скрылся, но все стояли и чего-то ждали.
Очень насмешила какая-то женщина — вроде лавочницы; протискивалась она назад мимо нас и во все горло заявила: «Вот так погребали, с песнями!» Это было так верно и так забавно, что все кругом засмеялись.
Сейчас же позади нас раздалось пение марсельезы; в революционных песнях главным образом слышались женские голоса. Как бы в ответ на это из-за угла, со стороны Гончарной, показался эскадрон конных жандармов; я успел выбраться направо к тротуару и стать под защиту железного фонарного столба. Эскадрон доехал до «Северной гостиницы»; рыжий подполковник, ведший его, скомандовал перестроение; блеснули обнаженные шашки, и жандармы тихой рысью, почти шагом, по три в ряд, двинулись на толпу. Что тут произошло — неописуемо! С дикими воплями, не видя ничего, ринулось все в стороны; на тротуаре близ нас несколько человек упало; моментально образовалась на них целая гора, и по ней неслись студенты, курсистки и т. п. Слышался плач, визг, треск доломавшейся зеленой ограды вокруг насаженных там деревьев; люди лезли на них, бросались к дверям домов, куда попало. Напрасно десятки голосов, в том числе и я — кричали: «Стойте, стойте, ничего нет!» — паника продолжалась.
Теснимые безусловно никого не трогавшими жандармами, мы выбрались переулочком на 1-ю Рождественскую улицу, и я направился домой. По дороге везде царило смятение: спешно запирались и даже заколачивались ворота и двери домов, и торговцы с лотками товаров тщетно стучали в них и молили о впуске. Жена уверяла меня, что были 2 выстрела; я слышал треск, но уверен, что это трещала деревянная ограда около деревьев.
И вот такая-то братия, нервы которой не могут выдерживать блеска обнаженных сабель, идет устраивать демонстрации! Кстати сказать, толпу составляла почти сплошь интеллигенция, простонародье было в виде единичных исключений.
4 октября. Газеты полны описаниями похорон Трубецкого; тон возвышенно-лирический, особенно у «Руси»; в действительности же процессия производила даже на нас, участников, далеко не то впечатление. Шла огромная орда не понимавших друг друга людей, шла прилично и нестройно распевала разные песни. Уверения, что были 2 выстрела из толпы в жандармов, слышал от нескольких лиц; возможно, конечно, но я их, во всяком случае, не различил, да и зачем же было устраивать такую пальбу.
7 октября. Газеты сплошь заняты телеграммами из разных городов Руси о забастовках, демонстрациях, и п. д. Везде на сцене войска, патрули и артиллерия. Гражданская война разгорается все больше и больше.
11 октября. Разрастается железнодорожная забастовка.
12 октября. Питер отрезан от всей России; все железные дороги, кроме отказавшейся примкнуть к движению Финляндской, забастовали. На Николаевской дороге, около Фарфоровского полустанка, разобран путь. По городу распространяется паника; уверяют, что сегодня вечером прикроются и забастуют все магазины, и достать что-либо будет немыслимо. Колбасные, булочные, бакалейный и т. п. осаждаются покупателями; все делают запасы провизии. Цена на мясо шагнула с 16 на 22 коп. за фунт.
Все средние учебные заведения закрылись; распустили сегодня и мы свое коммерческое училище. Некоторые девочки остались у нас, так как живут на Обуховском заводе и попасть туда нет возможности. Ожидаем больших беспорядков, и, конечно, детям на улицах теперь лучше не показываться.
14 октября. Окна магазинов заколочены досками и щитами; электричество сегодня не действует. Внутри магазины тускло освещены или парой свечей, или какой-нибудь грошовой лампочкой; все имеет такой вид, что при первой тревоге остается только захлопнуть дверь, задуть огонек, и получится нечто вроде крепостцы.
15 октября. В Питер подходят войска из окрестностей; говорят, пришла пехота из Пскова и гвардейская кавалерия из Царского. На улицах то и дело проезжают кавалерийские разъезды; ворота домов заперты; за железными решетками их видны сидящие в косматых шубах дежурные дворники.
Газет сегодня нет. Это — вторичная забастовка их в этом месяце; в первый раз они трехдневными прекращениями работ выражали свою солидарность с московскими типографиями.
Царь находится в Петергофе, и там же стоит под парами императорская яхта «Полярная звезда», готовая принять его и отплыть в Данию. Место зловещее: вспомнил бы он Петра III и попытку его уйти в море!..
На углах улиц еще вчера вывешены объявления Трепова, успокаивающие население, причем добавлено, что всякая попытка к беспорядку будет немедленно подавлена; войск достаточно, и им приказано холостых залпов не давать и патронов не жалеть[159].
Любопытен слух о забастовке конных городовых; их, действительно, что-то совершенно нигде не видно.
Магазины торгуют без перерыва; немецкие булочники остались совершенно без дрожжей и командировали в Выборг одного из своих. Тот привез 15 фунтов, более не мог раздобыть; на весь город это слишком маловато!.
16 октября. На улицах тихо и малолюдно; аптеки везде позабиты наглухо досками, так что появилось правительственное сообщение о том, что нуждающимся в лекарствах таковые будут отпускаться из госпитальных аптек. Говорят, вчера были разгромлены три частные, не желавшие бастовать. Вообще забастовки наши далеко не дружные; бастует меньшинство, и только террором заставляет примкнуть к себе остальную массу. Невский проспект вчера вечером освещался прожектором, установленным на Адмиралтейской башне; эффект замечательный.
Вечер. Электричество капризничает: то на улицах темнота, то вдруг затрещат и вспыхивают фонари и опять гаснут через некоторое время. Очевидно, на местах производств идут свалки и одолевает то одна, то другая сторона. Прожектор освещает Невский и сегодня, но нынче он какой-то желтый и освещает сквозь дождь плохо: будто какой-то огромный ярко-желтый глаз глядит из мглы и тумана.
Ходят толки, что «революция» произойдет 20 числа, теперь же будто бы все рабочие и революционеры запасаются оружием. Вся эта, хотя бы и вооруженная банда, конечно, и гроша медного не стоит перед регулярными войсками, и весь вопрос в том, на чьей стороне будут они. Старший д-р л.<ейб>-гв.<ардии> гусарского полка, А. И. Воскресенский, говорил мне, что даже за этот полк ручаться нельзя: солдаты толкуют, что «конечно, что говорить — нехорошо это они (т. е. рабочие) делают, только как тоже в своих-то стрелять?» Словом, часть войск верна правительству, другая ни шатка, ни валка, примкнет к тому, кто будет энергичнее, а третья намерена стрелять в тех, кто станет стрелять в народ. Это слова какого-то офицера, сказанные им на митинге в университете среди многочисленной толпы; погоны офицера были при этом закрыты платками.
Кстати, на том же митинге произошло следующее: какой-то господин попросил слова и предложил всем записать то чрезвычайно важное, что он имеет сообщить. Кто мог, достали карандаши и бумагу, и неизвестный продиктовал толпе рецепт бомб и исчез.
17 октября. Тревожное настроение усиливается. В редакции «Всходов» слышал, что было совещание газетных представителей Петербурга и все, кроме князя Ухтомского (редактор «С.-Пб. ведомостей»)[160] и еще какой-то маленькой газетки, решили следующее: газетам завтра выйти, причем с цензурными правилами более не сообразоваться и устроить между собою круговую поруку и поддержку на случай закрытия газет правительством. «Союз союзов»[161] разогнан; Политехникум Трепов приказал очистить от студентов (там огромное общежитие) в 24 часа и пригрозил, в случае сопротивления, штыками. Все высшие учебные заведения заняты войсками и пулеметами; уверяют, будто царь слышать не хочет ни о каких уступках, и в верхних кругах твердо решили «залить революцию кровью». Похоже на ерунду, но тем не менее записываю, так как об этом усиленно твердят в городе, увеличивая общую тревогу. Рассказывают, будто морской министр Бирилев[162], поехавший на Черное море, взорвался или взорван с каким-то броненосцем, а остальная взбунтовавшаяся эскадра ушла неизвестно куда.
Забастовали, т. е., вернее, распущены чиновники Государственного банка: остановился, можно сказать, последний жизненный пульс Руси.
Забастовала и Финляндская железная дорога вплоть до Гельсингфорса. Питер теперь отрезан совершенно.
В министерств<ах> произошли тревоги: в Департамент государственного казначейства явились сегодня трое каких-то господ (двое узнаны — какой-то присяжный поверенный и помощник присяжн. пов.). Шипов (директор)[163] вышел к ним в коридор, и они предложили ему от имени «временного нового» правительства прекратить занятия и распустить чиновников. Шипов крикнул на них: «Вон отсюда», и послал за стражей. «Временное» правительство быстро ретировалось.
В здании, где д<епартамен>-т Шипова, помещается целый ряд их; мгновенно о случившемся узнало все чиновничество, высыпало в коридоры и зашумело. Стали раздаваться голоса — какое право имел Шипов отвечать так за все департаменты и т. д. Начало становиться довольно бурно, но… появился Федоров[164] (начальник отдела торговли), и чинуши попритихли; на просьбу о сходке Федоров ответил решительным отказом, но добавил, что в виду тревожного времени, кто боится за себя или за семью свою, тот может не ходить на службу.
В Государственном контроле директор созвал своих начальников отделения и сказал то же самое, прибавив при этом, что сам он будет оставаться на своем посту до тех пор, пока его не удалят силой, но чиновников своих подвергать этому не хочет, и оставляет поэтому за ними полную свободу действий.
На улицах тихо. Окна магазинов по-прежнему заколочены, но торгуют везде, кроме аптек и газетчиков. Эти политических забастовок устраивать права не имеют!
Электричество действует почти повсюду.
18 октября. Ура! Мы свободные люди!!
Вчера был в гостях у Сиверса (члена ученого комитета Министерства финансов): вдруг за ужином раздался звонок; хозяин вышел посмотреть, кто пожаловал, и быстро возвратился с листком в руке.
— Господа, манифест!
Дважды прочли его и от души чокнулись за новую Россию. Нашлись и в нашем небольшом кружке скептики, но в общем шаг вперед сделан, и большая тяжесть свалилась с души!
Ночью возвращался от Сиверса по Невскому; везде горело электричество; по тротуарам и за извозчиками бегали мальчишки, размахивавшие листами бумаги и выкрикивавшие: «Манифест! Высочающий манифест!»
Манифест Николая II и Всеподданнейший доклад С. Ю. Витте с программой реформ в прибавлении к «Правительственному вестнику» (17 октября 1905 г.)
Сегодня на улицах вывешены флаги, на углах у расклеенных манифестов толпятся кучи прохожих. День серый и тусклый.
Говорят, что сегодня Николай приезжает из Петергофа в Зимний дворец, и что манифест этот дело рук Витте, который читал несчастному императору чуть ли не целые сутки историю французской революции с российскими комментариями.
Ночью, оказывается, не обошлось без происшествий. Около часу все бывшее на Невском бросилось на Загородный к Технологическому институту: в нем студенты устроили форт Шаброль[165], и их оцепили войска. В эти войска из института бросили бомбу, убили городового и извозчика; солдаты ответили залпом.
Затем — только что появился на улицах манифест — на углу Литейного и Невского остановился какой-то субъект и, собрав вокруг себя значительную толпу, начал говорить, что «Нет, теперь уж этого нам не нужно! Мы должны вести революцию до конца и т. д.» Там же мирно присутствовали пристав и два околодочных. Очевидно, слышавший эту речь А. Беграмов струсил, как сам признался, и поспешил скорей прочь.
12 часов дня. На Невском большое оживление; тротуары забиты народом. Конок все-таки нет. Николаевский вокзал закрыт; движение поддерживается только частными омнибусами. На углу Невского и Дегтярной я и шедший со мной А. И. Воскресенский были свидетелями любопытной сценки. Видим там небольшую толпу; некоторые из нее (было все простонародье) кричат: «Мерзавец! Палкой бы его, подлеца, по голове. Манифест смеет позорить!»
Оказалось, что какой-то субъект, прочтя прибитый к стене манифест, обругал его, за что едва не поплатился боками и должен был удирать во всю прыть.
2 часа дня. Поехал с женой на Невский проспект. Люди и экипажи запрудили его совершенно. Извозчик сообщил, что с заводов прибыли 2 парохода с рабочими, и что сегодня утром он был очевидцем, как у Технологического института гусары изрубили за что-то саблями какого-то господина: он получил три раны в голову[166].
На Невском у угла Суворовского мы встретили толпу рабочих, о которых сообщил извозчик. Впереди шли дети, было много простых, но чисто одетых женщин, мужчины производили опрятное, хорошее впечатление. У всех на левой стороне груди алели красные банты из лент; над процессией развевались два небольших, складных красных флага.
Теснившиеся по тротуарам прохожие махали шапками и кричали ура. Шествие отвечало тем же. Как-то странно и радостно было видеть эти красные флаги, банты, еще вчера бывшие под жесточайшим запретом, а сегодня мирно и беспрепятственно двигающиеся по городу! Николаевский вокзал открыт; около него, как всегда, белели ряды носильщиков, подъезжали извозчики с кладью и пассажирами — дорога, очевидно, работает.
На углу Владимирской мы свернули с Невского и направились к Технологическому институту: я хотел проверить рассказы о творившемся там. Несколько окон института со стороны Загородного проспекта пробиты пулями; дырки в стеклах второго этажа виднелись чрезвычайно отчетливо, но их очень немного, не более трех. Против подъезда стояла полурота гвардейской пехоты; из-за стекол закрытого подъезда выглядывали солдатские лица и виднелись штыки. Толпа вокруг стояла значительная; около подъезда и на тротуаре теснилась самая разношерстная публика. Мы сошли с извозчика и вмешались в нее. Один из технологов разъяснил, что в институте заперты под караулом 83 студента и 2 профессора; из окна института была брошена бомба, «никого не убившая и, несомненно, провокаторская». Ночью приезжал в институт Витте для разбора происшедшего, и теперь арестованных держат до «выяснения дела». Около нас, конечно, сейчас же собралась порядочная группа, один — брюнет, довольно посредственно одетый, нечто вроде рабочего, сообщил, будто в путиловцев сегодня опять стреляли.
«Одной рукой дают, другой берут. Вот вам и манифест!» слышались негодующие голоса.
Места, где произошел взрыв бомбы, я не мог найти — никаких следов повреждений мостовой нет, или же оно было занято солдатами. Последние в ответ на бомбу стреляли, но, как я уже говорил, следы пуль на окнах единичны, и из студентов никто не ранен.
Митинг у Петербургского университета 18 октября 1905 г.
Окружавшие нас говорили, что у Казанского происходит митинг, на который навалилась «черная сотня», что там идет побоище, и присылали просить помощи.
Мы с женой сели на извозчика и направились туда. Сквозь колоннаду собора увидали двигающиеся по Невскому флаги; их было семь: два белых с черными надписями «Да здравствует свобода и царь» и пять обычных, торговых цветов. За флагами валила огромная толпа любопытных; митингов и драк не не было и следа. Мы вмешались в толпу и последовали за процессией; флаги свернули на Морскую, к Зимнему дворцу и остановились перед средними воротами. Раздалось пение «Спаси Господи люди твоя», затем ура; в воздух полетели шапки, замахали руки, платки. Толпа притиснулась к самым воротам, из-за запертых решетчатых створ чернели косматые шапки гренадер. Толпа, занимавшая все пространство между дворцом и колонной, состояла почти сплошь из простого люда, рабочих, лавочников и т. п. Один полный, бородатый старик плакал, пели от души. Зазвучал гимн, опять «Спаси Господи», ревели «ура» — царь не показывался. Большой он враг себе, царь Николай! Позади, ближе к колонне и дальше, теснились не участвовавшие в демонстрации: там публика была отборнее; окна департаментов, что против дворца, форточки — все было открыто и отовсюду высовывались головы чиновников.
Флаги двинулись наконец влево, к адмиралтейству, но их остановили крики — «Назад, назад»; — в окнах правого выступа дворца показались какие-то фигуры. Грянуло новое ура, опять полетели вверх шапки и толпа, крича: «Бить анархистов! Долой анархистов!» повалила к выступу. На подъезде под ним стояли конногвардейские или кавалергардские офицеры; фигуры дам, принятых за царскую семью, и офицеры скрылись.
Демонстрация в Петербурге 18 октября 1905 г.
Толпа в этот момент была снята каким-то фотографом, с аппаратом стоявшим на извозчике. Народ повалил затем на Миллионную, мы же вернулись через Морскую на Невский; там творилось вавилонское столпотворение: лошади могли следовать только шагом; стена пешеходов едва передвигалась. Порядок тем не менее был замечательный. Медленно доплелись мы до Думы; около часовни Спасителя и на ступенях широкой лестницы в Думу чернело сплошное море голов; с первой площадки горячо говорил какой-то рыжеватый кудрявый человек с подвязанной щекой, без шапки, в пальто с барашковым воротником. Видом он походил скорей на рабочего. Только что мы успели перейти пол-улицы — он кончил и раздались аплодисменты. И вдруг часть толпы, слушавшей речь, в беспричинном страхе шарахнулась прямо на вереницы извозчиков; несколько минут происходила паника. Мы благополучно успели перебраться обратно; знакомые, слышавшие оратора, тут же рассказали содержание речи: он призывал не верить правительству, стоять на своем и требовать амнистии и освобождения всех политических арестованных. Затем неизвестный оратор назвал всех, кто славит царя, кто поет «Боже, царя храни» и т. п. — провокаторами, но приглашал ли их бить — я не успел узнать. Легко клеймятся у нас люди! Не наш — стало быть, провокатор!
Может быть, у Зимнего дворца и были ставленники правительства, но что много было искренних людей — свидетельствую. Они действительно пришли благодарить царя, уважение и любовь к которому истинно русский человек всасывает, вернее всасывал, с молоком матери!
После рыжего говорили еще какие-то ораторы, но мы их не слушали. На углу Садовой повстречали целый лес длинных красных флагов на высоких шестах и в виде хоругвей; явились они с Садовой, несшие их производили чисто хулиганское впечатление: испитые оборванцы — мальчишки и молодежь, ухарского, кабацкого вида. За этим пугачевским отрядом толпы не было, «ура» тем не менее гремело им с обеих панелей Невского. Среди хоругвеносцев выделялся какой-то солдат, форму полка его не успел разобрать.
На Аничковом мосту около ресторана Палкина, близ Надеждинской, опять повстречали красные знамена: толпы, сопровождавшие их, производили впечатление ошалевших орд, готовых на что угодно.
Проехал извозчик, на котором сидел какой-то весьма довольный собой субъект, а над ним развевался красный флаг с черною надписью: «Свобода». Этот был совсем шут гороховый.
Настроение напряженное; на улицах не праздник, а ожидание грозы, и если ее не произойдет сегодня — будет чудо!
Пишу эти строки в 5 ч. вечера; скоро отправлюсь опять на Невский: нужно видеть все самому, чтоб иметь право судить о происходящем. Переживаем величайший миг русской истории!
В 6 часов на углу Суворовского и 2 Рождественской показалось множество красных фонарей и флагов на высоких палках; на улицах полутьма, электрические фонари горят через два в третий. Громадная толпа, сопровождавшая эти флаги, остановилась против больницы, и кто-то из нее начал держать речь. Казалось, будто кровавое зарево стоит над самою улицей.
Речь то и дело прерывалась громовым ура; в окнах соседних домов показались люди, и вдруг освещенные квартиры одна за другой стали погружаться в мрак: гасили огни из боязни разгрома со стороны толпы. Приказчики спешно бросились закрывать щитами двери и окна магазинов. Толпа с революционными песнями двинулась дальше по Суворовскому; по обе стороны ее в большом количестве разбрасывались прокламации.
— Товарищи, за нами! — кричали проходившие: — разгромим тюрьмы, выпустим всех!
Буйств и безобразий никаких не происходило.
Невский полутемен и, сравнительно с утром, — пустынен. Магазины сплошь заперты и закрыты щитами и досками. На перекрестках чернеют что-то обсуждающие кучки людей; больше всего их около Гостиного двора и Казанского собора. Экипажное движение почти отсутствует — извозчиков можно пересчитать по пальцам. На обратном пути от Морской около Троицкой встретили новое шествие с красным фонарем и флагами; толпа сопровождала их многолюдная, но состояла, главным образом, из подростков и мальчишек простонародья; бородатые лица виднелись лишь изредка.
Ни городовых, ни войск не видно — и к лучшему. Тем не менее, все наготове, и в любом месте быстро могут появиться и заговорить пулеметы и артиллерия.
В центре города день прошел мирно.
19 октября. Улицы имеют обычный вид; флаги убраны, сборищ не видно. Только конок нет. Из газет вышли опять только градоначальническая да правительственная. На стенах домов белеют новые извещения Трепова — «День 18 октября», написано в них, «…к сожалению, не обошелся без насильственных столкновений разных групп населения между собой, а также с полицией и войсками»… Далее идет предварение о решительных мерах, которые будут употреблены впредь при подобных случаях.
Какие были столкновения, где — еще не знаю.
В типографии, куда я зашел, смущение: все встали на работу, как вдруг явились какие-то субъекты с требованием продолжать забастовку под угрозой расправы. Типография вся, как один человек, против забастовки, но работать боится. Стыдил их за глупый страх и повиновение каким-то оборванцам, желающим только анархии и слишком самонадеянно считающим себя чем-то вроде наставников и распорядителей судеб всего общества. Тем не менее, кажется, и после обеда типография не работала.
На Невском тоже особенного ничего не заметно; сегодня в Казанском соборе назначен торжественный молебен и, может быть, туда, а может и на какой-нибудь митинг — их теперь несть числа — шло много людей.
Витте, со дня ратификации мира, объявил, что обсуждается вопрос об амнистии лиц, арестованных по политическим делам.
6 часов вечера. Сейчас был преподаватель П. И. Шелков. Рассказывал, что, когда он возвращался вчера домой в 9 час. вечера по Невскому проспекту, у Казанского собора стояла многотысячная толпа, мирно обсуждавшая разные вопросы. На Аничковом мосту он повстречался с другой, меньшей, чисто хулиганского вида. Толпа эта срывала флаги с домов, ревела «Боже, царя храни» и сшибала древками флагов шапки с прохожих, не успевших снять их. У Казанского произошла драка, обошедшаяся без вмешательства войск, причем вторая толпа пострадала и была рассеяна.
Сейчас университет оцеплен войсками; около него убиты два студента. Как, кем — Шелков не знал.
83 студента, сидевшие под арестом в здании Технологического института, сегодня выпущены.
Как обострены теперь страсти! При малейшем сомнении в чьей либо ультра-красноте у людей появляется чуть не пена у рта; слова: «провокатор», «черносотенец», как прежде «шпион» — сыплются без всяких колебаний и рассуждений!
20 октября. Вечером был вчера у Константина Яковлевича Бодиско[167] и вернулся опять в смутном, подавленном настроении.
Константин Владимирович Крапивин, начальник отделения Департамента торговли и мануфактур, рассказывал, что он сам был очевидцем, как вчера в половине пятого дня на углу Конюшенной жандармы ни с того ни с сего принялись разгонять собравшуюся толпу и избивать ее сперва нагайками, затем саблями. Затем — через руки его проходят телеграммы со всей России, даже те, что не попадают потом, благодаря цензуре, в газеты — и он говорит, что содержание их ужасно: манифест принят везде восторженно, во всех городах устраивали радостные митинги, и почти везде опять выступили ступили на сцену против них нагайки и залпы.
18-го на Невском у дома Елисеева разыгралась кровавая свалка между огромными шествиями «националистов» — и «краснофлажцев». Пущены были в ход револьверы, были пострадавшие. Подобные же свалки с выстрелами, а также беспричинные паники, от которых в хаосе неслись, как безумные, в общем потоке, давя и сшибая все на пути своем, извозчики, пешеходы, дамы и сами манифестанты, происходили во многих местах; сильнейшие, повторяю, беспричинные, паники были у Полицейского моста и на углу Загородного и Лештукова переулка. Это показывает, в каком теперь состоянии нервы у массы.
Стачечный комитет (петербургский) объявил продолжение забастовки, и вчера опять стали начавшие работать железные дороги. Московский, наоборот, объявил о начале работ.
Представители периодической печати собрались к Витте и указали ему, что манифестом дарована свобода слова, но не печати; Витте ответил, что в настоящее время она еще невозможна, благодаря анархии; тогда ему заявили, что газеты не будут выходить совершенно… Нет их и сегодня.
Что это за дичь, как может существовать в свободном государстве несвободная печать, как мог Витте говорить и устраивать подобную шутку — понять нельзя! Недаром, видно, на одном из недавних митингов какой то оратор сказал: «Витте не либерал, Витте не консерватор, он просто каналья». Добавлю: преумная!
6 час. вечера. От многих слышал подтверждение о вчерашних избиениях казаками на Невском; уверяют, что они беспричинные.
Митинги 18-го постановили между прочими пунктами требовать — освобождения политических заключенных и увольнения Трепова. О нем толкуют чуть не со скрежетом зубов; говорят, 18-го числа войска получали то и дело приказы то от Витте, то от Трепова; от первого: не сметь пускать в дело оружие, от второго — стрелять.
Царь, подпадающий под влияние того, кто говорил с ним последний, вероятно, вчера поговорил с Треповым, и, благодаря этому, повеселились казаки, и уже прежней свободы собираться на улицах сегодня нет.
Кавалерия и демонстранты в Петербурге (1905)
И все-таки, несмотря на такие неблагоприятные слухи, огромное большинство общества с 18-го числа на стороне правительства и желает спокойствия.
На улицах сегодня расклеено воззвание к благоразумию общества; указывая на полную невозможность мгновенно пересоздать законы, оно призывает к порядку и снова обещает все действующие пока законы и постановления применять согласно манифесту. Да, но казаков следовало бы убрать куда-нибудь на задние дворы!
Убитых за вчерашний день и 18-е число насчитывают порядочное количество; свозили их в Обуховскую больницу; большинство погибло в междоусобных свалках.
Бухгалтер редакции журн. «Всходы» и рассыльный ее же вчера были свидетелями нескольких убийств у Казанского собора: встретилась толпа с красными флагами, среда которой было много студентов, и другая — поменьше, с национальными флагами. Студенты начали стрелять из револьверов, и трое из последней партии упало с ранами на головах. Публика кругом ринулась бежать, националисты, покидав флаги, тоже.
Курсистки вчера против Казанского собора и Гостиного двора а производили демонстрацию: появились целые полчища их с перевязками Красного Креста на рукавах.
На вопросы прохожих: «Что значат эти перевязки и такое количество их?» — отвечали: «А вы гарантированы от того, что вас не изрубят и не расстреляют сейчас здесь?» Словом, явились будто для подания на месте помощи лицам, могущим пострадать от «насилий войск».
Раненых на этот день много ожидало и правительство: весь двор армянской церкви, что против Гостиного двора, полон был лазаретными фурами и повозками. Солдаты сидели наготове, скрытые во многих местах, но бойни, к счастью, не произошло.
Путиловцы начали было работать, но туда явилась толпа, человек до 500 студентов, и опять взбаламутила пол-завода; между забастовщиками и желавшими работать пошла драка, в которую вынуждены были вмешаться войска, и опять были жертвы. Многострадальный этот завод!
Эти дни много разъезжал но городу на извозчиках и разговаривал с ними. Все, как один человек, против забастовок и против студенчества. Особенно возмущен был один, которого какой-то студент укорял в бесчувственности к общему делу и между прочим сказал, что революция стоила французам 100 000 человек.
— Что же, и у нас, стало быть, хочешь, чтоб легло 100 000? — спросил он его, добавив крепкое словцо и схватив кнут. Студент скрылся. Вообще, кроме заводов, в городах пропаганда их особым успехом не пользовалась.
Этот же извозчик — пожилой уже мужик — насмешил меня.
— Господи! — восклицал он, дергая вожжами. — Чего уж теперь больше нужно: одно слово — слобода! Вот, надысь, стою я на Вознесенском проспекте, вижу, извощик едет. Сидит на седоцкой подушке, а ноги на козлы положил. Что ты, говорю ему, сукин ты сын, делаешь? А городовой тут же стоит и ничего, глядит только.
«Не сукин он, говорит, теперича сын, а гриждинин!»
Сейчас приходил старший дворник с извещением, что назавтра ждут больших беспорядков; ворота домов приказано запереть и всем дворникам никуда не отлучаться от них.
Вместо газет теперь раскидывается и раздается революционный листок «Известия Советов рабочих депутатов»[168].
Электричества нет нигде: опять пришла лафа керосину и стеариновым свечам. «Известия» обещают полную забастовку всего, до магазинов включительно. Даже между докторами собирали подписку о забастовке.
21 октября, 11 часов утра. На улицах усиленное движение, но спокойно. «Правительственный вестник» опровергает сегодня действительно нелепую корреспонденцию, помещенную в «Русских ведомостях»; в ней сказано, между прочим, будто манифестантов шло 300 000; в действительности ни одна толпа краснофлажцев не превышала, пожалуй, и 1000 человек; нельзя же считать за манифестантов народ, теснившийся по всему Невскому! Националистов было и того менее. Неправ и «Правительственный вестник», говоря, что на всем Невском было 40–50 тысяч человек; прибавить ноль позади и будет вернее.
Вести идут самые революционные.
Но никто так дружно не ругает теперь царя, как консерваторы; вот человек! Нелегко приобрести такое расположение и своих и чужих!
18-го числа кучка манифестантов явилась в зал Консерватории и шумно потребовала прекращения спектакля. Произошел переполох, дамы падали в обморок, и спектакль вынуждены были прекратить. Оттуда «закрыватели» двинулись к Мариинскому театру; их встретил полицеймейстер и очень вежливо сказал им, что в театр толпой входить неудобно, так как может произойти паника, а пусть они выберут человек 10 и пошлют их в зал говорить с публикой. Те так и сделали. Надо заметить, что перед началом спектакля публика потребовала гимн и несколько раз повторила его — настроение, стало быть, было повышенное. Не успели депутаты кончить своего предложения, поднялась буря: раздались свистки, крики — вон, долой их! Стоявший ближе всех какой-то офицер принялся бить их ножнами шашки, и целая масса народа кинулась лупить злополучных закрывателей. Из лож летели в них стулья. Избитые депутаты едва нашли выход и исчезли. Весь театр стал требовать исполнения гимна, но музыканты, перепуганные начавшейся дракой, разбежались — кроме семи человек, и Направника[169], сидевшего на своем дирижерском месте. Направник тем не менее нашелся, подал знак поднять занавес и вызвал на сцену спрятанных за кулисами солдат-трубачей, те под его управлением исполнили гимн. Оперу не продолжали за исчезновением оркестра, и публика разъехалась.
6 час. вечера. Николаевский вокзал открыт и работает, электричество действует всюду. Есть вести, что здешний стачечный комитет постановил вчера — стать всем на работы с 12 час. сегодняшнего дня.
Движение по улицам очень большое: точно черные потоки лавы движутся по панелям. Всюду патрулируют усиленные разъезды казаков, конногвардейских полков и жандармов. Везде флаги, знаменующие (по полицейскому приказу) радость населения по случаю и-летнего юбилея восшествия на престол Николая II.
Министры уходят в отставку один за другим; остаются из старых только Ламздорф да Бирилев; первого-то бы следовало фукнуть, как следует. На место преподобных мощей — Победоносцева — в Св. Синод назначен кн. Оболенский[170], бывший генерал от питейных дел. Не по-русски: наш народ из церкви в кабак идет, а этого из кабака в церковь поставили!
10 час. вечера. Сейчас вернулся с Невского; порядок полный, и о каких-либо происшествиях не слышно. Обычной иллюминации нет и следа; только на 1-й Рождественской видел с десяток подвешенных перед домом на проволоке фонариков — вот и вся иллюминация в этой части города. Да и в этой половину задул какой-то проходивший пьяный мужик. Очевидно, домовладельцы опасались битья стекол и т. п. удовольствий в случае появления щитов, вензелей и им подобных обычных украшений.
Слова Крапивина о рубке людей на Конюшенной не подтверждаются: лупка была, а рубки другие не видали. Причина — нежелание толпы разойтись, несмотря на многократные требования.
Один пострадавший там мещанин со злобой говорил: «Свободу личности дали, ну а насчет спины, видно, распоряженья еще не вышло!»
22 октября. Высыпали как грибы все газеты и раскупаются нарасхват. Первые, действительно свободные №№!..
Трепову, принцу Ольденбургскому и им подобным достается жестоко. Есть описание стрельбы на Гороховой и в других местах; напечатаны между прочим и треповские приказы. Все это, конечно, не так страшно: надо помнить, что мы еще не привыкли к свободе, а гг. Треповы не привыкли к узде. Собака на цепи всегда сперва мечется; мечется теперь и предержащая власть в большинстве городов Руси. Это в порядке вещей. «Образуется», как говорят мужики!
В городе как будто ничего не происходило: звонят конки, торгуют, идут и едут люди.
Завтра готовится нечто грандиозное. Во всех газетах помещено извещение, вернее, опубликовано распоряжение разных комитетов, чтобы «тела всех борцов, павших за свободу», к 12 часам дня были доставлены к Казанскому собору, причем каждой части города назначен особого цвета значок; затем вся процессия должна двинуться оттуда по Невскому проспекту на Волково.
Забастовку решили прервать на 3 месяца, т. е., дали срок правительству сдержать обещания и проявить себя. По городу идет запись на получение от рабочего комитета револьверов Браунинга; каждый револьвер, стоящий в магазинах по 22 руб., будет выдан по 10 руб.; цель — вооружить в течение этих трех месяцев всех граждан для возможной революции.
Ходит упорный слух, будто к Петербургу идут английская и германская эскадры, каждая для охраны своих посольств.
23 октября. На улицах расклеены два объявления: одно генерал-губернатора, написанное весьма сдержанно и предваряющее, что похороны в том виде, в каком они предположены, допущены быть не могут. Другое от городской Думы, упрашивающее жителей быть благоразумными во время похорон.
Народа шло гибель; в и часов утра я уже стоял на левом крыле Казанского собора между колоннами и смотрел на площадь. На панелях Невского чернели сплошные стены людей; движение экипажей и конок, тем не менее, продолжалось совершенно свободно. Крылья собора и ступени тоже были полны народа; в сквере стояли и ходили небольшие кучки. В нескольких местах говорили какие-то речи; около фонтана вдруг над толпой взлетели на воздух белые листки, за ними взлетела другая пачка их, затем третья. Их жадно подхватывали, вырывая друг у друга.
По скверу бегало десятков пять уличных мальчишек; сперва они вскидывали вверх красный флаг с увязанным в него камнем, потом вдруг с криком «ура» шарахнулись в сторону; часть толпы из сквера перепугалась и бросилась бежать; я видел очень хорошо, как некоторые из этих же мальчишек обрабатывали карманы соседей.
Войск не было и признака, хотя в толпе и говорили, что окрестные дворы полны ими. На панелях, поодаль, стояла большею частью интеллигентная публика; в сквере и у собора, главным образом, фабричные и простонародье; студенческих фуражек виднелось с десяток, не более.
Стоявшие около меня уверяли, будто одних студентов было убито 60 человек.
Без десяти минут двенадцать внизу к нашему крылу подошла кучка заводских рабочих и громко объявила, что похорон не будет. Я сошел в сквер разузнать причину; никто, даже студенты ничего толком не знали. Одни говорили, что полиция ночью распорядилась похоронами, другие — будто рабочие сами отказались от затеи.
Я сильно промерз и отправился домой; панели Невского и углы улиц были полны публикой, главным образом, зеваками; порядок везде был образцовый.
Вернулся домой и узнал, что во всех газетах было помещено извещение от союза рабочих, что от проектированных похорон они отказываются, и шествия не будет. Удивительная странность: перед уходом я читал «Русь», но этого объявления не заметил; притом это произошло не только со мной, а и с три-четвертью обывателей Петербурга, заполнивших не только Невский, но и все улицы, по которым предположено было везти убитых.
Прочел сегодня о диком назначении; Дурново, этот заведомый палач, попал вдруг в министры внутренних дел!
Он — друг Витте, и Витте многим ему обязан, тем не менее такое назначение более, чем черт знает что!
А обязан ему Витте вот чем: Плеве был на ножах с последним, и наконец, Плеве удалось при помощи шпионов и документов установить несомненные связи Витте с революционной партией. В присутствии Дурново, Плеве имел неосторожность высказать, что песенка Витте спета, и теперь осталось немного: арестовать его и засадить в Петропавловку. Дурново сейчас же сообщил это Витте, а на другой день Плеве был убит. Дурново в качестве товарища министра тотчас же явился на его квартиру, опечатал кабинет с бумагами и «убрал» дело о Витте со всеми документами.
24 октября. «На Шипке все спокойно».
Газеты полны сообщений о кровавой гражданской войне, идущей по всей России. Во многих городах перевес уже за монархистами, кстати сказать, сплошь называемыми теперь «черной сотней». Революционеры хотели смешать их с грязью, дав имя, знаменовавшее не так давно простонародье, подкупленное полицией, но даже такие отчаянные монархисты, как Д. М. Бодиско[171], открыто приняли его.
Москва — шедшая во главе движения — избивает студентов и заподозренную в либерализме интеллигенцию. Некоторые города, не так давно еще требовавшие увода войск и замены их милицией, потребовали войска обратно для охраны от погромов.
Газеты, особенно «Русь», настойчиво требуют удаления Трепова, все упирая на знаменитый приказ его: «патронов не жалеть». Витте выступил его горячим защитником.
В заслугу Трепова ставлю вчерашний день, когда он предупредил грандиозное побоище: на Сенной площади собралась громаднейшая толпа торговцев и простонародья, к которым примкнула часть рабочих с заводов, и хотела идти к Казанскому, разгромить собравшихся туда на похороны «героев». Трепов послал войска, приказав не допускать их, хотя бы силой оружия.
25 октября. На улицах то и дело стали попадаться нищие, полиция не преследует их и вообще из рьяно-ретивой сделалась удивительно безучастной ко всему. Стоит, напр., городовой, перед ним начинается какой-нибудь скандал — он отворачивается и отходит в сторону.
Ларинская гимназия[172] опять забастовала. Мальчишки в ней устроили сходку и постановили требовать исполнения начальством целого ряда пунктов; между прочим, один гласит, чтобы гимназия управлялась не только директором, а и старшинами из гимназистов, начиная с 4-го класса. Занятия гимназисты сами постановили прекратить до января, о чем и уведомили родителей.
Эти «деятели», пишущие слово зеленый через два ять, мнят о себе теперь черт знает что; вообще анархия не только в учебных заведениях, но и в большинстве семей безмерная. Знаю примеры, когда эти, недавно надевшие штаны, революционеры осмеливались в пылу спора заявлять в виде угрозы своим родным — «Погодите, вот придет январь, мы вам покажем себя»!
На январь, как на месяц, в который должна произойти «настоящая» революция, указывают многие.
Я. Г. Мор
26 октября. Прекращены занятия еще в нескольких мужских гимназиях и в нашем Рождественском коммерческом училище[173].
Директор 6 гимназии Мор[174] расставил помощников классных наставников на улицах, ведущих к гимназии (она у Чернышева моста), для того, чтобы возвращать гимназистов с дороги; родителям он разослал довольно неграмотные извещения о том, что в настоящее время он не ручается за безопасность учеников на улицах и потому — находит лучшим временно прекратить занятия. Во многих гимназиях начальство советует учащимся ходить в штатском платье… Этот Мор славен своей глупой выходкой: во время всеобщей забастовки ученики среднеучебных заведений тоже устроили митинг, на который явился и он и громогласно заявил, что он приехал взглянуть, нет ли на митинге кого-нибудь из его гимназистов, и что таковой будет немедленно им исключен. Мальчишки, само собой разумеется, устроили скандал и выставили его вон.
Распространились тревожные слухи, будто Кронштадт весь в огне, и город бомбардируют форты и наши же военные суда. Причина — восстание, но где оно — в городе, или крепости, и кто по ком стреляет — разобрать нельзя.
Собирается забастовать для поддержки москвичей ресторанная прислуга.
Среди чиновников в министерствах большие волнения: ожидается увольнение чуть ли не половины их; это, конечно, несправедливо — следовало бы уволить три четверти!
27 октября. Вчера вечером Н. М. Яковлев передал мне по телефону, что вести о Кронштадте — правда: бунтуют солдаты и матросы, и туда на баржах послали войска. Газеты сегодня поместили ряд телеграмм и статей о Кронштадских событиях: погром там полный.
Петербург взволнован усиленными слухами о готовящемся на завтра еврейско-интеллигент<ск>ом погроме. Газеты твердят, что есть какой-то руководитель и организатор «черных сотен» и кивают на полицию.
Между тем я знаю истинного организатора, вернее, двух таких г. г. Один — автор монархически-патриотических брошюр, генерал Богданович, другой — прибывший из Москвы московский купец, устроитель особых московских черных сотен — Полторацкий[175]. Последний — невысокий человек, очень смиренной и скромной наружности (мать его, по его словам, грузинка) лет 40, с проседью. Впечатление производит скорее послушника, чем мирского человека, речь тихая, вкрадчивая.
Мой дядя — известный консерватор Дм. Мих. Бодиско, многих взглядов которого я не разделяю и с которым тем не менее часто видимся, так как оба не признаем нетерпимости, сообщил мне недавно, что он был на обеде у Богдановича и познакомился с Полторацким. Последний очень его заинтересовал, и они вели долгую беседу.
— Да, — сказал Бодиско: — я монархист, но я против Николая II.
— Плох он, плох… — тихо подтвердил Полторацкий. — А все-таки он царь. Надо его любить!
Разговор коснулся пропаганды Полторацкого.
— Вот-с как я ее веду… — начал своим вкрадчивым, размеренным голосом последний. — Приду на фабрику, на завод, а то и еще где беседование устраиваю. Покажу народу на красный флаг: братцы, говорю, скажите мне, знаете ли вы, что он значит?
Больше все — «нет» отвечают; другие «свобода», мол, «значит». Нет, говорю, не то: кровь он знаменует, кровь он зовет вас лить, братцы, своих же людей. А я к вам с крестом пришел… Вот так поговорю с ними, и знаете ли — сколько слушает человек, так все, всей толпой и крикнут: «За тобой идем! Долой красный флаг!» Сейчас мы подписку отбираем, клятву дают за царя стоять, старшин выберем.
Только мы не насилием, а словом действуем: такое обещание у нас, чтобы кровь не лить, разве уж защищаясь только!
Между прочим, у Полторацкого интересная фраза, что у них организована во дворце охрана, и, что бы ни случилось с царем — наследника они спасут и уберегут.
Сюда, в Питер, Полторацкий приехал с целью вести такую же пропаганду и среди здешних рабочих. В разных местах он устраивал уже митинги, мест и времени их не указывает и, видимо, не хочет, чтоб на них были даже единомышленники из другого круга. Это странно…
Производит он впечатление человека ограниченного, фанатика; я встретил его у Бодиско один раз, не знал даже, кто он, бесед с ним не вел, но мне почему-то показалось, что он должен быть раскольником.
Его девиз — крест, и слово «бить» не из его лексикона; думаю, что приезд его или только совпал с проявлением деятельности настоящей черносотенной сволочи, или же молва придала его пропаганде такой характер.
30 октября. Вчера ездил к себе в Кемере, по Финляндской жел.<езной>. дор.<оге>. Поезд был битком набит до того, что все 3 часа пути пришлось простоять на площадке с 6 пассажирами. Поразило меня обилие еврейских лиц; стал присматриваться — вижу, публика исключительно еврейская; говорить старается намеренно громко и только по-русски; студенчества среди них было изобилие. На каждой станции я выходил, желая узнать, куда именно стремилось это великое переселение, но ни в Перкиярви, ни в Териоках никто не оставался: все стремились в Выборг.
Дело в том, что наша красная печать уже несколько дней как бьет тревогу: все №№ газет выходили со всякого рода воззваниями, предостережениями, указаниями градоначальнику о готовящемся с 29 на 30-е (эка удивительная точность!) еврейско-интеллигентском погроме. По городу ходили самые невероятные слухи, будто еврейские магазины и квартиры отмечаются крестами; к дворникам будто являются неизвестные личности, выспрашивающие о составе жильцов дома и т. д.
Словом, все петербургское еврейство, начиная с четверга, ударилось в бегство, в единственную сторону, где рассчитывало на полную безопасность — в Финляндию, в ближайший город Выборг.
Что там происходило — узнал в тот же день вечером на обратном пути.
Вхожу в почти пустой вагон и вижу в нем опять-таки только несколько евреев; возвращение их в Петербург в ночь, назначенную для избиения, было странно. Я разговорился с ними и узнал причину. Выборг набит приезжими из Петербурга до такой степени, что нет ни №№ в гостиницах, ни угла в частных квартирах: все разобрано; в каждый № набилось по 2, по 3 семьи; вокзал переполнен теми, кому не хватило пристанища, до того, что спали ночь на стульях, на полу и даже просто на корточках, прижавшись спиной к стене. Тем не менее, каждый поезд из Петербурга приносил новые тысячи людей с детьми.
Возвращавшиеся со мной не могли вынести такого ада более суток и решили проскользнуть через Петербург и уехать на несколько дней, пока не успокоится все, в Вильну, где имелись у них родные. Магазины и квартиры бежавшие заперли и оставили пустыми на произвол судьбы. В Лесном паника доходила до того, что люди бросали все, захватив только детей, и бежали, как бы из горящих уже домов, позабыв даже запереть их.
Напрасно я убеждал, что все эти слухи вранье, пущенное какими-нибудь мерзавцами, что в Петербурге ничего подобного произойти пока не может — никто не намеревался даже заехать взглянуть на свою квартиру.
«И Бог с ней, и пусть все пропадет, только бы самим живыми остаться!» отвечали мне.
Прямо эпидемия паник!
Город, когда я ехал на извозчике, был пустынен (в половине двенадцатого ночи); извозчик рассказывал, что дома на Садовой все заколочены; то же и на большинстве окрестных улиц, где много еврейства, «людей как метлой вымело — одни кавалигварды да жандары ездят».
К бунту и разгрому в Кронштадте возница мой, лет ему на вид 35–40, относился очень неодобрительно.
«Ну погуляли день, а потом што? Под расстрел пойдут, да в каторгу на всю жизнь. Нет, это все студенты проклятые натворили!»
— Почему студенты?
«А так — на это их взять, людей смущать! А потом расстрел! Небось с красными-то флагами как ходили — сами не носили их, нашему брату, дураку, в руки совали, ну и носили их, куда хошь, за полтинник да за рупь!»
Высшие учебные заведения закрыты до января месяца.
31 октября. Гучков, один из отказавшихся от министерского кресла[176], сказал, что отказ их вызван тем, что Витте хотел сделать из них ширму, из-за которой намеревался управлять сам.
Всю ночь ездили и ходили патрули; «Русь» сегодня уверяет, будто почти всякое движение в городе к вечеру замерло; в 8 часов вечера я по Суворовскому вышел на Невский, затем поехал к Крапивину на Загородный просп. — народа везде была гибель, пожалуй, даже больше обыкновенного. Магазины и рестораны, правда, позакрывали щитами окна, но торговали. Врут вообще теперь газеты всех лагерей жестоко и беззастенчиво.
Любопытный факт: отец Иоанн Кронштадтский, пользующийся там страшным влиянием, во время разгрома города бежал…
1 ноября. На заводе С.<ан>-Галли произошло кровавое столкновение между забастовщиками и желавшими работать. Говорят, первые пострадали сильно, есть убитые.
2 ноября. В Либаве поймали какого-то несчастного чинуша, подозревавшегося в подстрекательстве к погрому; привели его во двор завода, устроили суд, и этот суд приговорил его к смертной казни, которая и была исполнена тут же выстрелом из револьвера. (Сегодняшний № «Руси»). В том же № «Руси» появилось сообщение от Совета депутатов рабочих, что они требуют отмены смертной казни над матросами Кронштадта и на основании этого, «сознавая свою политическую мощь», все рабочие в Петербурге с 12 ч. сегодняшнего дня забастовывают.
4 ноября. Заводы стоят, железные дороги тоже; из газет вышли только «Правительственный вестник» с новым манифестом о крестьянах и о сложении с них с 1 января 1907 г. выкупных платежей… опять опозданьице!
На Владимирской ул. разгромили окна огромной аптеки, не пожелавшей примкнуть к забастовке.
5 ноября. Возвращался домой в 2 часа ночи; стоял сильнейший туман; улицы казались погруженными во тьму, и только совсем вблизи неясно просвечивали сквозь него высокие электрические фонари. Окна магазинов забиты наглухо. По улицам, словно по громадным, темным ущельям, бродили патрули.
Рассказывали, будто где-то разграбили несколько квартир, но по Садовой, на Невском и на Бассейной, по которым я ехал, была полная тишина.
Э. С. Монвиж-Монтвид, только что вернувшийся из Харькова и Киева, утверждает, что погромы на юге были организованы полицией и властями. Весьма возможно; кому-кому, а им, жившим только произволом, разумеется, новые порядки не ко двору; конечно, без борьбы сдаться старая власть не могла, но все-таки как-то не верится мне в подлинность, например, одесских ужасов[177]. Что-то уж слишком 16-м веком пахнет!
По городу сегодня расклеены воззвания градоначальника, приглашающие давать мирный отпор группам забастовщиков, ходящим по городу, и тотчас же сообщать о появлении их полиции, которой даны надлежащие инструкции: тон уж несколько поднялся!
Забастовка в общем не удалась. Насколько первая была стихийная и дружная — еще небывалая в мире, настолько эта никуда не годная. Бастует, да и то частями, только Петербург; раздражение на эту забастовку чуть не всеобщее.
6 ноября. Часов около 4-х дня конки прекратили движение: на Васильевском острове что-то неспокойно, улицы полны хулиганами и рабочими; конки на окраинах, за Средним проспектом были забросаны камнями.
Возвращавшаяся около 9 часов вечера наша бонна с Литейного моста видела над Васильевским островом громадное зарево. Вечером по всему городу замечался усиленный наплыв фабричных; электричество то действовало, то вдруг все погружалось во тьму; на Невский проспект опять глядел прожектор.
6 ноября. Вчера начали работать некоторые дороги; газет все еще нет.
7 ноября. Вчера беседовал с Ф. К. Геккером (он же Ф. Плетнев — художник, получивший несколько лет тому назад 1-ю премию на выставке «блан и нуар»), только что вернувшимся с родительского совещания из Ларинской гимназии, где учится живущий у него уже 12 лет племянник.
Передаю рассказ его вкратце.
Вопрос, подлежавший обсуждению родителей, был — когда и как возобновить занятия, но его, разумеется, и не обсуждали, а по российскому обыкновению говорили обо всем, кроме главного.
Один из ярко-красных родителей предложил пригласить на совещание и старост; все согласились. Тогда встала какая-то дама и энергично воспротивилась этому, так как находила невозможным делать гимназистов свидетелями неурядицы и хаоса среди самих родителей. Согласились и с ней. Тем не менее, старост вызвали с тем, чтобы только выслушать их и узнать толком, чего хотят они.
Старосты явились — парни лет 16–17.
На предложение высказаться начали держать речи.
В общем, желания г. г. гимназистов таковы:
1) полная свобода в гимназиях;
2) предоставление им права выбирать учителей и устанавливать способ преподавания.
Т. е., в переводе на общепонятный язык, добиваются полного произвола. Что мальчишки воображают, будто они все знают и сами могут учить других — это понятно: такой период переживает каждый из нас; но что между родителями находятся люди, неспособные уразуметь всей нелепости таких требований — это удивительно!
В заключение отличился и директор. На вопрос той же дамы, «что же, будут или не будут заниматься в этом году», он ответил, что «старшие классы разрешили четырем младшим классам начать теперь занятия». Это «разрешили» — превосходно!
О Витте верного ничего не слышно; несомненно, что-то приключилось с ним, но что именно — неизвестно; толков о нем много: говорят даже, будто бы его хотели арестовать и даже был подписан приказ об этом… Во главе дворцовой партии, по слухам, стал новый главнокомандующий питерскими войсками — великий князь Николай Николаевич[178]. Человек он энергичный и настаивает на военной диктатуре; его поддерживают болгарско-российский мазурик гр. Игнатьев, Штюрмер, Стишинский[179] и Ко.<мпания>. Словом, начеку стоит новое министерство, готовое начать поливать Россию кровью.
Великий князь Николай Николаевич
Возникают русские союзы и общества, в общем в большинстве направленные к умиротворению страны. Первой появилась Партия правового порядка и др[180].
Укорял Д. М. Бодиско за манифест «Священного патриотического союза», написанный исключительно для черного народа и содержащий скверную фразу, призывающую охранять самодержавие. Охранять то, чего уже нет с 17 октября — нелепо, а призывать к охранению простой народ — значит призывать к резне.
Оправдывался, что не он писал манифест.
Конки опять работают.
Сейчас узнал, что за Невской заставой очень неспокойно: вчера там дело дошло до стрельбы, есть убитые.
Был сейчас Э. С. Монвиж-Монтвид и рассказывал о вчерашнем собрании редакторов.
Теперь любопытная минута: даже если бы кто-нибудь и желал выходить по-прежнему, с цензурой, — не мог бы этого сделать. Изданий в СПБ. — 250 (кроме газет); из них только 50 прислали своих представителей, да и тех почти половина пребывала в нерешительности и не знала, как быть с цензурным вопросом: махнуть ли рукой на цензуру, или вести дело по-старому.
Решительнее оказались наборщики; союз их прямо заявил, что они освободят всех от цензуры; собрание наборщиков постановило не набирать ничего, что будет иметь цензурную дату; те же типографии, которые не подчинятся, будут ими «сняты» с работы; на случай же артаченья владельцев, решили бороться с ними частными забастовками и на такой случай образовали фонд, куда уже журналы, издатели и пр. внесли около 15 000. Первая война будет с Каспари, издателем «Родины», жаждущим подчинения цензуре; вторая, посерьезнее, с вдовой Маркса, издательницей «Нивы»[181].
9 ноября. Был у А. Я. Острогорской-Малкиной, издательницы журнала «Юный читатель».
Муж ее, присутствовавший в воскресенье на «польском» собрании, рассказывал с негодованием следующее; в числе ораторов выступили и социал-демократы, и один из них заявил, что наша интеллигенция только примазывается к великому делу, произведенному рабочими, что она не при чем в нем, и смысл его наглой речи был — давайте свои двугривенные и убирайтесь вон. Много литераторов; со стариком Анненским даже сделалось от волнения что-то вроде обморока.
Раздражение против новых узурпаторов — самозваного и неведомого никому правительства — растет сильно даже среди либеральнейших кругов. Действительно — наглость его и его агентов начинает становиться чрезмерной!
Взять хотя бы способ печатания его лейб-органа «Известия совета рабочих депутатов». Ночью врывается в типографию (непременно имеющую ротационную машину) толпа вооруженных револьверами темных личностей, арестовывает находящихся в ней, берет самовольно бумагу и приступает к печатанию «Известий», которые затем увозятся на извозчиках. Так были напечатаны номера в «Сыне отечества», «Нашей жизни», «Руси», «Новой жизни» и др. Третьего или четвертого дня очередь дошла до «Нового времени» и там напечатали 7-й номер — и, вероятно — по крайней мере, таким образом — последний, так как «Новое время» опубликовало об этом происшествии.
Оно, конечно, курьезно, что Суворин напечатал 30 000 революционных листков, но, с другой стороны, такое насилие и грабеж непозволительны!
Брат Малкиной, А. Я. Острогорский, директор Тенишевского училища, рассказывал такой курьез. Являются к нему третьеклассники и просят разрешения собраться.
— Да ведь вы уже собралась, — отвечает он, прикинувшись не понимающим, в чем дело.
— Нет, это не то: мы хотим устроить митинг!
— Какой митинг, о чем?
— Поговорить хотим…
— Да о чем?
— О необходимости у нас демократической республики…
А. Я. рассмеялся и прогнал их.
На другой день приходит в класс, и на столе под тетрадью находит лист бумаги, а на нем надпись: «Александр Яковлевич — второй Трепов».
Кстати, о прокламациях.
Встретился на днях с капитаном I ранга Н. Дибичем — владивостокским героем: рассказывал, что экипажи прямо засыпаются этими листками; часть матросов в несомненном брожении, другая, — огромное большинство, — относится индифферентно.
10 ноября. Получил от книжников любопытное сведение о Максиме Горьком; дело в том, что сочинения его, продававшиеся раньше «как хлеб», по выражению торговцев, теперь совершенно не идут.
«Знание», товарищество, основанное им, начинает трещать[182] и над Горьким вот-вот разразится крах.
Это знаменательно! Посмотрим, что скажет тогда этот босяк, вспоенный, вскормленный и за уши вытащенный из грязи интеллигенцией, которую он обливает теперь помоями!
Погода серая, на улицах грязь. Нищенство везде усиленное и наглое. А. Беграмов и Д. Н. Бодиско, шедшие по Невскому пр., были остановлены одним из горьковских типов просьбою о милостыни. «Сегодня я прошу», заявил этот тип, «а завтра я у вас сам возьму!»
15 ноября. В Севастополе взбунтовавшиеся матросы выгнали от себя всех офицеров, но порядок поддерживается образцовый; ночью ходят патрули и забирают… безбилетных и пьяных матросов. Вчера в день рождения Марии Феодоровны устроили молебен, а после него парад, который принимал фельдфебель; словом, все идет, как будто там ничего не произошло.
Это не простой бунт, на него надо взглянуть поглубже!
Много разговоров возбуждает арест фельетониста «Руси» — Шебуева; забрали его и запечатали типографию «Труд» за выпуск и напечатание первого номера «Пулемета», шебуевского сатирического журнала[183]. Особо остроумного или интересного в нем нет ничего, и только на последней странице находится манифест 17-го октября с отпечатком на нем кровавой ладони и подписью: «генерал Трепов руку приложил».
«К сему листу Свиты Его Величества Генерал-Майор Трепов руку приложил». Карикатура из журнала «Пулемет», № 1,1905
Трепов скоро станет чем-то вроде тещи юмористических журналов прежних лет. Пора бы уж и забыть его!
Говорил с офицерами, только что вернувшимися с Дальнего Востока. Настроение армии, по их словам, злобное: солдаты и офицеры возмущены отношением к ним страны и происходящим теперь в ней.
17 ноября. Ходит везде слух, будто вел. князь Борис Владимирович стрелял в Николая и ранил его в плечо.
В Московском гв.<ардейском> полку происходило что-то вроде восстания; говорят об этом глухо, но со всех сторон. Тем не менее, гвардия считается более или менее надежной; лучшие круги общества настроены пессимистически. Причина — двуличие правительства: устраненных по дружному требованию общества разных господ, вроде одесского Нейгардта[184] и ему подобных, опять назначают в другие города губернаторами… Верят в близость диктатуры и даже предполагают провозглашение ее в эту субботу, т. е. послезавтра.
Вести из глубины Руси плохие — всюду сильно растет реакция и самая грубая — холопская.
Забастовал почтамт: злосчастные парии не выдержали-таки гнета этого ломброзовского типа — Дурново! Удивляюсь только изумительному долго терпению их!
18 ноября. Есть слух, что среди гусар и желтых кирасир неспокойно и будто бы в Царское передвигают семеновцев. Уверяют, что в первых двух полках произведено много арестов. Не в связи ли это с делом в. кн. Бориса — гусара?
Слышал повествование генерала Волкова, человека, честность которого, кажется, вне сомнения, о недавно умершем генерале Церпицком[185], герое войны. Повествование удручающее!
Неужели и впрямь нет честных людей на Руси?
В знаменитую китайскую «войну» грабительством занимались все, но особенно выделялись Стессель и Церпицкий, грабившие храмы, частные дома и увезшие целые возы драгоценностей из Китая. Церпицкий, ради выставления себя героем, жег мирные деревни и городки и о таких победах писал яркие реляции…
К. В. Церпицкий
19 ноября. Почтовая забастовка продолжается; она всполошила даже иностранные посольства. За этот год, можно сказать, мы прошли через огонь и воду и медные трубы: испытали, как жилось людям в XV веке в городах без фонарей, как они обходились без продуктов во время осады, видели войну на улицах, наконец, узнали, как жилось без дорог, без почты и телеграфа. Разорение принесла и несет последняя забастовка — страшное. Рента сегодня — 78. Такого курса не бывало и после Цусимы! Дисконт поднят до 8 проц. Золотая валюта висит на волоске. Все, кто имеет малейшую возможность, берут свои деньги и уезжают за границу: за какой-нибудь только месяц переведены туда десятки миллионов (в том числе и великими князьями).
20 ноября. Крестьянское движение растет. Разорение и истребление всего идет бессмысленное и беспощадное; у одного помещика, напр, вырезали весь конский завод, у другого перерезали и бросили в овраг 5000 баранов и т. д. Все бежит в города. Здесь проживающие помещики спешно уезжают в имения разорять их, т. е. продавать все живое и всю движимость, чтоб не совсем даром пропала она.
В министерстве земледелия получаются шифрованные сообщения о движении аграрных беспорядков, и впечатление от них такое: растет девятый вал.
22 ноября. Необыкновенно гнусные, темные дни. Опять начинают поговаривать о новой и близкой «мертвой» забастовке. Предполагается ее будто бы устроить на 6 недель и притом абсолютно всеобщую.
Почтово-телеграфная забастовка продолжается; забастовщики страшно возмущены тем, что у нас в Петербурге выступили добровольцы и разбирают вместо них письма. Любопытнее всего, что между этими добровольцами много студентов.
Доходящие со всех концов Руси вести нерадостны: в Киеве, Воронеже, Батуме — везде начались восстания войск — все это вразброд, все без связи и, конечно, безрезультатно.
23 ноября. Убит в Саратове генерал-адъютант Сахаров, посланный для усмирения аграрщины. Застрелен женщиной, объявившей, что она действовала по приговору социалистов-революционеров.
Положение сильно напряженное… живем точно на пороховом погребе!
И весь сыр-бор горит из-за одного человека, упорно не понимающего положения вещей! Из министров вреднейший — Дурново: все распоряжения, все действия его уничтожают по частям манифест 17 октября. Кой черт может тогда успокоиться и «верить» такому правительству?.. Больше месяца прошло с объявления свободы, и что же? — собрания по-прежнему начинают разгонять, председателей и делегатов арестовывают, высылки из города продолжаются и т. д., и т. д. Общество сильно винит Витте и право: если нельзя сломить дворцовую камарилью, то надо уйти прочь, не тянуть волокиты, чтоб общество ясно увидело, с чем имеет дело и приняло соответственные меры.
Курьез: вдова гофмейстера Софья Петровна Хитрово[186] обратилась к моей жене с просьбой найти лектора и устроить у нее в доме нечто вроде сообщения о происходящих событиях, причем общество будет исключительно, конечно, из высшей аристократии. Причина такого желания та, что аристократические дамы не могут читать теперь газет, так как почти ничего не понимают в них. «Там все такие слова… напр. автономия, эсдеки, эсэры, что это такое?» — нужно объяснить, словом, все жупелы гг. аристократкам. Некоторые из них даже схватились теперь за Добролюбова и спрашивают по знакомым: «Не знаете ли вы, где найти его?..» Такую плебейскую книгу в их домах сыскать, конечно, трудно!
Хитрово, имеющая свой дом на Песочной ул., переехала теперь на Сергиевскую — излюбленную улицу нашего «большого» света. Причина — боязнь близости фабрик и заводов.
На дверях почтамта вывешено объявление, что в услугах посторонних лиц почтамт более не нуждается. Это не значит, что почтовые чиновники вернулись к своим занятиям, а только то, что добровольцев и числившихся «кандидатами» на должности вполне достаточно.
Не вовремя забастовала почта! Примкни она ко всеобщей, прежней — получила бы все. Теперь же еще большой вопрос…
Удивительная разрозненность действий: забастовки, бунты — все это вспыхивает то здесь, то там, или преждевременно, или очень поздно и дает бить себя по частям. Нет Наполеона у нашей революции!
24 ноября. Видел А. И. Воскресенского. Спрашивал его, как обстоят дела у них в Царском Селе и в их гусарском полку. Вытаращил на меня глаза и сказал, что гусары спокойнее, чем кто-либо, и ровно никаких брожений у них не происходило.
И врут же у нас в Питере, могу сказать!
26 ноября. Несмотря на резолюцию почтовой сходки, напечатанной во всех газетах, о продолжении забастовки, она сорвана. Очень многие вернулись на работы, и почта действует.
На помощь бастующим двинулись рабочие и сегодня была на Почтамтской ул. перестрелка: рабочие не пускали ходивших на работу почтальонов; говорят, были убитые.
27 ноября. Пасмурно; такие же и толки кругом.
Газеты сообщают об аресте Совета рабочих депутатов. Сделали это совсем легко и просто… оказалось, что для этого требовалось только немного решительности, которую и проявил Дурново.
Общее недоумение и раздражение вызывает высочайшая благодарность, объявленная казачьим полкам за их верную службу против «внутренних» врагов. Это вызов; очевидно, близок последний бой с самодержавием. Впрочем, со дня смерти Александра III нет самодержца на Руси, а есть только самодержавные министры.
На сегодня всюду назначены собрания и совещания.
28 ноября. Нечто об о. Гапоне. С. П. Хитрово, попечительница какого-то приюта, рассказала мне следующее. Г. Гапон получил место в их приюте, причем ни нравственностью, ни воспитанностью не отличался. Любил покутить и несколько раз каким-то образом ухитрился попадать в спальню к девушкам. Однажды встретил на улице какую-то из них (воспитанницу приюта) и отправился с ней в меблированные комнаты. Об этом узнали и предложили ему оставить приют.
Г. Гапон, кончив служить свою последнюю обедню в нем, вышел с крестом на амвон и произнес очень резкую речь, в которой предлагал девушкам не слушаться начальства, не желающего им добра и т. д. Закончил речь еще более странным возгласом: «А кто любит меня, иди за мной!»
В тот же вечер девушка, бывшая с ним в меблированных комнатах, пропала. Впоследствии она приходила в приют в весьма жалком виде, беременная и брошенная Гапоном[187].
Дальше: С. П. Хитрово уверяла, будто 9 января Гапон в толпе рабочих не был — были переодетые в рясы студенты — а сидел он в Вольно-экономическом обществе, ожидая прихода депутаций, с тем, чтобы идти во дворец «за министерским креслом».
С. П. Хитрово — дама, во многом очень осведомленная и наблюдательная — высказывала предположение, что Гапон, по всей вероятности, незаконный сын митрополита Антония; он выделывал такие штуки, какие другому не сошли бы с рук. Между прочим, Гапон за нетрезво-развратное поведение отсиживал в черной келье — заменяющей тюрьму у духовенства, но выпущен был очень скоро, далеко не отсидев присужденного срока.
Газеты сегодня вышли только частью. У газетчиков есть лишь «Новое время», «Слово» и «П.<етербургский> листок».
29 ноября. Слышал от офицера военного телеграфа, как произошла в действительности история в электротехнической роте, перевранная газетами.
Электротехники поставлены так, как не снилось солдатам даже гвардейских полков, и потому петиция, поданная ими командиру об улучшении пищи и т. п., являлась простым результатом пропаганды.
1) Солдаты-электротехники свободны после служебных часов, и им не препятствовали заниматься частными работами, что давало им солидный заработок.
2) За работы во время забастовок солдаты получали по 2 руб. в день (по освещению города), унтера от 4 до 6, а офицеры по 14 руб.
3) Деньги эти, якобы задержанные их командиром (по словам их петиции), в действительности не были еще даже получены им от градоначальника.
4) Солдаты являются в этой роте, в сущности говоря, бесплатными учениками, по выходе из которой сейчас же получают прекрасные места по 60–100 и более рублей.
Вот такие-то молодцы (220 из 270) подали командиру, под влиянием агитатора-механика, заявление, в котором требовали исполнения в определенный срок всех пунктов (точно их не помню).
Командир обещал ответить, ушел и дал знать по начальству и градоначальнику.
В 5 ч. вечера (а не ночью), когда было уже темно, во двор бесшумно вошел батальон Павловского полка; с ним явился и сам командир полка несколько в нетрезвом виде и приказал командиру бунтовщиков «обезоружить» их.
Тот приказал вызвать к себе роту наверх, якобы для ответа, и когда те явились — нижние помещения, где стояли ружья, были заперты дневальными, поставленными из числа верных людей.
Наверху он заявил, что переговорит с ними на более просторном месте — во дворе. Ничего не подозревавшие бунтовщики стали сбегать с лестницы и попадали прямо в объятия павловцев.
Когда вся рота была окружена и арестована, ей выкинули матрасы и шинели и повели в Петропавловскую крепость, где и разместили в маленьком манеже.
С почтовой забастовкой неразбериха: газеты твердят, что она продолжается, между тем письма весь Петербург получает исправно.
30 ноября. От П. М. Кошкина, члена совета министра внутренних дел, слышал подтверждение разсказа Хитрово о Гапоне.
Гапон, как и Зубатов[188], оказывается, тоже получал содержание из Министерства внутренних дел и является никем иным, как провокатором.
1 декабря. Государь, здоров и весел. «Цветет», по выражению видевших его лиц. Толки о стрельбе в него и ране, тем не менее, держатся.
2 декабря. После полудня сегодня у газетчиков конфисковано 7 газет: в них помещен «Манифест» Совета рабочих депутатов, социал-демократов и т. д. Манифест предписывает бойкот государственных бумаг, бумажных денег, обратное истребование вкладов и т. п.
На Невском проспекте буквально нет прохода от всякого возраста субъектов, выкрикивающих и предлагающих каждый день все новые и новые юмористические журналы и газеты. Плодятся, как грибы, теперь!
Обложка петербургского сатирического журнала «Ворон» (1906)
4 декабря. Левых газет в продаже нет до сих пор. Вчера в редакции «Руси» мне сказали, что она выйдет на днях под другим именем; так же поступят и остальные 6 газет.
В ночь на сегодня произведено много арестов.
У газетчиков полиция отбирала разные юмористические журналы.
5 декабря. На улицах расклеены правительственные афиши, предупреждающие, что лиц, подстрекающих к забастовке, будут штрафовать на 500 р., или сажать в тюрьму на 3 месяца.
Газета «Русь» вышла под именем «Молвы»: прочел в ней правительственное сообщение, взваливающее вину за все происходящее только на крайние партии.
Цель этих сообщений — еще более разъединить общество, и в этом отношении Дурново ведет политику умело!
Огромная масса общества уже струсила и под влиянием забастовок и рабочих манифестов пошла на попятный; то и дело слышишь всюду нападки на революцию, уже именуемую «безобразием».
Да, свобода нам действительно еще «не к рылу», как выразился один мой приятель!
Слышал сегодня толки, будто Семеновского полка офицеры, «запретившие» недавно «Руси» писать что-либо о них, явились третьего дня в редакцию этой газеты и перепороли розгами всех, начиная с Алексея Суворина. Кто только пускает такие утки?
7 декабря. С часа на час ждем новой всеобщей политической забастовки. Финансовое положение многих ужасное; рента, хотя биржевые бюллетени, составляемые казенными маклерами, показывают ее в 79–80 р., на самом деле уступается по 60. Банки дают под заклад ее только по 25 р. Разорение будет полное, но лучше пройти и через него, только поскорей был бы какой-нибудь конец!
От Л. В. Крапивина слышал нерадостные рассказы. Это отставной штабс-капитан, отказавшийся стрелять по толпе и самовольно бросивший полк, и за это попавший под суд.
Теперь он бедствует, живет в углах с рабочими на Шлиссельбургском тракте и постоянно вращается в их кругу.
Настроение среди рабочих, несмотря на все уверения газет — плохое; «жрать нечего» — это выражение Л. Крапивина я слышал не раз и от других лиц.
А тут еще праздники на носу, и всякий думает о лишнем гроше. Вдобавок, начинается возмущение против своих депутатов: вышла какая-то темная история с деньгами, которые собирались с рабочих в видах самопомощи.
Правительство играет в пятнашки: каждый день ловят и отбирают то № газет, то еженедельных журналов; вместо них появляются десятки новых, опять с остервенением накидывающихся на ловителей и т. д. без конца.
8 декабря. Объявлен бой: в 12 ч. дня назначена всеобщая забастовка. Лавки полны покупателями. Ночью арестован в типографии номер 3 «Северного голоса». «Молва» («Русь»), «Набат» («Русская газета»), «Наши дни» («Сын отечества») — полны резолюциями разных обществ и комитетов и так вызывающи, что наверное конфискуют и их.
Оружие (револьверы) припасено в каждой семье, но оно хорошо только против хулиганщины.
Полчаса седьмого вечера. Электричество у нас на Песках горит; в частных квартирах на Невском потухло в 3 ч. дня.
У газетчиков отобраны все юмористические журналы. Правительство круто повернуло на путь Плеве.
Из Кронштадта, для работ на электрических станциях, привезли минеров; на Морской, тем не менее, темнота.
Рисунок из сатирического журнала «Девятый вал» (Петербург, 1906)
10 декабря. На вокзалах везде войска. Вчера ездил вечером в Царское Село и вернулся около 2 ч. ночи. У всех дверей внутри вокзала стояли часовые-семеновцы. Электричество на улицах всюду работало исправно. На Загородном проспекте обогнал низкий, длинный фургон с вентиляторами на крыше и маленькой решеткой в верхней части двери, везший арестованных. Четверка добрых вороных коней довольно быстро везла этот странный экипаж плевенского изобретения, обращавший на себя внимание прохожих.
В городе вакханалия арестов. Из газет вышли только «Новое время» и «Свет». Двор типографии первой полон «охраняющими» казаками. На Васильевском острове вчера были кровавые столкновения рабочих с казаками и полицией, но в городе спокойно, и жизнь идет обычной чередой. Настроение у думающих людей смутное, подавленное: успех забастовки висит на волоске…
Москва бастует дружно и сильно; к ней примыкают другие города, и только у нас дело не клеится. Союзы разных профессий заседают усиленно, но надежда на хороший исход плохая: слишком безучастно у нас большинство!
Сегодня на Аничковом мосту несколько подростков продавали газеты и выкрикивали: «Новая финансово-политическая газета — Виттова пляска! Витте пляшет, Трепов барабанит! Витте пляшет, Трепов барабанит!»
Публика улыбалась и раскупала листки.
Забастовали гимназисты; сегодня кучки их ходили и закрывали женские гимназии. Союз учителей тоже постановил прекратить занятия.
11 декабря. Из Москвы доходят ужасные вести: там баррикады и форменная война с пальбой из орудий включительно. Это безнадежно! Вооруженное восстание одной толпы, без войск, немыслимо! Теперь не XVIII век; перед современными орудиями всякие баррикады пустая мечта!
Наша питерская забастовка ползет врозь: бастуют только рабочие на заводах кругом города, в городе же жизнь идет нормальной чередой.
На Митрофаньевском кладбище сегодня хоронили убитого молодого рабочего; толпа в несколько тысяч человек провожала его. Кладбище было полно войсками и полицией.
Как тревожно население окраин, показывает следующее: жена, ездившая на могилу матери, купила для посадки несколько елок; понес их сын хозяина ларька, где продаются венки. Парень разсказал жене, что они открыли один из склепов, снесли туда самовар, углей и кое-что из вещей и при первой тревоге всей семьей хоронятся туда. Уверял, кроме того, будто бы на кладбище рабочим доставили несколько возов оружия.
12 декабря. Нужда среди рабочих ужасная; многие семьи голодают, и, продлись еще забастовка — между самими же рабочими может вспыхнуть резня, так как бастовать желает только значительное меньшинство.
В газетах было помещено много писем от желающих на время забастовки кормить у себя на дому детей рабочих, но на эти призывы отклика нет. Во-первых, неудобно посылать детей за десяток верст, а во-вторых, рабочие не хотят этого из гордости.
Архангельская, одна из заведывающих столовой для бедного люда около Смольного, передавала тяжелые наблюдения; к ним в столовую приходит много изголодавшихся людей, главным образом, детей и женщин. Рабочие не могли бы, даже если б хотели, посылать в город своих ребят, так как не во что одеться, и рваные одежонки надеваются детьми по очереди.
Василеостровский бесплатный питательный пункт (фотография из журнала «Нива», декабрь 1905 г.)
Все взгляды забастовщиков устремлены были на Николаевскую жел. дор. — забастуй она, и весь город стал бы! Но она примкнуть отказалась: все главари и деятели прошлой забастовки схвачены и арестованы, и руководителей нет у нее.
Аресты продолжаются без конца.
По случаю объявленной 17 октября «свободы» все собрания разгоняются; разогнано было даже такое, как «Женского взаимного благотворительного общества», где бывают только женщины и совещаются об устройстве школ, чтений и народных столовых.
В позапрошлую субботу арестовано на митинге около 200 чел. боевой организации; бездействие Петербурга понятно…
Газет, кроме «Нового времени», по-прежнему нет. Это большая ошибка. Точно нарочно предоставили монополию суворинщине распространять свои идеи возможно шире! Поневоле теперь все покупают эту газету, чтоб узнать, что творится кругом.
Сейчас слышал подтверждение рассказа (вчерашнего) об убийстве на Шлиссельбургском тракте околоточного надзирателя.
Группа рабочих, человек около 300, собралась около одного дома слушать оратора. В это время явились казаки и околодочный надзиратель и арестовали говорившего; когда его увели, показался другой околодочный — очень нелюбимый в тех краях. Толпа бросилась на него; он побежал и вскочил на проходившую мимо конку; рабочие, выламывая на бегу колья из палисадов, помчались за конкой. Бывшие впереди, услыхав крики: «Держи конку», остановили ее, — опустив шлагбаум; рабочие ворвались в вагон, выволокли отстреливавшегося из револьвера околоточного на тротуар и измолотили его насмерть. Остервенение было так велико, что даже стенка вагона разнесена ими вдребезги. Дикая расправа эта происходила в нескольких саженях от окон квартиры Новиковых, видевших и сообщивших мне о ней.
13 декабря. Вчера на окраинах происходили мелкие стычки рабочих с войсками, есть убитые и раненые.
Из Москвы идут странные сведения. Там целый корпус войск и вот уже сколько дней не может одолеть восставших — очевидно, правительственные сообщения не точны, как всегда. Второе: в «битвах» принимают участие только казаки, драгуны и артиллерия — про пехоту не упоминается. А между тем в ней перед самым восстанием были бунты. Где же, на чьей стороне теперь она?
Вечером вышел № «Молвы».
14 декабря. Аресты без конца. Полиция запечатала 38 типографий. В Москву сегодня уходит экстренно вызванный Семеновский полк: стало быть, положение войск там не из блестящих. Бой на улицах Москвы продолжается.
В центре Петербурга спокойно, но с окраин идут тревожные вести. На Выборгской стороне, напр., казачьи разъезды стреляют даже по небольшим группам людей, совершенно к движению непричастных. Были убитые и раненые.
Внимание всех приковано к Москве; у нас ждут беспорядков 9 января, на день годовщины массовых убийств. В 9 января не верю: если ждать чего — то лишь весною! С юга к нам идет чума, на борьбу с которой мудрое правительство наше назначило 9000 р., тогда как разные гг. Дурново на «подъем» с одного места на другое получают по 40 000. Чуть не во всех губерниях надо ждать голода; промышленность остановилась и частью прекратилась совсем.
Положение рабочих отчаянное. Немногим лучше у других — не чиновников. Журналы, напр., сотрудникам уже не платят, так как подписчиков нет абсолютно. Даже такой ходкий прежде журнал, как «Мир Божий»[189], до сих пор не имеет ни одного. Под заклад вещей ломбарды дают гроши — менее половины того, что давали за те вещи раньше. Продавать что-либо — немыслимо, так как предложений много, а желаний купить нет совершенно.
Городской питательный пункт для безработных и увечных на Обводном канале (фотография из журнала «Нива», декабрь 1905 г.)
16 декабря. Москва воюет и расстреливается артиллерией. Адмирал Дубасов[190], генерал-губернатор ее, способен всех мирных москвичей превратить в боевиков-революционеров: пушками разбивают дома, откуда был хотя бы один выстрел и где живут сотни неповинных людей; жарят шрапнелью по всякой толпе без разбора, открывают ружейную стрельбу по кучкам в 3 человека, по глядящим в окна женщинам и т. д.
В центре Питера тихо и ожидать чего-либо скоро нельзя. Аресты продолжаются.
На окраинах, особенно по Шлиссельбургскому тракту, голод; среди рабочих раскол, так как большинство хочет стать на работы; вожаки все арестованы.
Телеграммы изо всех городов приносят вести о бесконечных арестах. Хватают всякого, зря, по-старому — до выяснения причин.
25 декабря. Революция подавлена… пока что, конечно! Пишу эти строки в Кемере. Из Петербурга и со всей Руси вести прежние, темные: повальные обыски, аресты и даже расстрелы.
Дурново и к-о<мпания> торжествует.
Разумеется, ни одно государство не потерпело бы ни баррикад на улицах, ни «манифестов» вроде выпущенного рабочими, но ни одно государство и не истребляло бы так бессмысленно-жестоко людей, как у нас, и не надругивалось бы со своей стороны над своими же законами.
У меня в Кемере скрывается в настоящее время один из членов первого Совета рабочих депутатов — рабочий Семянниковского завода Н. Ф. Климчинский. Он был изрублен 6 ноября казаками; по выходе из больницы Э. К. Пименова (писательница) направила его ко мне.
Это огромного роста человек, лет около 30, из крестьян Могилевской губернии, брюнет. Лицо умное, с глубокой складкой между бровей. На коротко остриженной голове у него краснеют три больших еще свежих рубца; кроме этих трех ран, у него было прикладами сломано 2 ребра, и перенести такое избиение могла только подобная железная натура; раньше он подымал 18 пудов.
Среди боевой организации зародилась мысль овладеть Кронштадтом.
Сперва у нас опаздывало во всем правительство, теперь начинает опаздывать революция!
31 декабря. Реакция торжествует по всей Руси.
Петербург готовится к выборам в Государственную Думу.
Наступающий год встречаем мрачными глазами. Много еще должно пролиться крови и разориться людей, прежде чем настоящий мир воцарится на русской земле!
1906 год
28 марта. Три месяца не прикасался к этой книге. Чуть не повальные обыски и бесконечные аресты, идущие и посейчас в Петербурге, заставили меня увезти ее в Кемере и хранить там, подальше от жандармских рук.
Несмотря на все ухищрения Дурново и Витте, несмотря на аресты, запрещения собраний, расстрелы, провокацию и всяческие приемы такого рода — одолела конституционно-демократическая партия: в Питере в выборщики прошли только ее кандидаты и почти во всех городах тоже[191]. Успех неожиданный!
В день выборов в Питере было очень оживленно: у Соляного городка, куда направился и я, как житель Рождественской части, с 9 ч.<асов> утра толпа. Распорядители были столь умны, что для входа и выхода многотысячной толпы предоставили только одну дверь, так что давка происходила, как на пожаре — одна волна втискивалась в здание, другая опрокидывала ее.
Я пришел к десяти часам. У входа раздавали разные черносотенные воззвания и глашения голосовать за Партию правового порядка; — раздатчики левых партий, даже кадеты допущены не были, и воззвания последних отбирались и уничтожались полицией.
Огромный сарай, предоставленный для выборов, имел вид собачьей выставки, где у стен, за черными решетками, как в клетках, сидели за столами приемщики. Над каждым столом возвышалась палка с буквами алфавита и №№, по которым должны были разделяться податели голосов. В загонах сидело по три приемщика; один принимал повестку и опускал ее в «урну», имевшую вид огромного почтового ящика, густо вымазанного сажей; сидевший посредине отмечал в книге фамилию. Я подал голос за «кадетов», перед самыми выборами переименовавших свою партию более понятным для массы образом — в Партию народной свободы.
Оправдает ли она наши ожидания??..
Несмотря на драконовые меры не только против редакторов сатирических изданий, но даже и против типографий, печатавших их, — число последних дошло до безумной цифры: с 17 октября вышло более шестидесяти названий. Их конфискуют, жгут, режут, а они растут себе, как ни в чем не бывало.
4 апреля. Ждали к Пасхе амнистии политическим заключенным, число которых, по официальным сведениям, свыше 70 тысяч, и ничего не дождались. В насмешку говорили, что амнистия будет дана только устроителям погромов!
На смену нам идет совсем другое поколение. Кто из нас в детстве имел понятие о забастовках, политических ссылках и т. п.? Теперь дети, даже у родителей, намеренно скрывающих от них все творящееся на Руси, — играют в забастовки, в митинги, с жадностью хватают газеты, так бесконечно скучными казавшиеся нам в 10–12 лет. напр., девочки в нашем коммерческом училище играют в митинги, и когда старшие являются угомонять возню, то пресерьезно отвечают, «как же быть — мы играем в митинг, надо же нас разгонять!»
Грошовые социальные брошюры идут нарасхват и покупаются, главным образом, подростками и рабочими. Кто в наше время в 12–13 лет променял бы Жюля Верна на Маркса и Майн-Рида на Бебеля?!
20 апреля. Напряженно ждем Думу. А пока что — лупят нас нагайками, разгоняют даже самые невинные собрания и усиленно обыскивают. Такой свободы давненько, со времен Грозного, не было еще на Руси!
Жена недавно была на одном из обычных, исключительно дамских, так называемых «воскресных» собраниях общества попечения о молодых девицах. Никакой политики это общество не касается; тем не менее, к ним пожаловал некий чин с оранжевыми кантами и весьма развязно уселся среди дам слушать их разговоры; возмущенные дамы отомстили ему тем, что сейчас же очистили места близ него, а хозяйка дома — (собрания эти происходят поочередно у дам-патронесс на квартирах) приказала обнести его чаем. Чин, однако, этим не смутился: кожа на них высокой выделки!
21 апреля. Пропаганда среди войск идет усиленная. Социал-демократы издают специальную газету для них «Казарму»[192], конечно, нелегальную. От членов военной организации их слышал, что Кронштадт настолько опять подготовлен к восстанию, что боятся, как бы не вспыхнуло оно у них преждевременно. Из питерских войск очень надеются на преображенцев, за исключением какой-то одной, кажется, царской роты, и на Петропавловский гарнизон. В Царском, Гатчине и др. окрестностях солдаты начинают устраивать митинги и, видимо, пробуждаются… Предание свежо…
Много говорят и пишут в газетах все эти дни о пресловутом Гапоне. Окончательно выяснилось, что за гусь и какую скверную, хотя все же еще загадочную, роль играл он в деле 9 января. Он действовал на два фронта и увлекался и там и тут.
26 апреля. Опубликованы «основные законы», — вернее, последние судороги самодержавия. Кем надо быть, чтобы придумывать и издавать новые законы чуть не за день перед Думой?..
На этих днях ушли в отставку Витте и Дурново, а с ними и прочие министры. Дурново в награду за труды получил 200 000 р.
По Питеру ездят и ходят войска, как перед генеральным сражением; вокзалы переполнены солдатами и жандармами; обыскивают пассажиров без стеснений, и на днях обыскали даже нескольких депутатов.
27 апреля. Вот и великий, долгожданный день! На улицах флаги, но праздничного оживления не заметно. Фабрики все работают. На углах улиц белеют плакаты, объявления нашего остроумного градоначальника, распорядившегося прекратить движение по двум мостам через Неву.
Вышел на Невский; народа даже меньше, чем в обыкновенные будни. Только на углах Морской, да под аркой штаба толпились небольшие кучки любопытных; ни к Александровскому саду, ни на Дворцовую площадь, ни по Мойке не пропускали никого. Постоял несколько минут под аркой, посмотрел на красную и белую линии казаков и кавалергардов, выстроенных перед дворцом, и пошел обратно. Во дворце происходил в это время прием Думы.
Депутаты I Государственной Думы у Зимнего дворца 27 апреля 1906 г.
6 ч. вечера. К 4 ч. члены Думы съехались в Таврический дворец. Войск и полиции нагнано было к нему вдвое больше, чем публики; толпа стояла все же весьма порядочная; преобладало студенчество, курсистки и интеллигенция. Чувствовали себя все чрезвычайно свободно и вскоре начали задирать войска: раздались свистки, крики «долой» и «прочь», словом, начался было скандал, и только появление обер-полицеймейстера, обещавшего удалить войска, успокоило толпу. Войска, действительно, сейчас же ушли, и публика взялась под руки, устроила цепи и успокоилась. Какой-то министр хотел подъехать к самому дворцу в карете; раздался вой, лошадей ухватили под уздцы и заставили его высадиться и шествовать пешим манером. Члены Думы пробирались гуськом, кланялись, жали тянувшиеся к ним руки; их встречали и провожали аплодисментами и криками: «Амнистию, амнистию!» Более всех оваций выпало на долю Родичева[193].
Речь Николая II к депутатам I Государственной Думы в Георгиевском зале Зимнего дворца 27 апреля 1906 г.
10 ч. вечера. От бывших на приеме во дворце слышал, что государь тронную речь свою, состоящую всего из трех-четырех фраз, читал по бумажке; Мария Федоровна выглядела презлющей, молодая императрица сидела вся пунцовая, и обе, не досидев до конца, удалились. Богатая, хотя не подновленная и грязная, обстановка особого впечатления на депутатов-крестьян не произвела. Вообще все выборные были очень сдержанны и скорее угрюмы: значит, чувствуют, какая ответственность перед избирателями лежит на них! Один крестьянин глядел, глядел на раззолоченный мундир какого-то придворного и сказал вполголоса: «ежели б с одного его зада золото снять — две деревни цельный год прокормить хватило бы!»
30 апреля. Об амнистии по-прежнему ни слуху, ни духу. Дума собирается, газета членами ее издается, но ни о каких решительных шагах не слышно…
К 1 мая заготовляют войск больше, чем их действовало в Ляояне у Куропаткина. На войне пулеметы у нас отсутствовали, а теперь чуть ли не на каждого жителя по такой штучке найдется! На Троицкий мост и набережную Петерб. стороны наведены со стены Петропавловки два вновь взвезенных орудия. Отечески пекутся у нас о спокойствии народа!
Б. Кустодиев. Первомайская демонстрация у Путиловского завода (1906)
2 мая. Первое мая прошло мирно; заводы, конечно, не работали; в городе процессий не было, и только огромная толпа рабочих в красных рубахах и с красными флагами прошла из-за Невской заставы на Преображенское кладбище, к могилам жертв 9 января.
Ухлопали командира Петербургского порта, сильно жавшего рабочих и вообще слишком геройствовавшего среди подчиненных; убито и несколько рабочих, главарей черносотенцев, свирепствовавших на Семянниковском заводе.
Слухи о смерти Гапона подтвердились: тело его нашли на пустой даче в Озерках; он висел на веревке, и вскрытие показало, что он был повешен живой; тело его сильно разложилось, но лицо можно узнать, и факт установлен окончательно… Кто убийцы — неизвестно, хотя в газетах помещено было заявление боевой организации о том, что Гапон приговорен ею к смерти, и что приговор приведен в исполнение[194]. Заявлению этому почти никто но поверил, и считали его простой мистификацией. Вот и новая интересная тема для газетного романа!
Дума еще заседает, только надолго ли? Дворцовая камарилья уже точит на нее зубы.
Заседание Государственной Думы
5 июня. Понемногу ухлопывают на окраинах черносотенцев. Опять берет верх революционная партия, задавленная было арестами. На заводах происходят курьезы. На Семянниковском, напр., черносотенцы доведены до такого перепуга, что по малейшему окрику приносят свои значки — «истинно русских» людей и револьверы — по большей части скверные. Любопытно, что на квартирах двух убитых — Лаврова и Снесарева — главарей черносотенцев и страшилищ целых районов — рабочими обнаружены склады награбленных ими кошельков, часов, шапок и т. п. У одного напр., — у Лаврова, отыскано было 40 кошельков, 17 часов, 25 шапок. Эти франты со своими шайками с начала репрессий занимались везде на окраинах, под видом обысков, грабежом прохожих. Управы на них, кроме самосуда, никакой не было.
Настроение в общем, как перед грозой — душно, дышать хочется!
7 июня. Беседовал со многими издателями и вот неожиданное сообщение их: книжный рынок пресытился, словно захлебнулся тем страшным количеством книг и брошюр, что выбрасывается на него теперь ежедневно. Перестали даже идти разные социальные брошюры — еще так недавно нарасхват разбиравшиеся публикой. Мы пережили период книжной вакханалии: печать вырвалась из проклятых лап цензуры и закрутилась, как дервиш в пляске. Одно время книги, особенно брошюры, шли поразительно бойко; теперь «стали» и они. Казалось бы, при таком спросе, издательства и бумажные фабрики должны бы были процветать, между тем явление получилось обратное: все жалуются на упадок дел — даже газеты, поглотившие теперь все внимание публики. Причина проста: фабрики в большинстве случаев отпускают бумагу в кредит, иначе они стали бы совсем, так как наличных денег теперь сильно поубавилось на Руси; издательства берут в кредит и печатают; но продать теперь можно только что-либо очень резкое, и книги по выходе в свет весьма скоро конфискуются полицией. Результаты ясны. Газеты, несмотря на страшный спрос на них, в железных тисках и держатся только продажею в розницу в С.-Пб. Дальше их не выпускают: конфискуют или в почтамте, или же целыми тюками на местах получений. Даже дела такой распространенной газеты, как «Наша жизнь», висят на волоске; юмористические журналы поумирали уже почти все, а с 17 октября выпрыгнуло их в свет около 80.
Приезжающие из провинций рассказывают об особом роде нищенства, распространившемся на Руси: на станциях бабы, подростки и мужики выпрашивают у проезжих «газетку»… И это у нас, на России! Основательно же пробудил нас японский приклад!
20 июня. Беседовал с Д. М. Бодиско, только что вернувшимся из своей Тульской губернии. Он, еще недавно уверявший меня в глубоком монархизме крестьян, рассказывал, и не без горечи, что слово «царь» теперь мертвый звук для народа. Мертвый потому, что народ раньше рассчитывал, что царь и никто другой даст ему землю, теперь же все упования свои перенес на Думу. Потрунил я над ним. Царь-то у нас совсем как некрасовский барин, которого «все нету», который «все не едет!»
1907 год
30 мая. Кемере. В Петербурге открыли опять все игорные дома, в изобилии высыпавшие за последний год. Градоначальник было закрыл их, но сердце не камень и против предложенных 100 000 не устояло. Один Купеческий клуб за право сохранения азартных игр заплатил 20 000.
4 июня. Вторая Дума распущена[195].
Известие об этом привезла в Кемере К. Н. Новикова. Колония наша всполошилась. Питер равнодушен; если б не разъезды жандармов и казаков на улицах — и подумать нельзя было бы, что случилось нечто незаурядное.
8 июня. В Питере аресты и обыски без конца. Волнуется и бурлит молодежь, а громадное, подавляющее большинство взрослых людей, «публика» — почти равнодушно. Кто устал от политики, кому наплевать на все, кроме загородных садов и кабаков.
В. Л. Бурцев
18 июня. Вчера приезжал и сегодня уехал В. Л. Бурцев[196] — один из редакторов «Былого».
Немного выше среднего роста, худощавый, с несколько остроконечною головою, покрытой вихрами седоватых волос, человек этот находится в вечном младенчестве: идеалист, доверчивый, наивный, он производит на незнающего человека несколько странное впечатление. Встречался я с ним несколько раз в редакции «Былого»; человек он искренний и простой.
В этом году он заработал около 12 000 рублей и много отдал на дело революции, но еще больше разобрали у него приятели, т. к счета деньгам он сам вести не умеет. Ходит всегда неряхой и имеет вид человека, не успевшего вымыться; сегодня с увлечением занимался рыбною ловлей, причем стоял на мостках на солнцепеке без шапки и в сюртуке, без воротничка и манжет. Рассказывал об идее устроить музей революции, и что многие уже деятельно собирают материалы для него; рылись мы с ним и в моей библиотеке.
25 июня. Прибегал Бурцев — приехал погостить к Яковлевым (Богучарским). Страшно увлекается рыбной ловлей, сидит целыми часами на мостках и удит каких-то злополучных окуньков. Червей у них на участке нет и он прибежал ко мне за червями, ползал на коленях, в вечном своем сюртуке, по навозу и ковырял в нем палкой, уверяя, что предложенный мною для этой цели нож — не поэтичен.
Насмешил он нас с Яковлевым: последний — страстный охотник и возился при нем с ружьем; Бурцев и говорит: — послушайте, уберите эту штуку — я, как истинный террорист, весьма боюсь ее!
В этом шутливом замечании сказался весь Бурцев. Чем больше присматриваюсь к нему, тем прочнее убеждаюсь, что это настоящее, хотя и седеющее уже, дитя.
Между прочим: у него не хватило червей для ловли и он на крючок стал насаживать кусочки копченой колбасы; я ему советовал для успеха нацепить на другой крючок рюмку водки; сумасшедших окуней, к большому его сожалению, в нашем озере так и не оказалось.
Териоки. Вид вокзала в 1900-х гг.
10 июля. Вчера ездил в Петербург. Народу, по обыкновению, в поезде была гибель. Териоки теперь в некотором роде черта оседлости разных приговоренных к крепости редакторов, издателей и т. и.
На вокзале видел Бурцева, присяжного поверенного Маргулиеса[197] и др. Последний, чтоб пройти в Думу, вздумал создать новую партию, «радикальную».
Присутствовал раз и я на собрании этой партии, послушал разных «товарищей» и ораторов и написал об этих карикатурах в «Руси». Единственный настоящий говорун в этой «партии» был Маргулиес; говорит он хорошо, но особого впечатления произвести не может: глубины нет. Затея его, конечно, лопнула, и в последнее время, когда он являлся на какое-нибудь собрание, его приветствовали: — «А, вот и вся радикальная партия пришла!»
Вчера же был очевидцем грабежа, или, как принято теперь выражаться по-модному, — экспроприации.
Иду днем домой — по Суворовскому проспекту и вдруг слышу на 7-ой Рождественской сухие удары молотков по доске, затем крики: вижу, народ бежит к углу со всех сторон. Поспешил и я и увидал, что по направлению к Греческому скверу летит четверо людей; навстречу им выскочило двое городовых и двое же гнались за ними; убегавшие отстреливались, очевидно, из браунингов; дыма видно не было, а слышались только удары; одного из убегавших, здоровенного верзилу, поймали, остальные исчезли; несмотря на усиленную пальбу, ни раненых, ни убитых не было.
Против нашей квартиры, у чайного магазина Парамонова, толпилась публика; одно из окон его было разбито. Оказалось, что грабители вошли в магазин, выхватили револьверы и велели горбатенькой старушке-хозяйке подать деньги.
Она открыла конторку, вынула оттуда железную коробку с медью и, нежданно, запустила ее в окно. Стекла посыпались на тротуар и к магазину бросились любопытные.
Грабители в перепуге метнулись вон, успев захватить лишь сверток с 50 копейками.
16 июля. 14-е и 15-е числа провел в Петербурге.
Был, между прочим, в «Труде», книжном магазине на Невском, смотрел новинки. Декадентщина вытеснила в настоящее время все другие книги.
Кликушество и порнография — вот что теперь заполонило и журналы и книжный рынок. Любопытно, что чуть не все поголовно ругаются и смеются над корифеями этой марки, а… покупают только их! Одни объясняют такие свои покупки тем, что надо же быть в курсе современных течений в литературе, другие — модой и любопытством.
На вопросы мои, что требует и читает теперь провинция, сообщили, что провинции это течение пока не коснулось и что декадентщина оттуда не требуется. Купил несколько конфискованных книг для своей библиотеки[198]; продаются они, конечно, совершенно открыто и грозное когда-то слово «конфисковано» — в настоящее время звук пустой.
21 июля. Перестал читать газеты: их довели до того же положения, в каком находились они при Щедрине; опять требуется эфиопский язык и ухищрения для маскировки мыслей. Политический горизонт так же сер и скучен, как погода.
23 августа. В Петербурге за это время произошло освящение храма Воскресения, знаменитого не только тем, что он построен на месте убийства Александра II, а и тем, что двадцать шесть лет, все время своей постройки[199], весьма сытно кормил высоких особ. Не мало язвительно поострили на этот счет петербуржцы.
Освящение происходило весьма оригинально. Во-первых, прекращено было всякое движение через Неву по мостам, на пароходах и даже яликах; во-вторых, войска и полиция оцепили весь квартал, где стоит церковь, и без билетов никто решительно, даже в собственные квартиры, в этой части города расположенные, не пропускался; в-третьих, у каждого окна по пути следования стояло по городовому и всякое приближение к окнам жильцам было воспрещено…
Его Величество проследовало благополучно, и затем градоначальнику было объявлено благоволение за «отличный порядок».
Порядок, действительно, был великолепный: на улицах было — хоть в кегли играй!
21-го числа происходили новые казни: покончили на Лисьем Носу трех главных заговорщиков…[200] О казнях приходится слышать или читать каждый день; положение в общем не лучше, чем до «свобод». Печать опять гнут в бараний рог, штрафуют за всякую ерунду без милосердия.
28 августа. Ездил на Сайменский канал в гости к Д. Ф. Чепикову — приятелю и компаньону известного книгопродавца Карбасникова[201]; последний имел прежде книжный магазин на Литейном просп., затем, этим летом, перебрался в Гостиный двор. Купил там рядом с Вольфом[202] небольшое помещение за 136 000 рублей, и последний теперь предлагает ему 50 000 отступного.
Карбасников только поглаживает бороду да посмеивается. Это лысый невысокий человек с рыжеватой бородой, длинной, как у Черномора. Как собеседник — человек незаменимый: весельчак и балагур.
20 октября. Состоялись, наконец, выборы; как и следовало ожидать, благодаря всяким беззаконным «законам» Дума будет полна черносотенцами.
В Петербурге поразило меня, после долгого летнего отсутствия, обилие новых училищ, курсов и т. п. Особенно общеобразовательных курсов и коммерческих училищ развелось, как грибов. Всякие курсы — бухгалтерские, технические, общие — полным полны.
Обилие новых коммерческих училищ объясняется тем, что они находятся в ведении Министерства торговли, а не просвещения, откуда бежит, или выживается, все мало-мальски разумное. Три года тому назад сбежали и мы из этого милого министерства.
Чтоб описать всю дикую косность его — нужны томы; расскажу кое-что о некоем окружном инспекторе, Санчурском, под игом которого находилось и наше училище.
Дело у нас было молодое, но открытая женой школа (3-го разряда) уже имела два или три класса. Надо было хлопотать о правах второго разряда и вот тут-то господин Санчурский поломался всласть. Является, между прочим, в училище, приходит в первый класс.
— Ну-с, заявляет: — я желаю проэкзаменовать детей по Закону Божию…
Начинается экзамен, вызывает девочку.
— Скажите мне, кто у нас Государь Император? Наследник? Дяди государя? и т. д.
Это, по мнению г. инспектора, относилось к Закону Божию…
В другом классе экзаменует по естествоведению.
— Скажите, какие деревья приносят плоды?
Девочка отвечает: яблони, груши, сосна…
— Как сосна?, — изумляется инспектор.
— Да, у нее есть плоды.
— Какие? Где вы их видели?
— А шишки?
— Да разве это плоды? Плодами называется только то, что есть можно…
И господин с такими познаниями назначается на пост почти безапелляционного судьи над десятками школ.
Интереснее всего, что когда этот субъект, умерший года два назад от прогрессивного паралича, почти уже утратил речь и вместо связных фраз произносил неповинующимся языком непостижимую ерунду, он еще более полугода продолжал быть фактическим инспектором школ, с которым продолжало считаться министерство.
23 октября. Сегодня перебаллотировка выборов в Государственную Думу.
Перед первыми выборами я ездил в Финляндию и на вокзале встретился со Львом Федоровичем Рагозиным — председателем Медицинского совета. Со стариком я в очень хороших отношениях и он рассказал мне следующее.
Перед выборами к нему явился чиновник особых поручений из Департамента полиции и, всячески извиняясь и раскланиваясь, сказал, что он приехал от директора д<епартамента>-та с поручением «усиленно просить ваше превосходительство» о подаче голоса за столь полезного человека, как М. Меньшиков[203].
Курьезнее всего, что по подсчетам за Иудушку, оказалось, подано было всего… тринадцать голосов. И это при содействии величайшей власти в России — директора Департамента полиции!
25 октября. В Питере победили кадеты. Прошли все те же: Милюков, Родичев и Колюбакин[204].
26 октября. Слышал рассказы лейтенанта князя В., офицера с императорской яхты «Штандарт», так блестяще усевшейся на камни в финских шхерах[205].
По рассказам его, государь страшно любит и балует наследника. Трех- или четырехлетний мальчик этот делает решительно все, что ни взбредет ему в голову.
Например, явился во время поездки по шхерам к вахтенному офицеру и потребовал, чтобы играла музыка. Тот вытянулся, держа под козырек, перед крошкой и доложил, что музыка играла вчера, а сегодня по расписанию ее не полагается.
Цесаревич Алексей на борту яхты «Штандарт»
Наследник потребовал, чтобы музыканты явились; вахтенный доложил капитану и приказание было немедленно исполнено.
Сыграли марш, другой, затем Алексей вытребовал матросов и стал командовать ими, потом заставил командовать офицера, причем велел ему «быть папой». Матросы хором отвечали «рады стараться, Ваше Величество» и т. д.
Важнейшею фигурою при дворе является барон Фредерикс[206]; с ним государь беседует часами, между тем как министрам и даже премьеру — Столыпину уделяет на дела не больше четверти часа, и сух с ним настолько, что появление на «Штандарте» Столыпина производило впечатление не большее, чем приезд какого-нибудь разночинца.
Николай, не стесняясь, заявляет, что «вообще я штатских не признаю… даже чиновников».
А насколько он высокого мнения о себе и обо всем, с чем он соприкасается, показывает следующая фраза. Когда «Штандарт» напоролся на камень и остановился, Николай сидел в каюте и что-то писал. Дежурный офицер бросился к нему с докладом об аварии.
— Императорская яхта сесть на камень не может! — ответил Николай II.
В общем, мнение петербуржцев о Николае II довольно единодушное. Было время, когда добрая половина города его жалела и защищала. Теперь, с кем ни заговори, всякий машет рукой и отвечает бранью.
Забавно, что гг. монархисты и «истинно русские», те, что с гордостью, заслуживающей лучшего приложения, именуют себя черносотенцами, ненавидят Николая еще более левых.
8 ноября. Был на днях у Богучарских. Василий Яковлевич уехал в Париж, а без него стряслось несчастье — закрыли «Былое». Конфискованы были две книги подряд — сентябрьская и октябрьская, — первая за записки сенатора Безобразова, в которых попало царской семье, вторая просто, должно быть, за компанию, так как инкриминируемые записки Бороздина решительно ничего греховного не содержат.
Говорят, что сентябрьской книгой так были возмущены великие князья, что насели на кого следует и вынудили администрацию прикончить с журналом. Жаль, материала заготовлено уже книг на шесть и более!
Как передавала Богучарская, в ее отсутствие на кухню к ним пришел какой-то неизвестный субъект и предупредил, что на днях у них будет обыск. Моментально она выгрузила все документы в огромный чемоданище и, спросив предварительно согласие, отвезла его к Прокоповичам.
Э. В. Яковлева — одна из деятельных и видных участниц нашего нелегального Красного Креста; когда к ним ни приди — в передней у нее всегда высятся груды узлов со всякой всячиной, предназначенной для передачи политическим арестантам в тюрьмы; разносят их, помимо членов, еще и курсистки; последние в весьма большом числе.
Рассказывала мне о неприятном впечатлении, произведенном на нее и других членов Креста выходкой евреек. Крест, конечно, никогда никакой разницы между ссыльными ни по нациям, ни по религиям не делал, между тем вдруг еврейки, вызнав предварительно все нужное для ведения дела в Кресте, заявили, что они хотят выделиться и намерены помогать только своим, евреям.
В общем, состав революционеров страшно понизился. Всякая сволочь прикрывается теперь красным флагом.
Отовсюду приходится слышать жалобы на постоянные посещения квартир «политическими личностями», выпрашивающими пособия и которые, по проверке, оказываются просто шантажистами. Все это вводит Красный Крест в большие затруднения.
6 декабря. Давно не заглядывал в эту тетрадь: писать нечего. Все одно и то же: обыски, казни, грабежи. Все это стало так обычно, что не вызывает ни интереса, ни разговоров.
Сегодня Питер разукрашен флагами, коврами, вензелями и пр. по случаю царского дня. В газетах типа «Нового времени» восторженные описания иллюм
