Читать онлайн Смелая жизнь бесплатно
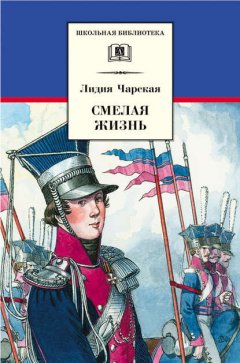
«Скачи, мой конь, во весь опор…»
Смотрите, смотрите: человек идет по дороге. За спиной мешок, а в мешке что? Богатство несметное: золото, драгоценности. Изумруды, рубины, сапфиры…
Богач.
Да мешок у богача с изъяном: дыра. Не слишком велика. Вернее сказать, дырка. И в дырку то сапфир нырнет, то изумруд вывалится. Какой в канаву закатится, какой в пыли пропадет, ногами затопчут.
Но богачу хоть бы что. Богатству несметному мелкие убытки не беда. Бог с ним, думает, не обеднею. Не тужит.
Кто ж поверит, что такие глупые богачи существуют на свете? Не верите? А ведь это мы с вами. Да, да, мы.
Мы на исторической дороге нашей точно так поступали со значительной частью отечественной культуры.
Только недавно, кажется, опомнились. На разрушенный храм пожертвования собираем; полотна художников, проклятых нами, из запасников достаем; улицам и градам давние имена возвращаем. Ценности, которыми с легкостью пренебрегли, отыскиваем в грязи.
И вот… вновь переиздаем Чарскую. Через много лет. В том далеком 1918 году перестал выходить журнал «Задушевное слово», и осталась недопечатанной – о, отчаяние юных читателей! – ее последняя повесть «Мотылек». Четыре крохотные малышовые книжонки, что выпустила она в 1920-е годы под псевдонимом Н. Иванова, думаю, не в счет. Исчезли с полок тома и томики ее сочинений – их в стране остались единичные экземпляры, редкость, раритет. Кого ни спроси, ни у кого нет. Выросло несколько поколений, для которых Чарская – пустой звук. А всю первую треть XX века не было в России детского писателя популярней.
Что ж, ветер беспощадного времени уносил и не такие имена. И вот уже в наши дни «Пионерская правда» напечатала отрывок из повести «Смелая жизнь». В редакцию пришли письма с вопросами: где купить, как прочесть целиком?… А одна бабушка, регулярно читающая детскую газету (!), стала горячо благодарить. Оказывается, она впервые узнала, кто написал любимое произведение. Книга у нее в детстве была, да затрепанная, без обложки. А потом и вовсе пропала. И хотя бабушка пересказывала приключения детям и внукам, автора назвать не могла. А теперь может, и от этого бесконечно рада. Счастлива. Иногда для счастья надо совсем немного.
Чарская. Это имя поставила на обложке своей первой книги («Записки институтки», 1902) актриса Александринского театра Лидия Алексеевна Чурилова. Может, заранее знала, что нас очарует? А девичья фамилия Чуриловой – Воронова. Родилась – когда и где? То ли в 1878 году в Петербурге, то ли тремя годами раньше на Кавказе. (Точнее неизвестно. Нужны дополнительные изыскания.)
Рано осталась без матери. Очень любила отца. Тяжело пережила появление мачехи. Убежала с цыганами, но в таборе ее обокрали, и она вернулась домой. Об этом рассказано в ее повести «За что?», представляющей опыт вольной, беллетризованной автобиографии – хотите верьте, хотите нет. К десяти годам сочиняла стихи; зрелая поэзия Чарской адресована детям:
- Скачи, мой конь, во весь опор
- В простор живых лугов,
- Где пышный стелется ковер
- Из радужных цветов!..
Как видим, автор «Смелой жизни» и ее яркая героиня, «кавалерист-девица», – души родственные.
Чарская окончила Павловский женский институт в Петербурге. С 1898 по 1924 год работала в театре. В Гражданскую войну потеряла сына, служившего в Красной Армии. Умерла в Ленинграде в 1937 году; похоронена на Смоленском кладбище.
Книг у нее много, более восьмидесяти. «Княжна Джаваха», «Люда Влассовская», «Вторая Нина», «Большой Джон», «Лесовичка», «Ради семьи», «Сибирочка», «Паж цесаревны», «Записки сиротки», «Гимназисты», «Бичоджан. Приключения кавказского мальчика», «Евфимия Старицкая», «Газават. Тридцать лет борьбы горцев за свободу», «Виновна, но…» – все не перечислить! Романы, повести, пьесы…
Она любила «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова, испытала влияние писателей И. И. Лажечникова, А. А. Бестужева-Марлинского. Некоторые страницы свидетельствуют, что пристально читала Вальтера Скотта, создателя жанра исторического романа. Ее Люда Влассовская, сделавшись гувернанткой, тут же предлагает своей воспитаннице, княжне, чтобы читать научилась, куперовский «Зверобой». В 1890-е годы достоинство сочинений Чарской критики видели в занимательности рассказа, необычайных приключениях и выдающихся характерах персонажей. Хорошо зная русскую историю, она находила – то в одной, то в другой среде, то в той, то в иной эпохе – героя по вкусу: незаурядную, привлекательную, магическую личность. И давала волю своей фантазии и воображению. «Она выдумывала смело, щедро» (Вера Панова).
Читатель ошибется, решив, что мы устрашимся темы «Чарская и Чуковский». В своей острой, ядовитой статье «Лидия Чарская» (1912 г., ныне тоже страница нашей литературной истории), он, вопреки восторгам читательским, сосредоточил внимание на издержках ее нередко аффектированного стиля, на обилии экстремальных ситуаций. На театральности. На языковых несуразицах. Но его главный вывод – автор неискренен – не приблизил к пониманию того, каким образом Чарской, при всех этих недостатках, удалось пленить столько сердец. И сегодня магия Чарской, так долго официально запрещенной, изъятой из публичных библиотек, однако – вопреки государственной воле и законодателям литературного вкуса – безоглядно любимой теми, кто ее в детстве прочитал, остается нераскрытой. И не знай мы пушкинской оценки одного исторического романа писателя Загоскина: «…положения, хотя и натянутые, занимательны… разговоры, хотя и ложные, живы… все можно прочесть с удовольствием…» (и так бывает!) – только руками бы развели.
Канвой для «Смелой жизни» (1905) послужили «Записки кавалерист-девицы» Н. А. Дуровой (1783–1866). Жизнь и судьба Надежды Дуровой – это страстное и деятельное стремление избежать женской, в то время рабской, участи, доказать самоценность, неповторимость своей личности. Жажда свободы. С детства по прихоти случая воспитанная по-мальчишески, ради свободы надела она мужское платье и ушла, точнее, ускакала из дома, примкнув к казачьему полку: «Свобода, драгоценный дар неба, сделалась наконец уделом моим навсегда!.. Я прыгаю от радости, воображая, что во всю жизнь мою не услышу более слов: „Ты, девка, сиди. Тебе неприлично ходить одной прогуливаться!“ Участие „кавалерист-девицы“ в военных действиях, в том числе в Бородинском сражении, где она была контужена, отличали сперва сумасбродная храбрость, а затем мужество дисциплинированного воина, защитника Отечества. Она стойко вынесла тяготы похода, претерпела одиночество.
Пушкин опубликовал „Записки“ Н. Дуровой со своим предисловием, так охарактеризовав талант автора: „Нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером, быстрым, живописным и пламенным“.
Многие читатели решили, что это мистификация Пушкина, среди них – и критик В. Г. Белинский. Но это была не мистификация. Белинский писал: „Боже мой, что за чудный, что за дивный феномен нравственного мира героиня этих записок, с ее юношескою проказливостию, рыцарским духом, отвращением к женскому платью и женским занятиям, с ее глубоким поэтическим чувством, с ее грустным, тоскливым порыванием на раздолье военной жизни…“
Ободренная успехом, Дурова продолжала сочинять, и вновь не без успеха.
Сегодня известно (и было, наверно, известно Чарской), что знака равенства между героиней „Записок“ и автором все-таки нет, ее автобиография не документ, ведь чутье художника подсказало Дуровой: у предания своя правда, необязательно совпадающая с анкетной. Так, в действительности она оставила не отца с матерью, а мужа с ребенком, и не в шестнадцать, а… Но не станем продолжать, чтобы не портить удовольствие юному читателю. Чарская пошла за созданной Дуровой лирической легендой, разворачивая скуповатые эпизоды „Записок“ в приключения в своем обычном духе, расстелила пышный ковер из радужных романтических цветов.
Конечно же повесть Чарской тем более не документ. Скажем лишь самое важное. По некоторым страницам может сложиться впечатление, что Александр I руководил военными действиями русских войск. Было иначе: этот умный, образованный, но нерешительный и болезненно самолюбивый монарх оказался плохим полководцем. И под давлением общественного мнения он назначил главнокомандующим Кутузова, а сам армию оставил. Но Александр I у Чарской („детское добродушие и кроткая нежность“, „чистый, ясный взор“, „великая душа“, „гордый прекрасный орел“ и т. п.) не столько подлинное лицо, сколько лубок, наивно-утопическая греза о добром отце нации, олицетворяющем само Отечество. Чарская, в силу многих причин далекая от политической оппозиции, писала „Смелую жизнь“ на фоне взбаламученного моря надвинувшейся первой русской революции 1905 года, которая грозила затопить страну в волнах народного гнева. Девочкой-подростком она, возможно, была очевидцем торжественного посещения монархом (Александром III) института, где училась, и невольно объединила верноподданнические чувства „кавалерист-девицы“ со своими.
Какова же ценность открытой читателем книги? Ответим словами писателя Бориса Васильева: «Если Григорий Петрович Данилевский впервые представил мне историю не как перечень дат, а как цепь деяний давно почивших людей, то другой русский писатель сумел превратить этих мертвецов в живых, понятных и близких мне моих соотечественников. Имя этого писателя некогда знали дети всей читающей России, а ныне оно прочно забыто, и если когда и поминается, то непременно с оттенком насмешливого пренебрежения. Я говорю о Лидии Алексеевне Чарской, чьи исторические повести – при всей их наивности! – не только излагали популярно русскую историю, но и учили восторгаться ею. А восторг перед историей родной страны есть эмоциональное выражение любви к ней. И первые уроки этой любви я получил из „Грозной дружины“, „Дикаря“, „Княжны Джавахи“ и других повестей детской писательницы Лидии Чарской».
Подчас предание бывает более манящим и цельным, чем противоречивая, запутанная реальность. А мы повторим вслед за Чарской:
- Скачи, мой конь, во весь опор,
- В простор…
Владимир Приходько
Смелая жизнь
Часть первая
Глава I
Обитатели старого сада
Большой старый сад сарапульского городничего Андрея Васильевича Дурова ярко иллюминован. Разноцветные бумажные фонарики – красные, желтые и зеленые – тянутся пестрыми гирляндами между гигантами деревьями, наполовину обнаженными от листвы беспощадною рукой старухи осени.
Пылающие плошки, разбросанные там и сям в сухой осенней траве, кажутся грандиозными светляками, дополняя собой красивую картину иллюминации. А над старым садом, непроницаемая и таинственная, неслышно скользит под своим звездным покровом черноокая красавица – осенняя прикамская ночь…
На стенных часах в доме городничего пробило одиннадцать.
И вмиг старый дом дрогнул и оживился. Целая толпа девушек в легких белых платьях, обшитых кружевами, рюшами и блондами, какие в начале XIX века, по тогдашней моде, носили наши прабабушки, высыпала на крыльцо.
– Какая ночь! Чудо! Совсем как летом! – зазвенел звучными переливами молодой голосок, и одна из белых фигурок протянула обнаженные до локтя руки к темному небу и ласковым звездам.
– В такую ночь не грешно и по Каме прокатиться, не правда ли, Клена? – присоединился к первому голосу второй, грудной и низкий, с приятными бархатистыми нотами.
Та, которую звали Кленой, повернула лицо к говорившей. Это была настоящая четырнадцатилетняя красавица. Ни у кого, не только в уездном городе Сарапуле, но и в целой губернии, не было такого снежно-белого личика, таких темно-синих глаз, похожих на два великолепных сапфира, ни золотистых кос того неподражаемого червонного отлива, какими обладала вторая дочь сарапульского городничего, Клеопатра. И четырнадцатилетняя Клена лучше всех сознавала неотразимую прелесть своей необычайной красоты и очень гордилась ею.
– Ну уж ты выдумаешь, Устенька! – произнесла она недовольным голосом. – Что может быть интересного на Каме ночью! Меня, по крайней мере, туда вовсе не тянет.
Действительно, белокурую красавицу Клену не тянет на Каму. Что там хорошего? Холодно, сыро, темно. А в зеленых зарослях еще, чего доброго, водятся русалки. А она, белокурая Клена, больше всего в мире боится сырости и русалок. Она не Надя. Надя другое дело. Та ничего не боится, отчаянная какая-то! Та не только на Каму – на кладбище побежит ночью. Ведь ходила же она прошлой весной смотреть утопленника, выброшенного на берег. А она, Клена, иная. Она – степенная, благовоспитанная барышня, а не «гусарская воспитанница», не «казак-девчонка», как называют все ее старшую сестру.
Да, кстати, где же она? Иллюминация гаснет, гости собираются уходить, а Надежды и след простыл. Хороша именинница! Для нее устроен этот вечер, зажжены фонарики и плошки, приглашены подруги, а она и ухом не ведет. Любезная хозяйка, нечего сказать!..
И хорошенькая Клена с беспокойством оглянулась на белую толпу девушек: так и есть – там нет Нади. Она исчезла.
– Вася, – взволнованно обращается девочка к плотненькому, коренастому мальчугану, резко отделявшемуся своим темным мундирчиком от нарядных светлых платьиц юных гостей, – ты не знаешь, где Надежда?
Одиннадцатилетний Вася, беспечно рассказывавший в это время одной из барышень о том, каких крупных карасей наловил сегодня в их пруду дворецкий Потапыч, сразу замолк и осекся.
Нет, он не видел Нади. Где же она? И мальчик стал с беспокойством вглядываться в темную чащу сада, где не горели огни и где было таинственно и жутко.
– Надя! Надежда! Где ты? – зазвенел его детский голосок, уносясь в темноту навстречу быстро надвинувшейся ночи.
– Оставь, Вася! – остановила его Анна Горлина, высокая черноволосая девушка с надменным выражением лица, дочь богатейшего сарапульского купца. – Или ты не знаешь своей сестры? Разве мы можем доставить ей удовольствие своим обществом? Конечно нет. Ведь мы не умеем командовать на плацу и махать саблями, как мальчишки. Мы не воспитывались у солдат.
– Да, да, – подхватила толстенькая Устенька Прохорова, – скакать на диком Карабахе, как простые казаки, как Надя, мы тоже не можем. Мы барышни и должны помнить это…
И, жеманно поджимая губки, она повернулась спиной к опешившему мальчугану.
Впрочем, замешательство Васи длилось недолго. Мальчик в одно мгновение понял, что эти глупые, по его мнению, напыщенные девчонки хотели обидеть и унизить его сестру Надю, сестру, которую он, Вася, боготворил и которой поклонялся с самого раннего детства. Вся кровь вспыхнула в жилах оскорбленного мальчика. С пылающим лицом и горящими глазами приблизился он вплотную к черненькой Анне и заговорил, едва удерживаясь от бессильных слез:
– Какая ты гадкая, Анна!.. И ты, Устенька, и все вы злые… злые… нехорошие! За что вы не любите Надю? О, она лучше вас всех, она ни про кого никогда не говорит дурное, ни с кем не ссорится… Никого не бранит… И зачем вы пришли к ней, если она не достойна вашего общества? Гадкие вы, гадкие, нехорошие! Не люблю я вас никого! И уходите от нас, если так! Уходите… если вы так гнушаетесь Надиным обществом!
И прежде чем кто-либо мог удержать или остановить его, Вася в одну минуту сбежал со ступенек крыльца и стрелой помчался по длинной дубовой аллее, освещенной догорающими огнями иллюминации.
Мальчик бежал так быстро, точно все эти нарядные, гордые барышни гнались по его пятам. И только в конце аллеи, там, где на повороте ее стоял крошечный садовый домик с освещенным окошком, Вася остановился.
– Она там! – произнес он тихонько. – Там моя Надя… милая… дорогая! И как они смели, как смели обижать тебя! Отвратительные, негодные девчонки! И Клена хороша тоже! Хоть бы заступилась за сестру. Противная Клена! Еще, пожалуй, насплетничает маме на Надю. Что тогда будет?
И сердечко Васи замерло от страха за сестру. Он знал, как строго взыскивалось с нее за каждую малейшую провинность. Ни он, ни Клена не несли никогда таких строгих наказаний, какие перепадали на долю ее, Нади…
А сестру Надю этот одиннадцатилетний мальчик с большими серыми глазами, полными добродушия и тепла, любил больше всего в мире. Прикажи ему, кажется, Надя броситься в пруд, в этот самый пруд, на берегу которого он стоит теперь, – и он без слов исполнит ее желание, без слов и колебаний. Так было и будет всегда, постоянно. А эта ледышка Клена смеется над ним, дразнит его за его безграничную любовь к сестре, к девчонке! Да разве его Надя девчонка, как другие? Разве она слабое существо, нуждающееся в поддержке, в постоянном присмотре старших? О, Надя – это особенная, совсем особенная девочка!
И при этой мысли его неудержимо потянуло увидеть сестру, поделиться с нею его обидой, рассказать ей все-все об осмелившихся смеяться над нею гостях.
– Надя, Надя! Где же ты, наконец?! – чуть не с плачем вырвалось из груди ребенка.
Не успел еще последний звук замолкнуть в безмолвии ночи, как кусты прибрежной осоки раздвинулись, и белое существо появилось на берегу пруда, совсем близко у воды.
– Кто зовет меня? Ты, Василий? – И Надя ступила в светлую полосу из своей темной засады.
Голос Нади был резок и грубоват немного, как голос подростка-мальчика. Но со своей тонкой и стройной и вместе с тем сильной фигурой, вся окутанная белым облаком блонд и воланов, теперь, в ночном мраке, она казалась таинственной ночной феей этой дубовой аллеи и зеленого прудка. Однако лицо ее – не воздушное, нежное лицо феи. Выплывшая из-за темного облака серебряная луна ярко освещает это смуглое лицо, со следами оспы на нем, с большим ртом и резко очерченными бровями. Единственным украшением этого юного, почти детского лица служат только одни глаза, громадные, темные, то мрачные и тоскливые, то светящиеся юмором, то печалью, то отважные, то робкие, они бывают временами чудо как прекрасны. И эти глаза говорят, говорят так много каждому, кто заглянет в их бездонную, как пропасть, глубину!
Теперь эти великолепные глаза светятся самым неподдельным искрящимся весельем. В глазах – веселье, а в складках рта – что-то трогательно-печальное, почти горькое.
– Они ушли? – слышится ее сильный, не девичий голос, и она кивает в ту сторону, где в эту минуту догорели и погасли последние огни иллюминаций и где разом наступила тишина.
– Ушли, – отвечает почему-то шепотом Вася. – А где ты была, Надя?
Ему хочется рассказать ей все-все без утайки о противных девчонках и его ссоре с ними. Но ему жаль взволновать Надю. Сегодня день ее ангела, и надо, чтобы день этот закончился гладко и беззаботно. И, вместо всякой жалобы, он повторяет:
– Где же ты была, Надя?
– У Алкида, – отвечает ее милый глуховатый голос. – По случаю сегодняшнего празднества Ефим забыл насыпать ему обычную ночную порцию овса. Хорошо, что я поспела вовремя и бедный мой конь не остался голодным. А про гостей я совсем, признаться, и забыла! – неожиданно заключила она и рассмеялась.
Смех у нее был молодой, звонкий, настоящий смех ребенка, которому пока не о чем беспокоиться и заботиться. И этот смех так не вязался с ее юным, но полным не детской задумчивости лицом.
– Ничего! О них позаботилась Клена, – произнес Василий с важностью взрослого человека и вдруг неожиданно добавил, обнимая сестру: – Ах, Надя, я хотел тебя видеть, и… и… Как я люблю тебя, если бы ты знала!
– Вот так так! – еще громче рассмеялась она. – С чего это вдруг, разом?
– Я не знаю, Надя, – отвечал ничуть не смущенный ее смехом мальчик, – но только я тебя очень, очень люблю, больше папы и мамы, больше этого старого сада… Больше всего, всего в целом мире… Ты такая бесстрашная, смелая, такая отважная, Надя!.. Как же тебя не любить?… Нет вещи, которой бы ты боялась… Когда ты скачешь на твоем Алкиде, такая бесстрашная и смелая, мне кажется, что ты даже не сестра моя родная, не Надя, а что-то совсем, совсем особенное… Помнишь, ты мне читала о древних амазонках или о той знаменитой французской девушке-крестьянке, которая спасла свою родину от англичан… Наверное, они были такие же, как и ты, ничего не боялись, отважные, смелые. Только им не приходилось так много страдать… Ах, Надя, мне так жаль тебя, когда мама бранит тебя!.. Ты никому не говори этого, Надя, а только, поверишь ли, мне тогда хочется плакать, и я начинаю не любить маму и сердиться на нее. И потом, какое у тебя чудное сердце…
– Перестань! – оборвал его глухой голосок, в то время как громадные, великолепные глаза девушки наполнились слезами. – Я не люблю, когда меня хвалят. Ты должен знать это!
– Ты рассердилась, Надя? – испуганно сорвалось с губ мальчика. – Ты недовольна мною?
Но Надя точно и не слышит его вопроса. Она стоит неподвижная и безмолвная, как белая статуя, в серебристой полосе луны. Месяц играет своими кроткими лучами на смугленьком личике девушки и ее темно-русой толстой косе, перекинутой через плечо на грудь. Большие темные глаза, спорящие блеском с золотыми звездами далекого неба, кажутся такими печальными и прекрасными в этот миг…
«Господи! – мысленно произносит смугленькая девочка. – Как он любит меня и как ему будет тяжело, пока он не привыкнет к предстоящей разлуке!..»
И, быстро обернувшись к брату, она произнесла каким-то новым, словно размягченным голосом, полным любви и ласки:
– Что бы ни было, Василий, что бы ни случилось, слышишь, ты не должен осуждать меня!.. Не забывай меня… и люби… люби покрепче свою Надю!
Прежде чем он успел опомниться, ответить ей, сказать, что он-то уж никогда ее не забудет и всюду и везде будет стоять горой за нее, она снова скрылась там, откуда появилась, неуловимая и странная, как таинственная фея зеленого пруда.
Глава II
Новая обязанность. – В садовом домике. – Жанна д'Арк
Марфа Тимофеевна Дурова, супруга сарапульского городничего, еще молодая тридцатилетняя женщина, с прекрасным тонким лицом и холодными серыми глазами, стальной взгляд которых придавал что-то жесткое и надменное общему выражению лица, сидела, облаченная в белый батистовый пудермантель[1], и убирала на ночь свои еще роскошные и толстые, как у девушки, косы.
Марфа Тимофеевна, по своему обыкновению, мысленно пробежала весь сегодняшний день и осталась им недовольна.
Не красавица Клена, степенная, уравновешенная, несмотря на юный возраст, и не добродушный толстяк Вася, общий баловень и любимец, тревожили супругу городничего. Дело касалось Нади – этой строптивой, непокорной, полудикой девушки-ребенка, воспитанием которой так долго и тщетно занималась сама Марфа Тимофеевна. Ни увещания, ни строгость, ни наказания не могли изменить своеобразной дикой натуры Нади. Слишком сильные корни пустило в нее военное воспитание ее усатой няньки, денщика-гусара Астахова, выходившего ее с первых дней раннего детства.
Сегодня вся эта дикость гусарской воспитанницы выступила особенно резко в кругу благовоспитанных сарапульских барышень-гостей. Эта Надя, со своими размашистыми манерами солдатской питомицы, с грубоватым голосом и смело поднятым на всех, горящим каким-то мальчишеским задором взглядом, так мало походила на дочь своего отца, принадлежащего к старинной дворянской семье.
– Боже мой! – искренно негодовала Марфа Тимофеевна. – Ведь такая, какова она есть, Надежда никогда не выйдет в люди, никогда не найдет себе подходящей партии… А она уже взрослая барышня, ей стукнуло шестнадцать, пора подумать о будущем…
Тут Марфа Тимофеевна вздрогнула и обернулась. Та, о которой она только что думала, ее злополучная Надя, стояла на пороге комнаты, глядя в упор на мать пристальным, немигающим взглядом.
– Что тебе? – не совсем любезно произнесла городничиха. – Что ты прокрадываешься, как кошка? Сколько раз я говорила, что надо стучать у дверей, прежде чем осмелиться войти! Этого требует приличие.
Тонкая, еле уловимая усмешка скользнула по полным губам Нади, обнажая ее ослепительно белые, ровные зубы.
«Приличие!» – вот слово, которое она слышит постоянно из уст матери. «Приличие!» – вот чего ей не преодолеть во веки веков!
И тоненькая, статная фигурка, незаметно отделившись от двери, подвинулась к матери.
– Я пришла проститься с вами, маменька… – произнес низкий, глуховатый голосок.
– Давно пора! И где ты пропадала до сих пор? – ворчливо оборвала дочь Марфа Тимофеевна. – Клена передавала мне, что ты не пожелала даже проводить своих гостей и исчезла куда-то, по обыкновению. Очень мило и любезно со стороны именинницы, виновницы праздника. Нечего сказать! Ах, и когда ты только исправишься, Надин! Надо же подумать об этом, дорогая!
«Дорогая»!.. Скучающее выражение мигом исчезло с рябого смуглого личика девочки… Быстрым, ловким движением, в котором нет уже ничего неженственного и грубого, Надя бросается на колени перед матерью, схватывает ее руки, белые, прозрачные руки с тонкими пальцами, сплошь унизанными перстнями, и лепечет в каком-то безумном восторге, вся разгораясь румянцем и блестя своими темными, яркими глазами:
– «Дорогая»… «дорогая»… «дорогая»!.. О мама! Золотая моя мамочка! Как ты сказала это? О, повтори мне это, мама! Голубушка мама! Скажи еще раз: «Надя, дорогая…» Ведь ты любишь меня? Как Клену и Васю любишь? Скажи мне это! Скажи, скажи, мама, голубушка, милая, родная! Ты должна сказать!
Смуглое личико придвинулось теперь почти вплотную к прекрасному, словно изваянному из мрамора, лицу матери. Большие яркие глаза, черные, непроницаемые, как ночь, горят нестерпимо.
Но жена городничего не любит ни этого странного блеска, ни этих быстрых порывов у Нади. В них что-то дикое, необузданное, а Марфа Тимофеевна так далека от всего резкого, грубого, неженственного. Надя – барышня, а первым достоинством барышни должна быть скромность. К тому же огонь этих громадных, обжигающих своим острым взглядом глаз невыразимо ярок: его просто боится Марфа Тимофеевна. В этих глазах упрямство, своеволие и отчаянная решимость. И эти слова: «Ты должна, мама!» – не есть ли это высшая степень непочтительности к старшим, лучшее доказательство упорства и грубости?… Она слишком хорошо знает Надю, эту непостоянную, взвинченную, капризную натуру, на которую можно только действовать строгостью и взысканием, не иначе. О эта Надя! Сколько еще с нею предстоит неурядиц и хлопот!
И, слегка высвободившись из цепких, сильных рук дочери, Марфа Тимофеевна взглянула на нее пристальным, холодным взглядом, способным заморозить всякий порыв, и сказала ледяным, сдержанным тоном:
– Полно, Надя! Не глупи! Ты уже не маленькая и должна уметь владеть собою. В твои годы я была уже замужем и вела хозяйство. Пора бы и тебе заняться этим. Я отчасти довольна, что ты зашла ко мне, – мне надо было сказать тебе, что с завтрашнего дня я решила дать тебе новую обязанность. Она займет тебя и отвлечет немного от твоих диких скачек на Алкиде, которые хотя и по душе твоему отцу, но не нравятся мне. Завтра же ты примешь ключи от Натальи и будешь заведовать хозяйством. Поняла?
О! Она слишком хорошо поняла это, смугленькая девочка с темной косой, потому что лицо ее разом осунулось, глаза потухли. И никто бы не узнал в ней теперь той Нади, которая всего несколько минут тому назад горела таким неизъяснимым, восторженным порывом.
– Доброй ночи, маменька! – покорно произнесла эта новая Надя и приложилась губами к бледным, хрупким пальцам матери, унизанным перстнями.
– Доброй ночи, дитя! – произнесла несколько ласковее Марфа Тимофеевна, подкупленная смирением и покорностью дочери. – Завтра ты начнешь свои новые обязанности, а теперь ступай с Богом!
И, желая несколько сгладить свою строгость, она притянула к себе темно-русую головку с тяжелой косой и поцеловала дочь в лоб, на который набежали тонкие, как ниточки, морщинки.
Это был чуть не первый поцелуй, полученный Надей от матери. Он проник в самое сердце чуткой, впечатлительной девушки.
«Завтра! – мысленно произнесла Надя, выходя от матери и направляясь по темной аллее к садовому домику. – Завтра!.. Но не будет этого „завтра“… По крайней мере, не будет здесь. Твой поцелуй, мама, твой первый поцелуй будет и последним. Чувствуешь ли ты это, дорогая? Чувствуешь ли, что твоя строптивая, злая Надя готовится нанести тебе помимо воли новую неприятность? Ах, мама, мама! Зачем ты не любишь меня, как Клену и Васю? Может быть, тогда мне было бы легче выполнить задуманный план. Тогда, быть может, я пошла бы на мой поступок хотя с разбитым от печали и горя сердцем, но унося светлое воспоминание о тебе!.. О, мама! Как жаль, что это не случилось!»
С наполненной этими думами головою Надя миновала длинную аллею, ведущую от главного крыльца большого дома прямо к низенькому крылечку садового домика, и, взобравшись по шатким ступенькам, толкнула входную дверь. Миновав темные сени, она очутилась в маленькой горнице, слабо освещенной сальной свечой, воткнутой в старинный бронзовый подсвечник.
Дрожащее, трепетное пламя свечи играло на развешанном по стенам оружии, придавая странный блеск гладко полированной стали дедовских кинжалов, шашек, сабель и палашей. Между ними находилась и гусарская сабля отца Нади, отставного ротмистра, с которой он не разлучался за время своей прежней, походной жизни. Теперь эта сабля как почетное напоминание о былом висела на стене крошечной горницы. В ней больше не нуждались. Она отслужила свою службу и могла отдыхать после долгих трудов. На небольшом круглом столике у окна были разложены подарки, полученные сегодня утром от родных, – чудесное сафьяновое седло с малиновым вальтрапом[2] – подарок отца – и тут же деревянная кубышка с тремястами червонцами от него же; золотые часы – подарок маленького Васи, приобретенный им на собственные карманные деньги и до слез растрогавший Надю; серебряная кружка от Клеопатры и, наконец, длинная массивная золотая цепь, родовая цепь их семьи, возложенная на шею именинницы руками ее матери.
– Носи, Надя, эту фамильную вещь с уважением и вниманием к ней, – сказала при этом Марфа Тимофеевна, – и помни, что человек, которому она принадлежит, должен быть достойным нашего славного и честного рода.
Этот голос, эти слова еще до сих пор звучат в ушах Нади. Она словно чувствует прикосновение холодных золотых звеньев к своей обнаженной, по тогдашней моде, шее… Потом взгляд ее падает на белую узенькую девичью постельку, на развешанное по стенам оружие, на всю скромную обстановку маленькой горницы, где она провела этот год по желанию отца, захотевшего иметь подле себя свою любимицу, обойденную материнской любовью. Сам Андрей Васильевич не жил в «большом доме»: его хлопотливая должность городничего требовала частых отлучек даже и в ночную пору, и, чтобы не тревожить своими поздними возвращениями семью, отставной ротмистр предпочел выбрать своим местожительством мезонин садового домика.
Надя, чувствовавшая себя связанной и стесненной под кровлей «большого дома», за этот год, проведенный в садовом домике, как-то разом воспрянула духом. Этому способствовала немало близость отца, которого она боготворила. И теперь, прислушиваясь к его твердым шагам в мезонине (он вернулся сегодня раньше обыкновенного), она с трепетом думала о том, что ей предстояло вынести, когда…
О, это «когда»!.. Уж скорее бы оно совершилось, скорее бы прекратилось несносное ожидание того, что неизбежно.
И невольная дрожь при мысли об этом неизбежном охватывает все стройное тело девочки. Глаза ее наполнились непрошеными слезами… Вот-вот она разрыдается сейчас горько, неудержимо…
И вдруг ее затуманенный взгляд упал на большую картину в золотой раме, висящую над ее кроватью.
На картине изображена девушка. На ней простая одежда деревенской пастушки. Вдоль спины спущены две толстые золотистые косы. Но лицо девушки так странно и необычайно. Оно как бы отмечено самим провидением. В выражении его что-то величественное, неземное, недоступное лицу простого смертного. И эта девушка не простая смертная. Она героиня. Ее имя занесено на страницы истории. Это знаменитая пастушка, великий полководец французской земли. Это бессмертная Жанна д'Арк, победившая англичан и проложившая своим мечом дорогу к трону молодому дофину[3] Франции. Она изображена здесь как раз в ту минуту, когда ей слышатся священные голоса, призывающие ее спасти родину. Оттого-то взор ее странно прекрасен и остр, как у ясновидящей… Оттого и бледное лицо ее полно необычайного упоения… Велика была судьба этой девушки, двигавшей французские полки одним взмахом своей слабой женской руки и сгоревшей на костре по жалкому навету невежественных дикарей.
И при виде этого дивного лица, этих странных глаз слезы Нади иссякли. Она уже не плачет больше. Ее темные глаза так и впились в картину, прикованные к бледному лицу знаменитой пастушки. А в ушах звенят знакомые милые слова, сказанные сегодня: «Я люблю тебя за то, что ты такая смелая и отважная… не как другие!» О, милый, маленький, глупый Вася! Она-то смелая и отважная! Она – Надя!
Не оттого ли, что она на полном скаку заставляет своего Алкида брать препятствие? Или, не задумываясь, отправится в ночную пору на кладбище, где под белыми крестами мирным сном покоятся мертвецы? Но ведь это ребячья отвага, о которой стыдно говорить! А между тем, когда дело принимает серьезный оборот, когда надо пойти на нечто более крупное, важное, у нее, Нади, словно опускаются руки, холодок пробегает по спине и все члены дрожат, как в лихорадке. Она испытывает страх, какой могут испытывать подобные ей, вполне обыкновенные создания…
Так нет же! Нет! Она не хочет быть такою, как все!..
Сколько раз ее отец выражал сожаление, что она родилась не мальчиком, могущим покрыть неувядаемой славой их старинный дворянский род. И он не знал тогда, дорогой, милый отец, что каждое его слово расплавленным оловом вливалось в ее пылкое сердечко и жгло своим нестерпимым горячим огнем.
– Да нет же, нет! – упорно и настойчиво срывается теперь с запекшихся губ Нади, и громадные глаза ее загораются мрачным огнем. – Прочь нерешительность, страх и женская слабость! Сама судьба предначертала мне иную долю. И я буду тем, кем она указывает мне стать. А ты, ты поможешь мне, – подняв снова взор на бедную пастушку с золотыми косами, добавляет она глухим шепотом, – ты поможешь мне своим примером… Ты должна мне помочь, Жанна!
Глава III
В последний раз. – Без возврата
– Ты еще не спишь, дочурка?
И рослая, сильная фигура Андрея Васильевича Дурова неожиданно выросла на пороге.
Это был далеко еще не старый человек, но уже значительно тронутый сединою. Молодецкая осанка, длинные, с заметной проседью усы, коричневая, с золотыми шнурами венгерка[4] – все это обличало в нем лихого кавалериста. Его серые глаза, большие и ласковые, с любовью смотрят на дочь.
– Не ложишься еще, именинница? – ласково говорит он. – А я виноват перед тобою, Надюк. Исчез с твоего праздника, девочка… К Парукину зашел по делу. Надо было ему наставления дать. А то опять пошаливать стали киргизы и башкиры. Расчухали, разбойники, что казаки вышли вчера из города, и сегодня же ночью постоялый двор Накипина разграбили… Главных зачинщиков поймали, слава Богу. Теперь надолго отучат их от грабежа… Вот по какому делу замешкался твой старый папка. Ты уж прости его, не гневайся, Надюк!
– Ах, папа! – горячо сорвалось с уст девушки. – Как можете вы говорить так! Да ведь вы не знаете, как я…
Она не договорила. Спазм сжал ей горло, мешая докончить. Невыразимое волнение охватило ее.
«Как он меня любит! Бедный, дорогой папа! – тревожно выстукивало ее измученное сердечко. – А я-то… что готовлю ему!..»
И, сделав над собой невероятное усилие, смугленькая девочка принудила себя ласково улыбнуться отцу. Но взгляд ее остался тревожным, и вся она дрожала от волнения.
Андрей Васильевич уже успел заметить состояние дочери, ее дрожащий голос, внезапную бледность, покрывшую встревоженное лицо.
– Что с тобой, Надюк? Ты нездорова, моя девочка? Ты вся дрожишь! Надя! Надя моя, говори же, что это с тобой, ради Бога!
С трудом пересилила свое волнение Надя и ответила глухо, чуть слышно, едва владея непокорным языком:
– Мне только холодно, папенька. Не беспокойтесь, я совершенно здорова.
И она прильнула к его груди, пряча бледное лицо и мрачно горящие глаза, наполненные теперь самой безысходной тоскою. Холодные шнуры и золотые пуговки отцовской венгерки до боли впились в ее похолодевшие щеки – так сильно она прижалась к ним, стараясь заглушить этим иную боль, гораздо более острую и мучительную – боль ее сердца.
– И в самом деле ты не в себе, дочурка, – произнес с заметной тревогой в голосе Андрей Васильевич. – Не дай Бог, захвораешь. Коли холодно, протапливать вели горницу, а нет – перекочевывай в большой дом. И то пора: октябрь близко. Ведь никто не неволит нас жить в этом курятнике… А только, не дай Бог, заболеешь, сейчас же мне скажи, слышишь, девочка? Береги себя ради твоего старого папки… Не приведи Господь, случится что, ведь я места себе не найду. Надюк ты мой, рябчик ты мой милый! – заключил отставной кавалерист с необычайной нежностью в голосе.
Он часто называл так в шутку свою любимицу, намекая этим прозвищем на тронутое оспой личико Нади, и Надя всегда со смехом принимала от него эту шутку. Но теперь ей было не до смеха.
То, что он говорил ей теперь, ее дорогой, ненаглядный папа, только больше и мучительнее терзало и без того истерзанную непосильными муками душу бедной девочки. Ей становилось страшно при одной мысли, что станется с ним, когда он лишится надолго, может быть навеки, своего Надюка-гусаренка, своего милого «рябчика». А что, если ее поступок убьет, сведет в могилу его – такого чудного, ласкового, заботливого, родного?
«О Господи! – с содроганием думалось Наде. – Все вынесу, все, только не это! Боже! Умоляю Тебя! Только не это! Ты, великий и милосердный, Ты избавишь меня от этого нового ужаса! Ты не допустишь его! Господи, молю Тебя, сохрани его, спаси и помилуй!»
И, до боли стискивая зубы, боясь разрыдаться, она все крепче и теснее прижималась к отцовской груди, призывая к себе на помощь все свое мужество и самообладание, которое, казалось, ускользало от нее все дальше и дальше.
И вдруг быстрая как молния мысль прорезала ее мозг: «А что, если остаться? Что, если подчиниться своей скромной девичьей доле и забыть безумное, влекущее ее неудержимо стремление вырваться на простор, на волю? Если покориться условиям судьбы и природы, сделаться простенькой, тихонькой сарапульской барышней, как и сотни ей подобных?»
И, разом оторвавшись от груди отца, она заглянула ему в глаза своими громадными, расширенными донельзя, горящими зрачками.
Вот оно – это милое, дорогое лицо, так безумно любимое ею с детства; вот они – эти чудесные, ласковые глаза, которые так доверчиво и ясно глядят ей в самую душу! И подумать, что в следующее же утро эти милые глаза, не встретясь с ее взглядом, может быть, сомкнутся навеки!.. Что эта благородная мужественная голова не вынесет нанесенного ей удара и эти дорогие уста никогда не произнесут ее имени! О!.. Нет, нет! Она не в силах нанести этого удара ему – милому, ненаглядному, родному…
Что-то с силой сжало грудь Нади, подкатилось к самому горлу, не давая ни вздохнуть, ни опомниться… Миг… и она упадет к ногам отца, обхватит его колени и расскажет ему все-все, заливаясь слезами раскаяния и горя…
Вдруг, словно из тумана, выплывает перед ней странная девушка в деревенских сандалиях, с золотыми косами, небрежно раскинутыми вдоль спины. Глаза ее с укором и гневом устремлены на Надю, уста шепчут чуть слышно, почти неуловимо: «Так вот ты какая! Жалкая, ничтожная, слабенькая девочка! И ты требовала от меня помощи, благословения, от меня, которой недостойна завязать ремень на сандалии! О бедное, малодушное создание! Где тебе быть тем, к чему влекло тебя твое ничтожное тщеславие, твоя непомерная дерзость! Напрасно я поверила твоей клятве, поверила детскому лепету бедного слабого ребенка!»
«Нет, нет, ты не права, Жанна! – мысленно воскликнула обезумевшая от стыда и отчаяния Надя. – Ты увидишь, что я достойна твоего покровительства. Клянусь тебе!»
Она как-то разом преобразилась. Куда девались прежнее смятение, ужас и печаль? Глаза горят решимостью и отвагой. Лицо смотрит бодро, спокойно. Прежний трепет волнения исчез с него бесследно. Голос ее звучит твердо и смело, когда, повернувшись к отцу, она говорит с ласковой улыбкой:
– Не беспокойтесь обо мне, папаша! Меня действительно знобит немножко… Усну – и все как рукой снимет к завтрашнему утру.
– Ну, Христос с тобой, детка, ложись скорее. И впрямь, пожалуй, сон – лучшее лекарство, – произнес отец, поднимаясь с кресла. И, обняв дочь, он крепко поцеловал ее в обе побледневшие щечки.
При этом прежнее волнение снова вернулось было к Наде.
«В последний раз! – произнесла она мысленно, целуя благословлявшие ее руки. – В последний раз…» Завтра это драгоценное благословение получат Клена и Вася… а она… Надя… злая, непокорная Надя, самовластный гусаренок, милый «рябчик», Надя – его любимица… будет уже далеко-далеко…
Но Андрей Васильевич не заметил нового волнения дочери. Он еще раз поцеловал смуглое личико и, не обернувшись, исчез за дверью.
И хорошо сделал, что не обернулся. Его Надя, его бедный, милый «рябчик», стояла теперь на коленях перед креслом, на котором он только что сидел, и покрывала его старенькую кожаную обивку исступленными поцелуями, смешанными с беззвучными слезами…
Иные минуты в жизни человеческой кажутся вечностью. Такие именно минуты и переживала Надя, ползая на коленях вокруг кожаного кресла и покрывая поцелуями и слезами и самое кресло, и пол горницы, где, казалось, еще оставались следы ее отца…
Наконец уже слез не хватало. Их точно выпило до капли измученное сердце смугленькой девочки.
Она тяжело поднялась с колен и, пошатываясь, подошла к дубовому комоду, на котором стояло небольшое круглое зеркальце. Пошарив в комоде и почти ничего не видя от слез, она наконец подняла руки над головою. Какой-то небольшой блестящий предмет блеснул в ее пальцах… Миг – и тяжелая темно-русая коса скатывается, отделенная от головы девушки, и, свернувшись змеею, падает на пол…
Дрожащими руками срывает теперь с себя Надя все принадлежности своего девичьего туалета. С лихорадочной поспешностью выбрасывает она из комода широкие казачьи шаровары, высокие грубые сапоги, длиннополый синий чекмень[5], барашковую шапку с алым верхом и алый пояс. Все это, как в сказке, словно по щучьему велению, появляется перед нею. Дрожащие руки плохо повинуются ей… Их движения судорожны, торопливы, даже пальцы сводит от волнения…
Только через четверть часа, совершенно перерожденная своим новым костюмом, взглядывает она в зеркало.
В синем чекмене, перетянутом в талии алым поясом, с заткнутым за него оружием, в казачьей шапке на коротко остриженных «в кружок» волосах, она ничего не имеет общего с прежней Надей, дочерью сарапульского городничего. Ничего женского нет в этом бледном лице, таком юном и отважном.
Не больше четырнадцати лет на вид кажется ему – этому юному, стройному казачку-мальчику с упрямым крутым лбом и темными, так и поблескивающими из-под черных бровей глазами.
И дивится невольному своему новому виду Надя. Как, однако, преображает срезанная коса и мужская одежда!.. Но ей нет времени раздумывать и мешкать.
Где-то недалеко от садового домика слышится шелест сухих листьев и ржание коня.
– Милый! Заждался меня! – тихо произносят губы Нади, и впервые за этот вечер счастливая улыбка скользит по ее смуглому лицу.
Проворно берет она со стола кубышку с деньгами и часы, погружает то и другое в глубокий карман казачьих, с красными лампасами, шаровар. Потом, еще раз взглянув во вдохновенное лицо странной пастушки, Надя снимает шапку, истово крестится широким русским крестом и бесшумно проскальзывает за порог горницы…
В старом саду темно как в могиле. Но знающей каждый его закоулок Наде не надо света. Под ее ногами шуршат осенние листья. Над головой радостно мигают алмазные звезды, а в сердце Нади борется безумная печаль с радостным сознанием обретенной свободы…
Миновав дубовую аллею и повернув за угол развалившейся беседки, вокруг которой мраморные фавны[6] замерли в прыгающих позах, Надя выходит на береговой обрыв, где мерно катит свои темные воды тихо плещущая и царственно-спокойная Кама.
– Алкид! – чуть слышно зовет девушка, и в ответ ей звучит новое ржание коня, где-то уж близко, совсем близко от нее, там, за кустами дикого орешника, разросшегося в изобилии по уступам обрыва.
И в ту же минуту две темные тени выступают из темноты в лунную полосу: тень высокого человека в кучерской поддевке и серого в яблоках статного коня чистой карабахской породы.
Это конюх Ефим с Алкидом – неизменным другом и любимцем Нади.
– Ах наконец-то, барышня! А мы уж заждались вас! – говорит он веселым шепотом. – Да куда же это вы собрались в такую позднюю пору?
Ефим нисколько не поражен мужским костюмом Нади. Не раз дворня видела в нем старшую барышню во время ее верховых прогулок по сарапульским окрестностям. Сам городничий, выучивший верховой езде дочь, подарил вместе с конем и весь казачий костюм своей любимице, находя, что в мужском одеянии гораздо удобнее и легче держаться в седле.
Не то удивляло Ефима, а позднее время, выбранное барышнею для верховой прогулки.
Еще до ужина Надя таинственно вызвала его из людской и приказала ему к 12 часам ночи оседлать Алкида и ждать ее вместе с конем над обрывом, позади сада.
Он не посмел ослушаться молодой хозяйки, обещавшей ему к тому же щедрое вознаграждение. И Надя сдержала свое обещание: из тонкой девичьей руки в заскорузлую, грубую ладонь Ефима перешла целая груда монет – и медных, и серебряных.
– Слышишь, никому ни слова о том, что видел, – дрожащим голосом говорит она теперь чуть ли не до земли кланявшемуся ей конюху. – Я на тебя надеюсь, Ефим! А теперь ступай! Ты мне больше не нужен.
– Да куда же вы собрались, барышня? – по-прежнему недоумевал тот, хлопая глазами. – И скоро ли вернуться изволите?
– Вернусь ли скоро – не знаю, голубчик, – с невольной грустью в голосе произнесла Надя. – Я еду туда, где меня ждет счастье!.. Прощай же, старина! Не поминай лихом!
Быстро вскочив в седло с легкостью настоящего кавалериста, Надя легонько тронула ногами крутые бока Алкида, и скоро ее стройная фигурка, слившаяся в одно целое с силуэтом коня, исчезла во мраке осенней ночи.
Глава IV
Недавнее былое
Студеная осенняя ночь Прикамского края широко раскинула свои черные крылья над уснувшими окрестностями Сарапула…
Надя медленно подвигается вперед. Она едет шагом, чтобы не утруждать Алкида. Еще целых 50 верст придется сделать в эту ночь ее верному другу. Внизу, под ее ногами, по-прежнему катит свои глубокие воды темная Кама – младшая сестра красавицы Волги. По ту сторону ее далеко чернеют в отдалении громадные силуэты лесов-исполинов соседних Пермской и Оренбургской губерний. В их темных зарослях таятся зеленые озера со студеной и зеркальной поверхностью. Там водятся разные дикие звери и недобрые люди из кочевых бродячих киргизских племен. Но не туда держит путь отважная смуглая девушка в казачьем чекмене и барашковой шапке. Ее путь лежит южнее, к темному вятскому лесу, громадным пятном чернеющему перед ней на горизонте.
Там, за этим лесом, – цель ее путешествия.
Два дня тому назад вышел казачий полк из Сарапула, куда был прикомандирован на лето для усмирения разбойничьих шаек. Надя слышала, что дневка полка назначена в 50 верстах от Сарапула, за этим темным лесом, и она должна во что бы то ни стало примкнуть к нему с зарею.
Еще издали высокие гиганты протягивают к ней свои сучковатые ветви-руки, и она въезжает на своем коне под их таинственно-мрачный полог.
Здесь, под покровом леса, наполовину оголенного в эту позднюю осеннюю пору, девушка совсем почти выпускает поводья. Ей хочется отдохнуть, успокоиться немного. И понятливый конь тотчас же замедляет ход, угадывая желание своей юной госпожи.
Теперь она двигается медленно, тихо. Одна рука, выпустившая поводья, упала на стройную шею Алкида, другая бессознательно перебирает его шелковистую гриву.
Глубоко задумалась Надя… Перед нею проходит целый ряд картин, еще недавних, но кажущихся теперь такими далекими, давно минувшими…
Перед нею далекая пыльная дорога… О, какой бесконечной кажется она!.. Горячее солнце печет вовсю. Оно не знает удержу, это летнее солнце, такое яркое, безжалостно палящее.
По пыльной дороге, ровно выстроившись в стройные, ровные шеренги, скачут гусары. Взвод за взводом, эскадрон за эскадроном. Сколько их! Не счесть… Между ними и она – Надя, крошечная, чумазая трехлетняя девчурка, важно восседающая в седле своего дядьки, правофлангового гусара Астахова. С самого раннего детства Надя и не помнит иной няньки. Асташ ходит за нею, Асташ умывает и одевает ее по утрам, а вечером укладывает на сон грядущий. Он, тот же неизменный Асташ, первый учит ее читать «Богородицу» и складывает крохотные ручонки на молитву. Он же, ради Надиного удовольствия, машет затупленной на конце саблей перед лицом девочки, приводя ее в восторг видом сыплющихся огненных искр… Он дает ей пистолет – пощелкивать, старый, заржавевший пистолет, негодный к употреблению, а по вечерам носит ее к музыкантам, которые перед зорею[7] играют всевозможные штучки на потеху «ротмистровой дочурке», как называют бравые усачи гусары свою общую любимицу Надю.
Да и нельзя не любить ее, эту чумазенькую, сметливую девчурку, поминутно выкрикивающую своим детским звонким голоском слова кавалерийской команды:
– Эс-кад-рон, спра-ва по три заезжай! Марш, марш! – И слушая этого крошечного командира, и полковник, и офицеры, и лихачи гусары – все они помирают со смеху.
– Ай да Надя! Ну, можно ли не любить эту прелесть?! – говорят они, искренно любуясь занятным ребенком.
А между тем «кое-кто» не любит ее, Надю!
Тут же в походе, «на марше», едет за полком карета. В ней сидит молодая дама поразительной красоты. Это – Марфа Тимофеевна Дурова, мать Нади, и она-то и не любит свою девочку.
Еще до рождения дочери прелестная молоденькая ротмистрша мечтала иметь мальчика-сына, изящного и белокурого, как маленький ангел. И вместо него родилась Надя – смуглая, некрасивая, крикливая Надя, с громадным ртом и крупными чертами.
И Марфа Тимофеевна, обманутая в своих ожиданиях, невзлюбила ребенка. К тому же ее дочь не отличалась кротостью и кричала с утра до ночи, так что ее пришлось взять из кареты и вверить попечениям флангового Астахова. Здесь она может кричать и вертеться досыта: Астахов – чудо терпения и боготворит ее. И сейчас, в этот знойный летний полдень, Наде не сидится спокойно в солдатском седле.
– Астас! – картавит она по-детски. – Я пляницка хоцу! Дай пляницка Надюсе!
И мигом появляется, Бог весть откуда, медовый, порядочно-таки засусленный пряник и из заскорузлой солдатской руки прямо переходит в алый ротик темноглазой девчурки…
Надя грызет пряник, а гусары идут себе да идут вперед по пыльной дороге, позвякивая стременами, поблескивая на солнце серебряными ментиками[8] да золочеными шнурами своих венгерок.
Их однообразное шествие усыпляет Надю… Пряник выскакивает из детской ручонки и падает на дорогу. Темно-русая головенка склоняется на сильную солдатскую грудь, и Надя засыпает блаженно-сладким сном золотого детства…
Новый миг – новая картина…
Небольшая уютная комната… Широкое окно, выходящее в сад… Под окном куртины[9] и клумбы, сплошь засаженные резедой, левкоем, душистым горошком…
Душный июльский полдень близится к концу. Косые лучи солнца проникают в окно и золотят темно-русую головку, склоненную над работой…
Пчелы жужжат назойливо, однозвучно, носясь над куртинами сада. От куртин поднимается душистая, пряная волна аромата. Она кружит темно-русую головку, мешает сосредоточиться детским мыслям, отвлекает от работы…
Жжж! – жужжат пчелы. Вот охота сидеть за скучным плетением, когда все здесь, в саду, так ярко, блестяще и красиво! Брось свои кружева, дитя! Выйди к нам, в наш мир тепла, воздуха, света!
И смугленькая девочка борется с непреодолимым желанием. Перед ней безобразный валёк, на котором вьется между двумя рядами коклюшек бесконечная полоса кружев, неровная, грязная, захватанная детскими ручонками.
С ненавистью смотрит смугленькая Надя на злополучный валёк, а пчелы вокруг нее жужжат все назойливее и громче: «Выйди! Выйди к нам! У нас так хорошо и привольно!»
На этот раз искушение слишком сильно. Смугленькая девочка бросает тревожный взор на дверь, потом с легкостью кошки вспрыгивает на окно, и через минуту ее не по летам высокая, тоненькая фигурка в белом платьице несется стрелой по аллее, прямо навстречу солнцу и свету, теплу, цветам и пчелам… Вот уже она миновала цветник и очутилась между кустами орешника, на крутом берегу Камы… Здесь, в этой чаще, она с тем же неизменным Асташом построила крошечную беседку, носящую громкое название «Надин арсенал».
Теперь – увы! – Асташ уже далеко. Ахтырский полк продолжает вести свою походную жизнь, в то время как гусарский ротмистр Дуров, отец Нади, навсегда оставил строй и прежних друзей, получив место городничего в уездном городе Сарапуле на Каме. Астахов ушел, а Надя осталась.
Неделю только провел бравый гусар в гостях у своего ротмистра, а уже успел порадовать свою питомицу и выстроить ей этот «арсенал» на память о себе. Крошечная хижинка на берегу Камы сделана по всем правилам военного искусства. Это настоящий крошечный арсенал с игрушечными пушками, выдолбленными из дерева по образцу настоящих; а внутри «арсенала» скрыты всевозможные сокровища: тут и старые ржавые пистоли, и такие же сабли, и длинная винтовка, и расстрелянные патроны, и много-много подобных вещей.
Надя совсем переродилась среди всех этих, милых ее сердцу, сокровищ. Теперь уже никак нельзя признать в этой маленькой отважной фигурке прежней сонливой девочки, склоненной лишь какие-нибудь полчаса тому назад над скучным плетением. С разгоревшимися глазами, с пылающим лицом она машет тяжелой саблей над головою, щелкает курками пистолетов и кричит резким, пронзительным голоском:
– Эскадрон! В атаку! Марш, марш! – и несется с диким пламенем в глазах от порога хижины прямо в густо разросшиеся кусты орешника, махая своею саблею и отхватывая ею зеленые ветки с чуть намеченными плодами.
Кусты хлещут по лицу дикую девочку, царапают ей шею и руки… Она отчаянно продирается сквозь них, пылкая, порывистая, способная забыть целый мир в своей упоительной игре…
А по тропинке, проложенной к «арсеналу», бежит уже толпа дворовых девушек, кричащих на разные голоса:
– Барышня, к мамаше! Маменька гневаются! Извольте идти скорей домой.
И вот воинственный жар сразу исчезает из сердца странной девочки. Пистолет и сабля выпадают из рук, и, печально поникнув головою, она идет, окруженная торжествующим сбором всех этих Дашек, Акулек и Танек, туда, где ее ждут ненавистные кружева, длинная нотация, брань, быть может, даже наказание.
Темный лес, молчаливый и непроницаемый, как тайна, по-прежнему окружает своим тесным кольцом со всех сторон Надю… Алкид изредка издает продолжительное ржание. Над головою все то же алмазное небо, осыпанное мириадами звезд…
Темный лес надвигается все ближе и ближе… Он точно хочет завлечь и замкнуть юную всадницу в свой заколдованный круг. Точно хочет заключить ее в заповедный тайник своего глухого, мертвого царства. Но смугленькая Надя не боится темного леса… Она ничего не боится, эта отважная, смелая девочка, с душою сильною, твердою, не женской душой. По-прежнему спокойным, мерным шагом едет она по узкой лесной тропинке, сплошь покрытой шуршащим ковром опавшей листвы. По-прежнему тонкая ручка машинально теребит шелковистую гриву Алкида, а в пылкой головке одна за другой тянется вереница картин и образов недавнего былого.
Перед ней светлый теплый июльский вечер. Полный благовонного аромата, стоит он над Камой. У самой реки, на отлогом, заросшем сочной муравой берегу, у пылающего костра сидит нарядное общество.
Поверх разостланной на траве скатерти расставлены закуски, вина, прохладительное питье. Общество преимущественно состоит из дам – хозяек лучших домов Сарапула. Между ними и мать Нади. Тут же под деревом и сама Надя, высокенькая не по летам десятилетняя девочка, с мрачными глазами и задумчивым лицом.
– Я не могу справиться с этой девчонкой, – слышится холодный, ровный, точно металлический голос Надиной матери, – все в ней грубо… невоспитанно… резко… Муж сделал ошибку, отдав ее воспитывать этому ужасному солдафону Астахову, и теперь мне стоит многого труда повернуть по-своему эту упрямую, своенравную натуру.
Надя понимает, о ком идет речь. Но ни стыда, ни смущения не видно на ее смуглом личике. Она уже привыкла к постоянному недовольству матери, и к выговорам, и даже к наказаниям. Да и потом… виновата ли она, Надя, что Бог дал ей не женскую душу? Виновата ли, что с колыбели только и слышала трубные звуки полкового марша, бряцание стремян и сабель, что детской постелькой служила ей круглая спина эскадронной Матреши, нянькой – милый, незабвенный, дорогой Асташ, которого она никогда не забудет?
Если ей и больно и обидно сейчас, так только оттого, что опять затронули этого ее ненаглядного Асташа, обидели его незаслуженно, обозвав «ужасным солдафоном».
Это он-то ужасный, он – ласковый и нежный, учивший ее всегда относиться хорошо и участливо к людям? Он, от которого она выучилась любить и понимать людей, жалеть бедняков, сочувствовать несчастным?…
И смугленькая девочка дрожит от негодования и гнева за своего далекого друга. Глаза ее разгораются все ярче и ярче, лицо принимает гневное, отталкивающее выражение. Она разом делается некрасивой, почти безобразной.
– Полюбуйтесь на нее. Ну, не сущий ли это волчонок, право! – слышится снова холодный, раздраженный голос. – И кто скажет, что это моя дочь… Хороша, не правда ли? Пришлось ее взять на прогулку сегодня, чтобы она, по своему обыкновению, не выкинула какой-нибудь новой шалости, оставшись дома… О, я несчастная мать!
И в металлическом голосе дрожат нотки настоящего отчаяния.
Но сарапульские дамы не согласны с мнением Марфы Тимофеевны.
Нет, нет! Она не несчастная мать, она не может быть несчастной, когда у нее есть Клена – этот белокурый ангел с картины Рафаэля, это благословение Божие их семьи, Клена, красавица Клена!
И сарапульские дамы начинают всячески хвалить белокурую Клену, совершенно позабыв о близости смугленькой девочки, угрюмо притаившейся в сторонке. А смугленькая девочка так бесконечно рада ускользнуть от общего внимания.
«А что, если?… – прорезывает внезапная мысль десятилетнюю головку. – Что, если умчаться туда, в эту чащу, которая так манит своим приютом и прохладой? Ведь пройдет достаточно времени, пока эти дамы перестанут восхвалять достоинства Клены! Полчаса на восхваление, полчаса на закуску. Итак, ей остается час. Целый час свободы! О, она, Надя, отлично сумеет воспользоваться им!»
И прежде чем кто-либо спохватился, смугленькая девочка уже далеко…
Темная зеленая чаща дала ей больше, чем обещала… Громадные деревья точно упираются в синее небо своими мохнатыми верхушками; синее небо ласково сквозит сквозь зеленое кружево листвы… В высокой сочной траве растут дикие маргаритки, реют крылатые кузнечики, изумрудные букашки и божьи коровки, похожие на рубиновые капельки крови…
Надя вдыхает в себя ароматный запах смолы, бросается в траву и лежит там несколько минут без мысли, без желания, прижимаясь пылающим лицом к сочной прохладной мураве… Потом быстро вскакивает на ноги, нагибает к земле гибкую ветку громадной плакучей березы, в виде молчаливого сторожа стоящей над диким лесным озерком, и, вскарабкавшись на нее, усаживается на ветвистом суку, низко склоненном над водою.
Все лицо ее светится безумным восторгом… Она вполне отдается этому новому наслаждению. Она ликует… Целые дни, проведенные с утра до вечера над скучными коклюшками или за чтением французской книжки, дни тоски, выговоров, наказаний, – все забыто. Она точно и не Надя больше, а маленький дух этого дикого леса, с его вековыми деревьями и зелеными озерками на каждом шагу. Раз! – и она прыгает с наклонившейся под тяжестью ее тела ветки и опять бежит, путаясь в высокой траве, падая и спотыкаясь, и опять поднимаясь, и опять падая, все дальше и дальше в сонную чащу, густо заросшую, дикую, почти непроходимую на взгляд… Голоса с реки доносятся все глуше и глуше… Вот одна теперь, совсем одна среди лесного царства, перед лицом неба и леса, такого ласкового, гостеприимного, веселого…
В изнеможении падает она в траву и разом засыпает счастливым ребяческим сном, наполненным радостным роем самых светлых и дивных видений. Зато пробуждение ужасно… Открыв заспанные глаза, она видит перед собою мать, гневную, рассерженную до последней степени. А кругом недовольные, усталые лица… Они все искали ее, считали погибшей, съеденной волками, упавшей в Каму. Хорошенькую прогулку, нечего сказать, устроила им эта несносная маленькая девочка! И несносная маленькая девочка получает наказание, беспощадное, строгое, почти жестокое, и выносит его стойко, без слез и криков, свойственных детям ее возраста…
Черная-черная северная вятская ночь… Почти такая же, как эта, но еще чернее, еще непрогляднее… Ярко мигают ласковые звезды на далеком небе… На крыльцо дома проскальзывает маленькая фигурка в неизменном белом платьице… Смуглое личико полно напряженного внимания и тревоги… Она прислушивается с минуту, держась рукой за косяк двери…
Слава Богу, ни звука! Все спят спокойно. И в два прыжка беленькая фигурка минует шаткие ступени и несется по дубовой аллее в сторону домовых построек и заднего двора.
Уже у самой конюшни, цели ее путешествия, кто-то настигает белую фигурку и чем-то влажным и скользким касается ее обнаженной руки.
Белая фигурка вздрагивает от неожиданности, пугливо озирается и вдруг заливается тихим задавленным смехом.
– Мустафа, Магомет! Эх испугали, противные!
Два громадных мохнатых дворовых пса с тихим взвизгиванием прыгают вокруг Нади. Один из них подскакивает повыше и вмиг облизывает все ее лицо своим горячим влажным языком. Другой умильно обнюхивает руку девочки, в которой та держит большую краюху хлеба, густо посыпанную солью.
– Нет, нет, это не для вас! – говорит Надя и грозит пальцем. – Не для вас – для Алкида. Да тише же, негодные! С ног собьете!
Но собаки не унимаются. Они своими дикими прыжками провожают Надю до самых дверей конюшни. С замиранием сердца отодвигает она засов от дверей и входит в стойло Алкида.
Месяц тому назад привели этого дикого красавца Карабаха на двор городничего. Как сейчас, помнит Надя общий восторг, вызванный появлением чудного коня. Он никого не подпускал к себе – этот статный дикарь, не знавший, однако, до сих пор узды и повода.
И вот его обуздали. Лихой кавалерист и бесподобный наездник, Андрей Васильевич с большим трудом усмирил дикого черкесского скакуна.
Но зато благородный конь и повиновался одному только ротмистру.
Ему да Наде.
То, чего достиг силой и плетью городничий, того добилась одной лаской и терпением смуглая девочка.
И ни одна душа не знала об этом в доме. Целый день проводила Надя за своим плетением, усмиренная, притихшая на вид. Марфа Тимофеевна понять не могла причины этой перемены с дочерью.
– Слава Богу, образумилась наша Надя. Начинает позабывать свои гусарские замашки, – говорила она не раз Андрею Васильевичу.
Но Надя, присмиревшая с виду, остается все тем же дичком в душе, тем казаком-девчонкой, тем же гусарским питомцем, каким была раньше.
Умная девочка поняла, что этим кажущимся смирением она может добиться многого и, по крайней мере, усыпить подозрительность матери и достичь своей цели. А эта цель наполняла теперь все существо Нади.
С той минуты, как она увидала дикого Карабаха, с мечущими искры глазами, с нервными ноздрями и распущенным по ветру хвостом, она отдала ему все свои детские думы, все свое маленькое сердце.
Вскочить на его сильную спину, тронуть крутые бока и нестись, подобно стреле, выпущенной из лука, на гордом диком скакуне с быстротою ветра – вот о чем только и мечтала теперь отважная девочка.
И мечта ее осуществилась… Каждую ночь, когда все затихало в доме городничего и погружалось в сон, смугленькая девочка проскальзывала тайком из детской, где крепким, безмятежным сном спали ее младшие сестра и брат, и прокрадывалась в конюшню. Там она ласково гладила Алкида, с любовью разговаривала с ним, задавала ему новый корм в ясли, кормила хлебом с солью, любимым его лакомством, и всячески старалась угодить ему.
И конь, и девочка отлично понимали друг друга. Через неделю, не больше, дикий Карабах покорно выходил из стойла, ведомый в поводу маленькой детской ручонкой. Надя подводила его к скамейке, стоявшей в углу двора, и при ее помощи карабкалась на крутую спину Алкида.
Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее кружилась она по просторному двору на послушно повиновавшемся ей четвероногом дикаре.
А еще через неделю маленькая всадница поздней ночью бесстрашно объезжала спящие крепким сном окрестности Сарапула…
Черная ночь окутывает городские дома и сады своим темным покрывалом, а беленькая фигурка, точно вросшая в седло, носится по крутому берегу Камы, рискуя каждую минуту свергнуться вместе с конем в холодные воды сонной реки. Но сам Бог хранит маленькую всадницу с ее конем. Усталая, но довольная и счастливая, перед самым рассветом только подъезжает она к дому… Но что это? В окнах его горят огни, мелькают тени. Прислуга снует по двору с зажженными фонарями…
Очевидно, ее ищут, ее хватились…
Сердце смугленькой девочки ёкает и замирает. Не наказания боится она, нет! Ей страшно за будущее, страшно потерять эту прелесть полуночных прогулок, страшно разлуки с Алкидом, которого она любит теперь больше всех и всего, после отца конечно.
– Барышня! Неужто ж это вы, матушка?
На лицах конюха Ефима и дворецкого Потапыча написан самый неподдельный ужас.
Их маленькая барышня так же спокойно сидит на спине «дьявольского коня», как они называют Алкида, как в кресле. А между тем этот конь никого, кроме самого хозяина, не подпускает к себе! Поистине адское наваждение…
А уж из дома к заднему двору несется, бестолково размахивая руками, целая вереница Дашек, Танек, Акулек.
Надю снимают с седла и торжественно ведут к матери на суд и расправу. Но на этот раз ни суда, ни расправы не последовало. Не наказывать же ее в самом деле, как маленькую, – эту тринадцатилетнюю девочку с ее почти сложившимся характером, таким настойчивым и упорным!
И когда преступница предстала перед лицом своего грозного судьи, Марфа Тимофеевна только взглянула на нее своим острым стальным взглядом и произнесла холодно, но спокойно:
– Ты неисправима. К сожалению, я не могу более сомневаться в этом. Родительский дом тебе, должно быть, не по нутру, и поэтому с завтрашнего же дня ты отправишься к бабушке Александрович в Бидливые Кровки и будешь жить там до тех пор, пока тоска по домашним не вернет тебя к нам раскаявшейся и исправленной вполне. А теперь ступай от меня, непослушная, негодная девчонка!..
Но непослушная, негодная девчонка стоит как заговоренная, не делая ни шагу. Чутким ухом слышит она приближающиеся шаги… Да, да, слух не обманывает ее – это он! Отец… Его разбудили, встревожили, обеспокоили из-за ее исчезновения.
Он входит в своем старом беличьем халате, с неизменной трубкой во рту. Его лицо бледно и носит следы тревоги.
– Надя! Девочка моя, что ты опять наделала?! Пойми же, малютка, ты не мальчик. И мальчишеские замашки твои не могут радовать меня. Дитя! Дитя! Я сам, видит Бог, искренно желал иметь старшего в роде сына, чтобы он со славой продолжил наш честный дуровский род, но раз этого не случилось – не можем же мы идти против судьбы, дитя! Надо покориться! Пойми же меня, моя милая, злая девочка!
Но «злая» девочка ничего не понимает. Она только знает одно: ее счастье кончилось; взойдет солнце, и она в последний раз пожелает доброго утра ему – дорогому, чудному папе.
И злая девочка судорожно рыдает тяжелыми, не детскими слезами, рыдает оттого, что Бидливые Кровки будут так далеко, далеко от ее ненаглядного папы и оттого, что жестокая судьба сделала непростительную ошибку, создав ее девочкой…
Безоблачное, горячее и синее-синее, как исполинский сапфир, повисло небо над роскошной, самим Богом благословенной Украиной… Небольшая, но глубокая речка Удай, пересекая один из живописнейших уголков Кобелякского уезда, струит свои прозрачно-зеленоватые воды. В этом живописном уголке все так свежо, нежно и красиво: и белые как снег, крытые соломенными кровлями хатки, особенно белые и чистые благодаря хозяйственности и домовитости полтавских хохлушек, и вишневые садочки, наполняющие воздух одуряющим в эту раннюю весеннюю пору ароматом своих цветов, и степи, зеленые степи, без конца и начала, с чуть поднявшимися изумрудными хлебами. А над всем этим чудным благоухающим югом целое море золотых лучей, так обильно и щедро рассылаемых разнеженным солнцем мая.
В громадном дубе[10] по узкому извилистому Удаю плывет Надя. Как она выросла и загорела! Сколько радостного возбуждения в смуглом, посвежевшем на вольном воздухе личике! Движения ее уверенны и ловки. Она умело правит рулем, в то время как четыре девушки-хохлушки, принадлежащие к обширной дворне «Бидливых Кровок», мерными взмахами весел разрезают быстрые прозрачные воды реки…
– Ой, панночку, лихо! – кричит быстроглазая Одарка, приставленная в качестве горничной к новой обитательнице Бидливых Кровок. – На брод, на брод вгодили!
И тут же сильный толчок лодки заставляет подпрыгнуть на месте молоденьких путешественниц.
Они действительно наехали на мель. Лодка покачнулась и села, вонзившись в глубокий речной песок. Но это ничуть не нарушает веселого настроения девушек. И быстроглазая Одарка, и живая хорошенькая Хивря, и молоденькая Гапка с двумя черешнями вместо глаз, да и сама Надя – все это хохочет весело, заразительно, звонко.
Мигом сбрасывается тяжелая обувь со стройных девичьих ножек, и вся маленькая толпа проказниц перебирается вброд к отлогому берегу, густо поросшему осокой.
Надя впереди других. Ее лицо так и сияет оживлением. Простой посконный сарафан, вышитая рубаха, бесчисленные мониста на совсем черной от загара шейке совершенно преображают прежнюю сарапульскую барышню и мало отличают ее от всех этих Одарок, Хиврей и Гапок, чумазых и здоровых деревенских девчурок. Со смехом бежит она впереди них, босая, хохочущая, с растрепанной вдоль спины косою. И вдруг острый взгляд девочки замечает нечто неподалеку речного берега в траве. С виду это совсем ничтожный блестящий глянцевитый шарик с двумя зелеными, ярко горящими пуговками. Но Надя знает и этот шарик с двумя пуговками, знает смертельную опасность, грозящую каждому, кто наткнется на него. Быстро наклоняется девочка. Миг – и зеленое, тонкое, как лента, тельце гадюки судорожно извивается кольцом, стиснутое за горло смуглой, тонкой рукой.
Теперь Надя с тем же хохотом несется назад, прямо навстречу своим деревенским подружкам, все сильнее и сильнее стискивая своими тонкими пальчиками горло змеи.
Хивря, Мотря, Одарка и Горпина шалеют от ужаса и с диким криком бросаются врассыпную, подальше от отчаянной панночки и ее страшной пленницы.
А она так и помирает со смеху, размахивая мертвым телом уже задушенной гадюки. Потом, сильно размахнувшись, она хочет бросить труп змеи в кусты и вдруг, разом, замирает от неожиданности и изумления.
Кусты осоки раздвигаются перед нею, и, как в сказке, нежданно-негаданно появляется среди них черноглазый, кудрявый мальчик, почти юноша, лет шестнадцати-семнадцати на вид.
Но сам черноглазый мальчик со своим загорелым, скорее симпатичным, нежели красивым лицом очень мало похож на сказочного принца. На нем простая полотняная блуза и широкие малороссийские шаровары навыпуск. Лицо дышит здоровьем и приветливостью.
– Здравствуйте! – говорит черноглазый мальчик. – Не бойтесь меня: ничего страшного во мне нет.
– Я никого и ничего не боюсь и не боялась! – надменно обрывает его Надя, и оживленное лицо ее разом принимает выражение гнева и обиды.
– Ишь какая храбрая! – насмешливо протягивает юноша. – Ну, ну, ладно! Не злитесь! На меня никто никогда не злится. Вы, кажется, убили гадюку? Здорово! В первый раз вижу, чтобы наши девчонки занимались таковскими делами! Ну, ну, не обижайтесь! – поспешил он прибавить, заметя неприятное впечатление, произведенное последними словами на его новую знакомую. – На меня, повторяю вам, нельзя злиться, я – само добродушие. А зовут меня Сашей. Просто Сашей, а то и Сашей Кириак, если желаете. А ваше имя, сударыня?
– А меня зовут Горпиной, Грицкина Горпина из крайней хаты. Слыхали? – храбро солгала Надя и покраснела.
– Те-те-те! Меня не проведете! Знаю я, какая вы Горпина. Даром что босоножка и загорели, как чумичка… И вовсе не Горпина вы, а панночка из Бидливых Кровок… Бабушки Александрович внучка! Правда?
– Ну, правда, если хотите! – согласилась Надя, и оба хохочут тем веселым, почти беспричинным молодым смехом, который сближает разом почти незнакомых людей.
– А вы зачем это в кустах прячетесь да подглядываете, а? – шутливо накинулась на своего нового знакомого Надя, вытирая выступившие от смеха слезы на глазах.
– Вас хотел посмотреть, – просто ответил мальчик.
– Меня? – делает она большие глаза. – Да что же я за особенная такая, что на меня смотреть ходят?
– А вот и выходит, что особенная. Ведь вас сюда, говорят, на исправление прислали к бабке. Вы, говорят, из двух пистолетов разом стреляете, и полком командовать умеете, и саблей рубитесь, как гусар. Говорят, вы вашу маменьку очень огорчали и в наказание вас в Бидливые Кровки запекли. Правда?
– И правда, и нет! – откровенно созналась девочка, ничуть не смущенная его словами. – И из-за этого-то на меня и приходят смотреть, как на чудовище какое-то? – спросила она с улыбкой.
– Признаюсь, из-за этого… А только, знаете ли… Я разочаровался…
– В чем?
– Да не оправдываете вы моих ожиданий… Я думал что-то особенное встретить… новую русскую Жанну д'Арк…
– Кого?
– Жанну д'Арк. Разве вы не слышали? Такая героиня была в XV веке, во времена старой Франции… Она войском командовала… знаете… а сама как простой солдат жила, на голой земле спала, хлебом да водой питалась. У меня о ней целая книжка есть! Хотите, принесу? И картина о ней тоже…
«Жила как простой солдат… войском командовала… – словно зачарованная, как в чаду, повторяла Надя. – Так, значит, была же такая, что пренебрегла своей девичьей долей и пошла против самой природы наперекор судьбе…»
– И что же, добилась она чего-нибудь? – вся задыхаясь от волнения, спросила она своего нового собеседника.
– Ну, понятно, добилась, врагов-англичан разбила в пух и прах, потом, с мечом в руке, путь в столицу, занятую неприятелем, проложила для будущего короля Франции. А в конце концов сгорела на костре, заподозренная в колдовстве…
– Стойте, стойте! – вся потрясенная до глубины души, в бессознательном порыве и стискивая его руки, воскликнула Надя. – И эта девушка-воин, как она дошла до того, каким образом почувствовала она свое призвание?
– Во-первых, вы не щиплите меня, пожалуйста, – спокойно произнес Саша, с комической опасливостью отодвигаясь от своей новой знакомой. – А то вы сами не замечаете, как исщипали мне руки; а во-вторых, Жанна еще в детстве слышала голоса под священным дубом, призывающие ее к мечу и к подвигу. Да всего вам и не расскажешь; лучше я вам книжку принесу сюда или к тетке вашей, Злачко-Яворской, благо мы с ней соседи по домам в Лубнах. Вы, поди, ее племянницу, Людмилочку Остроградскую, еще не знаете?
– Не знаю.
– Напрасно! Добрая девочка, даром что гадюк не истребляет и в Жанны д'Арк не годится. Они в Лубнах живут зимой. А летом здесь… У них вечера бывают… танцы… Гостей наезжает много. Бабушка вас наверное пошлет к ним знакомиться. Туда и книжку принесу… А пока домой пора. Пять верст – конец не малый. Мама у меня взыскательная. Попадет, чего доброго…
– Так не забудете книжку?…
– Не забуду уж! Прощайте, будущая Жанна д'Арк.
– Прощайте, Саша!
Стройно и звучно льются нежные звуки старинного прадедовского экосеза[11]… Мелькают в плавных, красивых движениях танца нарядные пары юных гостей. Низкие поклоны, изящные позы, грациозные реверансы и сияющие молодостью глаза и улыбки – все это сливается в одну сплошную звучную гамму все нарастающего и накипающего бурного веселья.
Домашний оркестр богатой и гостеприимной помещицы Злачко-Яворской вылезает, как говорится, из кожи, лишь бы доставить удовольствие своим исполнением ласковой и тороватой хозяйке. Тонким голосом заливаются скрипки. Мощным басом вторят им контрабасы.
Неподдельное веселье царит кругом. Кружева, блонды, цветы – все это смешалось в одно пестрое облако, закружившееся, завертевшееся в упоительном танце…
Беспечно-весело танцует Надя. Ради нее да ради ее кузины Милочки Остроградской и устроила весь этот вечер их баловница тетка. Не узнать теперь Надю. В своем длинном воздушном платьице, с высокой модной прической, побелевшая, благодаря усиленным заботам тетки Яворской, всеми силами старавшейся свести загар с лица смуглянки, Надя кажется теперь вполне скромной и воспитанной барышней. По крайней мере, она ничуть не отличается манерами от своей кузины Милочки, танцующей визави с каким-то высоким мальчиком-кадетом.
Надя танцует с Сашей. И он много изменился за этот год. Здесь, в Лубнах, он уже не носит своей парусиновой блузы и высоких сапог. На нем фрак, жабо из кружев, на ногах щегольские туфли с блестящими пряжками.
Он успел близко подружиться с Надей за это время. Целый год прошел с тех пор, как он встретил босоногую панночку из Бидливых Кровок с удушенной гадюкой в руке. С тех пор уже Надя успела переселиться, по просьбе тетки Яворской, к ней в Лубны, успела приучиться к занятиям, приличным молоденькой барышне из старинной дворянской семьи. Надя отлично рисует, немного поет, играет на клавикордах. Тетя Яворская не жалеет труда и денег, чтобы перевоспитать своего «дичка», как она, смеясь, называет девочку. К ней и Милочке, второй племяннице Яворской, круглой сиротке, приходит два раза в неделю танцмейстер, единственный мастер своего дела в их лубненском захолустье, и преподает обеим барышням нелегкую по тому времени науку манер, грации и выдержки.
Теперь и сама Марфа Тимофеевна не узнала бы, пожалуй, в этой степенной, выдержанной барышне своего отчаянного гусаренка – Надю. Но если по внешности она изменилась, то в душе осталась тем же казаком-девчонкой, тем же гусарским питомцем, тою же дикаркой. Еще ярче, пожалуй, разгорелось в ней внутреннее пламя любви к дикой мальчишеской свободе, лелеянное с детства. Еще сильнее закипела буря в душе, наполняя трепетом сердце этого странного, необычайного ребенка.
Саша Кириак сдержал данное год тому назад слово и принес тогда же своей новой приятельнице обещанную книжку о Жанне д'Арк, – книжку и картину, изображающую героиню Франции под священным дубом. И Надя прочла эту книжку и… словно прозрела… Точно открылись духовные глаза девочки, и она поняла вдруг то, чего до сих пор не понимала. Поступок Жанны стал разом доступным и понятным душе Нади.
«Если так поступила одна женщина, – думалось ей, – почему не может поступить так же и другая?…» Кто поручится за то, что судьба не готовит долю Жанны ей, смугленькой Наде?… Кто знает, может быть, и ее влечет такое же таинственное призвание к светлому мечу, к походу, к военной и ратной жизни? Ведь недаром же она, Надя, вздрагивает от малейшего звука военной трубы, недаром лицо ее покрывается краской, когда она видит солдат, вступающих в город. Недаром ее кидает то в жар, то в холод от одних только слов: «война», «битва»…
И может быть, самое ее детство, проведенное на марше, в походе, служит преддверием к тому неизведанному и чудесному будущему, на которое она решилась теперь пойти…
Решилась ли она? Так ли?
О да! Вполне решилась! Ее решение бесповоротно с той самой минуты, как, вызванный ее пылким воображением, предстал перед нею впервые образ скромной пастушки с отважным, вдохновенным взором и золотыми косами до пят.
А сегодня ее решение стало окончательным. За корсажем хранится письмо, полученное ею из Сарапула, – письмо, в котором ее зовут домой отец, мать, родные.
Вернуться домой и снова погрузиться в мелкие заботы, снова гнуть спину за несносными коклюшками, выслушивать нотации матери, ссориться с Кленой.
Нет! Нет! Тысячу раз нет!
Нет, не для этой ничтожной девичьей доли родилась на свет она, смугленькая Надя! О! Она достойна лучшего жребия, и если не сейчас, по возвращении под родительскую кровлю, то через год, через два, через три, наконец, а она докажет всем, всему миру, что сильная воля, отвага и мужество могут пересилить все законы, все пресловутые условия природы. И она, Надя, будет солдатом рано или поздно, потому что женская доля ее не привлекает, а отталкивает, потому что яркий пример героини Франции доказывает ей, слабенькой четырнадцатилетней девчурке, что и женская ручка может держать тяжелый меч и владеть им. И темно-русая головка гордо поднимается, в то время как крошечные ножки старательно выделывают па экосеза.
– Саша, – говорит Надя, блестя разгоревшимися глазами, – как жаль, что нет войны теперь…
– А что?
– Я бы с восторгом вступила в ряды добровольцев или повела войска, как Жанна…
– Вы перепутали фигуру, маленькая чудачка! – говорит невозмутимо Саша, но сердце его бьет тревогу: он слишком хорошо знает своего друга, чтобы не понять, насколько серьезны ее слова.
О, этот смелый черноглазый, совсем особенный Саша! У него также не простая будничная душа. Надя успела узнать и полюбить его за это время. Если в нем нет того воинственного духа, которым обладает она, Надя, то все же и его душа, такая чуткая и прекрасная, несмотря на насмешливый ум, таит в себе неисчерпаемые сокровища. Он, Саша, создан на пользу ближних. Это видно по всему. Нет человека в хуторе, который не благословлял бы его. Он лечит больных, заготовляет и сушит травы для целебных настоек. Он жаждет принести пользу человечеству, он, этот черноглазый насмешливый мальчик. И он добьется своего, он станет врачом. Его мать, богачиха и гордячка, желает видеть в сыне умного степенного помещика, которому она перед смертью передаст все свои богатые хутора. Дело лекаря – наемное дело. Им занимаются бедняки. Оно не для ее единственного Саши… Но какое ему дело до этого?… Он будет врачом, или не стоит жить и прозябать глупо, бесцельно.
Так говорил он Наде, и так поняла она его. Поняла и оценила его твердую душу и смелое сердце, жаждущее добра.
И оба они, и он и Надя, так тождественны во многом, так похожи один на другого в своих безумных порывах к невозможному!
И теперь смугленькая девочка, выступая под мерные звуки экосеза об руку со своим другом, думает свою вечную, свою единственную думу. Думает и высказывает ее вслух.
– Пусть нет войны, все равно, – резким глухим голосом говорит эта странная девочка. – Война ни при чем. Можно вполне быть отважной и смелой и в мирное время. Не правда ли, Саша?
Но Саша не успевает ответить. Экосез переходит в веселую удалую польку. Беленькая, нежненькая, как цветок, и быстрая, как птичка, Милочка Остроградская подбегает к Саше и вертится с ним в головокружительной пляске.
Смугленькая Надя остается на месте и машинально смотрит им вслед, не видя их, тем пустым взглядом, которым она умеет смотреть так часто. Смотрит и шепчет беззвучно:
– Да, да, конечно! И я докажу им это, докажу во что бы то ни стало!
А скрипки заливаются по-прежнему, смеются и плачут в одно и то же время; тяжелые контрабасы гудят во всю своим мрачным, торжествующим басом.
И никто из нарядных гостей – ни сама тетя Яворская, ни беленькая Милочка, похожая на цветок и птичку, – ни одна душа в целых Лубнах, ни в целом свете не подозревает мыслей смуглой девочки, оставшейся стоять рассеянной и спокойной среди общей сутолоки большой залы.
Скрипки поют, словно смеются, контрабасы гудят мерным глухим гулом…
Надя, задремавшая было в седле, вздрагивает и открывает глаза…
Что это? Ни контрабасов, ни скрипок, ни Саши Кириака, ни беленькой Милочки, ни бальной залы. Вместо них слышатся какие-то странные звуки. Но это не бальная музыка, нет! Это звучит рожок горниста…
Так и есть… Лес поредел, словно растаял; сквозь высокие деревья, составляющие его опушку, сквозит алое зарево зари… Кое-где сквозь кустарник можно разглядеть группы коней, спешенных казаков, ружья, поставленные в козлы…
Надя разом поняла, где она находится, и встрепенулась, как птичка, в своем седле.
Долгая ночь и 50 верст расстояния остались далеко позади за нею.
Картины минувшего также отошли назад вместе с ними…
Она взглянула на небо, сняла шапку и истово перекрестилась, приветствуя эту первую зарю своей новой смелой жизни.
Глава V
На казачьей дневке. – Полковник
– Итак, поход наш выполнен удачно. Сам Матвей Иванович[12] не пожелал бы ничего лучшего… Хотя, правда, что тут трудного – рассеять и прогнать две-три разбойничьи шайки?… Мои молодцы, я уверен, способны и на более серьезные победы… Так ли я говорю, господа?
И бравый, еще далеко не старый полковник с удовольствием оглядел окружающих его офицеров, собравшихся к завтраку в просторную крестьянскую избу.
Тут были люди разных возрастов, начиная от седого, как снег белого есаула и кончая молоденьким, совсем почти юным хорунжим[13]. Но на всех лицах, и молодых и старых, одинаково отпечатались удаль, мужество и храбрость.
– Что и говорить, Степан Иванович, молодцы наши сумеют постоять за себя, – подтвердил слова начальника увенчанный почтенными сединами старый есаул с широким шрамом вдоль щеки – неизгладимым следом турецкой сабли. – А вот только жаль, что негде проявить им эту их львиную храбрость. Мирный застой связывает крылья. А как назло, новое затишье не предвещает войны.
– Ну, за этим дело не станет, – поглаживая свой сивый ус и усмехаясь полными губами, произнес полковник Борисов, командир казачьего полка. – Говорят, австрийцы не очень-то довольны новой опекой, навязавшейся им в лице корсиканца Бонапарта, и кто знает, может быть, этот всемирный победитель пожелает продлить свою дерзость до конца и обратит на запад свои алчные взоры… Аустерлицкий мир[14] заставляет думать о многом… Да и все поступки нового героя говорят о том, что Европа может всколыхнуться в конце концов и наш милостивый император не откажет в помощи соседям пруссакам, к которым, как уже слышно, подбирается этот выскочка.
– О, если б это было так! – неожиданно сорвалось с уст молоденького хорунжего, и чарка с крепкой запеканкой выскользнула из рук и со звоном покатилась на пол.
– Вот где молодая-то кровь сказалась! – весело рассмеялся полковник, а за ним и все офицеры, с ласковым одобрением поглядывавшие на своего юного товарища. – Подожди, брат Миша, и на нашей улице праздник будет. Погоди малость, придем на Дон, в станицу, съезжу и в Черкасск к наказному[15]; авось и услышу от него приятную новость о приказании усмирить зазнавшегося Бонапарта.
– Ах, если бы так!.. – блеснув глазами, произнес юноша. – Да я бы, кажется…
Но юному хорунжему не суждено было выразить свое желание. Дверь в избу отворилась, и высокий плечистый пожилой казак вошел в горницу и почтительно остановился у порога.
– Что скажешь, брат Вакула? – ласково обратился к нему полковник. – Что скажешь, Щегров?
– Ваше высокородие, – отрапортовал по-военному бравый Щегров, – мальчонка тут прискакал, неведомо откуда. С вашим высокородием, штобы это, беспременно говорить желает. Я ему и так и этак. «Погоди, их высокородие, – говорю, – завтракать изволят с господами офицерами. Не каплет над тобою»… Куды тут! Так и прет. Вовсе диковинный парнишка, надо полагать, ваше высокородие.
– Вольный?
– Никак нет. Одежа наша на ем, а уж горазд младешенек только. Сущее дитя… А конь евонный, так я много конев перевидал, ваше высокородие, а такого ни в жисть.
– Да ну?!
– Ей-ей, ваше высокородие, конь королевский!
– Ну так подавай нам его сюда, твоего мальчонку! – весело произнес Борисов. – Посмотрим, что за диковинку такую прибило в нашу сторону.
При последних словах Степана Ивановича (так звали полковника) Щегров исчез так же быстро за дверью, как и появился. Через минуту его могучая фигура снова выросла на пороге. На этот раз он вошел не один. Смелым шагом, с высоко поднятой головой, запыленным и обветренным лицом, носящим на себе следы тревоги, вошла в избу Надя, неузнаваемая в своем казачьем наряде.
– Откуда ты, малец? И что тебе надо от меня? – спросил при виде этого юного казачка полковник.
Юный казачок смотрел смело и бодро. Надя, казалось, нимало не смутилась, очутившись в этом большом и чуждом ей офицерском обществе. От ее ответа зависела теперь вся ее будущность, и она твердо помнила это. Смело поднятые на полковника глаза девушки без слов, казалось, молили о чем-то. И, поймав этот взгляд, тревожный и молящий в одно и то же время, добрый Степан Иванович почувствовал какую-то невольную жалость в сердце к молоденькому казачку и мягко, ласково обратился к нему с вопросом:
– Какого ты полка, мальчуган?
– Я не имею еще чести быть причисленным к какому бы то ни было полку, господин полковник, – отвечал ему смелый голосок, – но именно для того-то и приехал я к вам – просить удостоить меня этой милости.
– Но разве ты не казак? – удивленно спросил полковник, в то время как прочие офицеры с изумлением разглядывали диковинного мальчика, одетого в казачий чекмень, по форме, как и подобает истинному казаку.
С лица Борисова исчезла разом ласковая улыбка. Сивые брови его нахмурились. Юный казачок казался ему теперь подозрительным и странным.
– Уж не из беглых ли ты, малец? Не напроказничал ли у себя в полку да и удрал, чего доброго, из ставки и выискиваешь себе пристанища в другом казачьем отряде?
И он острым, проницательным взглядом впился в встревоженное лицо странного мальчика.
Вмиг смуглые щеки Нади покрылись краской негодования, стыда. Глаза вспыхнули гневом.
– Я русский дворянин, господин полковник, – с гордым достоинством произнесла девушка, – а не беглый казак, как вы думаете… Я нигде еще никогда не служил, клянусь моей честью! Но я пришел просить у вас этой милости, господин полковник…
– То есть какой милости? О чем ты… вы просите, молодой человек?
– Я прошу весьма немного, господин полковник. Позвольте мне дойти с вашим полком до места, где квартируют регулярные войска, чтобы поступить в один из них товарищем[16].
И, говоря это, Надя трепетала в ожидании ответа. Бедной девочке было бы очень трудно, почти невозможно пуститься одной в такое трудное путешествие. Местность кишела кругом бродячими киргизскими шайками, да и Алкид ее нуждался в хорошем стойле и, несмотря на всю свою выносливость, требовал регулярного за собою ухода.
Полковник долго молчал, покручивая свой сивый ус, не подозревая, как в эту минуту тревожно, болезненно сжимается под грубым сукном казачьего чекменя бедное маленькое девичье сердечко.
Наконец он пристально взглянул в глаза Нади своим острым, прозорливым взглядом и спросил:
– Но почему же, юноша, ваши родители не отвезли вас в полк лично, а пустили скитаться одного по лесным трущобам, такого юного, почти ребенка?
При этих словах смуглое личико Нади вспыхнуло ярким румянцем. Между всеми достоинствами девушки было одно, чуть ли не самое крупное из всех, которое в настоящую минуту значительно затрудняло ее положение: она не умела лгать. И теперь взгляд ее, помимо воли, потупился в землю под пристальным взором полковника, и она нервно теребила бахрому своего алого форменного пояса.
Это смущение снова неприятно подействовало на присутствующих здесь офицеров. Полковник переглянулся с есаулом. Офицеры с нескрываемой подозрительностью смотрели на странного мальчика со смущенным лицом, очевидно скрывающего какую-то тайну.
И снова прежняя догадка мелькнула в голове Борисова: и в самом деле, не беглый ли казак перед ними? Или, еще хуже того, какой-нибудь юный преступник, ушедший из тюрьмы?
И, не колеблясь больше, старый служака произнес вслух:
– Но послушайте, мальчуган, чем докажете вы искренность своих слов?
– О! Вы все еще не верите мне, полковник! – с искренним порывом вскричала Надя. – Но, клянусь вам, я не то, что вы думаете. Моя совесть чиста. Я ничего не сделал дурного людям, ничего дурного или бесчестного!.. Ну… да… конечно, ничего дурного, – в смущении замялась она, – если не считать бесчестным то, что я тайком ушел из родительского дома, так как отец и мать слышать не хотели о том, чтобы я поступил в полк. О, господин полковник! Умоляю вас, помогите мне! Возьмите меня с собою! Я не долго буду докучать вам своим обществом! Мне бы только добраться до регулярных войск. Прошу вас, господин полковник!
Голос Нади дрожал и обрывался от волнения. Ее смуглое лицо дышало такой неподдельной искренностью, а глаза, полные слез, с такой мольбой впились взглядом в мужественное лицо старого служаки, что не поверить ей уже было невозможно.
И полковник поверил. Поверили и офицеры.
– А мальчик-то, клянусь честью, говорит правду! – с суровой ласковостью произнес седовласый есаул, окидывая ободряющим взглядом юного казачка.
– Ты думаешь, Ермолай Селифонтыч? – живо обратился к нему Борисов.
– Ах, конечно, правду! – неожиданно сорвался с места молоденький хорунжий.
Он все это время сидел как на горячих угольях. Этот смугленький мальчик в казачьем чекмене сразу победил его своим открытым, честным лицом. Этот смугленький мальчик, по мнению Миши Матвейко (так звали семнадцатилетнего хорунжего), не мог лгать. Так чист был темный взгляд его красивых глаз, так искренен и убедителен звук его голоса, что молоденький хорунжий, помимо воли, заговорил, обращаясь к полковнику, своим молодым звонким голосом, полным мольбы и волнения:
– О, господин полковник, возьмите его! Ради Бога, возьмите! Ведь одному ему не добраться до войск… И наконец, если вы не верите ему, господин полковник, то дайте мне его на поруки. Я вам головой ручаюсь, что это один из честнейших малых, какого я когда-либо встречал!
– Ого! – весело расхохотался полковник. – Нет, наш Миша-то каков, а? – подмигивая на расходившегося офицерика его старшим товарищам, говорил он. – Ну, будь по-твоему, Миша.
– Вы слышали? – обратился уже серьезно полковник к Наде. – Вы слышали вашего ходатая? Оправдайте же его и наше доверие, молодой человек! А я… беру вас с собою.
– О, вы останетесь мною довольны, господин полковник! – поспешила ответить Надя, с благодарностью взглянув в сторону юного хорунжего, в котором разом почувствовала будущего приятеля и друга.
– Ну а теперь сообщите нам ваше имя, молодой человек! – произнес уже много ласковее, очевидно, не колебавшийся более в ее искренности полковник.
Надя вздрогнула. Сказать имя – значило бы открыться во всем. Ведь легко могло случиться, что кто-либо из окружающих ее офицеров мог знать ее семью. Тогда надо было бы сказать «прости» всему: и смелому замыслу, и новой доле, и вольной жизни, которая открывалась перед нею во всей ее привлекательной свободе… Ведь узнай кто-нибудь из них, что она девушка, ее без всяких разговоров вернут домой, и тогда снова прежняя ненавистная жизнь с плетением кружев с утра до вечера, с мелкими хозяйственными заботами и со всем прочим, что так глубоко претит ее пылкой и вольной натуре, поглотит ее, затянет в свою невылазную тину… И потому голос ее заметно дрожал, когда, смущенно окинув глазами все общество, она произнесла робко, чуть слышно:
– Моя фамилия – Дуров.
Слава Богу!.. Ни на одном лице здесь сидящих офицеров не выразилось удивление. Никому из них, очевидно, не знакомо имя сарапульского городничего.
– А ваше имя? – продолжал спрашивать полковник, уже с явным доверием и лаской поглядывавший на отважного мальчика, стоявшего перед ним.
«Надя»… – хотела было по привычке ответить Надя, но мигом опомнилась и прикусила язык.
В одну секунду почему-то перед ее мысленным взором промелькнул ясный, жаркий полдень в Малороссии… Узкий извилистый Удай… Толпа босоногих девчат, улепетывающих от нее, панночки или, вернее, от страшной гадюки, извивающейся в ее руках, и в раздвинувшихся прибрежных кустах осоки – высокий статный черноглазый Саша Кириак.
Где он теперь, этот необычайный, совсем особенный мальчик, который так пришелся по душе ей, Наде? Чувствует ли он, гадкий, милый насмешник, что его маленькая приятельница добилась-таки своего? И, задумавшись на минуту над милым воспоминанием, Надя твердо произнесла, глядя своими черными честными глазами в острые глаза полковника:
– Мое имя Александр, а по батюшке – Васильевич.
– Ого! – вскричал, окончательно развеселившись, Борисов. – Да вы родились под счастливой звездой, Александр Васильевич, нося имя бессмертного своего тезки![17] От души желаю, чтобы хотя отчасти вы были похожи на него. Ну а теперь пожалуйте-ка к нам да закусите хорошенько. Вы, чай, устали с дороги?… Щегров! – приказал Борисов своему молодцеватому вестовому. – Подыщи-ка конька между нашими запасными лошадьми для нового казака.
– Ах нет! Пожалуйста, позвольте мне остаться с моим Алкидом, – живо воскликнула Надя, успевшая уже было усесться за стол между седым есаулом и молоденьким хорунжим. – Я не могу с ним расстаться ни за что на свете!
– И то правда, – произнес Степан Иванович, – у вас ведь есть конь, юноша, и не конь даже, а восьмое чудо мира, если верить Вакуле, – махнул он в сторону Щегрова, все время стоявшего навытяжку у дверей.
– Конь знатный, что и говорить, ваше высокородие! – отозвался старый казак.
– О да, мой Алкид – прелесть! – блеснув глазами, воскликнула пылко Надя.
– Браво, молодой человек, браво! – одобрил старый есаул, с явным сочувствием оглядывавший Надю из-под своих нависших бровей во все время ее допроса. – Сильная привязанность к лошади есть лучшая рекомендация кавалериста!
Он и не подозревал, старый воин, каким ярким отзвуком прозвучала его похвала в трепетном сердце казака-ребенка.
– Ну, познакомьте нас со своим сокровищем, – чуть усмехаясь под своими сивыми усами, добродушно произнес полковник. – Нет, нет, не теперь только, – проговорил он поспешно, видя, что Надя вскочила уже из-за стола, готовая бежать по его желанию. – Закусите как следует, чем Бог послал, а в это время и вашему коньку зададут корму. Не правда ли, Щегров? – снова обратился он к старому казаку.
– Так точно, ваше высокородие! – отрапортовал тот и мигом скрылся за дверью, с целью исполнить приказание начальника.
Надя еще раз благодарно взглянула на полковника и принялась за еду.
Глава VI
Новый друг
Сентябрьские дни коротки и недолговечны… А первый день, проведенный Надей среди казаков, показался ей одним сплошным коротким мигом… Офицеры как-то особенно задушевно и просто отнеслись к новому товарищу. Они расхваливали ее Алкида и долго любовались молоденьким всадником, с легкостью птички впорхнувшим в седло… И во весь день не нашлось минуты у девушки, чтобы как следует сосредоточиться на своем новом положении и вникнуть в него. Зато, когда незаметно подкравшаяся ночь снова окутала окрестность, когда во всех избушках замелькали огни и послышалась громкая команда: «На конь!», сердце Нади впервые сжалось в груди.
С этим роковым «на конь!» все старое, прежнее, худое и хорошее, все, наполнявшее до сих пор ее жизнь, как бы разом отпадало от нее и уходило куда-то далеко-далеко…
«Еще не поздно, – говорил девушке какой-то внутренний голос, – одумайся, вернись! Подумай, что ждет тебя в будущем! Сможешь ли ты совладать со своей женской слабостью в трудных походах и на ратном поле? Ты, привыкшая спать на мягкой постели, есть с серебра, ты, нуждающаяся в родной заботе и ласке… Дитя! Дитя! Брось свои тщеславные мечты, вернись в отцовский дом, пока еще не поздно! Не для тебя, слабой, юной девочки, почти ребенка, суровая доля солдата!»
«Что это, Боже мой! Я, кажется, колеблюсь? – с ужасом спрашивала сама себя Надя. – Какой позор! Какое малодушие! Боже мой, помоги мне, укрепи меня! Господи, поддержи хоть ты меня, ты, могучая, сильная, мужественная Жанна!»
Тут ее мысли были прерваны звуком сигнального рожка, выигрывавшего поход. К ним присоединились трубы, послышалась мелкая, частая дробь барабана. И все это покрылось могучим и сильным, уже знакомым Наде голосом, выкрикивающим мощным басом слова команды: «Справа по три заезжай!» Сотни выстроились в одну минуту, и весь полк стройным шагом двинулся вперед.
И в ту же минуту в первых рядах, где ехали песенники и музыканты, послышались звуки заунывной казачьей песни.
«Душа добрый конь…» – выводили сильные молодые голоса, и каждый звук, каждая строфа этой несложной, но глубокой по своему смыслу песни невольно западала в чуткую душу Нади. Что-то сладостно-печальное и в то же время бесконечно-удалое чуялось в ней. Она говорила, эта песня, и о синем, тихо плещущем Доне, и о ярких пышных станицах, тонувших в зелени виноградников, и о чернооких казачках, поджидающих своих мужей, отцов и братьев в вольных южных степях, поросших золотистой пшеницей и кукурузой… Но больше всего звучала эта песня любовью к коню, этому верному товарищу-другу каждого казака. Ему-то и посвящалась она, этому бессловесному четвероногому товарищу по брани и походу, по ратному полю и мирной станичной жизни, делившему со своим всадником и голод и жажду, и труд и усталость, и сладкий непродолжительный отдых.
И Надя заслушалась песни, ласково трепля рукою стройную шею своего ненаглядного Алкида. Ей невольно пришло в голову, что эта песня касается и ее не менее, нежели других. Единственное, что осталось ей ото всего родного и близкого, – это он, ее красавец Алкид. К тому же Алкид – последний подарок отца.
«Бедный, дорогой отец! Как-то перенесет он тяжелый удар, нанесенный ему его Надей?» – с тоскою думалось девушке, и горячие слезы жгли ее глаза и, скатываясь одна за другою по бледным щекам, падали редкими каплями на шелковую гриву Алкида.
Темный осенний вечер мешает окружающим казакам разглядеть эти тяжелые непрошеные слезы их молодого спутника. И Надя отдалась всецело во власть этих захвативших ее так внезапно тяжелых слез.
«Что-то делается теперь дома? – продолжает думать с невыразимой тоской бедная девочка. – Что отец, Вася, Клена? Как отнеслись они к ее поступку? Простят ли они когда-нибудь ее, бедную, злую Надю?… Что мать? О, должно быть, она сильно разгневана на нее! А папа?… Родной мой! – мысленно обращается к отцу смугленькая девочка. – Не кори меня, ненаглядный, милый папа! Прости меня и пойми, если можешь! О, папа! Ты поймешь, я знаю, ты должен меня понять, потому что ты так крепко любишь свою Надю… Папа, папочка мой… не горюй, не плачь, ненаглядный… Каждая твоя слезинка камнем упадет на душу твоей девочки… А ей предстоит еще так много испытаний впереди! Милый мой! Верь, что никогда твоя Надя не сделает ничего дурного! О, папа мой! Папочка ненаглядный, ты жалел, что не имеешь первенца сына, который мог бы покрыть славой наш честный род! Клянусь тебе, папа, я буду им! Ты с гордостью произнесешь когда-нибудь имя твоей беглянки Нади… Я добьюсь этого, папа, ради тебя, Васи, ради безумной моей любви к дорогой родине… И Бог поможет мне!»
Тут уже Надя не могла сдерживаться больше. Низко опустилась она в стременах и, обвив руками гибкую шею красавца Алкида, залилась целым потоком неслышных, горячих слез.
– Что это, вы, никак, дремлете, Дуров? – послышался за нею звонкий молодой голос, по которому она разом узнала своего недавнего ходатая, хорунжего Матвейко.
Надя проворно смахнула слезы и взглянула на говорившего. Выплывшая в эту минуту из-за облаков луна освещала юное лицо офицерика, полное горячего участия к ней.
– Не грустите, Дуров, – произнес Матвейко, понижая голос до шепота, чтобы не быть услышанным ближними рядами казаков. – Оно конечно, сразу тяжеленько бывает… Ведь я то же пережил… А потом зато, как привыкнешь, чудо как хорошо!.. Просто в отчаяние приходишь, что через три-четыре недели надо возвращаться домой и остаться на зиму до следующего похода…[18] А как матушка убивалась, если бы вы знали, Дуров, когда меня снаряжала в военщину!.. Ведь мой батька – природный казак, и я также должен служить в казаках… Это наш старинный закон в земле войска Донского. И сестренка у меня есть, Дуров, красавица…
– И у меня есть… И брат есть, – сразу оживилась Надя, почуяв искреннее участие в словах юноши-хорунжего. – Славный он мальчуган! Вот если бы вы увидали его, Михаил… Михаил… – И Надя в нерешительности замолкла, не зная отчества своего нового товарища.
– Эх, что там за церемонии! – рассмеялся тот. – Знаете что, Дуров, как придем на следующую дневку, выпьем запеканки на брудершафт, а пока зовите меня Мишей, попросту, без затей. Вам сколько лет?
– Шестнадцать.
– Ну а мне семнадцать. Мы, значит, почти погодки с вами, и между нами церемоний быть не должно. Я вас просто Сашей звать буду… Можно?
– Ах, пожалуйста! – поспешила произнести Надя.
– И отлично! – обрадовался Матвейко. – А знаете, что у нас в станицах делают казаки, чтобы не скучать по родине и дому? Берут горсть родной земли, зашивают в ладанку[19] и носят на груди с крестом вместе. И мне Даня-сестра такую ладанку сшила.
«А у меня ее нет! – мысленно произнесла с сокрушением Надя. – Нет родной вятской земли с собою… А кто знает, может быть, судьба занесет далеко от нее и где-нибудь на чужбине придется сложить буйную головушку…»
– А вы желали бы войны, Миша? – внезапно обратилась она к своему новому приятелю, стараясь прогнать от себя печальные мысли.
– Знаете, Саша, – произнес тот, и Надя поразилась выражением глубокой тоски, зазвучавшей вдруг в звуках его молодого голоса. – Я и хочу ее и нет – в одно и то же время. Я боготворю Родину, царя… Но мне жаль причинить горе матери и Дане… Если меня убьют… ведь я их единственный покровитель, Саша… А меня убьют, наверное, я это знаю… На войне меня ждет могила… Мне бродячая цыганка нагадала: «Погибнешь от вражеской пули». Как вы думаете, может ли это быть правдой, Дуров?
– Вздор! – уверенно произнесла Надя.
Этот молоденький жизнерадостный мальчик все больше и больше привязывал ее к себе. Его заботы о матери и сестре трогали ее и располагали в его пользу.
– Ну вот, ну вот, и я думаю то же, – обрадовался, как бы встрепенулся тот. – Меня все дома зовут счастливчиком, и я впрямь счастливчик. Все меня любят, и всюду мне хорошо – и в полку, и в станице. Уж и сам не знаю, почему так…
«Да потому, что ты сам славный, чуткий, хороший, и другим так тепло и хорошо с тобою!» – хотелось крикнуть Наде, но она только ласково кивнула юноше и произнесла потом, помолчав немного:
– Жаль, что мне недолго придется побыть с вами, Миша. Наши пути расходятся. Вы вернетесь в станицу, а я поеду дальше. Не знаю, куда пошлет меня судьба… Но только я никогда не забуду вас. Вы подошли ко мне в тяжелую минуту, когда меня грызла тоска, и своим участием утешили и успокоили меня так хорошо, так добро.
Спасибо вам, Миша! – И она крепко пожала небольшую, но сильную руку юноши.
– Ах, Дуров! – искренним порывом вырвалось из уст Матвейко. – Вы непременно должны поехать к нам, погостить у нас в станице. Всегда успеете дойти до регулярных войск. Теперь не война – мирное время, торопиться некуда. А как матушка-то будет рада, Даня! Вы их полюбите сразу, Саша, я в этом уверен! А они-то в вас души не будут чаять, я уж заранее знаю! Они в восторге от храбрых, а вы – сама храбрость, Дуров! Ну кто из нашей молодежи решится тайком удрать из-под родительского крова и пробираться Бог знает куда, в неведомые места, к неведомым людям? Я видел, как вам было тяжело при допросе полковника и как вы стойко перебороли и смущение, и тревогу… А между тем не сердитесь, но, мне кажется, вы не все сказали Степану Ивановичу, у вас на сердце лежит какая-то тайна… Не правда ли, Дуров?
Надя ничего не ответила, только кивнула головой.
Тайна… О да, он не ошибся, этот прозорливый юный офицерик. У нее есть тайна, постоянная тайна, которая будет всю жизнь тяжелым ярмом лежать на ее душе. Зачем, тысячу раз зачем она родилась не мальчиком?! Как легко и хорошо сложилась бы тогда ее жизнь! А теперь Бог знает что ждет ее впереди. Но что бы ни было, она, Надя, добьется своей цели, хотя бы самой тяжелой, дорогой ценой. Ценой труда, терпения, муки – все равно, но добьется!.. И она вся горела от волнения в то время, как сердце ее наполнялось неясной тревогой и сладким торжеством.
А полк все идет да идет вперед…
В ушах по-прежнему звучит та же за душу хватающая мелодия торжественной и печальной казацкой песни… по-прежнему черная ночь осеняет природу своими властными крыльями, по-прежнему, тихо побрякивая стременами, взвод за взводом, сотня за сотней, идут казаки, унося все дальше и дальше за своим потоком смугленькую девочку в неведомую, темную, непроглядную даль…
