Читать онлайн О переворотах на поверхности земного шара бесплатно
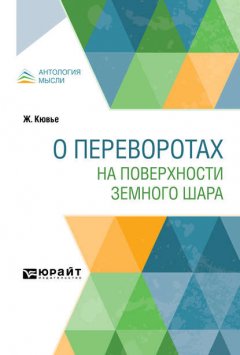
г. Барона Ж. КЮВЬЕ
Старшего кавалера почетного легиона и ордена Вюртембергской короны, ординарного советника Государственного совета и Королевского совета народного просвещения, одного из сорока академиков Французской академии, непременного секретаря Академии Наук, члена академий и королевских научных обществ Лондона, Берлина, Петербурга, Стокгольма, Турина, Геттингена, Копенгагена, Мюнхена, Итальянской Академии, Лондонского геологического общества, Калькуттского азиатского общества и пр.
ШЕСТОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ ИЗДАНИЕ пересмотренное и дополненное. ПАРИЖ, 1830.
G. СUVIER. DISCOURS SUR LES REVOLUTIONS DE LA SURFACE DU GLOBE
Перевод с французского А.Е.Жуковского. Редакция и вступительная статья акад. А.А.Борисяка. Государственное издательство биологической и медицинской литературы. МОСКВА — 1937 — ЛЕНИНГРАД. Исходный отсканированный текст заимствован с сайта философского ф-та МГУ.
Предисловие
Ввиду появления отдельных английских и немецких переводов этого «Рассуждения» некоторые лица высказали желание, чтобы появилось также французское издание этого сочинения независимо от большого труда, введением к которому оно является. Уступая этому желанию, мы попытались воспользоваться замечаниями различных иностранных издателей, а также принять во внимание успехи, достигнутые после выхода последнего издания в науке, более ревностно культивируемой теперь, чем когда бы то ни было. Мы нашли также нужным закончить это сочинение кратким перечнем видов животных, открытых автором и описанных в большом труде, чтобы лица, не имеющие досуга всецело углубиться в этот трудный предмет, могли получить хотя бы общее представление о нем и оценить рассуждения, основанием которых служат эти открытия, а также важные следствия, вытекающие отсюда для истории земли и человека.
P. S. После выхода того издания, к которому относится помещенное выше предисловие, было собрано в разных и примечательных местоположениях еще ряд ископаемых видов. Автор вставил в соответствующие места настоящего издания те из подобных открытий, о которых он мог составить отчетливое представление; он воспроизведет их в деталях, также как и тех, которых он обнаружил сам, и обсудить все порожденные ими новые гипотезы в дополнительном томе своего большого труда, который он предполагает вскоре выпустить.
В МОЕЙ работе об ископаемых костях я поставил себе задачей распознать, каким животным принадлежат остатки костей, которыми изобилуют поверхностные слои земли. Это значило пройти путь, по которому до сих пор отваживались делать лишь несколько шагов. Мне, как некоему нового рода археологу, приходилось одновременно и восстановлять памятники былых переворотов, и дешифрировать их смысл; я должен был собирать и соединять в их первоначальном положении те осколки, на которые они распались, воссоздавать древние существа, которым они принадлежали, восстановлять эти существа в их пропорциях, с их признаками, наконец, сопоставлять их с ныне живущими на земле: искусство, до сих пор почти неизвестное, которое предполагает науку, до сего времени едва затронутую, — науку о законах, определяющих сосуществование форм различных частей органических существ. Я должен был поэтому подготовиться к этим исследованиям длительным изучением существующих ныне животных: только обзор, по возможности всеобъемлющий, современного животного царства мог придать доказательность добытым мною данным о древнем животном царстве; одновременно этот обзор должен был с не меньшей доказательностью открыть мне и здесь целый ряд закономерностей и соотношений, и в результате, благодаря опыту, произведенному в одной маленькой области теории земли, все царство животных должно было оказаться как бы подчиненным новым законам.
Таким образом, в этой двойной работе меня поддерживал в равной мере интерес как к общей науке анатомии, основе всех тех наук, которые занимаются организованными телами, так и к физической истории земного шара, на которой покоятся минералогия, география и, можно даже сказать, история человека и всего того, что ему всего важнее знать о себе самом. Если нам интересно изучать, на заре нашего рода, почти стертые следы исчезнувших народов, то как не заняться разыскиванием во тьме младенчества земли следов переворотов, предшествовавших существованию всех народов! Нас поражает мощь человеческого ума, которым он измерил движение небесных тел, казалось бы навсегда скрытое природой от нашего взора; гений и наука переступили границы пространства; наблюдения, истолкованные разумом, сняли завесу с механизма мира. Разве не послужило бы также к славе человека, если бы он сумел переступить границы времени и раскрыть путем наблюдений историю мира и смену событий, которые предшествовали появлению человеческого рода? Без сомнения, астрономы двигались быстрее естествоиспытателей; этап, на котором теперь пребывает теория земли, напоминает то время, когда философы полагали небо составленным из плитняка, а луну, равной по размерам Пелопонезу. Но после Анаксагоров явились Коперники и Кеплеры, проложившие дорогу Ньютону. Так почему бы и естествознанию не обрести когданибудь своего Ньютона?1
ПЛАН
В этом рассуждении я предполагаю изложить план и результаты моих работ над ископаемыми костями. Я попытаюсь набросать также краткий очерк произведенных до сего времени попыток раскрыть историю переворотов земного шара. Правда, факты, которые мне удалось добыть, представляют только небольшую часть того, что должно составить эту древнюю историю, но многие из них ведут к определенным заключениям, а точность метода, который я применял для их установления, позволяет мне думать, что их признают за твердо установленные данные, которые составят эпоху в науке. Я думаю, наконец, что новизна их послужит извинением, если я потребую для них особого внимания у читателя.
Прежде всего задачей моей будет показать, каким образом история ископаемых костей наземных животных связывается с теорией земли и какие соображения придают ей в этом отношении особое значение. Я изложу затем принципы, на которых основывается уменье определять эти кости, иными словами, распознавать род и различать вид по одному обломку кости—уменье, от которого зависит достоверность всего моего труда. Я дам краткий обзор новых видов и неизвестных раньше родов, открыть которые мне позволило применение этих принципов, а также и различных земных пластов, которые содержат эти виды; а так как различие между этими видами и ныне живущими не переходит известных границ, то я покажу, что эти границы значительно шире тех, которые разделяют ныне вариации одного и того же вида; я покажу вместе с тем, до чего могут доходить эти вариации под влиянием времени, климата или одомашнивания. Благодаря этому я буду в состоянии сделать сам и смогу предложить читателю сделать вместе со мной заключение, что нужны были большие события, чтобы произвести гораздо более значительные изменения, мной обнаруженные. Я изложу те поправки, которые мои исследования должны внести в существовавшие до сего времени взгляды на земные перевороты. Наконец, я рассмотрю, насколько гражданская и религиозная история народов согласуется с результатами наблюдений над физической историей земли, и какие вероятности эти наблюдения допускают относительно той эпохи, когда человеческие общества смогли обрести постоянные обиталища и годные для обработки поля и когда они, следовательно, могли принять более устойчивые формы существования.
ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ЗЕМЛИ
Когда путешественник проходит по плодоносным равнинам, где тихие воды в своем постоянном течении питают богатую растительность, где покой земли с многочисленным населением, с цветущими селениями, богатыми городами, величественными зданиями, если и нарушался, то лишь опустошениями войны или волей облеченных властью людей,— ему не приходит в голову, чтобы у природы могли быть свои внутренние войны и чтобы поверхность земного шара подвергалась переворотам и катастрофам. Но направление его мыслей меняется, лишь только он начинает раскапывать эту землю, ныне такую мирную, или когда он подымается на холмы, окаймляющие равнину; новые представления как бы развертываются вместе с его кругозором; а когда он достигает более высокой горной цепи, подножие которой прикрывают эти холмы, или когда, следуя руслу потоков.
ПЕРВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕВОРОТОВ
Самые низкие, самые ровные участки земли, даже когда мы разрываем их на большую глубину, обнаруживают нам лишь горизонтальные слои более или менее различного состава, содержащие почти все бесчисленные произведения моря. Такие же слои, подобные же продукты моря образуют и холмы до значительной высоты. Иногда раковины столь многочисленны, что они одни составляют всю массу почвы; они подымаются на высоту, превышающую уровень всех морей, на высоту, на какую никакое море не может быть поднято ныне действующими силами; они не только заключены в подвижных песках, но часто самые твердые породы инкрустируют (обволакивают) их и пронизываются ими во всех направлениях. Все части света, оба полушария, все континенты, все скольконибудь значительные острова представляют то же явление. Теперь уже не то время, когда невежество могло утверждать, что эти остатки организованных тел являются просто игрой природы, продуктами, зачатыми в сердце земли ее творческими силами; усилия, возобновляемые иными метафизиками, по всей вероятности, не смогут вернуть доверия этим старым воззрениям. Тщательное сравнение формы, этих остатков, их тканей, часто даже химического состава не обнаруживает ни малейшего различия между ископаемыми раковинами и теми, которых ныне питает море. Их сохранность не менее совершенна; большей частью незаметно ни разрушения, ни изломов, ничего, что обнаруживало бы бурный перенос; самые мелкие кз них сохранили самые нежные свои части, нежнейшие гребни, тончайшие острия. Итак, они не только жили в море, они были отложены морем; море оставило их там, где мы их находим; это море находилось в этих местах, оно находилось здесь достаточно долго и в достаточно спокойном состоянии, чтобы образовать такие правильные, такие мощные, такие обширные и подчас такие твердые отложения, заполненные остатками водных животных. Значит, морской бассейн испытал по крайней мере одно изменение либо в своем протяжении, либо в своем положении. Вот что следует уже из первых раскопок и из самого поверхностного наблюдения.
Следы переворотов становятся более внушительными, когда мы поднимаемся немного выше, когда мы. приближаемся к подошве больших горных цепей. Здесь тоже есть раковинные пласты, они даже мощнее, крепче; раковины в них также многочисленны, так же хорошо сохранились, но это уже не те виды; слои, содержащие их, уже более не лежат всюду горизонтально: они подымаются наклонно, иногда почти вертикально. Если на равнинах и на плоских холмах для того, чтобы распознать последовательность слоев, нужно было глубоко копать, здесь они видны сбоку, вдоль по долинам, образованным их разрывами; огромные кучи их осколков образуют у подножий обрывов округлые насыпи, увеличивающиеся в высоту после каждого снеготаяния и каждого ливня.
И эти приподнятые пласты, образующие гребни вторичных гор, не наложены на горизонтальные пласты холмов, служащих предгорьем; наоборот, они углубляются под них. Эти холмы упираются в их склоны. Если пробурить горизонтальные слои вблизи гор с наклонными слоями, то на глубине окажутся косые слои; иногда, когда косые слои поднимаются не очень высоко, их вершины даже увенчаны горизонтальными слоями. Значит, косые слои древнее горизонтальных, и так как невозможно допустить, по крайней мере в большинстве случаев, чтобы они образовывались не в горизонтальном положении, то, очевидно, они были приподняты и были приподняты ранее того, как другие налегли на них*.
* Идея, отстаиваемая некоторыми геологами, что известные елои образовались в том же наклонном положении, в каком они и теперь находятся, предполагая правильность ее для некоторых слоев, какие выкристаллизовались, как говорит г. Гринеф, наподобие осадков, инкрустирующих всю внутреннюю поверхность сосуда, в котором кипятят гипсовые воды, не может быть применена к слоям, содержащим раковины или окатанные валуны, которые не могли ожидать в подвешенном состоянии образования цемента, долженствующего их прикрепить.
Один проницательный геолог доказал, что есть возможность определить относительные эпохи каждого из этих поднятий косых слоев, основываясь на свойствах и древности горизонтальных слоев, на них налегающих**.
** См. превосходное сочинение г. Elie de Beaumont в „Annales des Sciences naturelles" за сентябрь 1829 и следующие выпуски.
Таким образом, море до того, как оно образовало горизонтальные слои, образовывало другие, которые какие-то силы раздробили, приподняли, опрокинули на тысячу ладов; а так как многие из наклонных слоев, образованных морем в более древнее время, поднимаются выше, чем горизонтальные слои, по времени следующие за ними и их окружающие, то значит, те силы, которые придали им наклонное положение, также и выдвинули их над уровнем моря и образовали из них острова или по крайней мере подводные скалы, неровности,—оттого ли, что они были подняты с одного края, или потому, что оседание другого конца вызвало понижение вод; второй результат не менее ясен, не менее доказателен, чем первый, для всякого, кто даст себе труд исследовать те памятники, на которых он основывается.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ЧТО ЭТИ ПЕРЕВОРОТЫ БЫЛИ МНОГОЧИСЛЕННЫ
Однако этим нарушением древних слоев и отступанием моря после образования новых слоев отнюдь не ограничиваются перевороты и изменения, которым обязано современное состояние земли.
Если более тщательно сравнить различные слои и заключающиеся в них произведения жизни, то легко можно заметить, что древнее море не откладывало постоянно одни и те же горные породы и остатки животных тех же видов и что каждое из его отложений не распространялось на все пространство, которое покрывало море. Здесь установились последовательные вариации, из которых только первые были приблизительно всеобщи, а другие были значительно менее общи. Чем древнее слои, тем однообразнее на большом пространстве каждый из них; чем они новее, тем они более ограничены, тем чаще они меняются на небольших пространствах. Значит, перемещение слоев сопровождалось изменениями природы влаги и веществ, в ней растворенных, и когда некоторые слои при выступлении из вод разделили поверхность моря островами, выступающими горными цепями, то во многих отдельных морских бассейнах могли произойти различные изменения.
Понятно, что вследствие таких различий в природе водной стихии животные, ею питаемые, не могли быть одинаковыми. Их виды, даже их роды менялись вместе со слоями, и, хотя случаются возвраты тех же видов на небольших расстояниях, однако можно сказать, что вообще раковины древних слоев имеют только им свойственные формы, что они постепенно исчезают и уже не появляются в более поздних слоях, а тем более в современных морях, где никогда не находят видов, им подобных, где не существует даже многих из их родов; наоборот, раковины поздних слоев похожи в родовом отношении на живущих в наших морях, а в последних и самых рыхлых слоях и в некоторых новейших и ограниченных отложениях существуют некоторые виды, которых самый испытанный глаз не сможет отличить от тех, которых питают соседние прибрежья.
Итак, в животной природе имели место последовательные вариации, которые вызывались изменениями влаги, в которой жили животные, или по крайней мере отвечали этим изменениям, и эти вариации привели постепенно классы водных животных к их теперешнему состоянию, и, наконец, когда море в последний раз покинуло наш материк, то его обитатели уже немногим отличались от тех, которых оно питает ныне.
Мы говорим: в последний раз потому, что если еще более тщательно рассмотреть эти остатки органических существ, то среди морских отложений, даже самых древних, удается открыть слои, наполненные растительными и животными произведениями суши и пресной воды; а среди самых поздних, т. е самых поверхностных, есть такие, в которых под грудами морских продуктов погребены наземные животные. Таким образом, не только различные катастрофы, перемещавшие эти слои, выдвинули постепенно из недр моря различные части наших континентов и уменьшили бассейн морей, но и сам этот бассейн перемещался во многих направлениях. Случалось много раз, что участки, покинутые морем, снова им покрывались, потому ли что они опускались или только воды надвинулись на них; что же касается той суши, которую море освободило в своем последнем отступлении и которую теперь населяет человек н наземные животные, то она осушалась по меньшей мере один, а может быть и много раз и питала тогда четвероногих, птиц, растения и всякого рода произведения земли; море, которое ее покинуло, стало быть, перед этим ею завладело. Таким образом, перемены в высоте вод выражались не только в отступлении более или менее постепенном, более или менее общем; нет, имели место последовательные вторжения и отступления, окончательным результатом которых было, однако, всеобщее понижение уровня.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ЧТО ЭТИ ПЕРЕВОРОТЫ БЫЛИ ВНЕЗАПНЫ
Важно, однако, также отметить, что эти повторные вторжения и отступления не все были медленны, не все происходили постепенно; наоборот, большая часть катастроф, их вызвавших, была внезапной, и это легко доказать, в особенности в отношении последней из них, которая двойным движением затопила, а затем осушила наши современные континенты или по крайней мере большую их часть. Она оставила в северных странах трупы крупных четвероногих, которых окутали льды и которые сохранились до наших дней вместе с кожей, шерстью, мясом. Если бы они не замерзли тотчас после того, как были убиты, гниение разложило бы их. С другой стороны, вечная мерзлота не распространялась раньше на те места, где они были захвачены ею, ибо они не могли бы жить при такой температуре. Стало быть, один и тот же процесс и погубил их, и оледенил страну, в которой они жили. Это событие произошло внезапно, моментально, без всякой постепенности, а то, что так ясно доказано в отношении этой последней катастрофы, не менее доказательно и для предшествовавших. Разрывы, поднятия, опрокидывания более древних слоев не оставляют сомнения в том, что только внезапные и бурные причины могли привести их в то состояние, в котором мы их видим теперь; даже сила движения, которую испытала масса вод, засвидетельствована грудами осколков и окатанных валунов, которые переслаиваются во многих местах с твердыми слоями. Итак, жизнь не раз потрясалась на нашей земле страшными событиями. Бесчисленные живые существа становились жертвой катастроф: одни, обитатели суши, были поглощаемы потопами, другие, населявшие недра вод, оказывались на суше вместе с внезапно приподнятым дном моря; сами их расы навеки исчезли, оставив на свете лишь немногие остатки, едва различаемые для натуралистов.
К таким заключениям необходимо приводит рассмотрение объектов, которые мы встречаем на каждом шагу, которые мы можем проверить каждую минуту почти во всех странах. Эти великие и грозные события ярко запечатлены повсюду для глаза, который умеет читать историю по ее памятникам.
Но что еще более поразительно и не менее достоверно, так это то, что жизнь не всегда существовала на земле и что наблюдателю нетрудно открыть тот пункт, с которого она начала откладывать свои продукты.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ЧТО БЫЛИ ПЕРЕВОРОТЫ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ ПОЯВЛЕНИЮ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ
Поднимемся еще выше, приблизимся к кряжам гор, к крутым вершинам больших горных цепей: скоро остатки морских животных, бесчисленные раковины станут более редкими и совершенно исчезнут; мы подойдем к слоям иной природы, которые не содержат в себе следов живых существ. В то же время эти слои своей кристалличностью, всем своим строением покажут нам, что при своем образовании они находились в жидком состоянии; своим наклонным положением и крутизной они доказывают, что они были выведены из состояния покоя; тем, как они наклонно уходят под ракушечные слои,—что они были образованы раньше последних, и, наконец, высотой, на которую их торчащие и голые остроконечности вздымаются выше всех раковинных слоев,— что эти вершины уже вышли из воды, когда образовывались раковинные слои.
Таковы прославленные древнейшие или первозданные горы, перерезывающие наши материки в различных направлениях, подымающиеся выше облаков, разделяющие бассейны рек, содержащие в своих вечных снегах запасы, питающие источники, образующие как бы скелет или великий костяк земли.
С большого расстояния в зубчатой изрезанности их гребней, в унизывающих их остроконечных вершинах глаз видит знаки бурного процесса, их приподнявшего: они сильно отличаются от закругленных гор, от холмов с длинными плоскими поверхностями, масса которых новейшего происхождения всегда находилась в том положении, в каком она была покойно отложена последним морем.
Эти знаки становятся все более очевидными по мере приближения.
Бока долин не представляют более нежных скатов, нет выступающих и входящих углов один против другого, которые как бы указывают на русла какихто древних потоков: здесь они расширяются и суживаются без всякого правила, их воды то собираются в озера, то стремятся потоками; иногда скалы, внезапно сближаясь, образуют поперечные плотины, с которых те же воды падают водопадами. Разорванные пласты, образуя в одну сторону острые вершины, в другую открывают большие наклонные поверхности; они не лежат на одной высоте: образуя в одну сторону верхний край крутизны, они в другую сторону углубляются в землю и не появляются более.
Однако великие натуралисты сумели разобраться во всем этом хаосе и показать, что здесь все же имеется известный порядок, и что эти огромные пласты, как они ни разбиты и ни опрокинуты, сохраняют все же почти одну и ту же последовательность во всех больших горных цепях. Гранит, говорят они, из которого сложены центральные кряжи большей части горных цепей, гранит, который возвышается над всем, в то же время и углубляется ниже всех других пород; это—самая древняя из всех пород, какие дано нам видеть на том месте, которое им уделила природа,—потому ли, что он обязан своим происхождением всеобщей жидкости, которая раньше все содержала в растворе, или потому, что он первый застыл вследствие охлаждения огромной расплавленной или даже находящейся в парообразном состоянии массы*.
Предположение г. маркиза де Лапласа, что вещества, из которых состоит земной шар, могли вначале находитьсл в эластическом состоянии, затем, постепенно охлаждаясь, itринять жидкую консистенцию и, наконец, отвердеть, хорошо подкрепляется новейшими опытами г. Митчерлиха, который составил и выкристаллизовал на огне горнов много видов минералов, входящих в состав первичных гор.
Слоистые породы располагаются по его сторонам и образуют боковые кряжи больших цепей; сланцы, порфиры, песчаники, тальковые породы перемежаются в этих слоях; наконец, мраморы и другие известняки, лишенные раковин, налегая на сланцы, образуют внешние кряжи, нижние уступы, отроги цепей и представляют последнее произведение, которым эта неизвестная жидкость, это море, лишенное обитателей, как бы приготовляло материал для моллюсков и зоофитов, которым предстояло отложить на этом дне огромные массы раковин или кораллов. Имеются даже первые продукты этих моллюсков, этих зоофитов, появляющиеся в небольшом числе и изредка среди последних слоев этих первичных пород или в той части земной коры, которую геологи назвали переходными формациями4. То там, то сям встречаются раковинные слои, переслаивающиеся с некоторыми гранитами более позднего происхождения, с различными сланцами и последними слоями мрамора. Жизнь, которая стремилась овладеть земным шаром, казалось, боролась в эти первые времена с господствовавшей до того косной природой; только после довольно долгого времени она окончательно взяла верх, к ней одной перешло право продолжать и растить твердую оболочку земли.
Итак, нельзя отрицать следующего: массы, образующие ныне наши самые высокие горы, были первоначально в жидком состоянии; долгое время спустя после их отвердения они были покрыты водами, которые не заключали живых существ. Но не только после появления жизни происходили изменения в природе отлагающихся веществ: первоначально образовавшиеся массы так же менялись, как и те, которые образовались позднее. Они также подвергались бурным переменам в своем положении, и часть этих изменений имела место еще тогда, когда эти массы одни только и существовали и не были покрыты раковинными массами: доказательством тому служат опрокидывания, разрывы, трещины, наблюдаемые в их пластах так же, как и в последующих слоях, в которых они находятся в большем числе и еще более заметны.
Но эти первичные массы испытали после образования вторичных пород еще и другие перевороты и, может быть, вызвали или по крайней мере приняли участие в некоторых из тех перемен, которые испытали эти последние. Действительно, существуют значительные участки первичных пород, обнаженные, несмотря на их более низкое положение сравнительно с вторичными породами. Как эти последние могли бы их не покрыть, если они не обнажились после того, как эти образовались? В некоторых странах находят множество больших глыб первичных пород, разбросанных по поверхности вторичных, отделенных глубокими долинами или даже морскими заливами от горных кряжей или вершин, от которых эти глыбы могли бы оторваться5; нужно предположить, что либо извержения выбросили их туда, либо глубины, которые могли преградить их движение, не существовали во время их перенесения, либо, наконец, движение вод, которое их перенесло, превосходило все, что мы можем себе представить в настоящее время.
Путешествия Соссюра и Делюка показывают нам массу таких фактов. Эти геологи нашли, что это могло произойти не иначе, как только путем колоссальных извержений. Позднее г. г. фон Бух и Ешер занялись этим вопросом. Доклад последнего, помещенный в «Nouvelle Alpina», издаваемом ШтейнМюллером, в томе I, дает прекрасную сводку; вот приблизительное ее резюме. Те из этих глыб, которые разбросаны в Швейцарии и в Ломбардии, про исходят от Альп и спустились по их долинам. Они находятся повсюду, вплоть до 50 000 футов, и обладают всеми размерами на большом пространстве, отделяющем Альпы от Юры, они поднимаются на склоны Юры, обращенные к Альпам, на высоту до 4 000 футов над уровнем моря. Они находятся на поверхности или в поверхностных обломочных слоях, но не в песчаниках, не в молассах6, не в конгломератах, которые почти повсюду заполняют промежутки; их находят то единичными, то в кучах: высота их положения не зависит от их величины; маленькие кажутся намного обточенными, большие нисколько. Те, которые принадлежат бассейну одной реки, оказались при рассмотрении той же природы, что и вершины или скаты высоких долин, откуда берут начало притоки этой реки; их находят уже в этих долинах и в особенности они скопляются в местах перед теснинами скал. Есть такие, которые перешли через перевалы, не превышающие 4 000 футов, тогда можно их видеть на другой стороне кряжей в кантонах между Альпами и Юрой и на самой Юре. В наибольшем числе и наиболее высоко расположенные, они наблюдаются против выходов долин Альп; промежуточные лежат не так высоко; в Юрских цепях, более удаленных от Альп, они находятся только против выходов более приближенных цепей.
Из этих фактов автор делает заключение, что перенос этих глыб произошел тогда, когда песчаники и конгломераты были уже отложены, что он был вызван последним из земных переворотов. Он сравнивает этот перенос с тем, который еще и теперь производится потоками; но величина этих глыб и глубина долин, через которые они должны были пройти, являются сильным возражением против этой части его гипотезы.
Вот совокупность фактов: ряд предшествовавших настоящему времени эпох, последовательность которых может быть установлена с несомненностью, хотя длительность их интервалов не может быть с точностью определена. Это—отправные точки, которые служат мерилом и указанием для этой древней хронологии.
РАССМОТРЕНИЕ СИЛ, ЕЩЕ НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ
Рассмотрим теперь, что происходит в настоящее время на земном шаре, анализируем силы, действующие еще теперь на его поверхности, и определим возможный размер их действий. Это тем более важный вопрос в истории земли, что долгое время полагали возможным объяснить этими ныне действующими силами предшествующие перевороты,—совершенно так, как с легкостью объясняют в политической истории прежние события, зная страсти и интриги наших дней. Мы скоро, однако, увидим, что в физической истории дело, к несчастью, обстоит не так: нить событий прервалась, ход природы изменился и ни одной из действующих сил, которыми она пользуется теперь, не было бы достаточно, чтобы произвести ее прежнюю работу.
В настоящее время существуют четыре действенные причины, которые вызывают изменение поверхности наших континентов: дожди и оттепели, разрушающие крутые горы, сбрасывающие продукты разрушения к подножию; текучие воды, уносящие эти продукты и отлагающие их в тех местах, где течение вод замедляется; море, подмывающее возвышенный берег, образующее прибрежные обрывы и набрасывающее у низких берегов песчаные холмы, наконец, вулканы, прорывающие толщу слоев и вздымающие или разбрасывающие на поверхности груды отбросов*.
ИСКОПАЕМЫЕ КОСТИ ЧЕТВЕРОНОГИХ С ТРУДОМ ПОДДАЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Однако, если это изучение дает более удовлетворительные результаты, чем изучение остатков других ископаемых животных, оно в то же время изобилует большим количеством трудностей. Ископаемые раковины обычно встречаются цельными и со всеми признаками, по которым их можно сопоставлять с подобными им в коллекциях или в работах натуралистов; также рыбы сохраняют свой скелет более или менее в целом виде: почти всегда можно распознать общую форму их тела и большею частью их родовые и видовые признаки, связанные с твердыми частями. У четвероногих, наоборот, если встречается целый скелет, бывает трудно приписать ему признаки, связанные большею частью с шерстью, с окраской и другими качествами, исчезающими при окаменении; кроме того, бесконечно редко можно найти ископаемый скелет сколько-нибудь полный: отдельные кости, разбросанные вперемежку, почти всегда разбитые, представляющие фрагменты—вот все, что из этого класса дают нам земные слои; и это единственный источник для натуралиста. Таким образом, можно сказать, что большинство наблюдатетелей, напуганных этими затруднениями, касались лишь поверхностно ископаемых костей четвероногих, систематизировали их приблизительно, по внешнему сходству, даже не отваживались давать им имя: таким образом, эта часть науки об ископаемых, притом самая важная и самая поучительная из всех, в то же время и наименее разработана*.
* Этим замечанием я не хочу, как я это сказал уже выше, умалить заслуги наблюдений г.г. Кампера, Палласа, Блюменбаха, Земмеринга, Мерка, Фожаса, Розенмюллера, Гома и других, но их почтенные труды, которые мне были очень полезны и которые я всегда цитирую, все же лишь частичны, и многие из них были опубликованы только после первых изданий этого «Рассуждения».
ПРИНЦИП ЭТОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
К счастью, сравнительная анатомия обладала принципом, который, будучи хорошо развит, мог устранить все затруднения. Это принцип корреляции форм у организованных существ; с его помощью каждое существо могло быть в крайнем случае распознано по всякому обломку каждой из его частей.
Всякое организованное существо образует целое, единую замкнутую систему, части которой соответствуют друг другу и содействуют, путем взаимного влияния, одной конечной цели9. Ни одна из этих частей не может измениться без того, чтобы не изменились другие, и, следовательно, каждая из них, взятая отдельно, указывает и определяет все другие10.
Таким образом, как я говорил в другом месте, если кишечник животного устроен так, что он может переваривать только мясо, притом мясо свежее, то и его челюсти должны быть построены так, чтобы проглатывать добычу, его когти, чтобы ее схватывать и разрывать; его зубы—чтобы разрезать и разделять; вся система его органов движения,—чтобы преследовать и ловить ее; его органы чувств—чтобы замечать ее издалека; нужно также, чтобы природа наделяла его мозг необходимым инстинктом, чтобы уметь прятаться и строить ловушки своим жертвам. Таковы будут общие условия для плотоядного режима; всякое животное, предназначенное для этого режима, будет неизменно соединять в себе эти условия, так как его раса не могла бы существовать без них; но среди этих общих условий существуют специальные, зависящие от величины, вида и местопребывания добычи, для которой предназначено животное; и от каждого из этих специальных условий зависят мелкие изменения форм, вытекающих из общих условий. Итак, не только класс, но и отряд, и род вплоть до вида находят свое выражение в форме каждой части.
Действительно, для того чтобы челюсть могла охватывать, ей нужна известная форма сочленовной головки, известное соотношение между положением сопротивления и силы с точкой опоры, известный объем височной мышцы, что требует известной площади ямки, в которой она лежит, и известной выпуклости скуловой дуги, под которой она проходит; скуловая дуга должна тоже иметь известную прочность, чтобы дать опору жевательной мышце.
Для того чтобы животное могло унести свою добычу, ему нужна известная сила мышц, поднимающих его голову, откуда следует определенная форма позвонков и затылочной кости, к которым мускулы прикрепляются.
Для того чтобы зубы могли разрезать мясо, нужно, чтобы они были острыми, притом в большей или меньшей мере, смотря по тому, насколько они будут более или менее исключительно резать мясо. Их основание должно быть тем более прочным, чем больше костей и чем большие кости им придется разгрызать. Все эти обстоятельства будут влиять на развитие всех частей, которые приводят в движение челюсть. Для того чтобы когти могли схватывать добычу, необходима известная подвижность пальцев, известная крепость когтей, откуда вытекает необходимость определенных форм всех фаланг и соответствующего распределения мышц и связок; нужно, чтобы предплечье обладало известной легкостью при повороте, откуда вытекают опять определенные формы костей, его составляющих. Но кости предплечья, сочленяясь с плечевой костью, не могут изменять свою форму, не вызывая изменений в этой последней; кости плеча должны будут обладать известною степенью крепости у животных, употребляющих свои передние конечности для хватания и для них необходимо будут вытекать специальные формы. Функции всех этих частей потребуют известных пропорций всех их мышц, а прикрепления этих мышц, столь пропорциональных, определят еще более специально форму костей.
Легко видеть, что подобные же заключения можно вывести для задних конечностей, способствующих быстроте общих движений; для формы туловиша и формы позвонков, которые влияют на легкость и гибкость движений; для формы костей носа, глазной впадины, уха, связь которых со степенью развития чувств обоняния, зрения, слуха, очевидны. Одним словом, форма зуба влечет за собой форму сочленовной головки, форму лопатки, форму когтей совершенно так же, как из уравнения кривой вытекают все ее свойства. Как, беря каждое свойство в отдельности за основание специального уравнения, можно найти и общую формулу, и все другие свойства,— так и коготь, лопатка, сочленовная головка, бедреная кость и все остальные кости, взятые каждая в отдельности, определяют зуб или определяют взаимно друг друга; и, исходя из каждой из них, тот, кто хорошо знал бы законы органической экономики, мог бы воссоздать все животное.
Этот закон достаточно очевиден сам по себе в этой общей форме, чтобы не иметь надобности в более подробном доказательстве; однако, когда дело идет об его применении, то найдется много случаев, где наше теоретическое знание взаимоотношения форм было бы недостаточным, если бы оно не опиралось на наблюдение.
Мы видим, например, что копытные животные должны быть все травоядными, потому что они не имеют никаких средств, чтобы схватить добычу: мы видим также, что, не будучи в состоянии сделать иного употребления из своих передних ног, кроме поддержания своего тела, они не нуждаются в столь сильно развитом плече, откуда вытекает отсутствие ключицы и акромиона, узость лопатки; так как у них нет надобности поворачивать свое предплечье, то их лучевая кость срастается с локтевой, или по крайней мере сочленяется с плечевой костью блоковидным суставом, а не шаровидным; их травоядный режим потребует зубов с плоской коронкой для растирания семян и травы; нужно будет, чтобы эта коронка была неровна и для этого эмалевые части должны чередоваться с костными; так как такой род коронки требует горизонтальных движений для растирания пищи, сочленовная головка челюсти не может быть такой сжатой, как у хищников; она должна быть уплощенной и соответствовать более или менее уплощенной сочленовной поверхности височной кости; височная ямка, в которой будет лежать лишь небольшая мышца, будет неширокая и неглубокая и т. д. Все эти обстоятельства вытекают одно из другого, соответственно их большей или меньшей общности и таким образом, что одни из них существенны и исключительно свойственны копытным животным, другие, хотя равно необходимы у этих животных, не являются их исключительной принадлежностью, но могут встречаться и у других животных, у которых остальные условия будут их допускать.
Если перейти затем к отрядам, или подразделениям класса копытных и рассмотреть, каким изменениям подвергаются общие условия, или, скорее, какие прибавляются специальные условия,соответствующие признакам, свойственным каждому из этих отрядов,— то смысл подчиненных условий становится менее ясным. Еще в целом понятна необходимость более сложной пищеварительной системы для видов, у которых зубная система менее совершенна; так, можно полагать, что те должны быть скорее жвачными, у которых не хватает той или иной группы зубов; можно вывести отсюда известную форму пищевода и соответствующие формы шейных позвонков и т. д. Но я сомневаюсь, чтобы можно было угадать, если бы наблюдение не показало нам этого, что все жвачные должны иметь раздвоенное копыто и что только у них оно имеется; я сомневаюсь, чтобы можно было угадать, что только у этого класса имеются рога на лбу; что те, у которых есть острые клыки, в большинстве случаев не имеют рогов и т. д.
Между тем, так как эта связь постоянна, то очевидно, что она должна иметь достаточную причину; но так как мы ее не знаем, то мы должны восполнить недостаток теории наблюдением: оно помогает нам установить эмпирические законы, которые становятся почти столь же достоверными, как и законы умопостигаемые, когда покоятся на достаточном количестве повторных наблюдений. Таким образом, теперь, если только кто-нибудь видит след двукопытной ноги, то он может заключить, что животное, оставившее этот след, жвачное; и это заключение столь же достоверно, как любое другое из физики или морали. Один такой след открывает наблюдателю и форму зубов, и форму челюсти, и форму позвонков, и форму всех костей ног, плеча, таза только что прошедшего животного. Это знак более надежный, чем все знаки Задига.
Что существуют сокровенные причины всех этих связей, это именно наблюдение и заставляет предполагать, независимо от общей философии.
Действительно, если мы составим общую сводку этих связей, то заметим не только специфическую связь, если можно так выразиться, между определенной формой одного органа и формой другого, но мы увидим и постоянство, и соответствующую градацию в развитии двух этих органов, что и доказывает почти так же хорошо, как и рассуждение, их взаимное влияние.
Например, зубная система копытных нежвачных животных в общем более совершенна, чем у жвачных, так как первые имеют резцы или клыки и почти всегда и те и другие на обеих челюстях; в то же время и строение их ноги в общем более сложно, так как они имеют больше пальцев, или копыта, которые менее покрывают фаланги, или больше отдельных костей в плюсне и в пястье, или большее число костей предплюсны, или малую берцовую кость, более отделенную от большой берцовой кости, или, наконец, они соединяют часто в себе все эти признаки. Невозможно указать причины этих взаимоотношений, но то, что они не случайны, доказывает то обстоятельство, что каждый раз, как парнокопытное животное обнаруживает в устройстве зубов известную тенденцию приблизиться к животным, о которых мы говорим, то та же тенденция проявляется также и в устройстве его ног. Так верблюды, имеющие клыки и даже два или четыре резца на верхней челюсти, имеют лишнюю кость в предплюсне, так как скафоидная кость не срастается с кубовидной, и очень маленькие копыта с соответствующими копытными фалангами. Оленьки, у которых клыки хорошо развиты, имеют малую берцовую кость, отделенную на всем протяжении от большой берцовой кости, в то время как другие парнокопытные от малой берцовой кости сохраняют лишь небольшую косточку, сочлененную с большей берцовой костью внизу. Таким образом, имеется какоето постоянное взаимоотношение между двумя органами, на вид совершенно чуждыми, и градации их форм взаимно соответствуют без перерыва, даже в тех случаях когда мы не можем себе отдать отчета в их связи.
Итак, принимая метод наблюдения как добавочное средство, когда теория оставляет нас без ответа, мы узнаем детали, приводящие нас в удивление. Малейшая ямка в кости, малейший апофиз имеют определенный характер, в зависимости от класса, отряда, рода, вида, которому они принадлежат, до такой степени, что каждый раз, когда мы имеем только хорошо сохранившийся конец кости, можно, пользуясь более или менее искусно аналогией и фактическим сравнением, определить все эти вещи столь же достоверно, как если бы мы имели целое животное. Я много раз проверял этот метод на частях известных животных, прежде чем всецело довериться ему для ископаемых, но он всегда давал столь безошибочные результаты, что я не имею ни малейшего сомнения в верности полученных мною данных.
Правда, я имел в своем распоряжении все, что мне только было нужно, и мое счастливое положение и упорная работа в продолжение почти тридцати лет дали мне возможность получить скелеты всех родов и подродов четвероногих, даже многих видов некоторых родов и многих особей некоторых видов. Благодаря таким средствам мне легко было увеличить число сравнений и проверить во всех деталях применение моих законов.
Мы не можем разбирать далее этот метод и принуждены отослать читателя к большой сравнительной анатомии, которая скоро выйдет в свет, и где будут приведены все законы. Однако внимательный читатель сможет уже извлечь большинство их из работы об ископаемых костях, если он даст себе труд проследить все те применения их, которые мы там делаем. Он увидит, что мы руководствовались только одним этим методом и что он оказывался почти всегда достаточным, чтобы отнести любую кость к ее виду, когда это был вид живущий, к ее роду, если она принадлежала неизвестному виду, к ее отряду, когда она относилась к новому роду и, наконец, к ее классу, если она принадлежала к еще не установленному отряду, и чтобы наделить ее в этих трех последних случаях признаками, достаточными для различения от наиболее близких отрядов, родов и видов. Натуралисты до нас делали то же самое с целыми животными. Таким именно образом мы определили и классифицировали остатки более ста пятидесяти млекопитающих и яйцекладущих четвероногих.
СВОДКА ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭТИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В отношении видов больше девяноста этих животных, наверное, до сего дня были неизвестны натуралистам; одиннадцать или двенадцать настолько абсолютно схожи с известными видами, что на счет их тождества не может быть ни малейшего сомнения; остальные представляют много сходственных черт с известными видами; но сравнение еще не могло быть сделано с достаточной тщательностью, чтобы устранить всякое сомнение.
В отношении родов из девяноста неизвестных видов приблизительно шестьдесят принадлежат новым родам; остальные относятся к известным родам и подродам.
Не бесполезно также рассмотреть этих животных в отношении классов и отрядов, к которым они принадлежат. Из ста пятидесяти видов приблизительно одну четверть составляют четвероногие яйцекладущие, остальную часть млекопитающие. Среди этих последних больше половины принадлежит копытным нежвачным животным.
Во всяком случае было бы преждевременно, основываясь на этих цифрах, делать какие-либо выводы для теории земли, потому что они не находятся в необходимой связи с количествами родов или видов, которые могли быть погребены в наших слоях. Так, например, было собрано значительно больше костей крупных видов, которые более замечаются рабочими, тогда как мелкими пренебрегают, если случайно они не попадут в руки натуралистов, или если особые обстоятельства, как, например, их крайнее изобилие в некоторых местах, не обратят внимание неспециалиста.
ОТНОШЕНИЕ ВИДОВ К СЛОЯМ
Что наиболее важно и что является самым существенным предметом всего моего труда и устанавливает его действительную связь с теорией земли—это вопрос, в каких слоях находится каждый вид, и нет ли здесь каких-нибудь общих законов, связанных либо с зоологическими подразделениями, либо с большим или меньшим сходством вымерших видов с видами ныне живущими.
Установленные в этом отношении законы очень выразительны и очень ясны.
Прежде всего вполне достоверно, что яйцекладущие четвероногие появляются значительно раньше, чем живородящие, что они притом более многочисленны, более могучи, более разнообразны в древних слоях, чем на современной поверхности земного шара.
Ихтиозавры, плезиозавры, многие черепахи, многие крокодилы находятся под мелом в слоях, обычно называемых слоями Юры21. Мониторы Тюр
