Читать онлайн Многорукий бог далайна бесплатно
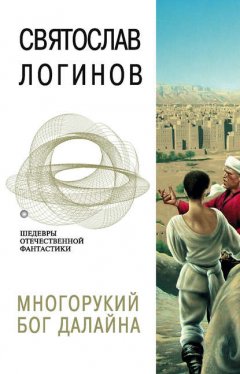
Настырному Андрею Николаеву, который заставил меня написать это
Прежде начала времён в мире не было ничего, лишь посреди пространства стоял алдан-тэсэг, а на нём сидел старик Тэнгэр, который уже тогда был стар. Тэнгэр сидел на алдан-тэсэге и думал о вечном. И чем больше он думал, тем яснее ему становилось, что вечность длится долго и конца ей не видно. Тогда Тэнгэр сказал:
– Это правильно, что у вечности нет конца, а я – бессмертен, потому что для мыслей о вечном нужна вечность. В этом есть смысл, и мир всегда будет таким.
И тут он услышал голос:
– Ты ошибаешься, мудрый Тэнгэр!
Тэнгэр глянул вниз и увидел, как из тёмной дыры в подножии алдан-тэсэга выползло существо скверного вида.
– Я Ёроол-Гуй – обитатель бездны, – сказало существо. – Я родился из твоих отбросов и за это ненавижу тебя. Теперь я буду сидеть на твоём месте и думать о вечном, а ты пойдёшь вниз.
Тэнгэр, разгневанный такими словами, встал и схватил существо, чтобы запихать его обратно в дыру, из которой оно выползло, но Ёроол-Гуй обхватил Тэнгэра бесчисленными дюжинами цепких рук и начал биться с ним за право сидеть на тэсэге. Тэнгэр был сильнее, но Ёроол-Гуй прильнул к нему дюжиной дюжин жадных ртов и пил его кровь, поэтому Тэнгэр не мог сокрушить врага, а тэсэг стоял пустой, и в мире не было порядка. Битва продолжалась долго, и, когда у вечности кончились древние века, Тэнгэр сказал:
– Ты видишь, что никто из нас не может победить, ибо мы оба бессмертны. Скажи, что хочешь ты теперь? Обещаю исполнить это ради тишины и моего спокойствия.
– Я хочу иметь место, где я мог бы жить, – ответил Ёроол-Гуй.
– Хорошо, я построю для тебя четырёхугольный далайн – обширный и не имеющий дна, я наполню его водой, чтобы ты мог плавать, населю всякими тварями, мерзкими и отвратительными на вид, а ты будешь владычествовать над ними.
– Ещё я хочу, чтобы там тоже был тэсэг, потому что и я люблю думать о вечном, – сказал Ёроол-Гуй.
– Пусть будет так, – согласился Тэнгэр. – Я поставлю в далайне квадратный остров – оройхон. Он будет опираться на восемь столбов, и на верхушке каждого из них встанет суурь-тэсэг, что значит: место, откуда далеко видно.
– Но пусть и на оройхоне водятся твари, годные мне в пищу: я буду их убивать, потому что ненавижу всех, умеющих ходить.
– Ты хочешь многого, – сказал Тэнгэр, – хотя я согласен и на это. Но тогда я построю не один, а пять оройхонов, чтобы ты не мог убить всех разом, потому что ты умеешь лишь ползать, и те, кто успеет убежать от тебя на соседний оройхон, будут в безопасности. Надеюсь, теперь ты доволен?
– Нет, – сказал Ёроол-Гуй. – Мне надо, чтобы среди этих тварей была одна похожая на тебя, как схожи капли воды, чтобы у неё были две руки и две ноги, чтобы она умела разговаривать и думать о вечном. Я буду убивать эту тварь в память о нашей битве и смеяться над тобой.
Нахмурился Тэнгэр.
– Ты зря просишь это, – сказал он, – но раз я обещал, то я создам для тебя человека. Только знай, что раз в поколение – а люди по твоей просьбе будут смертны – среди них станет рождаться илбэч – строитель оройхона. Он начнёт делать новые острова для себя и своих детей, островов будет становиться всё больше, вскоре появятся и такие, до которых ты не сможешь дотянуться, поскольку их со всех сторон закроют соседние острова, а твой путь – лишь один оройхон. И я не знаю, кто над кем будет смеяться в конце концов.
– Я проклинаю твоего илбэча! – вскричал Ёроол-Гуй. – Он нигде не найдёт покоя и не встретит счастья. У него не будет друзей, и даже родня станет издеваться над ним. А если он хоть кому-нибудь скажет о своём даре, то проживёт не больше дня. Я буду охотиться за ним неутомимо, он не уйдёт от моей мести, даже если выстроит оройхон на краю мира. Граница встретит его жаром и пламенем, и он не сможет ни жить там, ни убежать из далайна. Так я сказал!
– Ты сказал всё? – спросил Тэнгэр.
– Нет, но моё последнее слово я скажу потом.
Промолвив так, Ёроол-Гуй уполз в тёмную дыру, а Тэнгэр пошёл строить далайн. Алдан-тэсэг остался пустым, и никто не думал о вечном.
Долго продолжалась работа, лишь на исходе срединных веков вернулся Тэнгэр, ударил по основанию алдан-тэсэга и, когда Ёроол-Гуй выполз, сказал ему:
– Я всё сделал по твоему слову.
Они вместе отправились к далайну, и Ёроол-Гуй, увидав, что всё исполнено, усмехнулся и произнёс:
– Я отравлю воду далайна своим ядом, так что это уже будет не вода, и когда-нибудь яд разъест стены далайна и растечётся по всему пространству, и нигде не останется места для глупого Тэнгэра.
– Что ж, – сказал Тэнгэр. – Это было твоё последнее слово, и пусть будет по-твоему. Но берегись, если прежде в далайне не останется места для тебя!
И поскольку это действительно были последние слова, то Ёроол-Гуй молча канул в глубине далайна, а Тэнгэр вернулся на алдан-тэсэг думать о вечности, у которой кончились срединные века и начались новые.
Глава 1
Большущая тукка, не прячась, сидела на самом видном месте – на верхушке суурь-тэсэга. Не заметить её, казалось, просто невозможно. То есть, конечно, тукку всегда можно не заметить, её шкура сливается со скользким белесым нойтом, покрывающим в оройхоне каждый камень и каждую пядь. Тукка и сама похожа на камень, так что немудрено пройти мимо, едва не наступив на неё. Рассказывают, что хромой Хулгал однажды, не разобрав, сел на тукку и что именно с тех пор он хромает. Этому Шооран не верил – какая же тукка позволит сесть на себя? Хотя при опасности тукка предпочитает затаиться. Но на этот раз она пошевелилась, и Шооран заметил её. Такое случилось с ним впервые, обычно он лишь наблюдал, как большие мальчишки гоняют тукку, вздумавшую среди дня высунуться наружу. Чаще всего тукке удавалось улизнуть, но чем бы ни завершилось дело, венчала его всеобщая драка – мальчишки делили пойманную добычу или выясняли, кто виноват в неудаче. В любом случае Шооран был слишком мал – и чтобы охотиться, и чтобы драться. Он лишь следил за другими, восхищаясь ими и ненавидя, в предвкушении той минуты, когда сам вмешается в эту жизнь и, разумеется, для начала будет побит.
Но сейчас рядом никого не было, а тукка была. Шооран проворно снял старый истрёпанный жанч и, пригнувшись, начал подкрадываться к тукке. Он кинул жанч с пяти шагов и попал. Одежда накрыла тукку с головой, так что зверёк уже ничего не видел и не мог нырнуть в тёмные пещеры у подножия суурь-тэсэга. Эти дыры были так велики, что в них мог пройти взрослый мужчина, но в мокром оройхоне на такое в одиночку не решился бы ни один безумец. Дыры вели в шавар – подземные пещеры, до половины залитые едким нойтом, кишащие хищной и ядовитой мерзостью. Если бы тукка ушла в шавар, достать её оттуда стало бы невозможно. Но ослепшая тукка помчалась вперёд, волоча по слизи полы жанча. Шооран побежал следом. Он забыл об опасности, о том, что мама запрещала отходить далеко от границы, а видел лишь тукку, которую надо догнать. Дважды он падал, вымазав в нойте ладони и чуть было не потеряв из виду беглянку. Потом он догнал тукку и попытался схватить её, но тукка ударила иглами, пробившими жанч разом в двадцати местах, и сумела вырваться. Но всё же это была удача, потому что проколотый жанч не мог слететь с головы зверя, и победа Шоорана становилась лишь вопросом времени. Об испорченной одежде и саднящих ладонях Шооран не думал – шкура большой тукки стоит дороже старого жанча, к тому же мама, конечно, сможет прокалить жанч на огненном аваре, а потом как-нибудь починить его.
Шооран схватил обломок камня и кинул. Делать так не полагалось – камень мог испортить иглы, но Шооран устал и обозлился. Он и так с утра забрёл чересчур далеко – много дальше, чем дозволялось ему, а теперь ещё бежал вслед за туккой, которая, казалось, и не думала уставать и каждый раз, когда Шооран настигал её, выпускала всё новые иглы, безжалостно калеча кожу жанча, шипела и металась из стороны в сторону. Камень, впрочем, в тукку не попал, а, ударившись об один из мелких тэсэгов, поднимавшихся повсюду, разлетелся на хрупкие осколки. Тукка на мгновение остановилась, вертя замотанной головой и, видимо, ничего уже не соображая от страха, и тут Шооран схватил её. Он наступил на край жанча, рукой, пачкаясь в нойте, ухватил другой край и поднял жанч с запутавшейся в нём туккой на воздух. Тукка завертелась и зашипела отчаянно, но это не помогло ей. Шооран свёл полы вместе, крепко стянул их рукавами, и тукка оказалась упакованной в узел. Она могла шипеть и бить иглами, но освободиться не умела. Правда, нести её придётся на вытянутой руке, чтобы не напороться на иглы.
Шооран гордо распрямился, подняв вверх узел, и вздрогнул, лишь теперь увидев, куда забежал, увлечённый погоней. Впереди не было ни одного тэсэга, оройхон там кончался, а дальше, насколько хватало глаз, расстилалась бледная гладь далайна. Далайн казался живым, он дышал, по липкой тягучей влаге медленно пробегала дрожь. Временами на поверхности вздувался бугор, он бесцельно двигался, пока не опадал или не ударялся о край оройхона. Тогда на камне оставалась шевелящаяся груда поделённых на сегменты тел, извивающихся щупалец, каких-то спутанных волос. Влага растекалась по сторонам, загустевала, превращаясь в нойт.
Секунду Шооран обалдело смотрел на эту картину, о которой так много слышал, потом повернулся и бегом бросился назад. Он, никогда прежде не видавший далайна, отлично знал, что его глубины могут выпустить смерть. Житель далайна, страшный Ёроол-Гуй, выбрасывался на берег и цепкими руками тащил к себе всех, до кого успевал дотянуться. А рук Ёроол-Гуй имел много и мог дотянуться до любого места в оройхоне. В такую минуту люди бежали к границе и, вжавшись между палящими аварами, пережидали беду. Последний раз такое случилось два года назад, когда Шооран был совсем маленьким. Он запомнил лишь темноту и отчаянный шёпот матери: «Не смотри! Не смотри!..» А что он мог видеть, если мама с головой укутала его в свой жанч и так крепко держала, что при одном воспоминании о том дне у него начинают болеть кости? И всё же именно тогда он понял, почему мама требует, чтобы он не отходил далеко от границы. Ведь только на узкой полоске между всесжигающими аварами и кромкой оройхона удавалось быть в безопасности. Жаль, что прокормиться на этой полосе не смогла бы и тукка, поэтому всем, даже детям, каждый день приходилось отправляться на загаженный нойтом оройхон, и Шооран, несмотря на предупреждения матери, постепенно уходил всё дальше от безопасной границы, пока наконец не достиг далайна.
Большие мальчишки хвастались, что ходят сюда чуть не ежедневно, но Шооран знал, что это неправда, и потому бежал, не пытаясь скрыть страх. Но через пару минут начало болеть под ложечкой, Шооран задохнулся и перешёл на шаг. Далайн был уже не виден, страх отпустил, и вновь стала радовать тукка, затянутая в узел и даже не пытающаяся выбраться на волю. Такая огромная тукка! За её шкуру можно получить всё, что угодно. Из шкуры тукки шьют башмаки, которые носят знатные цэрэги, живущие на сухих оройхонах, и даже сам царственный ван. Там, в сухих краях, есть много чудесных вещей, но тукки там нет… тем более такой большой. Из неё одной получится целый башмак. А если шить башмаки поменьше, то можно выкроить и два. Шооран представил свои ноги не в бесформенных буйях, а в башмаках из кожи тукки с иглами в носке и на пятке, чтобы удобнее было драться, и проникся гордостью за свой подвиг. А мясо тукки, говорят, очень вкусное… он никогда не пробовал его.
Шооран миновал уже два суурь-тэсэга и знал, что скоро окажется в знакомых местах. В отличие от простых, мелких тэсэгов, разбросанных повсюду, словно бородавки, восемь суурь-тэсэгов располагалось квадратами, они были высоки, и по ним удавалось легко найти дорогу. Шооран снова припустил бегом, но вдруг остановился. Навстречу ему из-за кривобокого тэсэга вышел Бутач.
Бутач был самым большим и отчаянным из мальчишек, он часто отнимал еду даже у взрослых женщин. Просто так он никого не трогал, но пройти мимо маленького мальчика да ещё с тугим узлом в руках не мог.
– Что промыслил? – ласково спросил Бутач.
– Ничего, – Шооран попятился.
– Ну, коли ничего, так давай сюда, – заключил Бутач. – Ведь если это «ничего», то тебе его не жалко. Так ведь?
– Не дам, – внутренне похолодев, сказал Шооран.
После таких слов немедленно должна была последовать взбучка, Шооран внутренне был готов к ней и даже согласен, что так и должно быть, но… только не сейчас. То есть пусть будет какая угодно взбучка, но тукку он не отдаст. Он поймал тукку сам… это его тукка…
– Это мама сказала отнести Боройгалу, – принялся врать он, отчаянно надеясь, что упоминание самого сильного из мужчин остановит грабителя. Однако на Бутача слова действовали слабо. Он протянул руку, намереваясь вырвать узел из ослабевших пальцев, но Шооран дёрнулся назад и резко, без размаха хлестнул Бутача узлом по лицу. Очнувшаяся тукка разом выпустила все свои иглы, щека Бутача мгновенно вспухла и окрасилась кровью. Узел развязался, тукка выпала. Ещё в воздухе она извернулась, чтобы приземлиться на ноги, и, ни секунды не мешкая, кинулась наутёк. Шооран метнул вслед жанч, но промахнулся. Может быть, он попал бы и на этот раз, если бы не Бутач. В первый миг тот замер, захлебнувшись криком – ядовитые иглы обожгли нестерпимой болью, – но потом, увидев тукку, пересилил себя и, сбив с ног Шоорана, ринулся вдогонку.
Шооран поднялся, поднял окончательно изгаженный жанч. Тряслись руки, дрожали губы. Жизнь, только что казавшаяся замечательной, погибла безвозвратно. Тукка сбежала, и неважно, поймает её Бутач или нет: он теперь раздет, и руки болят, и неясно, что сказать маме, а Бутач, когда вернётся, попросту убьёт его. Такого не прощают никому и никогда – рубцы от игл останутся на лице Бутача на всю жизнь, так что Шоорану теперь лучше сразу и самому прыгать в далайн.
– Жирх вонючий! – выкрикнул Шооран самое страшное оскорбление, какое только знал.
Скорее всего, Бутач не услышал его, да и что мог добавить крик к тому, что он уже сделал? Ничто не могло ни исправить беды, ни сделать ему ещё хуже. Шооран медленно поплёлся к дому. Здесь уже было много людей: женщины тонкими палочками разгребали жидкую грязь, выискивая съедобную чавгу, малыши играли в кашу-малашу, а те, кто постарше, – в запретную, но вечную игру «Мышка, мышка, засоси!». Шооран не видел никого. Больше всего ему хотелось, чтобы весь оройхон провалился сейчас в глубины, и пусть, раз мир так несправедлив, не останется вообще ничего, лишь тягучая влага и безмолвные твари далайна, скверные на вид.
Шооран всхлипнул, дождавшись наконец слёз, и словно тяжёлое эхо донеслось в ответ на его судорожный всхлип. Сосущий, чмокающий звук прокатился над приземистыми тэсэгами, заглянул в беспросветные недра шавара, вернувшись оттуда усиленным, и завершился бесконечно сильным мокрым шлепком, гулко отдавшимся в раскалённом аду приграничных аваров.
Долгий миг в воздухе висела оторопелая тишина, затем все разом закричали, началась паника. Испугались даже те, кто по малолетству не мог помнить этого звука: страх был безусловен, его воспитала память предков, погибавших под шумный хлюпающий вздох. Люди похватали кто что мог: грудных детей, оставленных на верхушке тэсэга, где посуше, мешки с чавгой и сырым харвахом, палки из хохиура и настоящего дерева, ещё какой-то скарб – бросать нельзя ничего! – и кинулись к огненной границе на узкую полосу, свободную и от огня, и от влаги. Дети бежали вместе со взрослыми – кто-то сбивал их с ног и, не оглянувшись, бежал дальше, кто-то задерживал шаг и подхватывал на руки. Бежали трёхлетки, размешивавшие «кашу-малашу», сдуло игроков в «мышку»: лишь один – чемпион, кого неведомая «мышка» засосала особенно глубоко, бессильно дёргался, пытаясь освободить увязшие ноги, и отрывисто, вскриками плакал.
Шооран бежал вместе со всеми, не разбирая дороги, разбрызгивая вонючую грязь и перепрыгивая через камни. В усталые ноги словно вошла новая жизнь, иначе бы он ни за что не сумел добежать. Перебираясь через россыпь рыхлых камней, он оглянулся и увидел, как за ближними тэсэгами бугрится, отблёскивая, полупрозрачная студенистая масса, она ползёт, разрастаясь, настигая бегущих. Оттуда в воздух взлетали плети щупалец с присосками, роговыми когтями или смертельно жгучей бахромой; щупальца отсекали дорогу и тащили извивающихся, кричащих людей. Другие руки – тонкие и гибкие – ныряли в шавар, выволакивали на свет то, что пряталось там. Тысячи отростков ощупывали каждую пядь суши, не пропуская и не щадя никого, – великий Ёроол-Гуй хотел есть.
Одна из рук шумно упала впереди, преградила путь, растопырив пальцы, каждый из которых был похож на многоногого жирха, но Шооран, взбежав на полуразрушенный тэсэг, сумел перепрыгнуть её, не коснувшись отростков. Кто-то мчался впереди, кто-то кричал сзади, Шооран ничего не разбирал и лишь вскрикнул, почувствовав, как его крепко ухватило за плечо, разом остановив. Шооран завизжал, повалился на землю, пытаясь высвободиться и бежать дальше, но неожиданно услышал негромкий и оттого особенно невозможный в эту минуту человеческий голос:
– Да остановись ты! Куда рвёшься? Тебе так необходимо изжариться поскорей?
Шооран открыл глаза и понял, что остался жив. Он сам не заметил, когда перескочил невысокий каменный поребрик, ограничивающий мокрый оройхон, и теперь у него под ногами была сухая твёрдая земля пограничного оройхона. Противоположный, огненный конец этого острова упирался в край мира, но здесь было даже не очень жарко и, главное, совершенно безопасно. За плечо Шоорана держал хромой Хулгал, на которого Шооран налетел сослепу, когда, не разбирая дороги, нёсся к огненным грудам аваров. Те из людей, кто успел скрыться в пограничном оройхоне, подобно Шоорану не могли остановиться и рвались вглубь, в самое пекло. Огонь, боль от ожогов казались не так страшны, как тяжело ворочающийся всего в нескольких шагах Ёроол-Гуй. Было невозможно представить, что узенький поребрик, разделяющий оройхоны, неодолим для могучего гиганта. Ведь сами люди каждый день, не замечая, переступали эту преграду. Только Хулгал и остановленный им Шооран остались на краю, в нескольких шагах от смертельной зоны.
– Не тронет, кишка тонка нас здесь достать, – злорадно проговорил Хулгал.
Неловко переваливаясь, старик подошёл ближе и плюнул на ползущее совсем рядом щупальце: бесконечно длинное и тонкое, как нитка.
– Вот ведь пакость какая, там ему только попадись, а здесь ничего не может. Я его хорошо знаю – везёт мне на встречи. Раньше тоже бегал от него, отворачивался, а теперь – не боюсь. Но-но, место знай, тварь! – крикнул он и ударил палкой по кончику даже не щупальца, а словно бы уса или волоса, который слепо шарил по краю поребрика, безуспешно пытаясь перелезть через него.
Ус мгновенно обвился вокруг палки, натянулся струной и с лёгкостью вырвал её из старческой руки.
– Вот скотина! – огорчённо сказал Хулгал. – Палку слопал. Как же я теперь ходить буду?
Шооран не слушал болтовни старика, вызванной тем же нервным потрясением, что заставляло других лезть в огонь или лежать ничком, закрыв руками голову. Самого Шоорана тоже трясло, и он следовал за Хулгалом, словно сомнамбула, и если бы Хулгал перешёл сейчас роковую черту, то и Шооран, даже не поняв, что делает, тоже отправился бы на гибель.
Чудовище, взгромоздившееся на оройхон, на восемь суурь-тэсэгов разом, молчало, смолкли и крики погибавших; кроме громады Ёроол-Гуя, на опустошённом оройхоне не осталось ничего живого. Лишь полчища рук Ёроол-Гуя продолжали жить своей жизнью: бесцельно крошили камень, с жирными шлепками окунались в грязь, резко разворачивались, будто стремились отбросить что-то. Потом студенистое тело раздалось в стороны, словно по нему провели глубокий разрез небывало огромной бритвой, и изнутри выдавился глаз – круглый и немигающий, большой, словно чан для харваха. Глаз жутко вращался, взблескивая чёрной глубиной расплывшегося зрачка, и вдруг остановился, вперившись почти осмысленным взглядом в лицо Шоорану. Взгляд тянул к себе, требовательно звал, и Шооран, шумно выдохнув воздух, шагнул навстречу, но костлявые пальцы Хулгала сомкнулись на плече, а дребезжащий голос разрушил наваждение:
– Ишь ты, голову дурит. Ты, малец, лучше не смотри, такое не каждому взрослому вынести можно, того и гляди сам к этому бурдюку на обед отправишься. Пойдём отсюда, он, похоже, надолго на наших тэсэгах расселся.
И, словно опровергая слова старика, заструились, укорачиваясь, щупальца, захлопнулись десятки ротовых отверстий с тёрками мелких зубов, скрылся глаз, и вся скользкая туша, вздрагивая и сокращаясь, поползла прочь. Ёроол-Гуй уходил.
Едва он скрылся из виду, как пограничная полоса ожила: раздались голоса, стоны, плач – ошпаренные люди полезли из-под защиты аваров. Они бегали, искали друг друга, звали погибших.
Шооран молча опустился на камень. Он смотрел туда, где только что копошились конечности хищной бестии, и медленные слёзы, не принося облегчения, текли по его щекам. Хулгал что-то говорил, потом поковылял прочь, должно быть, искать новую палку – Шооран ничего не слышал и не замечал. И лишь когда из сгущающейся вечерней темноты появилась мама, по всему оройхону ищущая пропавшего сына, схватила его на руки, принялась целовать, повторяя: «Живой! Живой!..» – лишь тогда Шооран с трудом выговорил:
– Мама, он всех съел: и того мальчика, и Бутача, и мою тукку. У меня всё было, а он пришёл и съел. Всё – даже палку Хулгала…
– Нет, нет! – смеясь и плача, отвечала мама. – Он нас с тобой не съел, мы убежали…
– Всех съел, – не слыша, повторял Шооран.
* * *
На следующий день те, кто остался жив, задумались, как существовать дальше. Округа была опустошена подчистую, пройдёт ещё не одна неделя, прежде чем в грязи зашевелятся жирхи с тошнотворной, но всё же съедобной плотью, созреет под чешуйчатой скорлупой водянистая чавга, а шавар заселят всевозможные существа и среди них вожделенная тукка. Сейчас на оройхоне были истреблены даже заросли хохиура – вполне бесполезной травы, из которой только и можно сделать, что палочку для разгребания грязи. Короче – не осталось ничего, кормиться предстояло на соседних оройхонах, что, несомненно, не могло понравиться жителям этих мест.
Соседи жили с двух сторон, но стороны были явно неравноценны. На востоке простиралась обширная страна, состоящая из множества оройхонов, выстроенных Ваном – илбэчем, жившим много лет назад и оставившим следы своих трудов во всех землях. Правители восточных земель называли себя ванами и возводили свой род к знаменитому илбэчу, хотя всякий знал, что древнее проклятие обрекало строителя оройхона на одиночество. Но противоречить царственному мнению никто не смел, тем более что удачливый Ван умер неразгаданным, и теперь на его счёт можно было строить какие угодно домыслы. Ближайший восточный оройхон выходил на далайн лишь одним углом, и хотя жизнь на нём, казалось, была такой же, что и на пострадавшем острове, но считался он особым, ибо прикрывал сухие земли царствующего вана. Соваться туда – значит столкнуться с хорошо вооружёнными и безжалостными цэрэгами, охраняющими от вторжения чужаков перенаселённые земли. Ясно, что на восток пути не было, в добрые времена цэрэги могли торговать, но никакой помощи не оказывали ни прежде, ни тем более сейчас.
На запад от того места, которое посетил Ёроол-Гуй, находился край вовсе безнадёжный. Пограничный оройхон там касался далайна, так что воздух, и без того нечистый, наполняли тягостные испарения от кипящего и сгорающего на аварах нойта. Там не было полностью безопасного места, такого, как здесь, и единственный мокрый остров, расположенный на западе, давал убежище самому жалкому отребью, которому не нашлось никакого иного клочка земли. Даже на ночь западные не могли уйти на сухое, смерть и болезни косили их беспощадней всего, западные изгои презирались всеми и всему миру платили ненавистью. Ждать помощи оттуда было так же наивно, как и с востока. Но больше идти было некуда – на юге пылала граница, на севере колыхал влагу далайн.
День поисков на разграбленном оройхоне не принёс добычи никому, и к вечеру уцелевшие люди собрались на совет. Говорили только мужчины, ведь именно им предстояло искать выход. Выход оставался единственный – идти на запад, но делать это можно было по-разному. Ещё день назад, возникни такая нужда, мужчины собрались бы в отряд, и западным изгоям пришлось бы немедленно сдаваться на милость сильнейшего. Но теперь, когда больше половины обитателей оройхона погибли, такой путь становился опасным. Изгои могли не только дать отпор, но и попросту перебить ослабевших соседей, чтобы захватить их земли. Опустошённый оройхон пока не представлял ценности, а вот приграничная полоса – сухая и безопасная – привлекала многих.
Дело решил Боройгал – жилистый, неимоверной силы мужчина, холодно-жестокий и равнодушный ко всему на свете, кроме собственного удобства. Всё своё время Боройгал проводил на приграничной полосе, на мокрое старался не выходить, жил поборами, а также тем, что добывали две его жены, целый день копавшие чавгу в самых кормных, но зато и самых опасных местах. Вчера одна из них погибла, но это слабо огорчило Боройгала. К детям он был равнодушен, а жён всегда можно найти новых. В жизни Боройгал ценил лишь обильную жратву, возможность ничего не делать да еще крепко заквашенную хмельную брагу, что готовят из перезревшей чавги.
– Воевать не станем, – сообщил Боройгал. – Людей осталось мало, так что завтра отправим к западным послов. Мы будем кормиться на их оройхоне, а потом примем у себя их людей. Но только крепкие семьи – те, где есть мужчины. Таких там немного, но они сила и заставят заткнуться остальную шушеру. Зато мы обойдёмся без войны.
– Так ведь и они станут кормить только крепкие семьи!.. – выкрикнул женский голос.
– Правильно, – согласился Боройгал. – Так и должно быть.
– А как же мы?
Боройгал повернулся на голос, колючий взгляд царапнул Шоорана, прижавшегося к матери, которая задала этот вопрос.
– Тебе надо было думать раньше, – язвительно сказал Боройгал, обнажив в улыбке чёрные пеньки сгнивших зубов. – Я тебя предупреждал.
Мама взяла Шоорана за руку, молча развернулась и пошла прочь. Шооран ничего не понял из короткого разговора между матерью и предводителем уцелевших, но почувствовал угрозу в словах Боройгала и теперь был рад, что они с мамой уходят гордые и непобеждённые. Лишь когда они отошли так, чтобы их стало не видно, Шооран дёрнул маму за рукав и спросил:
– А что, он тебя предупреждал? Он знал, когда Ёроол-Гуй придёт?
– Нет, он ничего не знал, – ответила мама. – Он просто мстит.
– За что? – удивился Шооран.
Он знал, как мстят мальчишки, избивая и вываливая в нойте противника, и знал, за что они могут мстить. Но какова месть взрослых, Шооран представить не мог и потому, не дождавшись ответа, снова дёрнул маму за рукав и переспросил:
– Как это мстит? За что?
– Когда-то он хотел, чтобы я пришла к нему третьей женой, – сказала мама, – а я отказалась. Вот он и зол на меня.
– Правильно отказалась! – поддержал Шооран. – Этот Боройгал здоровущий, а бездельник. Я и то лучше промышляю. Согласилась бы, так тебе же его и кормить пришлось бы.
– Не в этом дело, – сказала мама. – Он свою долю и так отбирал. Просто я не хотела с ним жить. Ты отца не помнишь, а ведь этот Боройгал по сравнению с ним словно мелкий жирх. Потому он и звал меня в жёны, что отцу завидовал… даже после смерти. А я отказала.
– Мама, а правда, что мой отец был илбэч и что наш оройхон построен им? – спросил Шооран, на секунду вдруг поверивший в утешительную сказку всех одиноких мальчишек.
– Нет, что ты… – Мама опустилась на землю, притянула к себе Шоорана, словно младенца укутала его своим жанчем, и Шооран не возмутился, покорно приник к матери, затих, слушая. – Я жила с отцом очень долго, а илбэч не может сидеть на одном месте, он должен бродить по всем краям, выбирая место для нового оройхона. Когда проходит слух, что родился илбэч, люди, прежде недоверчивые, соглашаются пропускать через свои острова бродяг. Это тяжёлое, дурное время. Никто не хочет работать, все снимаются с мест в поисках новых земель или ждут, что их болотина станет вдруг сухим оройхоном, а они сами из грязекопателей превратятся в знатных цэрэгов. Бродяги воруют и грабят, опустошают оройхоны не хуже Многорукого. В конце концов жители начинают бить их, забыв, что среди бандитов бродит и их спаситель. Постепенно слухи затихают, и люди остаются такими же нищими, как были. А когда и вправду начинают возникать новые острова, то получается ещё хуже. Кому-то везёт, а остальные пропадают, потому что Многорукий в такие годы приходит чуть не каждую неделю. Он ищет илбэча, но гибнут-то простые люди. Я хорошо помню, как это происходило больше дюжины лет назад и не хочу второй раз пережить подобное, хотя именно тогда был построен наш оройхон. К тому времени многие из людей думали, что истории, которые рассказывают об илбэче Ване, – сплошная выдумка. Со времён Вана прошло больше двойной дюжины лет. Ты представить себе не можешь, как это много – дюжина дюжин. С тех пор в мире не рождалось илбэчей, или они не желали строить оройхоны. Хулгал даже рассказывает, что сам Ван на двойную дюжину лет отдал дар илбэча Многорукому. Не знаю, кто прав, но только люди отвыкли от чудес. И вдруг оройхоны стали появляться один за другим. Они возникали каждый месяц, иногда по нескольку штук. Тогда и начались беды, о которых я говорила. Все бросились искать лучшей доли, все мечтали о несбыточном, многие погибли, и никто не стал счастливее. Это продолжалось почти два года, и когда люди поняли, что илбэч исчез – скорее всего, Многорукий дотянулся до него, – то оказалось, что в стране не стало ни единым сухим оройхоном больше, илбэч натыркал свои острова как попало, все они непригодны для жизни, лишь изгои обитают там, и банды ночных пархов прячутся от войск вана. С тех пор последнего илбэча называют безумным, да, наверное, он и был не в себе. Дар илбэча слишком тяжёл для нормального человека, так что не стоит верить всему, что рассказывают о Ване. Впрочем, наш оройхон безумный илбэч поставил так, что у нас появилась сухая полоса вдоль аваров. Поэтому здесь не принято ругать безумного илбэча. Но и вспоминать о нём лишний раз – не стоит. Пусть старик Тэнгэр думает о героях, мы с тобой их ждать не будем. Я бы никогда не согласилась стать женой илбэча. Через два поколения его дела покажутся прекрасными, но не допусти мудрый Тэнгэр жить с ним рядом. Человек не должен мешаться в дела бессмертных и лишний раз будить Многорукого. Твой отец был обычным человеком, но самым лучшим из всех, кто ходил по оройхону. Если бы он захотел, он поселился бы в сухих краях и стал цэрэгом, но он говорил, что там правды ещё меньше, чем здесь. Поэтому он жил с нами. Он был добр и не только кормил семью, но и помогал слабым и одиноким. Пока он не умер, мы жили богаче вана. У отца были доспехи из панциря огромного гвааранза. В них он в одиночку спускался в шавар и приносил оттуда таких зверей, что посмотреть на них сбегался весь оройхон…
– Когда я вырасту, я тоже буду таким, – перебил Шооран. – Я уже поймал одну тукку, но она убежала.
– Ну, конечно, – согласилась мама. – Ты обязательно вырастешь и добудешь ещё не одну тукку, ведь ты очень похож на отца. Я была у него второй женой, люди говорят, что это плохо, – первая жена чувствует себя забытой и обижается. Но у отца хватало любви на всех. Мы жили дружно, даже после того как отец погиб. В шаваре не было зверя, способного победить его, но крошечный зогг сумел проползти под панцирь и ужалить в грудь. Три дня отец мучился, потом почернел и умер. И я теперь даже не могу назвать его по имени. Но с его первой женой мы продолжали жить дружно. Обычно жёны кличут друг друга сёстрами, но мы и в самом деле жили как сёстры. Любви твоего отца хватало нам даже после его смерти. Наверно, мы и сейчас жили бы вместе, но два года назад её взял Многорукий. У неё остался сын, он уже совсем взрослый и живёт сам, ты должен его знать, его зовут Бутач.
– Что?.. – спросил Шооран. – Бутач – мой брат?
– Ну, конечно, – сказала мама. – Ты разве не знал?
– Нет… – прошептал Шооран и, помолчав, добавил совсем тихо: – Лучше бы я отдал ему мою тукку. Тогда мы оба сумели бы убежать. Я же говорил, что Бутач остался на оройхоне.
– Тихо! – сказала мама. – Если он погиб, то называть его по имени нельзя. Имена всех умерших принадлежат Многорукому.
– Мама! – укоризненно сказал Шооран. – В это верят только женщины, а я – мужчина. Даже Многорукого я не боюсь называть по имени. Его зовут Ёроол-Гуй. Вот видишь – ничего не случилось.
– Всё равно – не надо, – сказала мама. – Не зови беду. Вот, поешь чавги и давай спать. Завтра мы уходим отсюда.
Они поужинали остатками старых запасов, легли на жаркую от близких аваров землю, прижавшись друг к другу и укрывшись одним жанчем. И, уже засыпая, Шооран повторил:
– Всё-таки лучше бы я отдал мою тукку…
* * *
Наутро, едва туман, плывущий по небу, окрасился в жёлтый цвет, мама подняла Шоорана, и они отправились на восток. Там, разумеется, знали о беде, постигшей соседей, и давно приготовились гнать прочь ищущих пристанища людей. Несколько дюжин воинов в роговых панцирях, в высоких, утыканных иглами башмаках, в шлемах с прозрачными забралами, сделанными из выскобленной чешуи, ходили вдоль поребрика или сидели, положив на колени короткие копья. Поскольку положение было чрезвычайное, то командовал отрядом одонт – наместник вана. Это был грузный и уже немолодой мужчина, чрезвычайно страдающий от необходимости таскать на себе доспехи из кости и грубой кожи водяных гадов. Одонт сидел, сняв шлем и обмахиваясь пропитанной благовониями губкой. Пот каплями выступал на его лице и лысине. Вид у одонта был совершенно не воинственный, и Шооран немало удивился, когда мама направилась прямо к этому, никакого уважения не вызывающему толстяку.
Один из стражников, не поднимаясь с места, потянулся за камнем, лениво швырнул его в женщину.
– Эгей, гнилоедка, уползай в свой шавар, ты здесь никому не нужна!
– Доблестный одонт, – не глядя на стражника и не обращая внимания на удар, произнесла мать, – да пребудут вечно сухими твои ноги! Я пришла торговать, и у меня есть что предложить тебе.
– Что у тебя может быть?! – Оскорблённый невниманием цэрэг замахнулся копьём. – Убирайся вон!
– Я принесла харвах.
– Мокрая грязь!
– Мой харвах сухой, – возразила мать.
– Покажи, – впервые заинтересовался разговором одонт.
Мама достала из заплечной сумы пакетик из выдубленной кожи безногой тайзы, протянула его одонту. Начальник развернул свёрток, добыл из него щепотку коричневого порошка, понюхал, положил на камень и, повернувшись к цэрэгу, приказал:
– Проверь.
Цэрэг недовольно опустил копьё и склонился над крошечной щепотью порошка.
Шооран во все глаза следил за воином. Он не понимал, откуда у мамы харвах. На всём оройхоне один Хулгал осмеливался сушить это зелье, да и то лишь потому, что был калекой и не мог иначе прокормить себя. «Недолгий, как жизнь сушильщика», – говорила поговорка. Хулгал уже лишился глаза и двух пальцев на левой руке. Сушить харвах – всё равно что дразнить Многорукого, так неужели Хулгал запросто подарил маме столько зелья? Такого не может быть.
Цэрэг ударил по концу копья кремнем, раздался громкий хлопок, яркая вспышка заставила воина отшатнуться.
– Хороший харвах, – похвалил одонт, наблюдая, как стражник утирает опалённую физиономию. – Что ты за него хочешь?
– Нам с сыном негде жить.
– И ты полагаешь, что я позволю тебе войти на острова сияющего вана только потому, что ты умудрилась украсть где-то немного харваха? – возмутился одонт. – Может быть, ты желаешь к тому же поселиться в моём доме и каждый день есть горячее?
– Я никогда и ничего не воровала, – возразила мать. – Этот харвах я собрала и высушила сама.
– Сушильщики всегда нужны, – задумчиво произнёс одонт. – Если бы ты была одна, я, пожалуй, пропустил бы тебя…
– Мама, не бросай меня! – отчаянно зашептал Шооран. – Я буду тебе помогать, я тоже стану сушильщиком…
Мама крепче сжала руку Шоорана и твёрдо ответила:
– Я пошла на это только ради сына. Вы должны пустить нас обоих или обоих прогнать.
– Ты говоришь так дерзко, словно Ёроол-Гуй отличает тебя от других людей. Гнилоеды, разговаривающие со мной таким тоном, очень скоро узнают, кто живёт в шаваре. Но сегодня я добр и пропущу вас обоих. Ты будешь готовить харвах для войск царственного вана, да не узнают его ноги сырости. Каждую неделю ты должна сдавать по два ямха хорошо высушенного харваха. Всё остальное, что ты изготовишь, пойдёт в твою пользу.
– Кроме праздника мягмара, – возразила мать. – Эта неделя принадлежит Многорукому, сушильщики в это время не работают.
– Ладно, ладно, – согласился одонт. – Мунаг, проводи её и покажи, где они будут жить.
Опалённый взрывом цэрэг сделал знак рукой, и Шооран вместе с мамой ступил на землю царственного вана.
Ничего вокруг не изменилось. Так же справа курились раскалённые авары, а слева тянулся мокрый оройхон, на котором копошились грязные, оборванные люди. Правда, Шоорану показалось, что эти люди чересчур грязны и слишком оборваны. Но, скорее всего, это действительно всего лишь показалось из-за того, что жители спешили раболепно поклониться идущему цэрэгу. На родном оройхоне Шоорана никто так низко не сгибался даже перед могучим Боройгалом. И было ещё одно отличие: всё пространство на сухой полосе почти вплотную к аварам было поделено на маленькие квадратики. На каждом квадратике кто-то жил, на колышках была натянута кожа водяных гадов, защищающая от огня аваров и мозглых туманов, несущих с далайна лихорадку. Под тентами хранились какие-то вещи, хотя хозяина порой не было видно рядом – значит, воровство процветало здесь не так пышно, как на свободном оройхоне.
Мунаг свернул к одному из закутков, отдёрнул шуршащий полог. Сначала Шооран не понял, что лежит перед ними на драной подстилке. Почудилось, что это кукла вроде тех, что лепят из грязи во время праздника мягмара, принося жертву Ёроол-Гую. И лишь потом он понял, что перед ним человек. Обмотанные тряпками руки, вздувшееся лицо, сквозь трещины обугленной кожи сочится сукровица. Закатившиеся глаза слепо поблёскивают сквозь щёлки опухших век, и лишь прерывистое дыхание указывает, что лежащий жив.
– Это наш сушильщик, – сказал Мунаг. – Ты могла выторговать гораздо больше, чем получила. Но всё равно, – стражник тряхнул бородой в мелких колечках сгоревшего волоса, – ты шальная баба. Не думал, что такие бывают. Будете жить здесь. Сегодня или завтра этого стащат в шавар, и всё добро станет вашим. Клянусь алдан-тэсэгом и вечными мыслями Тэнгэра, в первый раз вижу женщину-сушильщика! Право слово, ты мне нравишься, хоть и бешеная.
– Не смей ругаться на мою маму! – сказал Шооран.
– И сынок у тебя под стать. Мелкий, как жирх, а наглый, словно у него Ёроол-Гуй в приятелях. Давай, парень, вырастешь – в помощники себе возьму. Мне нравятся наглые. Желаю вам подольше уцелеть.
Мунаг повернулся и пошёл по дорожке, насвистывая под нос и задевая древком копья за развешанные кожи.
Шооран долго смотрел на лежащее тело, а потом спросил:
– Мама, что с ним?
– Наверное, у него вспыхнул харвах во время сушки, – ответила мама, – и он сгорел.
– Мама, не надо быть сушильщиком! – закричал Шооран. – Пойдём отсюда, я не хочу, чтобы и ты сгорела!
– Ничего, мальчик, – сказала мама. – Я буду очень осторожной.
* * *
Сырой харвах собирают в зарослях хохиура. Жёсткая трава быстро вырастает и, ещё не созрев, начинает гнить. Толстые ломкие стебли густо покрываются рыжей плесенью. Это и есть харвах. Грязные хлопья соскребают с веток, пока не наберётся полная торба – тяжёлая и мокрая. Потом мама прожарит харвах на аваре, и он превратится в тончайшую пыль, без которой не выстрелит ни тяжёлая пушка-ухэр, ни лёгкий татац, что свободно переносят двое солдат.
Уже больше года, как Шооран с мамой живут под рукой великого вана, и ничего плохого за это время не произошло. Шооран вырос, теперь он сам собирает харвах, ходит за ним по всему оройхону и не раз доходил к самому далайну. Больше он не бегает от далайна сломя голову, хотя и понимает, что разгуливать там зазря не стоит. Впрочем, этот оройхон почти безопасен, всего побережья в нём – дюжины три шагов, а значит, всегда можно успеть перескочить границу. Гораздо опаснее в центре – там далеко бежать.
Шооран поднял голову. Тяжёлая низкая волна только что расплескалась о край оройхона, влага ещё стекала сквозь груду разбитой живности, и какие-то мелкие существа, изгибаясь, прыгали на камне, стараясь достичь родной стихии. На самом краю конвульсивно шевелящейся кучи Шооран заметил толстое цилиндрическое тело. Зверь был ростом почти с человека и гораздо толще. Он шлёпал по камню стреловидным хвостом, но сразу было видно, что толстяк не может сам доползти до уреза влаги. Его гладкое брюхо лоснилось, словно намазанное жиром.
Авхай! Отличная находка! Не так часто этот зверь, совершенно беспомощный на берегу, но необычайно ловкий в далайне, бывает выброшен на сушу. Конечно, есть авхая нельзя, но зато у него хорошая кожа. Будет маме новый жанч.
Шооран, натягивая на ходу рукавицы, подбежал к гигантскому червю, ухватил его за хвост, покраснев от натуги, волоком оттащил шага на три от остальных существ. Пускай половина из них уже мертва, стоять рядом всё равно не стоит – чем меньше имеешь дела с тварями из далайна, тем дольше проживёшь. Ыльк в руку вцепится – мало не будет.
Авхай не сопротивлялся, на берегу тяжёлое тело не слушалось его, но всё же волочить тушу до дома было немыслимо. Придётся потрошить добычу здесь и бегом, пока кожа не задубела и не стала ломкой, нести её маме.
С собой у Шоорана был только деревянный нож, которым он соскребал харвах, но Шооран в любую минуту мог превратить его в настоящий кинжал – оружие опасное и запрещённое для всех, кроме благородных цэрэгов. Шооран достал из пояса тщательно спрятанное лезвие из прозрачной кости, вставил его в продолбленную выемку на ноже, покачал двумя пальцами, проверяя, прочно ли оно вошло в паз, примерившись, ударил в основание головы авхая и быстро повёл нож вниз к хвосту. Кожа с треском уступила инструменту, упругая туша сразу обмякла, белая каша внутренностей хлынула наружу, заляпав всё вокруг. Шооран ухватил авхая за хвост, вытащил из зловонной лужи, тряхнул несколько раз, чтобы из шкуры вылились остатки наполнявшей её жижи, а потом свернул ещё живого зверя в рулон. Авхай шевелил длинными усами, обрамляющими беззубый рот, и эти замирающие движения выпотрошенного, превращённого в вещь тела наполняли Шоорана гордостью удачливого добытчика.
Шооран подхватил почти полную сумку с харвахом, пристроил сверху скатанного в трубу авхая и поспешил к дороге.
По верхушке поребрика, разделявшего два оройхона, была проложена тропа. Шооран выбрал именно этот, более долгий, но зато безопасный путь – в центре мокрого оройхона, куда редко заглядывали караулы, его запросто могли ограбить. Не бог весь какая ценность – невыделанная шкура авхая, но Тэнгэр не думает о тех, кто не желает думать сам. И главное – лишние четверть часа пути оправдывались тем, что часть дороги проходила вдоль сухого оройхона.
Тропа круто, под прямым углом повернула, а вернее, её пересекла другая тропа, на которую и свернул Шооран. Теперь слева тянулась земля воистину сказочная. Конечно, и там, как повсюду, поднимали свои вершины восемь суурь-тэсэгов, и там каменными горбами выпирали из земли тэсэги помельче, но нигде не было ни единой капли нойта, во всяком месте можно было сесть и даже лечь, не боясь испачкаться, обжечься, отравиться. На узкой, доступной людям полосе огненного оройхона тоже было сухо, но поблизости от аваров не росло ничего, а здесь землю покрывала нежная, ничуть не похожая на жёсткий шуршащий хохиур трава. У этой травы были тонкие зелёные стебли, на верхушках которых качались гроздья не то ягод, не то семян – Шооран не знал, что это, но инстинктивно чувствовал, что гроздья съедобны, и судорожно сглатывал слюну, набегавшую от одного вида такого количества вольно растущей пищи.
В одном месте он увидел, как между тэсэгами течёт ручей. Это была настоящая вода, которую покупала для него мама. Вода текла совершенно свободно и, кажется, никуда. В ручье, наполовину скрытые водой, лежали медлительные толстые звери. Они смотрели на Шоорана пустым благодушным взглядом и сосредоточенно жевали плавающие в воде растения. Даже отсюда было видно, как беззащитны эти животные и как вкусно их мясо. Но в то же время Шооран знал, что их защищает сила, более могучая и опасная, нежели самые ядовитые шипы и острые зубы. Здесь и там на делянках виднелись фигуры работающих, и если кто-то из них поднимал голову, то Шооран встречал опасливый и ненавидящий взгляд. Всё вокруг кому-то принадлежало, и за одну горсть зерна хозяин, не задумываясь, придушил бы похитителя. Чёткие границы, лежащие в основе оройхонов, определили и границы между людьми. В мирное время лишь цэрэгам и высшей знати дозволялось свободно переходить с одного оройхона на другой, остальные годами сидели на своем крошечном пятачке, радуясь, что они здесь, а не на мокром, где в любую минуту из вздыбившегося далайна может явиться жаждущий крови Ёроол-Гуй. И ненависть к болотному отребью: грязному, вонючему и оборванному, покрытому язвами и болячками, но живущему на единую каплю свободнее, неугасимо пылала в их душах.
Всего этого Шооран не знал, он видел лишь, что всякий по левую сторону дорожки в сравнении с ним живёт, словно восседает на алдан-тэсэге, и окрашенную восхищением уверенность, что так и должно быть и люди там особые, ещё не отравило сомнение. Но зато гордость в нём уже проснулась, и Шооран шёл, повернув свёрток так, чтобы на сухой стороне всем была видна голова авхая, изредка уныло двигавшая усами. Шооран поступал так почти безотчётно и даже помыслить не мог, чем обернётся его невинное тщеславие.
Возле раскидистого туйвана, развалившего узловатыми корнями небольшой тэсэг, Шоорана окликнули:
– Эгей, гнилоед, а ну ползи сюда!
Под деревом Шооран увидел нескольких мальчишек. В центре сидел тот, кто позвал его. Он был значительно старше Шоорана, но вряд ли сильнее – ухоженное лицо было по-детски округлым и глуповатым. В руке он держал надкушенный плод, один из тех, что украшали крону царского дерева.
– Ползи сюда, когда тебе повелевает сияющий ван! – потребовал мальчишка.
Шооран не двинулся с места. Он впервые видел так близко детей сухого оройхона и теперь поражался их одежде – чистой и мягкой, розовым необожжённым рукам и не по возрасту детскому занятию: дома в великого вана играли только пятилетки – один приказывал, другие повиновались, выполняя команды. А здесь сидели и стояли с десяток почти взрослых парней. Один из них резко взмахнул палкой и выбил из-под руки Шоорана скатанную шкуру. Шооран наклонился, чтобы поднять её, но его ударили в спину, свалили и, заломив руки, подтащили к сидящему толстощёкому мальчишке.
Игра приобрела неожиданно неприятную окраску.
– Славная добыча! – сказал толстощёкий, разглядывая Шоорана. – Как ты посмел ослушаться, вонючка?
– Я работаю, мне некогда заниматься играми, – хмуро ответил Шооран.
– Вы слышали, что сказал этот пожиратель нойта?! – Сидящий не скупился на оскорбления. – Он работает!.. Кто позволил тебе ступить грязной ногой на мою землю?
– Вы сами меня затащили, – защищался Шооран, но его не слушали.
Внимание толстощёкого привлекла шкура, а вернее – голова авхая.
– Кутак, глянь, как они похожи! – обратился толстощёкий к одному из приятелей. – Это он свою невесту распотрошил. А ну, поцелуйтесь! – приказал он.
Парни обидно захохотали. Шоорану под нос сунули слизистую морду авхая с белесыми точками снулых глаз. Шооран попытался отвернуться, но ему продолжали тыкать в лицо беззубой пастью.
– Смотрите, он не хочет! – закричал толстощёкий. – Он бунтовщик! Бросить его в далайн!
Угроза казалась бессмысленной, до далайна была тройная дюжина шагов через мокрый оройхон, но, когда Шоорана силой подняли на ноги, он заметил, что двое взрослых людей, возившихся неподалёку, отвернулись и спешно уходят, и понял, что хорошего ждать не приходится. Если его начнут окунать лицом в нойт… Шооран дёрнулся и сумел вырваться из зажавших его рук. Противники метнулись, отрезая Шоорану путь к отступлению, но Шооран не думал о бегстве. Эта банда просто так, играючись, нарушала все священные мальчишеские правила, и теперь Шоорану хотелось мстить. Он ринулся к толстощёкому и, не раздумывая, влепил оглушительную затрещину. Потом повернулся к остальным врагам. Те на секунду замерли, разом выдернули из-за кушаков короткие толстые палки и двинулись вперёд. По изменившимся лицам и замедлившимся движениям Шооран понял – пощады не будет. Убьют.
– Бейте его! – завизжал толстощёкий, но в этот момент Шооран, принявший единственное верное решение, прыгнул на него. Толстощёкий был старше и много крупней Шоорана, но оказался неожиданно слаб и рыхл. Шооран, даже не ощутив сопротивления, повалил врага на живот, левой рукой ухватил за чисто вымытые волосы, дёрнув, задрал ему голову, а правой приставил к жирной шее выхваченный кинжал. Маслено блеснуло полупрозрачное костяное лезвие.
– Назад! – предупредил Шооран подступающих парней. – А то ему не сдобровать.
– Ых-га… – подтвердил толстощёкий, кося глазом на щекочущее шею остриё.
Парни нерешительно расступились.
– И запомни, – раздельно произнёс Шооран, встряхивая для убедительности толстощёкого. – Ты мелкий вонючий жирх. Если ты ещё раз попадёшься на моём пути, я напою тебя нойтом и брошу в шавар. Понял?
Толстощёкий согласно икнул.
– Тогда повтори, что я сказал.
– Я… мелкий… вонючий жирх… Ты бросишь… меня… в шавар, если я попадусь.
– Сначала заставлю напиться нойта.
– Сначала… напиться нойта…
– Правильно. – Шооран рывком поднял толстощёкого на ноги. – Скажи своим, чтобы бросили палки и отошли в сторону.
– Отойдите… – полузадушенно прохрипел пленник.
– И учтите, тухлые слизни, если вы вздумаете идти за мной следом, ни один из вас не вернётся домой живым.
Шооран едва заметно шевельнул пальцем, по тончайшему, выточенному в кости каналу скользнуло жало зогга и чёрной брызгой повисло на острие. Парни попятились, палки со стуком полетели на землю. Шооран, волоча за собой толстощёкого, выбрался на тропу, поднял сумку и шкуру авхая. Часть харваха из сумы высыпалась, но Шооран не стал подбирать его. Он лишь пнул толстощёкого коленом под мягкие ягодицы, отчего тот кувырком полетел с поребрика, и бросился прочь. Никто за ним не погнался. Вообще-то Шооран хотел столкнуть пленника на мокрую сторону, в грязь, но в последнюю секунду ему стало жаль красивой и наверняка очень дорогой одежды.
Отбежав немного, Шооран спрыгнул с тропы на свой оройхон и, петляя между тэсэгами, помчался к дому. Лишь когда до сухой полосы, где жили они с матерью, оставалось всего несколько шагов, Шооран опомнился. Спрятавшись за ближайшим тэсэгом, он стряхнул с кинжала ядовитое остриё, осторожно отсоединил лезвие и хорошенько спрятал его.
Даже мама не знала, какое оружие хранит её сын. Костяной наконечник был подарком. Месяц назад охотники выволокли из шавара огромного гвааранза. Панцирь чудовища был отправлен в подарок одонту, а острые плавательные перья, из которых вырезали лезвия, разобрали цэрэги. Именно тогда недавно назначенный дюженником цэрэгов рыжебородый Мунаг снял со своего кинжала источенное остриё и бросил его Шоорану. Мунаг вообще хорошо относился к Шоорану и его маме, подолгу разговаривал с ними, когда они приносили высушенный харвах, а встретив на тропе Шоорана, громко кричал:
– Привет, маленький жирх!
– Привет, большущий Ёроол-Гуй, – отвечал Шооран.
Случившиеся поблизости жители испуганно бледнели при виде такого запанибратства, а Мунаг оглушительно хохотал, тряся бородой и распахнув тёмную, словно шавар, яму рта.
Лезвие Шооран привёл в порядок – вычистил и отполировал, подогнал свой нож под размеры костяного сокровища, просверлил даже намертво забитый канал для колючек. Неделю по вечерам, скрывшись от посторонних глаз, вращал костяной иглой в замусоренном канале или правил остриё на куске кожи. Жало зогга, и не одно, а целых пять штук, Шооран добыл сам. Нарвал пятнистых стеблей хохиура и распихал их пышными метёлками вперёд в отверстия шавара. На следующий день вытащил те стебли, что остались целы, и в скукожившихся метёлках отыскал десяток зоггов. Оставалось только раздразнить зогга, чтобы он, угрожая, выставил жало, а потом резким движением раздавить крошечного гада, прежде чем он успеет выпрыснуть яд.
Конечно, Шооран знал, что за такой ножик, узнай о нём одонт, владельца немедленно отправят пройтись по шавару босиком, но удержаться не мог и изготовил всё как надо.
Теперь нож выручил его, но в то же время хранить его стало опасно, особенно если кто-нибудь из мальчишек донесёт о нём властям. Впрочем, Шооран надеялся, что этого не случится, в конце концов, первыми и всерьёз напали они, и вряд ли им захочется отвечать за свой поступок перед одонтом.
Приведя себя в порядок, Шооран вышел к палатке. Мама была дома. Шооран высыпал из сумы харвах и с гордостью раскатал перед мамой кожу авхая. Авхай уже полностью обездвижел, и это немного омрачало радость охотника.
– Какой ты молодец! – протянула мама восхищённо. – Настоящий охотник! Ты гляди – он ещё живой!.. – И действительно, словно специально авхай округлил приоткрытый рот и замер на этот раз навсегда.
– Это для тебя, – довольно сказал сын, – сшей себе новый жанч.
– Спасибо, – сказала мама. – Только как же быть, я сегодня не смогу кожу обработать, мне сейчас уходить надо, я уже вымылась, видишь?
– До завтра кожа испортится, – непонимающе сказал Шооран.
– Знаешь, что мы сделаем, – догадалась мама. – Мы попросим Саригай, она шкуру выскоблит и замочит в нойте, а я завтра доделаю всё до конца.
– Как же, согласится она… – недовольно протянул Шооран, обиженный невниманием к своему подарку, – а если и согласится, то выскоблить кожу как следует не сумеет…
– Сумеет, – успокоила мама. – Я очень попрошу.
Когда соседка, обрадованная возможностью неожиданного заработка, ушла, захватив кожу, Шооран, всё ещё слегка обиженный, спросил:
– Мам, а куда ты идёшь?
– В гости, – шёпотом ответила мама. – Меня Мунаг пригласил.
– Он тебя в жёны берёт? – догадался Шооран.
– Нет, что ты… кто меня возьмёт, я же сушильщик. Он так просто пригласил. Но это неважно, он хороший человек, не злой. И ты ему нравишься.
– Да, Мунаг добрый, – сказал Шооран, вспомнив про нож.
Мама открыла большую флягу, которая обычно пустой лежала в углу, налила на ладонь несколько капель воды и, наклонившись, обтёрла лицо. Шооран смотрел молча, понимая важность момента. Потом, когда фляга была убрана, произнёс:
– У Мунага две жены, и обе моются водой каждый день. Они чистые и называют нас вонючками. Я знаю.
– Ну и что? – спросила мама.
– Я не понимаю, зачем Мунагу понадобилась ты? Может быть, он просто хочет посмеяться? – Шооран произнёс эту мучившую его фразу с решительным отчаянием, словно кидаясь в далайн. Но ничего не случилось. Мама улыбнулась.
– Мунаг сильный, – сказала она, – а его жёны… я не знаю, какие они – должно быть, молодые и красивые и наверняка чистые, но ему скучно с ними. Ведь случается, что и блистающий одонт, ни разу в жизни не промочивший ног, живёт среди праздников и похвал более одиноко, чем последний изгой на мокром оройхоне. А может быть, ты и прав, а я просто девчонка, до сих пор не нажившая капли ума.
– Мама, – спросил Шооран, – ты счастливая?
– Конечно. У меня есть ты. Вырос уже, совсем взрослый стал – вон о каких вещах задумался. Конечно, счастливая.
– А если не обо мне, а просто о жизни. Так – счастливая?
– Так – не очень.
– И я – не очень.
Мама скинула жанч, и Шооран увидел, что под ним надета не простая рубаха, а тонкий праздничный талх, недавно выменянный на сухом оройхоне и ещё ни разу не надёванный. Из потайного кармана жанча мама достала нитку драгоценного лазурного жемчуга, который изредка находят в самых жутких закоулках шавара.
– Надеть? – спросила мама и, не дожидаясь ответа, накинула ожерелье на шею.
– Какая ты красивая!.. – восхищённо протянул Шооран. – Это настоящий жемчуг? Откуда он у тебя?
– Его добыл отец, – лицо матери омрачилось, она протянула руку, чтобы снять с шеи пронзительно голубую нить, но в этот момент полог навеса отлетел в сторону, сорванный сильной рукой, и в проёме показался тяжело дышащий Мунаг.
– Где он? – потребовал Мунаг.
– Кто? – не поняла мама.
– Твой Шооран только что зарезал любимого сына одонта.
– Неправда! – крикнул Шооран. – Я никого не резал!
Мунаг, только теперь заметивший Шоорана, шагнул к нему, выдернул из-за пояса у мальчика нож, осмотрел верноподданнически затупленный край.
– Ты не врёшь? – спросил он с угрозой.
– Честное слово. Они хотели бить меня палками, а я их только пугал. Они первыми схватили меня…
– Ты клянёшься, что на наследнике нет ни единой царапины? – Мунаг приблизил к лицу Шоорана бешеные глаза.
– Как перед Ёроол-Гуем, – подтвердил Шооран.
– Где накладка? – Мунаг протянул ладонь.
Шооран покорно достал спрятанное лезвие. Глаза у мамы расширились, она испуганно зажала рот рукой.
– Иглы! – потребовал цэрэг.
– В ручке, – Шооран кивнул на нож.
Мунаг отковырнул затычку, удовлетворённо хмыкнул и пересыпал смертельные занозы в рукоять своего кинжала. Мама издала судорожный всхлип. Увидев тайный арсенал сына, она была готова поверить, что он действительно ворвался на сухой оройхон и зарезал не только любимого сына наместника, а всех его детей, жён, слуг и самого одонта вместе с ними.
– Сиди здесь! – приказал Мунаг и быстро вышел наружу.
– Я не хотел его трогать!.. – горячо зашептал Шооран. – Я даже в нойт его не скинул, хотя они заставляли меня целоваться с авхаем…
– Одонт всё равно не поверит, – выдавила мама сквозь побелевшие губы.
На улице зычный голос Мунага проревел: «Я тебе покажу, как ходить с ножом!» – потом послышался звук удара и плач Жаюра – малолетнего сына Саригай. Мунаг вернулся в палатку. В руке у него была детская игрушка – ножик из высушенного листа хохиура. Лист был жёлт и полупрозрачен, но костяное лезвие напоминал слабо.
– Не знаю, смогу ли что-нибудь сделать для вас, – произнёс Мунаг в раздумье, – но попробую. Мне тоже не хочется, чтобы о моём оройхоне шла дурная слава. Запомни, у тебя никогда не было ни ножа, ни игл, а только эта штучка. А теперь идём – одонт приказал доставить тебя к нему.
* * *
Одонт Хоргоон был наместником сияющего вана на самой западной окраине его владений. Провинция, отданная под управление Хоргоону, была до обидного мала – всего два сухих оройхона, а причиняла бед и волнений больше, чем любое обширное владение в центре страны. Ведь, кроме приносящих радость сухих земель, ему приходилось следить за четырьмя мокрыми и тремя огненными островами. В мокрых оройхонах, хоть они и считались покорными, никакого порядка не было, жители там шатались, где хотели, и немногим отличались от мятежников и изгоев. По ночам на сухие края набегали шайки грабителей, вооружённых костяными пиками и режущими хлыстами из уса членистоногого парха. По этому страшному оружию грабители называли себя «ночными пархами». Они уносили с собой всё, даже то, что, казалось, невозможно сдвинуть с места, а к утру исчезали неведомо куда, словно проваливались в шавар. В провинции, где мокрых оройхонов насчитывалось вдвое больше, чем сухих, бороться с грабителями было крайне трудно. К тому же мешала скудость средств – власти выделили одонту совсем небольшой отряд: двойную дюжину цэрэгов и позволили, если понадобится, вооружать и содержать ещё сколько угодно воинов, но… за свой счёт. А какие могут быть доходы с двух оройхонов? Только-только обеспечить сносное существование, о том, чтобы состязаться в роскоши с правителями центральных земель – и речи нет. Где уж тут вооружать цэрэгов за свой счёт… Во всех делах приходилось опираться лишь на казённых воинов, гонять их по всякому поводу, и командиры дюжин, должно быть, костерили в душе доблестного одонта, да пребудут его ноги вечно сухими.
Но сегодняшние события заставили Хоргоона пожалеть, что он не содержит столько солдат, чтобы выловить и истребить всех мерзавцев с гнилых болотин. Любимый сын, рождённый от седьмой жены и названный в честь отца Хооргоном, вернулся домой избитым. Бандит, ворвавшийся с мокрой стороны, напал на него среди бела дня, глумился и угрожал, нацелив в горло нож, и лишь особая милость вечного Ёроол-Гуя спасла ребёнка от страшной смерти. А сыновья цэрэгов, приставленные к малышу для игр и защиты, ничем не помогли ему. Нечего сказать – отличные солдаты растут в землях вана! По счастью, один из парней признал нападавшего и указал, где тот живёт. Одонт повелел изловить и привести негодяя и приготовился усладить свой взор зрелищем его медленной смерти.
Когда дюженник Мунаг привёл Шоорана, лицо одонта удивлённо вытянулось. Преступник оказался так мал, что Хоргоон усомнился, того ли сборщика харваха доставили к нему. Однако призванные телохранители (сам юный Хооргон лежал в постели) дружно подтвердили: «Он». Да и вид мальчишки, не научившегося ещё скрывать чувства, изобличал его – злодей явно узнал свои жертвы. Теперь возраст гнилоеда не смущал судью – в конце концов ползающий зогг ещё мельче, но не безобидней.
– Где ты взял нож, вонючая тварь? – багровея, спросил одонт.
Мунаг поднялся к суурь-тэсэгу, на котором восседал одонт, и, наклонившись, начал шептать в волосатое ухо. Шооран, брошенный на колени у подножия суурь-тэсэга, разбирал лишь отдельные, случайно долетавшие к нему слова: «…игрушка… совершенно безобидно… дети просто перепугались… у меня никто не смеет… слежу день и ночь… разумеется, надо наказать…»
Одонт взял из рук дюженника ножик, брезгливо осмотрел его, легко двумя пальцами разломил на части. Отбросил в сторону обломки и перевёл взгляд на Шоорана. Да, преступник мал, но он вырастет, возьмёт настоящее оружие. И раз он однажды поднял руку на благородного…
– В шавар! – приказал одонт.
– Нет! Не дам! – Шооран узнал голос мамы.
Одонт поднял взгляд на женщину, бьющуюся в руках цэрэгов.
– Это его мать, – пояснил Мунаг. – Она сушильщица… женщина-сушильщик.
– Знаю. Ну и что?
– У нас больше нет сушильщиков, а она сдаёт по два ямха харваха, за себя и за сына, и ещё продаёт столько же. Без неё мы не сможем отчитаться перед казной.
– Я же не её наказываю, – поморщился одонт. – Пусть она работает как и прежде.
– Если тронуть её сына, она работать не станет. Я её знаю – бешеная баба. Подорвётся, но не станет.
Одонт задумался. Он понимал, что Мунаг прав – недаром же говорят, что легче высушить далайн, чем заставить работать сушильщика, если он не хочет. А без харваха плохо придётся не ей, а ему – царственный ван особо заботится о содержании артиллерии и строго спрашивает с одонтов, если харвах начинает поступать с перебоями. К тому же не так много провинций, в которых сходятся мокрые оройхоны, где харвах собирают, и огненные, где его сушат. Так что спокойствие и сама должность Хоргоона зависели не столько от порядка на вверенных оройхонах, сколько от производства взрывчатого порошка. Последнее время наместника не тревожили эти проблемы, но теперь он понял, что забывать о них не следовало. И как ни жаль, но раз у него нет других сушильщиков, придётся выполнить требование этой взбесившейся тайзы и отпустить её отродье.
Хоргоон внимательно взглянул в лицо женщины. Обычная гнилоедка, гадкая и грязная. Она даже не подозревает, сколь многое зависит от её ловкости и удачливости. Особенно – от удачливости; уже год она работает, и до сих пор ни одной вспышки. Кто знает, может, не так и проста эта тварь. И лицо её, опалённое жаром аваров, кажется слишком чистым, и из-под накинутого на плечи грубого жанча виднеется край талха, какой в этих краях носят только жёны цэрэгов. Наместник досадливо потряс головой: на мгновение близоруким глазам почудилось, что на шее гнилоедки голубеют жемчуга. Ну, этого попросту не может быть! Гнилоедка должна быть глупа, грязна, и, несомненно, она такова и есть и закричала на одонта просто от глупости, а не потому, что чувствует свою власть. Он владыка этих мест, хозяин жизни и смерти, он сумеет поставить дурную бабу на место.
Одонт поднял руку, требуя тишины.
– Мальчишка совершил преступление, которое нельзя оставить безнаказанным, – начал он, – но преступник ещё слишком мал, и поэтому отвечать за него будет мать!
Одонт скосил глаза на женщину. Та стояла, очевидно, моментально успокоившись, на её лице сановник не заметил и тени испуга. И вновь за распахнувшимся воротом жанча дразняще заголубел призрак ожерелья. Несомненно, женщина знала себе цену или же просто была лишена страха. Обязательно в ближайшее же время надо будет озаботиться подысканием новых сушильщиков. А пока… Одонт вздохнул и закончил приговор:
– На виновницу накладывается штраф. В течение трёх дней она должна внести в казну восемь ямхов просушенного харваха.
– Завтра начинается мягмар, – сказала мать. – Мне нечего будет сушить…
Наконец-то на лице гнилоедки появилась растерянность!
– Ничего, – злорадно сказал Хоргоон. – Сырой харвах тебе принесут. А мальчишку, – добавил он, чтобы окончательно закрепить свою победу, – выпороть!
* * *
Праздник мягмара – весёлый мягмар, буйный мягмар, великий мягмар. Простолюдины, знать и изгои отмечают его по всем оройхонам. В этот день старик Тэнгэр закончил свой труд, и Ёроол-Гуй справляет новоселье. Ежегодно в первый день мягмара мерно дышащий далайн вскипает и покрывается пеной. Это пляшет в бездонных глубинах владыка всего живого – вечный и неуничтожимый Ёроол-Гуй. Далайн бушует, и на берег бывают выброшены удивительные монстры, каких в иное время вряд ли можно встретить. И только сам многорукий хозяин в течение всей праздничной недели ни разу не появится на поверхности.
Наслаждаясь безопасностью, идут к далайну знать и священники, несут дары живому и жестокому божеству, просят себе удачи и новых богатств, а простой люд спешит на трудный, но прибыльный промысел. Вздувшийся далайн затопляет шавар, из которого выбирается вся нечисть, скопившаяся там. Тукка и крепкоспинный гвааранз бродят по оройхону среди дня, и надо только суметь их взять.
На сухих оройхонах тоже происходят изменения. Источники воды, слабевшие в течение всего года, наполняются новой силой, постепенно замиравшая жизнь бурно пускается в рост. Первый урожай после мягмара всегда самый обильный, по нему легко судить обо всём грядущем годе. И живущие в сытости и безопасности земледельцы тоже идут в это время к далайну, просить у чужого бога хорошей воды. Бросают в бурлящую глубину пучки хлебной травы и слепленные из земли человеческие фигуры. Приносят и более серьёзные подношения. Поют жалобно и протяжно, а потом, после очистительных молитв, предаются разгулу, каждый в меру своих достатков.
По числу отпразднованных мягмаров считают года, если земледельцы отмечают месяцы по собранным урожаям, то на мокрых оройхонах нет иного отсчёта времени. Щедрый мягмар – обещание будущей жизни и будущих бед. Бесшабашная неделя пройдёт быстрее, чем хотелось бы, и едва в далайне осядут пышные холмы грязной пены, как многорукий убийца вынырнет из глубины, чтобы доказать, сколь напрасны были жертвы и молитвы, обращённые к бессердечному Ёроол-Гую.
А пока неделя только началась, и все гуляют, радуясь, что хотя бы одна, причём самая большая беда сегодня не грозит. И только двое преступников – Шооран и его мама не могут позволить себе отдых. Приказ одонта строг: в течение трёх дней – восемь ямхов харваха. Когда мама привела домой избитого Шоорана, мешки с мокрым зельем уже дожидались её. Мама развязала один из мешков и тихо ахнула: набранный на далёких от границы островах, долго и небрежно хранившийся харвах слежался и уже начинал преть. Сушить его надо было немедленно, и мама, не сказав больше ни слова, взвалила пару мешков на спину и отправилась к большому авару, особенно далеко вторгавшемуся на сухую полосу, «своему авару», как называла она его.
Шооран, превозмогая боль в истерзанной острым хитином спине, тоже подошёл к одному из мешков. Плох был харвах, хуже некуда. Ни у одного из сборщиков мама не стала бы брать такой. Шооран, присев на корточки, старался распушить слипшуюся рыжую массу, выбирал попадающиеся кусочки листьев и молча, про себя, чтобы и всезнающий Тэнгэр не услышал, чёрными словами ругал одонта, толстомордого наследника, его бесчестных прихлебателей, сборщиков, наскрёбших где-то этот, с позволения сказать, харвах, чиновного баргэда, принявшего такую работу. Проклинал и гнилой хохиур, спасший их с мамой год назад и продолжающий кормить до сегодняшнего дня.
С грехом пополам перебрав один мешок, Шооран понёс его маме. Нести мешок на спине не мог – хитиновая плётка из живого волоса иссекла кожу на спине. Спасибо Многорукому, что палач не взялся за хлыст – чешуйчатый ус парха бьёт хуже топора.
Мама стояла перед жарко светящимся аваром, мокрый харвах шипел на раскалённой поверхности, удушливый пар поднимался столбом. В одной руке мама держала метёлку из ненавистного отныне волоса, собранного по краю далайна, в другой – лопатку, вырезанную из панциря какой-то твари. Надо было успеть, прежде чем высушенный и прокалённый харвах вспыхнет, смести его в подставленную посудину. Эти пятнашки со смертью и составляли суть работы сушильщика.
Шооран, замерев, следил за мамиными движениями. Шелковистые на вид пряди метёлки трещали, касаясь огненной скалы, запах палёного рога заглушал даже вонь скворчащего харваха. В какое-то мгновение Шооран заметил, что на сметённой поверхности остался след, должно быть, волос не смог сдвинуть попавшийся в дурно собранном харвахе лист или кусочек стебля, и тотчас оттуда, причудливо извиваясь, побежала огненная змейка. Шооран отлично знал, что значит этот огонёк. Когда-то он любил наскрести кое-как пригоршню харваха, кинуть его на авар и издали наблюдать, как он трещит, как высохший порошок бугрится по краям, шевелясь, словно живой. А потом по поверхности пробегала такая вот змейка, и харвах оглушительно взрывался, разбрасывая искры. Всё это промелькнуло в памяти, пока огонёк торопился к лепёшке харваха, показавшейся вдруг невообразимо огромной. Но за мгновение до неизбежного взрыва мама поддела горячий харвах лопаткой и отшагнула в сторону, развернувшись и прикрыв его своим телом. Остатки харваха на аваре вспыхнули, но их было слишком мало, хлопок получился слабым.
Мама бросила недосушенную лепёшку в чан с сырым харвахом, начала перемешивать. Шооран заметил, что руки у неё дрожат.
– Мама! – позвал Шооран.
Мама подняла голову и лишь теперь увидела Шоорана.
– Зачем ты здесь? – испуганно спросила она. – Быстро беги домой! Тут не надо быть.
– Вот, – Шооран кивнул на мешок. – Я его перебрал. Только он всё равно плохой. Не надо его сушить, я лучше потом наберу нового. И не клади так помногу. Пожалуйста…
– Глупенький! – Мама обняла Шоорана. Шооран сморщился от боли в спине, но ничего не сказал. – Если класть харвах помалу, он чаще взрывается. Запомни – трус живёт меньше всех. А ты не сможешь набрать столько харваха, так что придётся работать с этим.
– Всё равно, – сказал Шооран, – не надо сегодня больше сушить. Видишь, как полыхнуло.
– Это уже второй раз, – призналась мама. – Но завтра он будет ещё хуже, поэтому надо побольше успеть сегодня. А я пока сделала всего два ямха. Но теперь дело пойдёт легче, ведь ты мне помогаешь. С перебранным харвахом гораздо проще работать. Иди, перебирай. Только сюда больше не приходи, я зайду сама. Заодно отдохну по дороге.
– Давай я этот переберу. – Шооран подошёл к чану.
– Нет, – сказала мама. – Харвах вынимают из чана только на авар. А иначе… плохая примета.
– Ладно, ты только приходи скорее. – Шооран взял пустой мешок и пошёл к дому. Дома пересчитал мешки и принялся за работу. Он вытаскивал кусочки листьев, небрежно содранные волокна, всякий сор и ворчал про себя. Какой это, к Ёроол-Гую, харвах! Его перебираешь, словно чавгу копаешь в грязи. Мама придёт, а он ещё и с одним мешком не управился…
Сильный удар прервал его сетования. Шооран вскочил и, сбив стойку навеса, побежал туда, где над аварами расплывалось дымное облако. Не было ни единой мысли, никакого чувства, он просто бежал, не думая, есть ли в этом хоть какой-то смысл.
Когда он добежал, пламя уже погасло. Мама лежала возле расколотого взрывом авара, из которого медленно, словно тягучие внутренности авхая, вытекал расплавленный камень. Шооран ухватил маму под мышки, потащил прочь от огня, бормоча:
– Сейчас, мама, сейчас я тебе помогу…
Должно быть, в последнюю секунду мама вскинула руку, защищаясь, либо осколки пошли низом, но лицо пострадало не так сильно, и Шооран смотрел только на него, стараясь не видеть груди и живота, где было жуткое месиво из обрывков жанча, угля, каменной крошки и запёкшейся потемневшей крови.
– Мама, – уговаривал Шооран, – я тебя уложу поудобнее и воды принесу. Там осталось…
Запрокинутая голова мёртво качалась между его рук. С шеи сползло лопнувшее забытое ожерелье, прощальным подарком скользнуло к ногам Шоорана. Лишь тогда он понял, что вода уже не нужна и ничего не нужно.
* * *
В те дни, когда великий илбэч Ван ходил по оройхонам, мир был иным. На мокрых островах ничего не росло, лишь безмозглые обитатели шавара – тайза, жирх и колючая тукка копошились в нойте. Но однажды, когда Ван выстроил очередной остров, из далайна явился Ёроол-Гуй. Илбэч стал одной ногой на новый оройхон, а другой – на старый и засмеялся, потому что не впервой ему было так играть со смертью. Однако Ёроол-Гуй не бросился на берег как обычно, а остановился и открыл главные глаза, чтобы посмотреть на человека вблизи.
– Что смотришь? – крикнул Ван. – Тебе всё равно меня не поймать!
– Здравствуй, илбэч, – ответил Ёроол-Гуй. – Сегодня я не буду охотиться за тобой. Я пришёл сделать подарок.
Всякий житель оройхона – даже малые дети – слышал о том, как на исходе срединных веков Ёроол-Гуй произнёс своё последнее слово, и знает, что с тех пор он не издал ни звука, но хитроумный Ван умел слышать мысли и разбирать несказанное, а значит, мог разговаривать даже с вечным Ёроол-Гуем.
– Мне не надо твоего подарка, – сказал Ван, – всё, что мне нужно, у меня есть. Или, может быть, ты хочешь снять проклятие и подарить мне счастье? Так знай, что, хотя я живу один и в безвестности, я всё равно счастлив тем, что могу притеснять тебя по всему далайну.
– Я проклял тебя в те времена, когда ты ещё не родился, а вечность была молодой, и не сниму проклятия, пока вечность не одряхлеет, – возразил Ёроол-Гуй, – подарок же я принёс не только тебе, но и всем людям: тем, кого я не пожру сегодня, поскольку сегодня я добр, и тем, кого не пожру никогда, ибо из-за тебя, илбэч, не могу достать их. Мне стало скучно убивать столь слабых людей, вы не похожи на могучего Тэнгэра, я хочу, чтобы вы стали сильнее, и принёс вам средство для этого.
С этими словами Ёроол-Гуй бросил на берег тонкую тростинку. Она вонзилась в грязь и превратилась в стебель хохиура.
– Дарю его тебе и всем людям, – сказал Ёроол-Гуй. – Когда этот стебель обрастёт рыжим харвахом, собери его, и твоя сила умножится беспредельно. Может быть, тогда мне будет не так скучно. А пока – прощай!
Далайн сомкнулся над Ёроол-Гуем, а Ван ещё долго стоял на границе, ожидая подвоха и стараясь разгадать смысл коварных речей Многорукого. Наконец он сказал:
– Не верю Ёроол-Гую и не хочу его подарков ни сегодня, ни в будущие дни.
Сказав так, Ван сошёл на оройхон и тяжёлым башмаком из кожи тукки втоптал стебель в нойт. Но он не заметил, что один, самый маленький корень остался в земле. И когда Ван ушёл строить новые земли, стебель ожил и начал расти. От удара он наклонился, и с тех пор ни один стебель хохиура не растёт прямо. А на молодых, чистых побегах можно видеть чёрные крапинки – следы игл с башмака илбэча.
Немало лет скитался Ван в чужих краях, возводя один оройхон за другим и прячась от людской молвы, а когда вернулся домой, то не узнал родных мест. Вдоль всего далайна вкривь и вкось торчал хохиур, люди скребли и сушили харвах. Повсюду грохотали татацы и большеротые ухэры. Везде шла война. Люди и впрямь стали сильнее, но свою силу обратили против себя, чтобы убивать друг друга на радость Ёроол-Гую.
– Остановитесь! – крикнул илбэч, но голоса его никто не услышал, ибо люди оглохли от взрывов.
Тогда Ван пришёл к далайну, встал правой ногой на один оройхон, а левой – на другой и принялся звать из глубины Многорукого. И когда Ёроол-Гуй выплыл, Ван спросил:
– Зачем ты сделал это?
– Теперь я убиваю людей даже там, где не могу их достать, – ответил Ёроол-Гуй, – и мне приятно ваше горе. Даже если ты застроишь сушей весь далайн, я знаю, что люди всё равно истребят друг друга.
– Исправь своё зло, – крикнул илбэч, – и я обещаю больше не строить оройхонов!
– Что же, я согласен, – сказал Ёроол-Гуй. – Люди не смогут избить себя окончательно. Правда, мне не по силам пожрать весь харвах и извести хохиур на всех оройхонах, ведь ты построил их так много. Цэрэги с сухих земель не послушают меня и не прекратят пальбы. Но зато мне подвластны огненные авары, вставшие по моему слову на твоём пути. А без авара невозможно высушить харвах. Сушильщики меньше всех виноваты в бедах твоего народа, и поэтому я проклинаю их. Отныне харвах начнёт взрываться во время сушки, станет калечить и убивать. Жизнь сушильщика будет тяжела, а век недолог. На этот путь ступят лишь те, у кого нет иного пути, кто иначе всё равно погибнет. И пусть они знают, что нельзя спастись самому, приближая всеобщую гибель. Иди, бывший илбэч Ван, и будь спокоен – стрельба скоро утихнет.
Ван повернулся и пошёл, не думая о своей жизни, но Ёроол-Гуй не стал хватать его.
С этого дня в течение дюжины дюжин лет в далайне не появлялось новых оройхонов.
Глава 2
Шёл мягмар, пещеры шавара были переполнены нойтом, и умерших хоронили в далайне, принося в жертву Ёроол-Гую. Маму завернули в полог палатки, уложили на носилки и с песнями унесли. «О отец наш, Ёроол-Гуй! Тебе отдаём мы лучшую из женщин…»
Шооран не принимал никакого участия в действе. Сидел, забившись в угол, уставившись в бесконечность немигающими глазами. К далайну не пошёл – не мог слышать ликующих похоронных песен, пришедших из тех времён, когда в праздник мягмара бросали в далайн не куклы и трупы, а живых людей. «О великий, прими нашу женщину!.. Её руки – ласка, её губы – счастье, её глаза – свет жизни…»
В разорённую палатку, пригнувшись, вошёл Мунаг.
– Ты здесь?.. – произнёс он.
Шооран не ответил. Продолжал сидеть, обхватив себя руками, засунув ладони под мышки, словно от сильного холода.
Мунаг потоптался, смущённо кряхтя, а потом, не глядя на Шоорана, сказал:
– Ты вот что… уходи отсюда.
Впервые Шооран поднял голову, взглянул в лицо дюженника. И хотя он и теперь не издал ни звука, но Мунаг заволновался и быстро начал говорить, не отвечая, а просто стараясь заглушить вопрос, всплывший из глубины широко распахнутых глаз:
– Я бы тебя оставил – жалко, что ли? Ты уже большой, как-нибудь прокормился бы. Но если одонт узнает? Ты думаешь, он про тебя забыл? И тебе не миновать шавара, и у меня будут неприятности. Сам понимаешь. Так что, пока никто не видит, бери что здесь тебе надо – и уходи.
– Куда? – бесцветно произнёс Шооран.
– А мне какое дело?! – не выдержав, закричал Мунаг. – Почему я должен за тебя думать?! Мать твоя умерла, а ты здесь никто. Вот и ползи отсюда! Я к тебе по-хорошему, вещи взять разрешил, а ты…
Шооран встал.
…Вещи… какие вещи?.. Жанч на нём, и мамино ожерелье укрыто на груди. А больше ему, наверное, ничего не потребуется. Вещи нужны, когда есть куда идти.
Шооран вышел из палатки. Мунаг тяжело шагал сзади. Через десять минут – как мал огромный оройхон! – они достигли поребрика.
– Ты не обижайся, – произнёс Мунаг, коснувшись плеча Шоорана. – Я действительно иначе не могу. Что делать… Желаю тебе выжить… если удастся. На вот, возьми, – Мунаг протянул Шоорану отнятый накануне нож.
– Спасибо, – сказал Шооран, спрятал нож, перешагнул поребрик и пошёл дальше, не оглядываясь и не думая, где он сможет остановиться.
Теперь он шёл по оройхону, где родился и жил, не представляя, как огромен мир, и не зная, что возможна иная жизнь, чем текущая на этом кусочке земли, который, если постараться, можно обойти за час.
Здесь тоже праздновали мягмар: на сухой полосе никого не было, женщины ушли к далайну разбирать подарки щедрого Ёроол-Гуя, заготавливать острую кость, чешую несъедобных рыб, кожу, живой волос – всё, что так обильно выбрасывает расходившийся далайн. А мужчины, скорее всего, собрались у шавара: ловят тукку, бьют жирха, стараются затравить выползшего наружу длинноусого парха или гвааранза, которого можно взять лишь ударом в глаз. Хотя для этого надо подойти к зверю вплотную, избежав торчащих плавательных перьев и тяжёлых клешней, перекусывающих человеческую ногу легко, словно стебель хохиура. Вряд ли Боройгал решится на такое, должно быть, он тоже стоит на берегу и командует женщинами, воображая себя царственным ваном.
Шооран не остановился, понимая, что здесь ему не жить. Он слишком хорошо помнил, как гнали прочь чужаков, бредущих из страны вана, или изгоев, пытающихся пробраться на свободный оройхон. Пожалуй, ван правильно сделал, что позволил этому оройхону быть независимым: лучшей стражи нельзя придумать – люди, цепляющиеся за своё жалкое богатство – сухую полосу вдоль аваров, сильнее, чем сытые земледельцы, ненавидели изгоев, от которых ничем почти не отличались. Шоорану не позволили бы остаться здесь и на минуту, и потому он пошёл дальше. Тройная дюжина шагов взрослого мужчины, и впереди – вновь поребрик, ещё один оройхон – последний в ряду обитаемых.
Ступив на него, Шооран замер в нерешительности, впервые почувствовав страх. Сухая полоса кончилась, влага далайна достигала в этом месте огненной границы, две страшных стихии сошлись в непримиримой вражде. С далайна наползал нойт, авары встречали его палящим жаром. Нойт кипел, сгорая, удушливая вонь распространялась далеко вокруг, закладывая грудь, разъедая глаза, заставляя плакать и натужно кашлять. На краю оройхона, у самого далайна, и то казалось легче. Едва не задохнувшись в отравленном чаду, Шооран выбежал к далайну. Здесь он увидел людей. Изгоев.
Несколько невообразимых фигур суетились у живого вала по краю оройхона, что-то вытаскивая из него. Всё-таки и здесь был мягмар, и люди торопились урвать кусочек добычи. Одна из фигур подняла голову, Шооран увидел невероятно грязную старуху с лицом, обезображенным язвами и рубцами от старых ожогов.
– Ха! Глядите, кто пришёл! – прокричала она. – Какой красавчик! Не иначе, сам ван вздумал промочить ножки на нашем оройхоне. Ну, иди сюда, сладенький, не бойся!
Шооран, не двигаясь, смотрел на кривляющуюся перед ним чудовищную маску и медленно, через силу начинал понимать, что это не старуха, что женщина лишь немного старше его матери, а состарил и обезобразил её жгучий нойт, от которого негде спрятаться и нечем отмыться, и вся жизнь, которую нельзя назвать жизнью, лишь короткой и мучительной отсрочкой смертной казни.
Между тем женщина-старуха продолжала говорить, быстро, взахлёб – очевидно, не так часто удавалось ей облегчить душу перед новым человеком, и она торопилась прокричать обо всём, что не позволяло ей жить.
– Ты, должно быть, оттуда – с сухой полосы? Заблудился… Или они тоже тебя выгнали? Они могут! Тот, кто живёт в сухости, способен на любую подлость. Ха! Как ваши хныкали здесь год назад, как просились, какими глазами смотрели на нашу чавгу. Чего только не обещали!.. Сухой оройхон и Ёроол-Гуя в придачу. И обманули! Пустили к себе всего дюжину человек. А мы так и остались гнить здесь. И вы думаете – мы будем принимать вас и дальше? А как же, примем, нам же некуда бежать, дальше дороги нет. Мы принимаем всех, тем более что сегодня мягмар…
Другие изгои тоже побросали работу, стояли, рассматривая Шоорана красными глазами. На покрытых коростою ликах не отражалось никаких чувств. А женщина-старуха вдруг остановилась и, склонив голову набок, спросила скорее у самой себя:
– Может, ты и вправду с сухих земель? Ишь, какой чистенький… Хоть в шавар, хоть на авар! Ну, чего встал, иди сюда…
Шооран попятился. Ему живо припомнились рассказы, как изгои с безнадёжных земель, откуда нельзя уже никуда уйти, воруют и съедают детей. Сейчас эти сказки показались ему истиной. И хотя он давно не считал себя ребёнком – одиннадцать лет – не шутка! – и нож, возвращённый Мунагом, висел на поясе, всё же Шоорану стало страшно. Он повернулся и побежал. Никто его не преследовал, изгои равнодушно вернулись к прерванному занятию, лишь женщина-старуха выкрикнула ему вслед: «Ха!» – и захлопала почему-то в ладоши.
Как это мало – тройная дюжина шагов, составляющая вселенную простого человека! Через полчаса Шооран пересёк и этот, уже третий по счёту оройхон и увидел, что с той стороны тоже колышется покрытый пеной далайн. Оставалось идти либо назад, либо в кипящий удушливый ад залитых влагой аваров. Можно было, кроме того, прыгнуть в далайн. Путь этот был самым коротким и далеко не самым мучительным.
Безжизненный оройхон – мокрый и огненный одновременно – предупреждал о себе издали. Больно запершило в горле, стало нечем дышать, голова, одурманенная ядовитым дымом, закружилась. Шооран шагал по инерции, не очень понимая, что он делает. Просто и последний из оройхонов не пустил его к себе, вернее, Шооран не осмелился принять его приглашение и теперь, отвергнутый всеми, шёл дальше, хотя и знал, что дальше пути нет.
Когда-то он любил слушать рассказы Хулгала о его странствиях по этим краям. Это было дюжину и три года назад, когда по землям ванов ходил безумный илбэч. Хулгал, в ту пору ещё не старый и не хромой, отправился искать новые земли. Тогда много говорили о десятках сухих оройхонов, стоящих в неведомых краях и ждущих себе хозяев. Хулгал прошёл по пылающему болоту до самого конца, где влага далайна, как встарь, разъедала поставленную Тэнгэром стену. Всего на запад от острова изгоев оказалось три оройхона – для сильного мужчины не расстояние, но их надо было пройти по узкой полосе между далайном и аварами, в дымной и душной жаре, среди испарений, от которых непривычный человек умер бы через полчаса. Хулгал выбрался назад к концу дня и рассказывал, что остался жив лишь благодаря тому, что носил с собой губку, пропитанную благовонным соком туйвана, а на адских оройхонах примотал её к лицу.
– Я ходил туда и вернулся живым, – заканчивал повествование старик, – поэтому знаю, что и безумный илбэч мог забраться так далеко. Я не спрашиваю, зачем он это сделал – для того он и безумец, на то и илбэч. Но кто ответит, как ему удалось не просто дойти до таких пределов, но и поставить там оройхон? Или это легче, чем плюнуть в далайн? Тогда и я хотел бы стать илбэчем, чтобы построить себе дом чуть получше этого. – Старик замолкал и обводил взглядом слушателей, смущённых кощунственной концовкой рассказа, и, не торопясь, отхлёбывал из поднесённой чаши мутное пойло.
У Шоорана не было благовонной губки, не было ничего, что могло бы помочь в пути, но всё же он равнодушно ступил на землю мёртвого оройхона и, не оглядываясь, пошёл дальше. Он не думал, что вернуться ему не удастся, не думал вообще ни о чём, мозг, одурманенный испарениями, был не способен на такую работу. Просто он видел, что не может здесь жить, и шёл куда-нибудь, где будет пусть даже хуже, но иначе, чем здесь.
По краю мёртвого оройхона не было тропы – почти дюжину лет здесь никто не ходил. Хрупкая кость, трухлявые хитиновые обломки, догнивающие остатки туш – всё было густо смочено нойтом и жарко курилось, нагретое близким соседством аваров. Местами завалы достигали высоты человеческого роста, пробраться сквозь эту кучу тлена было невозможно, и приходилось двигаться, прижимаясь вплотную к аварам, покрытым шелушащейся коростой горящих отбросов. И повсюду душная парная гарь.
Шооран шёл вслепую, прижав локти к готовой разорваться груди и закрыв ладонями лицо. Он спотыкался о груды праха, проваливался в горячие лужи, и лишь новые, на совесть сшитые мамой буйи спасали до поры его ноги.
В ту минуту, когда, казалось, ничто не сможет пробудить уплывающее сознание, Шооран ударился грудью обо что-то твёрдое и с трудом заставил себя понять, что это такое. Перед ним, перегородив прибрежную полосу и далеко разбросав толстые, как ствол туйвана, щупальца, лежал чёрный уулгуй. Этого зверя люди называли младшим братом Ёроол-Гуя. Среди зверей ни один не был так громаден и ни один не походил до такой степени на великого бога глубин. Чёрный уулгуй никогда не вылезал на берег, но мог, выбросив вверх разом несколько рук, схватить неосторожного, вздумавшего разбирать прибрежный завал. Говорили, что уулгуй дотягивался до жертвы за четыре дюжины шагов, и потому не так много находилось охотников бродить по кромке оройхона. Лишь во время мягмара уулгуй не появлялся у берега, а если появлялся, то бывал выкинут на камни и сам становился добычей людей.
Из круглых костяных блях, покрывающих щупальца, искусные оружейники делали доспехи более лёгкие и гибкие, чем твёрдый панцирь из спины гвааранза. Самые большие пластины шли на щиты. А где-то в глубине упругого тела скрывался костяной обруч невыносимой для глаз белизны. Из такого обруча выточена корона царственных ванов, и потому ни один простолюдин не должен приближаться к телу уулгуя, ежели вдруг того выбросит на берег.
– Конечно, корона – это серьёзно, – говорил, рассказывая об уулгуе, насмешник Хулгал, – и добрый ван наложил запрет только из опасения, что кто-то стащит обруч. Но видит мудрый Тэнгэр, я бы не стал и смотреть на корону, лишь бы мне позволили набрать дюжину-другую пластин со щупалец. А голова вместе с короной пускай принадлежит вану.
В прежнее время один вид чёрного уулгуя поверг бы Шоорана в трепет, но сейчас он не думал ни о царском запрете, ни о невероятном богатстве, лежащем перед ним, ни о том, что жизнь, может, ещё теплится в распластанном теле. Шооран лишь застонал при виде лишнего препятствия и, цепляясь за пластины, полез через щупальце, перегородившее дорогу.
Мёртвый уулгуй спросил его:
– Зачем ты топчешь меня, когда я умер и не могу защититься от твоих ног?
– Ты лёг на дороге, а я должен идти, – ответил Шооран.
– Зачем тебе ходить куда-то? – возразил брат Ёроол-Гуя. – Посмотри на меня: я лежу там, где встретил смерть, и мне больше ничего не надо.
– Мне всюду твердили: «Уходи!», – сказал Шооран, – поэтому я иду и нигде не могу остановиться.
– Останься здесь, – предложил чёрный уулгуй. – Будем лежать вместе, а когда моё тело распадётся, ты возьмёшь бесценный доспех и корону ванов.
– Я не могу здесь жить, – сказал Шооран.
– Разве ты пришёл сюда жить? – удивился брат Многорукого, и Шооран упал от этих слов и не мог подняться. Он лишь сунул руку за ворот жанча и вытащил нить жемчуга, удивительно голубого, нездешнего цвета.
– У тебя есть все богатства мира, – сказал уулгуй, – нет лишь покоя. Спи…
Ожерелье притягивало взгляд, заставив обожжённые глаза широко раскрыться.
– Нет, – сказал Шооран и поднялся, сам не поняв, как это произошло. – Я не шёл сюда, я уходил оттуда. Ты могуч и подобен богу, но ты не человек и умер покорно. Люди продолжают жить, даже когда это невозможно, и если они умирают, то это происходит не по их вине. Не сердись, добрый уулгуй, – я пойду дальше. Я ещё могу идти.
Он не понимал, куда идёт и сколько дюжин шагов прошёл. Дважды он сослепу налетал на авары и лишь по счастливой случайности не свалился в далайн. Несколько раз он падал, а поднявшись, не знал, куда идти, и, не задумываясь, шёл прямо. Он не заметил, как в дымке далайна начала вырисовываться линия берега, и увидел оройхон, когда до него оставалось не больше двенадцати шагов. Не удивляясь и не испытывая вообще никаких чувств, Шооран выбрался на него и побрёл прочь, подальше от дымного кошмара мёртвой земли. Если бы оказалось, что он, потеряв направление, сбился с пути и вернулся обратно, то Шооран на животе пополз бы к Боройгалу, согласился бы принять смерть от руки изгоев или рождённого в сухости одонта, лишь бы не возвращаться в преисподнюю, из которой только что вышел. Однако, хотя он прошёл уже далеко, ему не попалось ни одного человека.
Шооран остановился. Где люди? Не Ёроол-Гуй же их съел? Если бы эти места недавно посетил Многорукий, он бы съел всё, а здесь… шуршат под ногами поваленные стебли хохиура, облепленные толстой нетронутой шубой харваха, оставляя извилистый след, ползёт выгнанная мягмаром из укрытия паршивая тайза. Сразу видно, что Ёроол-Гуя не было здесь много месяцев.
Шооран обломил толстую тростину хохиура, ковырнул ею неровную поверхность грязи. С первой же попытки он добыл несколько крупных чавг. Шооран разломил чешуйчатую скорлупу, вывалил на ладонь студенистый клубень. Осторожно сжал руку, и между пальцами потёк сок. Первым делом Шооран вымыл перепачканные в нойте руки, потом осторожно обмыл саднящее лицо, смочил терпким соком растрескавшиеся губы. Третью чавгу он проглотил целиком, потом четвёртую, пятую… Никогда ещё Шооран не ел так много. Живот его раздулся и громко булькал при каждом движении, запах чавги уже вызывал тошноту, а Шооран не мог остановиться, добывал всё новые клубни, лил сок на голову, мыл лицо, руки, даже запачканный и порванный жанч. Впервые он видел столько чавги: мелкой и огромной – с кулак величиной и теперь не знал, как себя вести. Набил чавгой сумку, снял даже жанч, и лишь внезапный приступ дурноты заставил его прекратить бессмысленное занятие.
Шооран сел на камень – сел, вымыв его сперва соком! – и задумался. Оройхон, на который он попал, ничуть не походил на оставленную позади землю изгоев. Казалось, здесь вообще никто не жил. Если бы Шооран не видел всё это своими глазами, он бы не поверил, что такое возможно. Скорее всего, он просто-напросто умер. Мама рассказывала, будто в одной из дальних земель люди не поклоняются Ёроол-Гую, а верят, что только Тэнгэр обладает настоящей властью. Эти люди убеждены, будто после смерти уйдут за пределы далайна, туда, где стоит алдан-тэсэг. Всякий умерший очутится у подножия алдан-тэсэга и сможет начать восхождение. Но если при жизни человек поступал плохо, то по дороге его схватит Ёроол-Гуй и навечно унесёт в беспросветный шавар, по сравнению с которым глубины далайна покажутся сухим оройхоном. Лишь немногие праведники достигают вершин и восседают на алдан-тэсэге рядом с самим Тэнгэром.
Хотя этого тоже не могло быть. Не больно похож на алдан-тэсэг мокрый оройхон, даже до середины которого достигает вонь, плывущая с мёртвых земель. Всё здесь как дома, только богаче, нетронутей: хохиур, чавга, харвах и… Шооран замер, увидев тукку. Зверёк возился в грязи, разрывая клубни чавги. Казалось, тукка была полностью поглощена своим промыслом, но едва Шооран, в котором мгновенно проснулся охотничий азарт, сделал крадущийся шаг в сторону тукки, как та сорвалась с места и кинулась к шавару.
«Уйдёт! – мелькнула мысль, но тут же Шооран успокоил себя: – Никуда она не денется. Мягмар».
Тукка бежала, шарахаясь из стороны в сторону, Шооран качнулся ей вслед и понял, что бежать не сможет. Не слушались ноги. И вообще какая сейчас может быть охота, куда бы он дел тукку, умудрись он даже добыть её? Шооран вернулся и сел на вымытый камень, который ещё не успело затянуть нойтом.
Как назло, тукка, отбежав немного, остановилась и словно ни в чём не бывало принялась копаться в грязи. Шооран смотрел на неё, и что-то медленно ломалось у него в груди. То, что было значимо ещё два дня назад, рассыпалось пылью, а нового взамен не появилось. И не было сил даже удивляться происходящему. Тукка копошилась неподалёку в большой луже, и казалось, так и должно быть, что так уже бывало прежде. И когда большая серая тень, перемахнув тэсэг, упала, разбрызгав грязь, и свистящий удар развалил надвое не успевшую выпустить иглы тукку, Шооран тоже не удивился и не испугался, а продолжал сидеть, так же спокойно глядя на нового зверя.
Зверь был велик – вдвое больше Шоорана. Разделённое на сегменты тело одето тускло блестящим хитином. По усаженным режущими пластинками усам – жёстким и длинным, в человеческий рост – Шооран признал его. Перед ним был парх, второй после гвааранза хозяин шавара.
Парх подполз было к убитой тукке, но остановился и начал сворачиваться в гигантский клубок, поджимая под себя сегменты хвоста и скручивая секущие усы.
«Готовится прыгнуть, – понял Шооран. – На меня».
По-прежнему не было страшно, но всё же Шооран вскочил и побежал, переступая мягкими, как сырой харвах, ногами. Побежал, потому что надо было бежать. Теперь он словно тукка петлял и шарахался от тэсэга к тэсэгу, но при этом удивительно спокойно повторял прежнюю мысль, примеривая её на этот раз к себе самому: «Никуда он не денется. Мягмар. Время удачной охоты».
Разогнувшись со звонким костяным щелчком, парх прыгнул. Шооран швырнул ему навстречу сумку с чавгой, и это сбило безукоризненно точный прицел: усы разрубили грязь в полушаге от ног Шоорана. Шооран метнулся в сторону, за небольшой тэсэг, присел, надеясь, что парх потеряет его из виду. И то ли это действительно произошло, то ли парху просто надоело прыгать, но он на минуту замер, потом развернулся и пополз к своей первой жертве. Распущенные усы безвольно волоклись по грязи, четыре пары острых роговых челюстей бесцельно пережёвывали что-то. И Шооран вдруг вспомнил, что из такой челюсти был сделан мамин скребок для кожи.
Пригибаясь и прячась за тэсэгами, Шооран поспешил в глубь оройхона. Зрелая чавга предательски хрустела под ногами. Шооран понимал, что и в центре, и на том краю тоже есть суурь-тэсэги, а значит – и шавар, из которого выползла вся нечисть, но оставаться здесь не мог. Знакомая опасность казалась страшнее.
Но всё-таки, что происходит? Дома выползший парх давно был бы замечен, вокруг толпились бы охотники с сетями и копьями, и хищник думал бы сейчас не о добыче, а о том, как сберечь собственные усы. Где все? Куда девались люди?
Шооран шёл всё быстрее. Если бы он мог, он бы снова побежал. Ещё утром он мечтал никого не видеть, а теперь стремился во что бы то ни стало найти людей. Он прошёл уже почти весь оройхон, но так никого и не встретил, а туман, всегда висящий над далайном и прибрежными оройхонами, и не думал сгущаться, напротив, он становился всё реже, и наконец Шооран увидел впереди пышную крону растущего туйвана. Сомнений быть не могло: там находился ещё один оройхон – сухой оройхон! – а это значит, что и за ним продолжалась земля.
Шатаясь, Шооран пересёк граничный поребрик, упал на чистую землю, пополз. Он действительно достиг рая! Третий раз за свою жизнь он ступил на сухой оройхон, и впервые его руки не были заломлены, он мог поднять голову и оглядеться.
Беглого взгляда хватило, чтобы понять – людей не будет и здесь. Землю повсюду покрывала хлебная трава, но её никто не косил двенадцать раз в год, и она росла беспорядочно, как хохиур: рядом с поспевшими гроздьями поднимались цветущие метёлки и перезревшие, растерявшие гроздья стебли. Шооран сорвал одну кисть, засунул в рот и, скривившись, выплюнул – зёрна оказались твёрдыми и невкусными. Зато когда он подошёл к дереву, то увидел, что вся земля под ним усыпана опавшими плодами. Плоды были мягкими и пахли не затхлой водой, как чавга, а источали сильный и сладкий аромат. В жизни Шооран не пробовал ничего подобного и даже представить не мог, что такое существует.
Этих слишком резких переходов оказалось чересчур много для измученного сознания. Шооран больше ничего не понимал и ничему не удивлялся. Ясно же, что он умер, но пришёл не к Ёроол-Гую, а, словно праведник далёких земель, поднялся на алдан-тэсэг.
Возможно, разум Шоорана просто не устоял бы перед испытаниями бесконечно длинного дня, но, по счастью, раньше не выдержал желудок. Шоорана стало рвать. Рвало горькой кашей чавги, наспех проглоченными кусками плодов, желчью. И долго ещё выворачивало опустевшее нутро, заставляя сгибаться и стонать от боли.
Разогнувшись после очередного приступа, Шооран увидел человека. Это был настоящий старик, старше даже, чем Хулгал. Белая борода опускалась ему на грудь, морщины на лице были проведены временем, а не нойтом. Старик стоял, опираясь на палку, и смотрел на Шоорана.
– Здравствуй, мудрый Тэнгэр, – сказал Шооран и потерял сознание.
* * *
Когда Шооран открыл глаза, он долго не мог понять, куда попал. Всю жизнь проведя под открытым небом, он привык видеть над головой лишь размывы туч или в крайнем случае кожаный навес, и потолок из ноздреватого камня пугал своей тяжеловесной твёрдостью. Казалось, эта громада сейчас рухнет всей тяжестью, сомнёт, не оставив целой кости. Замерев, Шооран напряжённо уставился в потолок, стараясь взглядом удержать камни от падения. Минуты шли, потолок висел неподвижно. Убедившись в его надёжности, Шооран осмелился пошевелиться и посмотреть по сторонам.
Он лежал в небольшой комнате со скруглёнными углами. Рассеянный свет проникал через два отверстия, расположенных под самым потолком. Посреди комнаты стоял стол, сделанный из панциря монстра, выброшенного далайном. К столу придвинут вычурный позвонок, возможно, принадлежащий той же самой рыбе.
С мягким хлопком откинулся полог, висящий у входа, в комнате появился старик. В руках он держал чашу, над которой горячей струйкой поднимался пар.
– Ну-ка, выпей, – сказал старик, протягивая чашу.
– Спасибо, щедрый Тэнгэр, – проговорил Шооран.
Питьё было сладким и солёным одновременно, оно благоухало незнакомо и притягательно, смягчало губы и обожжённое дымом горло. Хотелось припасть к чаше и не отрываться от неё никогда, но Шооран нашёл в себе силы соблюдать приличия и пил не торопясь, мелкими глотками, как полагается в присутствии бога. Не смог лишь оставить на дне немного отвара – выпил всё до капли.
Старик уселся, положив руку на стол, долго рассматривал Шоорана.
– Как ты сюда попал, герой? – спросил он наконец.
– Я пришёл по мёртвой полосе, мудрый Тэнгэр, – ответил Шооран, – а звери далайна не тронули меня, потому что сейчас мягмар.
– Зато в это время возле кипящих аваров можно в два счёта задохнуться… – сказал старик. – И, кстати, почему ты называешь меня Тэнгэром? Я такой же человек, как ты, только я пришёл сюда раньше и живу тут уже много лет.
– Хулгал рассказывал, что он ходил сюда и не нашёл за мёртвой полосой никакой земли, – не то спросил, не то пожаловался Шооран, приподнявшись на локте и глядя на старика.
– Когда-то так и было, – согласился старик. – Не один твой Хулгал ходил по горящему болоту и видел лишь стену далайна. А потом илбэч пришёл сюда снова и выстроил ещё девять оройхонов. К тому времени уже никто, кроме меня, не искал новых земель, и потому я живу здесь один. Теперь вот ещё ты пришёл.
– Если ты не добрый Тэнгэр, – задумчиво произнёс Шооран, – то зачем ты позволил мне остаться, принёс в свой дом и поишь горячим?
– Я бежал сюда, потому что не хотел никого видеть, – сказал старик, – но это было одиннадцать лет назад. За такой срок можно соскучиться по человеческому голосу. А горячего не жалко, если рядом авар. Сейчас я ещё накормлю тебя мясом. Ты когда-нибудь его ел? Не тухлого жирха и не вонючую тукку, которой лакомятся грязекопатели, а настоящее мясо, какое подают вану… У меня много мяса, много чистой воды и огня, хлеба, плодов туйвана, зреющих в небе, и наыса, растущего под землёй. Но мне не с кем говорить, поэтому я беднее изгоя.
– Как тебя зовут? – спросил Шооран.
– Моё имя давно принадлежит Многорукому, – старик усмехнулся, – можешь звать меня просто стариком. А теперь пошли. Мясо стынет.
Шооран поднялся. Потолок качнулся и угрожающе приблизился к лицу. Шооран поспешно сел, почти упал на пол, пригнул голову в ожидании удара. Старик удивлённо смотрел на него.
– Что это – там? – Шооран ткнул пальцем вверх.
– Бедный зверёныш! – воскликнул старик. – Теперь я вижу, что ты действительно из рода грязекопателей. Ты никогда не был в помещении? Это потолок. Он из камня, но ты не бойся, он не упадёт. Мы с тобой в шаваре… в алдан-шаваре, – поправился он, заметив удивлённый взгляд Шоорана.
– …алдан-шавар… – повторил мальчик. – Но ведь так называется дворец великого вана!
– Так называются подземные пустоты, вход в которые ты видел у подножия суурь-тэсэга. На сухом оройхоне шавар чист и безопасен, и поэтому его называют алдан-шаваром. Не только ван, но и любой паршивый одонт живёт в алдан-шаваре, ведь там крепкие стены и, значит, можно легко прятать награбленное.
Шооран с ужасом и изумлением смотрел на старика, так спокойно произносящего крамолу и хулу на великих людей. Даже на свободном оройхоне имя вана было священным.
– Ты всё-таки Тэнгэр, – пробормотал он, – и сам Ёроол-Гуй родился из твоих отбросов.
– Нет, я не Тэнгэр, – сказал старик, поднимая Шоорана. – Ну а что касается Ёроол-Гуя, то ты, пожалуй, прав – мы с ним старые знакомцы. Впрочем, поживи здесь несколько дней и многое поймешь сам. Идём. Мясо, должно быть, совсем остыло.
* * *
Меньше чем за два месяца Шооран освоился с жизнью на сухом оройхоне. Его уже не так поражали сказочное изобилие и богатство, хотя он по-прежнему не мог поверить, что и в земле вана многие живут не хуже. Шоорана больше не пугали низкие потолки, он облазал весь алдан-шавар – сложную систему ходов, залов и коридоров, располагавшуюся под поверхностью оройхона. В алдан-шаваре было два яруса. Первый – светлый и сухой, со множеством больших и малых выходов на поверхность, тех самых, что так пугали его на мокром оройхоне. Во второй ярус можно было проникнуть из первого. Там всегда было сыро и тепло, на жирной земле сплошным ковром расстилался наыс – бледные мясистые грибы, бесконечно вкусные, если их сварить или зажарить, но съедобные и сырыми, и сушёными. Тьму в нижнем ярусе рассеивали медлительные светящиеся слизни, грызущие наыс. Старик собирал слизней и приносил в комнаты, когда ему казалось, что там недостаточно светло.
Наверху множились свои чудеса. В центре оройхона бурлили источники воды, неведомо как пробивавшейся на поверхность, не затопляя алдан-шавар. Вода растекалась несколькими ручьями, в них нежились благодушные бовэры – те самые толстобокие звери, что когда-то так поразили Шоорана. Время от времени старик забивал костяным гарпуном одного из бовэров, после чего они с Шоораном недели полторы объедались мясом. Остальное время ели наыс, плоды туйвана и хлеб. Хлебная трава, вначале разочаровавшая Шоорана, оказалась вещью замечательной. Одно из полей старик содержал в порядке, вовремя выкашивал и собирал тяжёлые гроздья зёрен. Замоченные в воде зёрна достаточно было заквасить кусочком светящегося слизня, и через несколько часов зерно размокало в кашу, саму по себе безумно вкусную. Но истинное пиршество начиналось, когда старик досыпал в кашу растёртые и небродившие зёрна, замешивал на соке плодов туйвана и отправлялся к границе – печь на краю авара пышные медвяные лепёшки. Или варил в кипящей воде круглые колобки.
Чтобы готовить горячее, было вовсе необязательно уходить к аварам – сухие стебли хлебной травы горели жарким бездымным пламенем, а у старика была пара кремней, дававших искры при ударе друг о друга. Впрочем, кремнями старик пользовался редко – берёг.
Первое время оправившийся Шооран не вылезал из алдан-шавара, бродил с одного яруса на другой, выглядывал в узкие окошки малых лазов, исследовал коридоры, соединяющие залы обжитого суурь-тэсэга с соседними системами пещер, куда старик никогда и не заходил, что доказывал многолетний слой нетронутой пыли. Заблудиться Шооран не боялся, зная, что всегда может выйти назад по собственным следам, даже в нижнем ярусе отлично видным в мерцающем свете большого слизня.
Как-то он вылез в обжитые помещения с противоположной стороны. Здесь у старика были устроены кладовые, доверху набитые всяческим добром. С удивлением и завистью Шооран обнаружил целый арсенал всевозможного оружия – очевидно, когда-то старик ходил в цэрэгах либо же, напротив, среди вооружённых изгоев. Прямо спросить Шооран почему-то постеснялся, задал лишь вопрос: откуда всё это?
– Так… – пожал плечами старик и неожиданно разрешил Шоорану брать из кладовки любой инструмент.
Разумеется, первым делом Шооран ухватил длинный и даже с виду страшный хлыст из уса парха. Хлыст был лёгок и упруг, но Шоорану никак не удавалось размахнуться им как следует. Детская игрушка – хлыстик из лоскутка кожи и то бил удачней.
Привлечённый звонкими хлопками, из алдан-шавара вышел старик. Посмотрел на старания Шоорана, заметил:
– Так ты себе уши отрубишь.
Взял оружие из руки Шоорана, примерился, взвешивая его на ладони, и вдруг гибкий и тонкий хлыст затвердел, словно в него вставили стержень, лишь самый кончик превратился в гудящий от мгновенного движения круг. Старик, выставив руку, пошёл вперёд. Хлыст коснулся избитой Шоораном травы, и в стороны полетели сорванные вибрацией клочья. Старик хлестнул усом вбок и тут же снова закрутил его, заставив выпрямиться и затвердеть. Шооран, раскрыв рот, следил за происходящим.
– Вот так, – сказал старик, устало опустив руку. – Научись хлыст прямо держать, дальше всё само получится. А через спину хлестать – только себя покалечишь. На, играй.
С этого времени Шооран не расставался с хлыстом, даже когда на поле поспел урожай и неделю они, не разгибаясь, работали: срезали стебли, вылущивали зерно, сушили и складывали в специальной камере. Старик заготавливал больше хлеба, чем обычно, ведь теперь их было двое. Часть соломы старик стащил на мокрый оройхон, замочил на четверть часа в нойте, потом принёс обратно и долго отмывал водой, теребил, пока вместо соломы не осталась лёгкая, как высушенный харвах, пряжа. Из этой пряжи старик обещал сделать Шоорану праздничную одежду, такую же, в какой ходил сын одонта. А пока Шооран щеголял в жанче из шелковистой шкуры бовэра и башмаках из кожи морского гада, притащенного стариком в последний день мягмара.
Старик преподносил Шоорану один подарок за другим, а когда Шооран начинал благодарить, досадливо произносил единственную фразу:
– Погоди, придёт время, и ты устанешь проклинать меня.
– Этого не может быть, – отвечал Шооран.
– Ты так думаешь? А вдруг завтра нас найдут? В лучшем случае цэрэги выгонят нас на мокрое, и тебе придётся заново привыкать глотать чавгу. Полагаю, это будет не слишком приятно.
– Но я всё равно не стану тебя проклинать! – горячился Шооран.
– Не загадывай. О будущем могут говорить только Ёроол-Гуй с Тэнгэром. А нам надо его ждать… – Старик помолчал и добавил странно: – И по возможности – делать.
В один из дней Шооран прошёл под землёй весь оройхон и вылез наружу под вечер у самого дальнего из суурь-тэсэгов. Край оройхона был совсем недалеко, и Шооран, удивляясь про себя, почему не сделал этого раньше, побежал посмотреть, что там. Он ожидал увидеть мокрый оройхон, но не удивился бы, обнаружив ещё одну благословенную, но безлюдную страну. Однако вместо этого он вышел на сухую полосу, за которой курились жаром пограничные авары. Может быть, он потерял в шаваре направление и теперь идёт на юг? Шооран побежал туда, где ожидал найти границу. Через пять минут взгляду открылась сухая полоса и авары. Граница была и при схождении этих оройхонов, только вместо сухой полосы там оказался лишь крошечный пятачок иссохшей земли, с двух сторон сжатый раскалёнными камнями.
Встревоженный Шооран побежал рассказать об этом старику. Старик, как обычно вечером, сидел в своей комнате, той самой, в которую он принёс больного Шоорана. На столе перед стариком лежал кожаный бурдюк с перебродившим соком туйвана. Шооран хорошо знал этот напиток, его часто пили цэрэги охранной дюжины. Сок туйвана в его глазах был обязательной принадлежностью настоящей жизни, но почему-то ему не нравилось, когда старик выносил с нижнего яруса бурдюк. Напившись, старик мрачнел, начинал кричать на кого-то, обвиняя и оправдываясь. В эти минуты Шооран старался не попадаться ему на глаза, опасаясь, что старик не узнает его или вдруг обрушится с руганью и прогонит неизвестно куда.
Но сейчас сделанное открытие беспокоило его сильнее всего, и Шооран, войдя к старику, сбивчиво рассказал об увиденном. Старик молча выслушал рассказ, поднял красное от выпитого сока лицо.
– Тебя это удивляет, малыш? – сказал он. – А разве ты не слышал, что Тэнгэр сотворил далайн прямоугольным, и, значит, где-то у него должен быть угол? Здесь поворачивает граница мира. Судьба загнала нас с тобой, мальчик, в угол мироздания. Бородатые мудрецы из далёких земель подсчитали, что в ширину в далайне умещается три дюжины оройхонов, а в длину – четыре. Таким образом, весь мир, будь он застроен вдоль и поперёк, вместит ровно тройную дюжину оройхонов. Но только я знаю, что это неправда! Трёх оройхонов в длину не хватает! Мудрый Тэнгэр, словно последний торгаш, надул Ёроол-Гуя, выстроив далайн меньших размеров, чем было условлено. Как я смеялся, когда понял это! А может быть, никакого договора и не было, и всё выдумано длиннобородыми мошенниками, чтобы оправдать съеденный хлеб. Раз поперёк три дюжины, то вдоль должно быть четыре… Разумно и красиво… А я первый среди людей дошёл до этого края мира и знаю, что весь их разум не стоит и сгнившей чавги!
– Не первый, – напомнил Шооран. – Ещё был безумный илбэч, который построил всё это…
– Что ты знаешь об илбэче! – закричал старик. – Что ты можешь о нём знать, если родился, когда имя его уже досталось Многорукому! – Старик, пошатнувшись, встал, ухватил Шоорана за плечо. – Идём!
– Куда? – испугался Шооран.
– На мокрый оройхон… к границе… Ты ещё ни разу не видел стены Тэнгэра, я покажу её тебе.
– Вечер скоро, – робко возражал Шооран.
– Ничего, вечер годится не хуже любого другого времени. Переодевайся, нам надо торопиться.
Шооран поспешно достал и натянул мамины буйи и старый жанч. Старик пошёл, не переодеваясь, в чём был, хотя нойт грозил разъесть его тонкую обувь, да и тканый цамц – не лучшая одежда для прогулок к далайну.
Всю дорогу старик торопил Шоорана, так что под конец тревога и предчувствие беды полностью овладели мальчиком, и он торопился уже сам, без понуканий. Они шли на север, к самому дальнему из мокрых оройхонов, туда, где Шооран ещё ни разу не бывал. Под ногами зачавкала грязь мокрого оройхона, по левую руку кисло задымилась мёртвая граница – слияние влаги далайна и огня. Небесный туман над головой наливался красным вечерним светом.
– Смотри! – хрипло выкрикнул старик, указывая рукой на что-то, скрытое дымом горящего нойта. – Это и есть стена Тэнгэра – та граница, которую нам нельзя переступать!..
Шооран качнулся вперёд, до боли напряг зрение и различил за клубами дыма и туманом уходящую вдаль стену. Стена была серой и безвидной. Она могла быть каменной, но больше походила на неподвижное облако. Высоту её было не определить, наверху стена смыкалась с тучами, и, если бы не вечер, окрасивший небесный туман, верхняя часть стены стала бы вовсе неразличимой. Зато, когда дым ненадолго расползался в стороны, хорошо было видно подножие, а вернее, та часть стены, что омывалась влагой далайна. Шооран с ужасом увидел, что стена в этом месте густо изъязвлена, её покрывают глубокие раны и колышущийся далайн при каждом движении продолжает неустанно разъедать её, промывая всё более обширные и глубокие ямы.
Шооран представил, как стена не выдерживает и влага с шумом устремляется наружу, за пределы мира. Исполнив старое предсказание, она затопит всё пространство, в котором не останется места ни для чего, кроме ядовитой слизи и торжествующего Ёроол-Гуя.
– Старик! – закричал Шооран, указывая на стену. – Она сейчас упадёт!
– Не думаю, что прямо сейчас, – прохрипел старик, – она не очень сильно изменилась за десять лет, но когда-нибудь упадёт.
– Но ведь там за стеной – алдан-тэсэг!
– Что мне за дело до алдан-тэсэга? Пусть Тэнгэр подумает не только о вечности, но и о своей вечной жизни. Для этого у него есть достаточно времени. Меня пугает иное: что будет с оройхонами, когда упадёт стена? Не утонут ли они, не обвалятся ли в гости к Многорукому? Мне кажется, об этом должен думать каждый, кто хоть раз видел стену далайна…
– Неужели ничего нельзя сделать? – выкрикнул Шооран.
– Почему нельзя? Сделать можно всё! – Старик пел слова злобным речитативом. Шагнув к краю, он, словно жрец, приносящий жертву, поднял руки. Седая голова тряслась, пение звучало отрывисто и дико. – Я ненавижу этот мир, сделанный не для нас!.. Эту слизь, названную влагой!.. Это зверьё, чуждое людям!.. Моя ненависть горит огнём, и огонь пылает в моих руках! Пусть умрёт глубина далайна и его яд!
На секунду Шоорану показалось, что и впрямь на ладонях старика полыхнул факел, словно вспыхнула разом пригоршня харваха, но наваждение тут же рассеялось. Остался лишь пьяный кликушествующий старик, признающийся в застарелой ненависти к равнодушному далайну. Шоорану стало больно и стыдно, но он не знал, как прекратить жалкую сцену и увести старика домой. Он уже протянул руку, чтобы дёрнуть старика за полу цамца, но замер, увидев разом то, чего никак не ожидал.
Далайн больше не был равнодушен. По нему пошли волны, шапки пены вздулись, словно вернулся мягмар. Туман ложился пластами, влага затвердевала, обращаясь в камень, холмы серо-зелёной пены застывали тэсэгами. Из глубины возникал оройхон. Чудо совершалось в полной тишине, лишь старик бесновался, хрипя:
– Ты убийца! Враг!.. Не-на-ви-жу-у!..
И вдруг всё кончилось. Старик опустил руки, опали водяные бугры, поползли, как и прежде, дым и туман. Но там, где раньше была полуразрушенная стена, теперь стоял оройхон. Суурь-тэсэги поднимались над усеянной валунами равниной, и лишь вспененный поребрик указывал, где прежде был берег. Со стороны старого оройхона он был привычно усыпан отбросами, со стороны нового – девственно чист.
Старик повернулся к Шоорану.
– Ты думаешь, это всё? – спросил он перехваченным голосом. – Нет! Смотри ещё!
Он взял Шоорана за руку – ладонь была холодной, словно у мертвеца, – и повёл туда, где ещё недавно расстилалась гладь далайна. Они перешагнули поребрик, и в ту же секунду каждый камень, каждый холм, всякий, даже небольшой тэсэг запылал белым ослепительным огнём, ещё не скрытым под чёрной коркой окалины, покрывающей авары на давних пограничных оройхонах. Свободной осталась лишь узкая прибрежная полоса.
– Так граница встречает илбэча! – возгласил старик. – Чего они боятся? Почему не пускают?
– Ты илбэч! – наконец выдавил Шооран.
В памяти всплыло всё, что рассказывали об илбэчах мама, Хулгал, другие люди – знакомые и незнакомые. Сказки, обязательным героем которых был Ван, домыслы и правду, тоже состоящую из домыслов. Но все они сходились в одном…
– Зачем ты это сделал?! – закричал Шооран, бросаясь к старику и обхватив его обеими руками. – Ведь тебе нельзя говорить и показывать это!.. Я не должен это знать… Зачем ты так?
Казалось, крик вернул старика на оройхон. Взгляд стал осмысленным, он разом заметил, что падает туман, вокруг быстро темнеет, что одет он самым неподобающим образом, с мокрой границы несёт смрадом и копотью, а рядом стоит Шооран, которому тоже не надо оставаться здесь на ночь.
– Идём, мальчик, – сказал старик тихо, – я всё тебе объясню.
Старик быстро и молча направился к дому, Шооран, оглядываясь и ежеминутно ожидая беды, спешил сзади.
Дома старик сбросил испорченную обувь, подошёл к забытому на столе бурдюку, нацедил полную чашу, но пить не стал, а, глядя на сидящего с опущенной головой Шоорана, начал говорить, иногда медленно, по одному роняя слова, порой же переходя на одышливую скороговорку, словно боялся, что ему не хватит времени и воздуха:
– Ты знаешь, какая самая страшная пытка? Казнь молчанием. Много дюжин лет я тащу на себе тайну и сейчас больше не хочу молчать. Я должен рассказать о себе и обо всём, что передумал за эти годы. Если проклятие Ёроол-Гуя выдумано вместе с большинством легенд, то мне всё равно ничего не будет, если же оно истинно, то у меня впереди вся ночь и, может быть, часть дня. Этого хватит, чтобы рассказать главное, а там – будь что будет. Всё-таки мне станет легче. Слушай. Я жил когда-то в другой стране, очень далеко отсюда, в землях старейшин, что возле креста Тэнгэра. Может быть, ты не знаешь, что это такое? Это те пять оройхонов, что поставил сам Тэнгэр при сотворении мира. В ту пору меня звали Энжин, и я был служителем в доме старейшин…
* * *
Энжин был служителем в доме старейшин. Он обитал на сухом оройхоне в палатке, приткнутой к боку растрескавшегося тэсэга. Рядом было поле. Как и всё на оройхоне, оно принадлежало Ёроол-Гую. Ни единый человек во всей стране не имел ничего своего, в земле старейшин свято помнили завет: далайн принадлежит Многорукому. Старейшины оглашали волю бога глубин, служители работали на него.
Раз в месяц, когда созревал урожай, Энжин получал у баргэда костяной нож для уборки хлебной травы, а через неделю сдавал нож обратно вместе с зерном и соломой. В остальное время он растирал муку, трепал воняющую нойтом солому, давил сладкий сок из плодов туйвана и в свой срок, вооружившись толстой палкой, нёс под присмотром цэрэга караульную службу на краю мокрого оройхона. За это ему каждый день выдавалась миска каши из заквашенного зерна, раз в неделю – горсть сушёного наыса, раз в месяц, после уборки урожая – чашка вонючей браги, а на третий день мягмара – мясо.
Энжин был на хорошем счету у старейшин, баргэд отзывался о нём с похвалой, поэтому его никогда не отряжали на охоту в шавар или на разборку наваленных далайном тварей, откуда так много мужчин не возвращаются домой. Так что, живя в трёх оройхонах от берега, Энжин и не видывал далайна. И, возможно, просуществовал бы всю жизнь, не подозревая о силе, дремлющей в нём, и лишь иногда мучаясь яркими и страшными сновидениями.
С неумолимым однообразием представлялось ему ночами, что он больше не человек, а лёгкий летучий огонь. Энжин не раз видал огонь возле суурь-тэсэга, ведь трудолюбивые баргэды и храбрые цэрэги питаются горячим, а горячее можно сделать лишь на огне или на аваре, если он поблизости. Но огонь, в который обращался Энжин, совсем не походил на пламя горящей соломы. Он мог перелетать с места на место, согревать разом целый мир, но мог и ударить палящей струёй. Это был бы изумительный сон, несмотря на боль, которую пылающее тело причиняло Энжину, но едва Энжин отрывался от земли, чтобы ринуться в полёт, как появлялись враги. Порой они даже не имели облика, но их всегда было много, и стремились они к одному: сбросить Энжина на землю и погасить. Ночи, протекавшие в поисках спасения или мучительных, безнадёжных битвах, были, пожалуй, самыми сильными впечатлениями в спокойном существовании Энжина.
Палатка, в которой спал Энжин, тоже принадлежала Многорукому, а поскольку места в ней хватало на двоих, то судьба позволила прислужнику жениться, а вернее, позволила выйти замуж его жене. Как и всюду, женщин в земле старейшин было почти вдвое больше, чем мужчин.
Так же как и муж, Сай каждый день отправлялась на работу, чаще всего на второй ярус алдан-шавара – собирать и заготавливать наыс. И тоже ежедневно получала миску каши, а в конце недели – горсть грибов. Только мяса ей не полагалось, женщинам раз в год на пятый день мягмара выдавали плод туйвана.
Супруги жили дружно, хотя и делить им было нечего. Каждый выскабливал свою миску и начисто вылизывал её. Каждый крошил в кашу грибы или хрустел ими, запивая водой. Воды Ёроол-Гуй позволял пить сколько угодно.
Иногда, проснувшись утром раньше срока, Энжин будил Сай и пытался пересказать ей привидевшийся кошмар, но Сай испуганно взмахивала руками и, перебив мужа, твердила:
– Перестань. Не хочу слушать. И ты не вспоминай. Сойдёшь с ума – что будет?
Больше говорить было не о чем. Только охотники могут рассказывать, какого зверя они поймали сегодня, а какого упустили вчера. Но зато охотники и не живут долго, и их жёны остаются в одноместных палатках изнывать от бессильной женской тоски и, надрываясь, растить детей, потому что за миску каши для ребёнка надо выработать дополнительную норму.
У Энжина и Сай детей не было. Потому, должно быть, баргэд и отзывался о них с похвалой: берёг образцовую семью.
Иногда разговор начинала Сай, рассказывала что-нибудь о соседях или о женщинах, вместе с которыми она чистила и резала грибы или ткала на ручном станке тонкую материю из соломенной пряжи. Обычно её рассказы начинались с одной и той же фразы:
– Атай совсем с ума сошла, – говорила жена.
– Угу… – отвечал Энжин, занятый починкой прохудившегося башмака.
– Ты только послушай, что она сказала! – горячилась Сай. – Она сказала, что сбежит отсюда!
– Куда? – Энжин отставил рукоделье в сторону.
– Будто она сама знает… Я ей говорю, что лучше, чем дома, нигде не будет. Сбежишь… и что? Станешь бродить по мокрым оройхонам да ждать, пока до тебя Многорукий дотянется или цэрэги поймают?
– В новых землях цэрэгов нет, говорят, там мокрые оройхоны полны бандитов.
– Ну, у нас их тоже хватает. Помнишь, третьего года что было?..
– Ладно, не надо о плохом.
– Хорошо, хорошо, но Атай-то какова, а?..
Атай была их соседкой. Ей было полторы дюжины лет, а она жила одиноко, безо всякой надежды выйти замуж, несмотря на свою редкостную красоту. Три года назад она получила завидное предложение – стать сестрой непорочности. Сёстры непорочности жили в алдан-шаваре и прислуживали самим старейшинам. В сёстры выбирали только самых красивых девушек, и, насколько было известно Энжину, прежде никто от этой чести не отказывался. Атай была первой. Она при всех заявила, что хочет не божественного, а простого счастья и сестрой непорочности не станет.
В законе ничего не говорилось, как поступать в таком случае, поэтому хотя дерзкую не наказали, но и в покое не оставили. На работу со всеми женщинами Атай выходила, только если для неё не находилось особо тяжёлого и грязного труда. И, разумеется, никакого счастья она не получила; хоть никто не запрещал ей выходить замуж, но на всём оройхоне не нашлось желающего связать судьбу с женщиной, отмеченной клеймом бунтовщика. Атай ходила, высоко подняв голову, казалось, ей нет дела до любопытных и недоброжелательных взглядов, и Энжин был удивлен, узнав, что и её жизнь трёт шершавым по открытому сердцу.
В течение двух или трёх недель после мягмара, когда всё на оройхоне принималось плодоносить особенно бурно, хозяйство старейшин начинало лихорадить. Часть женщин отправлялась на мужские работы – на поля, а остальные, чтобы справиться с бешено растущим наысом, работали круглосуточно, получая лишь два небольших перерыва для еды и четыре часа на сон. Но даже во время перерывов женщины домой не возвращались. Это равно касалось и сборщиц, и привилегированных работниц, перебиравших грибы.
Сай две недели была на чистой работе сортировщицы, а вот Атай как неугодную вообще не допускали в алдан-шавар, на её долю досталось поле, и работать ей пришлось в паре с Энжином. Первый день они работали вровень: жали, вязали снопы. Когда урожай был снят, баргэд вручил Энжину верёвки и пустые мешки, а его напарнице – тяжеленное било: выколачивать из гроздьев зерна. Именно тогда, при взгляде на согнувшуюся под неподъёмным инструментом фигурку, Энжин понял, что так не должно быть. Не было сомнения, возмущения и гнева, не мучили мысли, что он нарушает закон, была лишь спокойная уверенность: так не должно быть. Энжин подошёл к Атай, взял у неё из рук цеп и начал молотить сам, хотя знал, что меняться работой запрещено: каждый несёт ту повинность, что определена ему по заслугам. И Атай – видно, крепко засели в ней семена бунта! – не возмутилась, а молча принялась подтаскивать снопы, вязать солому и относить в сторону полные мешки.
Красный вечер погас в небесном тумане, на суурь-тэсэге протрубили в витую раковину, возвещая конец работы, лишь тогда они молча, так и не сказав ни слова, поменялись инструментом, а сдав его баргэду, не расползлись, как обычно, по своим норам, а уселись возле тэсэга, прислонившись к его шероховатому боку.
– Атай, – спросил Энжин, – как сделать, чтобы они перестали тебя гнать?
– Никак… – тихо прозвучало из темноты.
– Но почему… – начал Энжин, но Атай перебила его, зашептала быстро и отчаянно то, что не раз, должно быть, говорила самой себе за эти три года:
– Я знаю, что нельзя было отказываться, но ведь всем известно, как именно сёстры непорочности прислуживают целомудренным старейшинам. Сначала они живут в роскоши, потом переходят к баргэдам и цэрэгам, услаждают их похоть, хотя каждый из цэрэгов и так женат. Я не вижу, чем это лучше многожёнства, принятого в других землях и запрещённого у нас. По-моему, это хуже. Когда кто-нибудь из сестёр беременеет, ребёнка душат и кидают в шавар.
– Откуда ты знаешь? – испуганно спросил Энжин.
– Знаю. Моя сестра живёт у старейшин. У неё родился мальчик, и его при ней засунули в мешок и отдали… там есть специальный человек для этого. Я так не хочу. Я хочу… хотела когда-то, чтобы у меня была семья, дети… живые…
– Ну что ты… – Энжин коснулся в темноте плеча девушки, и та, всхлипнув, ткнулась ему лицом в грудь.
…У Атай оказались мягкие покорные губы, пахнущие цветами туйвана, а избитые работой руки умели быть бесконечно ласковыми.
Так в жизни Энжина появилась тайна. Однажды нарушив закон, он продолжал нарушать его, не мучаясь больше никакими сомнениями. Гораздо сложнее обстояло дело с Сай. За дюжину лет, проведённых вместе, он привык ничего от неё не скрывать. Что из того, что скрывать было и нечего? Всё-таки прежде он мог сказать: «Ты знаешь, Сай…» – и поделиться тем немногим, что произошло с ним или около него. А теперь, когда в жизни появилась настоящая большая радость и ещё один родной человек, об этом приходилось молчать. И только от молчания, от разделившей их тайны, а не от чего-либо другого Сай, близкая и любимая, начинала становиться чужой.
Так прошёл почти целый год. Внешне почти такой же, как все остальные годы, но наполняли его нетерпеливое ожидание слишком редких встреч и ещё незаметная, но уже начавшаяся пытка молчанием. Лишь когда до нового мягмара осталось меньше месяца, события понеслись, словно спасающийся от хищника авхай по поверхности далайна.
Энжин с чисто мужской слепотой не замечал изменений, происходящих с его подругой, и Атай сама сказала ему обо всём во время одной из случайно выпавших встреч. В первый миг Энжин не поверил новости и, лишь положив ладонь на округлившийся живот Атай и ощутив толчки ещё не проснувшейся, но уже существующей жизни, понял, что это правда.
– Как же быть? – растерянно пробормотал он. – Ведь ты знаешь, что придётся делать…
Это знали все. Великий Ёроол-Гуй ненавидел разврат. Незаконных детей в стране старейшин не было. Всё остальное – увы! – было. Большинство мужчин поступали просто. Немало законных супруг ходили, прикрывая ладонью расползшийся на пол-лица синяк – призывающий к молчанию аргумент не ночевавшего дома мужа. А среди вдов, озверевших от одиночества, и девушек, потерявших последнюю надежду выйти замуж, по секрету передавались рецепты, как избежать последствий тайной связи, а если уж их не миновать, то как ловчей перетягивать растущее пузо и, главное, кто из охотников и что требует, чтобы отнести и выкинуть в шавар задавленный плод любви.
Но бывало так, что скрыть грех не удавалось, и тогда Ёроол-Гуй требовал преступницу к ответу. Мужчин на оройхонах не хватало, и потому считалось, что второго виновника как бы и нет.
– Мой ребёнок останется жить. – Атай произнесла эти слова тихо, но так, что Энжину сразу вспомнился неприступный вид, с которым Атай проходила мимо скучающих служителей. – Я просто не останусь здесь. Уйду.
– Куда? – спросил Энжин и вдруг вспомнил, что повторяет свой давнишний, ещё не Атай заданный вопрос.
– Не знаю, – сказала Атай. – К ванам или в страну добрых братьев – всё равно.
– Граница охраняется, – напомнил Энжин, – да и не пройти там. Мёртвые земли. Помнишь, что рассказывал старейшина об огненных болотах?
– Всё равно, – упрямо повторила Атай. – Пойду по мокрым оройхонам, через границу ползти буду, но здесь не останусь.
Энжин слушал и видел, что так и будет – она уйдёт. И говорит она это сейчас только для того, чтобы он, если захочет, мог идти вместе с ней. А мог и остаться, сделав вид, будто ничего не понял, и тогда она уйдёт одна, не попросив его ни о чём.
– Подожди, – сказал он. – На той неделе меня посылают в охранение. Будет легче перейти на мокрый оройхон.
Лишь потом он заметил, что не сказал ни «нам будет легче», ни «тебе». Просто сам не знал, как поступит, и сказал неопределённо, отложив решение на последнюю минуту. И Атай не стала уточнять, что он имел в виду, послушно согласилась:
– Хорошо, я подожду.
На следующий день Атай исчезла. Энжин не встретил её на работах, не увидел, вернувшись домой. Он не знал, что думать: бежала ли Атай, не дождавшись его, или же с ней что-то случилось? Спрашивать людей Энжин не смел, а Сай, обычно снабжавшая его новостями, на этот раз глухо молчала.
Прошла неделя вместе с назначенным дежурством – Атай не объявлялась. Закончился год, наступил весёлый мягмар. Атай не было.
Шестой день мягмара – день всеобщего ликования, жертвоприношений щедрому Ёроол-Гую, отдыха. Охота у шаваров закончена, дары, принесённые расходившимся далайном, разобраны и отнесены в кладовые. Съедено праздничное мясо и плоды. Остаётся веселиться. Длинные процессии направляются с дарами на обычно пустынный мокрый оройхон. Движутся старейшины, окружённые непобедимыми цэрэгами; охотники со своими трофеями идут, чтобы вернуть Многорукому часть по праву принадлежащих ему богатств. Шагают опалённые пламенем сушильщики, которых все боятся и презирают за их смертельное ремесло. Стоят у края далайна с повинной головой, бросают вниз пряди собственных волос – просят немного жизни. Лишь трудолюбивые баргэды, хранящие, учитывающие и выдающие всё, что есть на оройхонах, остаются на месте. Они не могут уйти даже на один день, без них жизнь прекратится, народ умрёт с голоду.
Из простых служителей на праздник допускаются лишь те, кого власти сочли достойными лицезреть картину жертвоприношений. Каждый заранее оповещён о высокой чести, и за всю историю страны ещё не было глупца, отклонившего её.
Энжин стоял в общей толпе за спинами цэрэгов. Смотрел, как летят в далайн снопы, сыплются мука и сладкие плоды. Слушал пение сестёр непорочности. «О бессмертный повелитель! Прими дары от твоей земли!» Энжин впервые был здесь, впервые видел далайн. Сухих оройхонов много, и не каждый служитель хотя бы раз в жизни попадает на праздник. Многие лишь по рассказам знают, что такое шестой день мягмара.
Жертвы становились богаче, пение громче. Лился хмельной сок, падали драгоценные осколки дающего искры кремня, что во всём мире встречается лишь на кресте Тэнгэра. «О отец наш, Ёроол-Гуй! Тебе отдаём мы лучшую из женщин!» – голосили непорочные шлюхи. И покачнувшийся Энжин увидел, как плывёт над головами поднятый на сильных руках резной паланкин и в нём сидит Атай. Её руки и ноги были связаны, но мало кто замечал путы, скрытые широкими рукавами нарядной одежды. Зато фигуру праздничный талх облегал плотно, чтобы всем был виден округлый живот женщины.
Энжин не умер на месте, не бросился на копья цэрэгов, не сделал вообще ничего. Словно загипнотизированный взглядом Ёроол-Гуя, он мог лишь стоять, смотреть и ждать.
– Она хороша, как любовь, и нужна, как дыхание, но мы отдаём её с радостью, о могучий!..
Голова Атай была запрокинута, отрешённый взгляд не замечал окружающего. Энжин слышал, что женщинам, предназначенным Ёроол-Гую, дают пить вино, а если они отказываются, то поят насильно, вливая вино в разжатый рот. Он ещё не знал, что будущими бесконечными вечерами, наедине с полной чашей он с бессмысленным упорством будет думать об одном: сама пила Атай или вино вливали насильно?
Атай молчала, и безмолвно молчала толпа, лишь молельщицы выводили речитативом:
– О великий, прими нашу женщину! Её руки – ласка, её губы – счастье, её глаза – свет жизни. В ней наше будущее и надежда. Возьми её!
Не родив кругов, без брызг и ряби раскрылась липкая влага далайна, принимая живое подношение. Напряжённо ожидавшая толпа ахнула, и за этим вздохом никто не услышал крика Энжина.
Последний день недели стремительно катился к вечеру. Радостный мягмар закончился. Завтра начнётся страда – сначала на плантациях наыса, затем и на полях. Завтра может вынырнуть недовольный жертвами Ёроол-Гуй – и горе оказавшимся на берегу охотникам, собирателям харваха и беглым преступникам, которым негде скрыться, кроме как на запретном мокром оройхоне. Возмездие настигает их там в лице самого бога. Горе тому, кто останется на мокром оройхоне после конца мягмара! Это преступление ещё большее, чем зайти без дела и позволения на соседний оройхон или поменяться с кем-нибудь назначенной работой. И всё же, когда под грохот труб и костяных досок процессия двинулась обратно, один человек, словно не слыша сигнала, остался у далайна. Его никто не замечал, цэрэги и шпионы равно стремились уйти отсюда поскорей. Мимо, шлёпая по замешанной на нойте грязи – здесь нет места заносчивости ванов! – прошествовали жрецы и старейшины. Простой народ обтекал его со всех сторон, торопясь добраться к дому и урвать перед завтрашним днём пару лишних часов отдыха, а Энжин стоял, вперившись взглядом в далайн, словно туда ещё падали дары.
Берег опустел, потемневшие облака налились кровью. Всё замерло, лишь далайн, тяжело дыша, продолжал свою работу. Ему не было дела до людей, их даров и потерь. Лишь на шипах какой-то пучеглазой твари, выплеснутой волной, белел обрывок тонкой материи. Но мало ли тканей было скинуто сегодня в бездну?..
Только теперь, когда поздно стало что-либо делать, сознание вернулось к Энжину. Он чувствовал, как рвётся душа, сгорает, не оставляя золы, пламя вырывается через ладони поднятых рук, и весь он, как это прежде бывало лишь во сне, превращается в факел, пылающий нестерпимой болью и светом. А рядом холодный и мокрый, лениво шевелящийся враг готовится плеснуть своим дыханием и погасить, оставив чёрную головешку. Себя было не жаль, всё лучшее, что в нём было, далайн уже забрал и не вернёт. Оставалось мстить: бессердечному чудовищу, равнодушной влаге, злым людям – всем, до кого сможешь дотянуться.
Пламя рванулось с ладоней, беззвучно разбилось о холодную поверхность. Далайн вспучился, заметались в его толще безмозглые уроды, а в самой пучине содрогнулся от удара многорукий Ёроол-Гуй, закружил, отвыкнув за многие годы от боли, и свечой пошёл наверх, туда, где ещё не осознавший себя илбэч творил землю.
Когда новорожденный оройхон заслонил простор, Энжин не успокоился, не испугался и даже не понял, что произошло. Он видел лишь, что враг отходит, и побежал следом, стремясь ещё раз ударить, не думая, что в нём проснулся тот самый дар, о котором говорят сказания. Не думал он и о том, что Ёроол-Гуй спешит сейчас сюда и в любую минуту может вынырнуть и схватить его, ведь мягмар кончился. Энжин выбежал к далайну и вновь ударил, уже зная, что он увидит, и радуясь… чему? Лишь выстроив третий оройхон кряду и упав от усталости в жгучую грязь, Энжин понял, что Атай не вернётся, даже если он высушит весь далайн. Энжин встал и медленно побрёл назад, к тому, что он когда-то называл жизнью. Он чудом успел уйти от Ёроол-Гуя, обрушившегося на берег через полчаса после его ухода, и чудом избегнул встречи с караулами.
На оройхоне царило безмолвие. Энжин на ощупь отыскал свою палатку, откинул полог, согнувшись прополз внутрь. В темноте ничто не шелохнулось, лишь потом из самого угла прозвучал неестественно спокойный голос Сай:
– Ты где был?
Энжин не ответил. Лёг, спрятав лицо в подстилке, стараясь ничего не слышать.
– Я спрашиваю, где ты был? – повторила Сай. – У кого?.. Можешь не отвечать, но знай, что я всё равно её найду, и эта новая девка отправится вслед за первой, за твоей любезной Атай!
Энжин медленно поднялся, зажал ладонями уши, чтобы не слышать свистящего шёпота, летящего из затхлой тьмы:
– Вы, мужики, развратники, и ты точно такой же, как все. Тебе наплевать на семью, на меня, на закон, в конце концов! И шлюху ты выбрал себе под пару, эту шаварную тварь… Жаль, я не смогла сбросить её в далайн своими руками!..
– Замолчи, – тихо сказал Энжин.
Он вышел из палатки и остаток ночи просидел, привалившись к тэсэгу и глядя сквозь темноту туда, где ещё день назад стояла палатка Атай.
Утром оройхоны облетела невероятная весть: объявился новый илбэч. За одну ночь на побережье возникло три свежих оройхона, и, следовательно, один из старых стал сухим – в стране появилась дополнительная пригодная к жизни земля. Никогда прежде такого не случалось. Даже во времена древних илбэчей не появлялось три оройхона в один день. Служители передавали друг другу новости – одна невероятней другой, цэрэги и баргэды всех рангов были подняты по тревоге. Приказ требовал изловить илбэча и доставить его в совет старейшин. Энжин этого не знал, но многолетняя привычка заставила его затихнуть и постараться стать незаметным.
Через неделю вышло официальное распоряжение – илбэч должен объявиться. Оно заставило Энжина ещё ниже пригнуть голову. Он уже раскаивался в сделанном и не понимал, как ему удалось такое. Сомневался даже, было ли это с ним в действительности. Верил в былое, лишь когда, проснувшись среди ночи, понимал, что Сай тоже не спит, а забившись в угол палатки, обхватив колени руками и прижавшись к ним подбородком, беззвучно цедит сквозь сжатые зубы проклятия умершей сопернице. Подобные сцены вызывали тягостное чувство неуместности. Вины перед Сай Энжин больше не испытывал, ненависти – тоже.
Что касается остальной жизни, то она изменилась лишь к худшему. Появился новый район, часть людей с обжитых оройхонов власти отправили туда, и остальным пришлось больше работать. А легче не стало – так же они вставали по хриплому сигналу трубача, съедали ту же миску каши, шли на ту же работу. Так зачем было всё? И было ли?
Прошёл год, увенчанный безрадостным мягмаром, потом второй, третий… В бороду, которую он бросил брить, вплелись белые нити, давно не снилось по ночам пламя, не тревожило слово «илбэч», и лишь видение далайна и запрокинутое лицо Атай преследовали его. Но он по-прежнему был на хорошем счету у баргэда, и когда ему исполнилось три с половиной дюжины лет, его произвели в охраняющие. Это означало, что теперь он будет не просто стоять с палкой на краю мокрого оройхона, а нести службу на границе. Длинные полосы мёртвых оройхонов отделяли древнюю землю старейшин от более новых земель – государства вана и страны добрых братьев. Порядка в тех краях было куда меньше, но зато илбэчи в те эпохи, когда они появлялись, чувствовали там себя вольготней, и потому сопредельные страны были обширней и сильней воинской силой. Впрочем, нападать через мёртвые земли, где пяток цэрэгов мог сдерживать целую армию, было делом безумным, и потому пограничные гарнизоны оказывались невелики и состояли в основном из стрелков при ухэрах. Но теперь, пока власти не забыли ночного потрясения и не могли быть уверены, что илбэч не прячется где-то, пытаясь бежать к противнику, караулы были усилены за счёт немолодых и многократно проверенных служителей. Оказался среди них и Энжин.
Второй раз в жизни он увидел далайн. Далайн не изменился, да и не мог измениться за прошедшие годы. Так же сгущался над ним туман, так же двигались ленивые бугры, размазывались о берег, с небрежной щедростью убивая своих же обитателей. Далайн был вечен и не помнил ничего. Но зато помнил, вернее, заново вспомнил Энжин. В первую же ночь он сбежал, ушёл по полосе пограничных оройхонов, не гадая, сможет ли дойти и как встретит его земля вана. О Сай он, уходя, не думал, да и потом не вспоминал. Любовь, когда-то связывавшая их, давно умерла. Любовь вообще плохо уживается с непримиримостью и ложью. Всё остальное ей дозволено.
Идти в темноте по мёртвым оройхонам оказалось невозможно. Утро полуживой Энжин встретил на краю далайна. Близкие авары душили низко стелющимся лиловым дымом, мокрая губка не спасала от ядовитых миазмов, да и вода у Энжина кончалась. Он знал, что надо, пока ноги послушны, уходить отсюда, но сильнее жажды жить в воспалённом мозгу засели две мысли: вот он, далайн, и рядом нет никого, кто мог бы помешать свести с ним счёты; и другая, более страшная – а вдруг всё, что было тогда, много лет назад, лишь привиделось ему и теперь он никто и ничего не может?
И тогда полуживой и полубезумный человек вместо того, чтобы бежать сломя голову, качнулся к далайну, поднял руки, шепча проклятия, словно Сай в ночные часы, и начал творить оройхон. Этот оройхон – нелепый и бесполезный квадрат суши торчит ровно на полпути между землёй старейшин и страной вана. Там никто не живёт, потому что выжить там невозможно, но всё же теперь пройти с одного берега на другой стало проще. В тех редких случаях, когда старейшины соглашаются в обмен на жемчуг и сухой харвах продать вану искристый кремень, баргэды встречаются здесь с посланцами вана. Поэтому необитаемый оройхон называется Торговым.
Всё это происходило потом, а пока безумный илбэч окончил работу и, даже не ступив на новый оройхон, впервые за много лет засмеялся и пошёл дальше.
С другой стороны проход охранялся не так строго, ведь здесь не ловили таинственно исчезнувшего илбэча, поэтому Энжин сумел пробраться мимо поста, где скучали доблестные цэрэги, и войти на землю вана.
Он быстро увидел разницу между двумя странами. Земля была чудовищно перенаселена. Когда Энжин попытался войти на сухой оройхон и напиться воды, его жестоко избили и вышвырнули обратно. Пришлось привыкать к чавге, которую прежде он ел только во время торжественных богослужений. Одно дело – вкушать кисловатый, чуть пованивающий нойтом комочек раз в месяц под пение собравшихся вокруг суурь-тэсэга служителей, совсем другое – питаться чавгой постоянно.
Избитый, брошенный в нойт Энжин выжил чудом. Его подобрали изгои – три изуродованные и неясно почему ещё дышащие женщины. Спасительницы немедленно и дружно объявили себя законными супругами Энжина. Очевидно, и здесь, где само существование было понятием относительным, устойчивое семейное положение что-то значило.
Сопровождаемый самозваными жёнами, Энжин обошёл всё побережье страны вана. Мокрые оройхоны были единственным местом, где можно было передвигаться. По поребрикам между сухими оройхонами были проложены ровные тропы, существовали и дорожки внутри оройхонов, но ходить по ним, если ты не цэрэг, было рискованно. На полях работали не безразличные ко всему на свете служители, гнущие спину за миску каши, а хозяева, готовые перервать горло всякому, посягнувшему на их сокровище. Впрочем, из-за невероятной скученности далеко не все земледельцы могли позволить себе даже ту нищенскую жизнь, которой наслаждались рабы Ёроол-Гуя в земле старейшин.
Новая семья Энжина так и осталась образованием чисто экономическим. Ни о какой душевной или физической близости жёны и не помышляли, просто вместе было легче выжить. Женщины копали чавгу, скребли харвах, по возможности подворовывали на сухих оройхонах, Энжин с редкостным безразличием к опасности разгребал завалы зверья на самом краю оройхона, добывал кожу, липкую чешую, морской волос, рыбью кость – всё, что обычно достаётся людям лишь во время мягмара. Ведь, кроме Ёроол-Гуя, грозящего всему оройхону, существует ещё и уулгуй, опустошающий прибрежную кромку и встречающийся куда чаще своего старшего брата.
Энжину справили многослойные буйи и широкополый, с длинными рукавами и глухим воротом жанч – единственную одежду, в которой можно более или менее безопасно работать на мокром оройхоне. «Приоделись» и жёны. Странный, противоестественный союз, почему-то называвшийся семьёй, начинал оправдывать своё существование. Постепенно Энжин научился многим премудростям нечеловеческого житья. Он узнал, как правильно выбирать место для ночлега и расстилать кожу, заменяющую постель, чтобы не залило ночью нойтом. Он мог вымыться соком одной чавги, а оставшейся в кулаке выжимкой исхитрялся ещё и почистить жанч. Научился ценить жирха и привык есть его сырым. Главным в этом искусстве было как можно быстрее глотать куски, а потом сдержать отрыжку – иначе могло стошнить даже самого бывалого едока.
Жители сухих оройхонов тоже промышляли чавгой и харвахом, поэтому долго задерживаться на одном месте не удавалось. Энжин со своими женщинами постепенно откочёвывал всё дальше на запад, пока не достиг края земли. Здесь он снова увидел мёртвые болота. Тут было два таких оройхона, дымивших на всю округу и избегаемых даже изгоями.
Энжин бесшабашно направился прямо к границе, рассудив, что поблизости от неё прибрежные завалы всего богаче, но не подумав, как он будет работать там, где впору только не умереть. Виденное лишь однажды, но насмерть врезавшееся в память зрелище пробудило в душе и остальное, что Энжин предпочитал не вспоминать, опасаясь за рассудок и не замечая, что в том и состоит уже много лет его тихое помешательство. Но сейчас ядовитый дым, одурманивший голову, снял запрет, горящие поблизости авары помогли превратиться в пламя, и Энжин, забыв, зачем он сюда пришёл, за два часа сотворил свой первый оройхон в стране вана.
Когда едва дышащий Энжин вернулся к тому месту, где стояла лагерем семья, его встретил невиданный переполох. Немудрящий скарб был увязан, словно женщины приготовились к немедленному бегству и ожидали только появления Энжина. Однако впервые среди жён не оказалось согласия. Наминай требовала идти на восток, где образовалась сухая приграничная полоса – захватывать удачное место. Глуповатая Эрхаай полагала, что следует спешить к новому оройхону, который, конечно же, в ближайшие дни станет сухим. Что касается Курингай, то она хотела бежать как можно скорее и от сухой полосы, где, несомненно, начнётся всеобщая драка, и вообще из этих мест. Энжин, как обычно, своего мнения не имел и никак не решил спора, готового перейти в потасовку. Жёны напрасно взывали к главе семьи, он сидел безразличный или начинал говорить на темы, никак не связанные с предстоящим решением. Лишь когда он случайно упомянул, что разбуженный Ёроол-Гуй, несомненно, вот-вот будет здесь, споры прекратились, и все поспешили на подаренную провидением сухую полосу.
Там по-прежнему курился дым, горела на аварах густая слизь, и громоздились возле бывшего побережья кучи тлеющей мерзости. Но уже не так остро бил в ноздри запах, и было ясно, что ещё день-два – всё лишнее выгорит и на высохшей земле можно будет ставить палатку.
Женщины выбрали для жилья место как можно дальше от новой границы, совсем недалеко от сухих оройхонов и приготовились защищать свои владения от всех чужаков, какие только могли появиться. Энжин продолжал пребывать в прострации. На самом деле в нем шла мучительная работа. Он осознал наконец свой дар илбэча и теперь раздумывал, перебирая один вариант за другим, как, не погубив самого себя, помочь остальным людям. В испорченном рассудке крепко засела мысль: сухой оройхон – это плохо. Его заберут цэрэги и баргэды, а всем остальным достанется лишь больше работы. Безумный илбэч решил строить вдоль границы двойной ряд оройхонов – один мокрый, где смогут кормиться изгои, другой – с огненными аварами и сухой полосой, где они смогут жить.
Оскорблённый Ёроол-Гуй бесчинствовал на побережье, но всё же через день Энжин, не сказав ни слова своим подругам, отправился к далайну и выстроил ещё один оройхон, нарастив вдаль мёртвую полосу.
С поднятыми руками и пылающим взглядом Энжин готовился ступить на новый оройхон, когда поверхность влаги взорвалась изнутри бешеным водоворотом, и Ёроол-Гуй рухнул на приграничный оройхон, отрезав Энжину путь к отступлению. Случись это несколько дней назад, Энжин, наверно, умер бы от страха, но сейчас он, словно легендарный Ван, погрозил кулаком корчащемуся на аварах чудовищу и пошёл вдоль границы туда, где, не закрытая аварами, высилась стена Тэнгэра.
Щупальца Ёроол-Гуя, коснувшись огня, шипели и обугливались, но на смену им из бугристого тела вырастали новые. По туше проходила дрожь, напоминавшая биение мягмара, потоки мертвящей влаги, липкого нойта и голубой, словно жемчуг, крови текли по камням, гигантское облако дыма затянуло окрестности, достигнув сухих оройхонов, так что недавно назначенный одонтом благородный Хоргоон принуждён был запереться в алдан-шаваре и в течение недели не показываться наверху.
И всё же сгорающий заживо и тут же заново рождающийся Ёроол-Гуй не желал уходить с аваров. Возможно, он чувствовал, что отрезал илбэча на мёртвой полосе, и ждал, когда тот задохнётся в чаду. Так и должно было случиться – у Энжина не было с собой ни губки, ни воды, ни тем более сока и смолы туйвана, но у него не было также чувства опасности и рассудка – в привычном понимании этого слова. Энжин продолжал строить, и это спасло его. Следующий оройхон полыхнул ему в лицо жаром, но, хотя это была мёртвая земля, дыма и отравленного смрада здесь не было, ведь нойт ещё не успел образоваться и наползти на авары. Лишь сзади его нагоняло смертоносное марево, и Энжин побежал дальше.
Три дня бесчувственный Ёроол-Гуй не сходил с костра, который сложил для себя сам, но затем, верно, и его сила начала сдавать. Многорукий сполз в далайн и исчез. За эти три дня Энжин поставил вдоль границы четыре оройхона, создав ту дорогу смерти, что через год так поразила бродягу Хулгала. Возможно, он продолжал бы строить ещё, уходя всё дальше в неизвестность, но он просто не смог дольше быть без воды в соседстве с жаркими аварами. Единственную бывшую у него чавгу он высосал на второй день, а потом лишь жевал оставшийся во рту волокнистый комочек.
На третий день сдавшийся Энжин побрёл через дым назад и нашёл путь свободным.
Оказавшись на привычно мокром оройхоне, Энжин первым делом принялся копать чавгу. Если бы ему попалось нетронутое место, он опился бы сока и получил удар, но удачи не было, и Энжин остался жив. Отдышавшись, он пошёл к сухой полосе, где его должны были ждать жёны. Но уже на полпути он встретил Эрхаай. Она выползла из зарослей хохиура, тараща круглые бесцветные глазки, и испуганно окликнула Энжина:
– Не ходи туда. Там цэрэги!
Энжин мгновенно нырнул в хохиур и, присев на корточки рядом с Эрхаай, спросил:
– Где остальные?
– Наминай закололи цэрэги, а Курингай убежала, но её тоже поймали и закололи. Это всё Наминай сделала. Цэрэги хотели нас только выгнать, а Наминай стала кричать, что это наша земля, что мы сюда первыми пришли, и тогда они проткнули её копьём.
– Надо посмотреть, что там, – сказал Энжин. – Вряд ли это облава. К тому же там остались наши вещи.
Он, пригнувшись и прячась за тэсэгами, начал подкрадываться к поребрику. Эрхаай засопела недовольно, но поползла следом. Облавы и в самом деле не было. Несколько цэрэгов сидели среди раскиданного скарба, грызли сушёный наыс и лениво переговаривались.
– Не понимаю, – сказал один, – зачем одонту понадобилась сухая полоса? Проку с неё никакого…
– Зато на ней удобно держать границу, – заметил цэрэг постарше.
– Здесь же нет границы, – удивился молодой. – Там вообще ничего нет…
– Мало ли что нет, а границу держать надо, – возразил старый служака.
– Ничего вы не понимаете, – лениво сказал дюженник, сидящий на скатанной коже. – Ведь тут где-то бродит илбэч. Завтра ещё подойдут наши, и начнём облаву. Учтите, одонт запретил убивать бродяг – илбэча надо взять живым. Ясно? Чтоб эти бабы были последними!
– А вдруг баба и была илбэчем? – предположил кто-то.
– Скажешь тоже!.. – возразили ему. – Так не бывает. Илбэч – всегда мужчина.
– В законе об этом ничего не сказано, – разъяснил дюженник, – поэтому брать будем всех.
– Интересно, – вновь начал первый, – что одонт будет делать с илбэчем? Ну, поймаем мы его, так он же умрёт сразу…
– Это не наше дело. Может, и не сразу помрёт, так его заставят строить. Если хоть один сухой оройхон поставит, так это для нашего Хоргоона уже великое дело будет. Провинция маленькая, сам понимаешь.
– А вдруг илбэч тем временем сбежит? Ищи его потом по всей стране…
– Не сбежит. На мокром караулы поставлены. Туда дюжина Ёмсога ушла. А через сухое какой же дурак побежит? Мужики любого бродягу насмерть затопчут.
Дальше Энжин слушать не стал. Он, пятясь, пополз назад, пока не натолкнулся на тихо пискнувшую Эрхаай. Приказав ей сидеть молча, Энжин стал ждать ночи. В темноте они проползли мимо цэрэгов и ушли на сухое, умудрившись даже прихватить кое-что из своего добра.
Идти по сухим оройхонам действительно казалось самоубийственным предприятием, но Энжин нашёл блестящий выход. Они с Эрхаай взвалили на плечи корзины с вещами, присыпали их сверху собранным накануне харвахом и, не скрываясь, двинулись по иссохшей полосе вдоль аваров. Здесь не встречались караулы, а главное, здесь нечего воровать, и потому никто не смотрел на встречных с подозрением. За один день они прошли насквозь всю страну и на следующую ночь выбрались на побережье неподалёку от границы с государством старейшин. Меньше всего Энжин хотел бы возвращаться туда, и двое бродяг бесцельно заметались по стране, превратившейся в огромную ловушку.
В воспалённом, хоть и не потерявшем сообразительности мозгу Энжина прочно перемешались ненависть к далайну с тяжёлым недоброжелательством ко всем, кто живёт на сухом. Только изгои, с которыми ему нечего было делить, кроме изорванной кожи на постель и куска жирха, казались безумному илбэчу достойными жалости. На побережье Энжин поставил отдельный, уступом выдающийся в далайн оройхон и поспешно, не задержавшись ни на час, двинулся на запад, где уже поняли, что илбэча им не поймать, и, вероятно, сняли караулы.
Появившись там, Энжин построил оройхон, продливший сухую полосу, но уже не пытался на ней поселиться, а вновь сбежал. Эрхаай уговаривала его остаться, убеждая, что илбэч, несомненно, выстроит что-нибудь ещё и тогда они заживут на славу, но Энжин не стал её слушать, и они расстались. У Эрхаай достало разума понять, что названый супруг окончательно свихнулся и не желает ни искать лучшей земли, ни добывать кость и кожу, а значит, кормить его не стоит.
Энжин шёл на восток. Навстречу ему двигался необычайно умножившийся поток бродяг. По стране разнеслись фантастически преувеличенные вести о новых землях, и многие люди, бросив скудный быт, кинулись за счастьем. Ошпаренный Ёроол-Гуй свирепствовал небывало, но бродяг меньше не становилось. Постепенно они стянулись к созданной Энжином сухой полосе – единственному месту, где можно было жить. Полоса оказалась перенаселённой сильнее, чем сухие оройхоны, пребывающие под властью вана. Началась резня. Власти не торопились прекращать её, ожидая, что вышедшие из повиновения изгои истребят себя сами. Но быстрей и надёжней любых карательных мер прекратило распри известие, что совсем неподалёку выросли разом два оройхона, а если появится третий, то в стране будут новые сухие земли. Толпы ринулись туда по краю далайна или прямиком через сухие края. А молва уже сообщала о новых оройхонах, возникших в другой части страны.
Два года Энжин играл в прятки со всем миром. В первые месяцы, кроме чудовищной дороги смерти, он выстроил дюжину и четыре оройхона, но раскидал их так, что они могли служить прибежищем изгоям и больше ни для чего. Лишь самый первый оройхон, у которого образовалась сухая полоса, представлял какую-то ценность. Впрочем, на эту полосу одонт Хоргоон войска вводить не стал, рассудив, что так ему никаких двойных дюжин не хватит. Там сложилась своеобразная республика, называемая повсюду «Свободным оройхоном». Не стали власти преследовать бродяг и на новых землях. Слишком велика стала длина побережья, изрезан берег. Постепенно бродяг становилось меньше – набеги Ёроол-Гуя, жизнь на мокром, стычки с земледельцами и цэрэгами делали своё дело. Армии бродяг больше не существовало, уцелевшие превратились в обычных изгоев. Где-то среди них прятался и Энжин, прекративший всякую работу и успешно изображающий бандита. Он понимал, что если товарищи по несчастью проведают, что он и есть илбэч, наделавший столько переполоха, он не проживёт и получаса из отпущенных ему Ёроол-Гуем суток. Поэтому Энжин со скучающим лицом слушал размышления остальных бедолаг, куда бы мог запропаститься илбэч, а если кто-нибудь спрашивал его мнение, нарочито зло отвечал:
– А ну его к Ёроол-Гую! Пропал – и хорошо. Спокойнее жить.
На самом деле в сердце озлившегося на весь свет илбэча созрел новый план. Он решил бежать ото всех, выстроить сухой оройхон лично для себя и жить там одному. Надо было лишь дождаться, пока людям наскучит искать новые земли, и тогда уйти по мёртвой полосе и там, если удастся, начать жизнь заново. Поэтому и затаился вдруг безумный строитель и долгих два года бродил по побережью, ел тухлую чавгу и ждал. Лишь когда затихли последние слухи и никто уже не надеялся на чудеса, Энжин отправился в путь. На плече он привычно нёс корзину с сырым харвахом, позволявшую ему ходить, не вызывая излишних подозрений. К тому же и цэрэги, если в эти места занесёт отряд, гораздо мягче отнесутся к мирному сборщику харваха, чем к простому бродяге. Ведь должен же кто-то собирать для них в этих местах огненное зелье.
Незадолго до вечера Энжин добрался к Свободному оройхону. Шёл, вспоминая, что его карьера в землях вана началась именно здесь, этот оройхон был построен первым. А теперь ему не позволят остаться тут лишней минуты. Пройти мимо – ещё куда ни шло, но только не трогать чавги, не подходить к шавару, не глядеть на хохиур. Здесь всё было общее, но ничто не доставалось чужакам. И Энжин шёл по поребрику между оройхоном и сухой полосой, тактично не глядя по сторонам.
– Мышка, мышка, засоси! – услышал он детский голос.
Мальчуган от силы лет трёх, очевидно, сбежавший из-под присмотра, влез в глубокую лужу и сосредоточенно топтался на месте, глядя, как замешенная на нойте жижа затягивает его буйи. На чумазой физиономии сияло блаженство, вызванное запрещённой и потому особенно притягательной игрой. Нойт поднялся ему выше колен, но игрок не замечал, что сам уже не сможет вырваться из объятий цепкой мышки, и радостно продолжал увязать всё глубже.
– Эге! – сказал Энжин. – Да так ты вовсе утонешь. Ну-ка, герой, вылезай!
Он шагнул в грязь и, ухватив пацана, выдернул его из жадно чмокнувшей ямины. Мальчуган обиженно заверещал.
– Бутач, ты опять за своё?.. – На поребрик с сухой стороны выбежала молодая женщина. Она приняла орущее сокровище из рук Энжина, начала сбивчиво благодарить его.
– Ладно… – отвечал Энжин. – Мне это ничего не стоило, я и так с ног до головы в грязи.
Но женщина уже подхватила корзину и повела Энжина на сухую сторону к большой палатке, стоящей рядом с поребриком.
– Вы обязательно поедите с нами, – говорила она, – и переночуете. А иначе вам негде будет. Вы знаете, этот неслух проворней тукки, уследить за ним невозможно. Один раз он уже чуть не утонул в нойте – и лезет снова. Просто не знаю, как и быть.
Энжин сидел, слушал болтовню женщины, продолжавшей что-то ловко делать по хозяйству. Ему казалось, что он попал домой и больше никуда не надо идти.
В волосах женщины матово сияли драгоценные украшения: сделанные в виде полумесяцев заколки из кости бледного уулгуя. И Энжин подумал, что надо быть не только очень богатым, но и очень уверенным в себе человеком, чтобы позволить жене носить такую роскошь среди бела дня. Бледный уулгуй был редчайшим зверем, добыть его казалось просто невозможно. В отличие от чёрного бледный уулгуй был невелик, жил не в далайне, а в шаваре, в нижнем ярусе, полностью залитом нойтом, близко к выходу никогда не показывался, даже во время мягмара. И, уж конечно, Энжин и не слыхивал, чтобы кто-нибудь мог справиться с бледным уулгуем в одиночку. Бляшки со щупалец зверя шли на женские украшения, хотя не у всякого одонта любимая жена могла расшить талх радужными костяными кружочками. А вместо коронного обруча в теле малого уулгуя находили два белых полумесяца. Их-то и увидел илбэч в волосах собеседницы.
Через несколько минут появился отец маленького Бутача. Он шагал, громко напевая, и волочил за усы убитого парха.
– У нас гости?! – дружелюбно воскликнул он, увидев сидящего возле палатки Энжина. – Я рад вам.
Энжин встал и неловко поклонился.
– Бутач опять влез в яму, – сказала женщина, – а этот человек его вытащил.
– Спасибо, старик, – сказал охотник.
Впервые Энжин услышал это обращение и вдруг подумал, что он действительно годится в отцы и этому охотнику в посечённом, но прочном панцире, которому позавидовал бы любой цэрэг, и прекрасной матери упрямого Бутача, немедленно забывшего все обиды при виде парха. И потом в одиноких разговорах с самим собой Энжин называл себя таким именем.
От аваров, неся большое блюдо с лепешками, подошла вторая жена охотника. Она была совсем молодой и удивительно напоминала Атай. А может быть, это лишь показалось Энжину оттого, что женщина была в положении. У неё был отрешённый взгляд, словно она прислушивалась к тому, как растёт в её теле будущий ребёнок. Жёны из благополучных семей, ожидая ребёнка, носили на нитке жемчужину. Этот знак говорил, что мать берёт слёзы будущего ребёнка себе, оставляя ему лишь радости. У этой женщины на шее искрилось целое ожерелье из редчайшего голубого жемчуга.
Перехватив взгляд Энжина, охотник сказал:
– Драгоценности хороши, только когда они украшают женщин. У вана, конечно, больше редкостей, но кто их видит? Я добыл эти игрушки, и пусть в них играют те, кого я люблю.
На ужин были лепёшки с соком туйвана – вещь невиданная на мокрых оройхонах. И уж тем более Энжин не ожидал, что его будут угощать подобными яствами. Однако его усадили ужинать, а на все благодарности охотник отвечал:
– Горячего не жалко, если рядом авар. Будем жить, пока живётся.
– У вас счастливая семья, – сказал Энжин. – Я обошёл много оройхонов, но такой не видал и не думал, что возможно подобное счастье. Я говорю не о лепёшках – их едят многие, хотя никто не делится со случайным прохожим. Я говорю о радости.
– Ты прав, – произнесла женщина с голубым ожерельем, и впервые её взгляд, обращённый внутрь, осветил Энжина. – Сегодня мы едим сладкую кашу, завтра, возможно, будем рады чавге, но если кашу не съесть сегодня, завтра она протухнет. Так стоит ли её жалеть? А радость должна быть всегда.
Наутро Энжин отправился дальше. Его путь лежал через мёртвые земли на край мира, где он хотел выстроить себе дом, чтобы жить там одному, не видя никого… кроме этой семьи. И пробираясь через ядовитый, заволакивающий разум дым, и корчась в муках строительства, илбэч представлял, как он приведёт в чистые и сухие края широкоплечего охотника с серыми глазами, двух нездешне прекрасных женщин, маленького упрямца Бутача и того, ещё не родившегося малыша, которого ждёт женщина с лазоревыми жемчугами…
* * *
Шооран, замерев, слушал рассказ старика. Оба они потеряли счёт времени, не замечая, что сквозь потолочные отверстия пробирается жёлтый утренний свет.
– Я оказался, в который раз, трусом, – тяжело говорил старик. – Я никого не привёл, потому что понял: такой человек не станет скрывать тайну и радоваться ей в одиночку. Каждый месяц, собрав урожай, я хотел идти за ними, но оказался храбр лишь в мечтах. Я прособирался десять лет.
Старик замолчал и, вернувшись из прошлого, взглянул на Шоорана. Мальчик сидел неподвижно, между застывших пальцев изгибалась синяя жемчужная нить. Почувствовав взгляд старика, Шооран поднял голову и произнёс:
– Это мамино ожерелье.
– Ты пришёл сам, – сказал старик. – Спасибо тебе. И прости меня за всё, что я не сделал.
Старик встал, повернулся к окну.
– Вот и утро, – сказал он. – Если верить Ёроол-Гую, то до вечера я не доживу, а у меня ещё немало дел. Всё-таки я илбэч и обязан строить, даже если это покажется кому-то бессмысленным. Я должен продлить мёртвую полосу в глубь далайна. Это не ради Тэнгэра и его стены, не думай. Возможно, когда-нибудь ты поймёшь, почему я пошёл именно туда, хотя лучше, чтобы ты этого так и не понял. Если я не вернусь, то всё здесь твоё. Особенно береги это. – Старик выдвинул из-под кровати сундучок и достал тонко выделанный кусок кожи. – Смотри, это карта мира. Вот далайн, а это оройхоны. Я не уверен, правильно ли здесь изображена страна добрых братьев, но это и не очень важно. Главное, что далайн вовсе не так велик, как кажется, когда стоишь на побережье. Илбэчи прошлых времён постарались на славу, а ведь их было всего четыре или пять человек! Остальные после первого же оройхона были схвачены Многоруким или растерзаны благодарной толпой. Но чаще всего илбэч рождался, жил и умирал, даже не догадываясь о своём даре, а может быть, и не увидев далайна ни разу в жизни. Это неправда, что илбэч рождается редко. Не было ни одного дня, ни одной минуты, чтобы где-то не жил илбэч. Просто он сам не знает, кто он. Поэтому я и рассказал тебе это, чтобы ты… чтобы люди знали. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и всё зря.
Старик достал буйи и кисло пахнущий жанч, переоделся. Шооран, забившись в угол, следил за ним. Потом попросил:
– Не надо уходить.
– Я илбэч, – ответил старик. – Я должен. Я боюсь умереть в постели, потому что мне кажется, что тогда огонь достанется случайному, ничего не знающему человеку. А я хотел бы отдать его тебе, хотя ты и проклянёшь меня за это. Не знаю только – возможно ли такое. И ещё. Два-три месяца не выходи на мокрое. Многорукий будет наведываться сюда часто.
Старик ушёл. Шооран хотел бежать за ним следом, но, подчинившись уже не словам, а взгляду, остался на пороге алдан-шавара. День он просидел, ожидая, что старик вернётся, но потом услышал, как вдали мучительно всхлипнул далайн, и понял, что опять остался один.
* * *
Сказители говорят, что, сотворив небесный туман и воду, далайн и оройхоны, мудрый Тэнгэр начал населять их большими и малыми зверями. Тэнгэр хранил зверей в наплечной сумке и теперь принялся доставать их по одному и определять каждому место и срок жизни.
Первым Тэнгэр достал мелкого зогга. И сказал:
– Ты будешь жить в норке в стене шавара, а срок твоей жизни составит одну неделю.
– Спасибо, щедрый Тэнгэр, – прошелестел зогг, – что после тесной сумки ты даришь мне огромный мир и жизнь, достойную его. Я успею заткать паутиной норку, и оставить детей, и вонзить жало в тело врага. Что ещё можно просить от жизни?
Затем Тэнгэр вытащил безногую тайзу и сказал ей:
– Ты будешь жить в закоулке шавара, а срок твоей жизни – один месяц.
– Спасибо, щедрый Тэнгэр, – пропищала тайза, – что после тесной сумки ты даришь мне огромный мир и жизнь, достойную его. Я успею исползать весь закоулок, оставить детей и проглотить мелкого зогга. Что ещё можно просить от жизни?
Тэнгэр добыл из сумки тукку и сказал:
– Ты будешь жить в шаваре, в верхнем его ярусе, а срок твоей жизни – один год.
– Спасибо, щедрый Тэнгэр, – хрюкнула тукка, – что после тесной сумки ты даришь мне огромный мир и жизнь, достойную его. Я успею обегать все ходы и коридоры, родить детей и вдоволь наесться вкусной чавги. Что ещё можно просить от жизни?
Тэнгэр раскрыл суму, извлёк оттуда гвааранза и сказал ему:
– Ты будешь жить по всему шавару, наверху и внизу, где прячется бледный уулгуй. А срок твоей жизни – дюжина лет.
– Спасибо, щедрый Тэнгэр, – проскрипел гвааранз, – что после тесной сумки ты даришь мне огромный мир и жизнь, достойную его. Я успею обойти шавар, успею оставить детей и навести ужас на всех, кто живёт в шаваре. Что ещё можно просить от жизни?
Последним Тэнгэр достал человека и сказал ему:
– Ты будешь жить на оройхонах, на тех, что поставил я, и тех, что возникнут позже. А срок твоей жизни останется для тебя скрыт, потому что иначе ты не сможешь думать о вечном.
Человек засмеялся и сказал:
– Спасибо тебе, щедрый Тэнгэр. Не так это много – пять оройхонов, любой из которых можно обойти за полчаса, но я постараюсь, чтобы мой мир вырос и стал достоин срока моей жизни, потому что умирать я не собираюсь. Я хочу жить вечно, и значит, весь большой далайн будет моим.
Кончив населять мир, Тэнгэр вернулся на алдан-тэсэг. Он взглянул сверху на маленький далайн, вспомнил, что сказали ему звери и человек, и впервые подумал, что вечность, возможно, вовсе не так велика, как это ему казалось.
Глава 3
Шооран остался один.
Сначала он жил в каком-то оцепенении – с исчезновением старого илбэча вдруг пришло запоздалое осознание смерти мамы. До этого Шооран продолжал разговаривать с ней словно с живой, сообщать о своих делах, рассказывать, чем они со стариком сегодня занимались и что интересного он отыскал в алдан-шаваре. Теперь он понял, что всё зря – мама не слышит. И старик бросил его, уйдя навстречу проклятию Ёроол-Гуя.
Неделю Шооран питался опавшими плодами туйвана, росшего неподалёку от входа в алдан-шавар, но под конец приторно-сладкие душистые плоды опротивели ему, и Шооран понемногу начал заниматься хозяйством. Он вовремя убрал хлеб и с удовлетворением наблюдал, как над щёткой жнивья дружно пошли в рост свежие побеги. После нескольких неудачных проб научился готовить кашу и печь на гладком боку авара лепёшки. Гораздо хуже обстояло дело с мясом. Все старые запасы были съедены или испортились, и, значит, нужно идти к ручью – колоть бовэра. С этой, казалось бы, простой работой Шооран не справился. У старика всё выходило легко: он выбирал бовэра, наставлял ему под лопатку остриё гарпуна, резко наваливался на древко, и бовэр покорно тыркался жующей мордой в землю. Однако у Шоорана не достало силы вонзить гарпун достаточно глубоко. Бовэр, издав резкий, скрежещущий звук, сбил Шоорана с ног и принялся метаться по ручью, баламутя окрашенную кровью воду и пугая своих братьев. Гарпун криво торчал из широкой спины.
На следующий день бовэр издох, но и теперь Шооран не смог вытащить его на берег и потрошил прямо в ручье, окончательно испортив воду. Охоты к мясу Шооран не потерял, но с тех пор старался выбирать зверя поменьше и обязательно в низовьях ручья, чтобы кровавый поток не растекался по всему оройхону.
Чтобы чем-то занять себя, Шооран принялся всерьёз изучать алдан-шавар. Он излазал его до последнего закоулка и мог с закрытыми глазами пройти в любое место. Во всём алдан-шаваре не сыскать было двух одинаковых ходов. Иногда, чтобы попасть из одной камеры в другую, расположенную совсем рядом, приходилось давать крюка через весь оройхон да ещё и спускаться в нижний ярус. Встречались и потайные ходы, начало которых было расположено в самых тёмных закоулках, замаскированных выступами стен. Шооран коллекционировал такие секреты, которые, впрочем, было не от кого хранить. Но всё же приятно представить, как, спасаясь от погони, он неожиданно исчезает в стене или, напротив, появляется перед опешившим противником там, где его вовсе не ждут. Жемчужинами коллекции были «дорога тукки» и «беглый камень». Ходом, или «дорогой тукки», назывался потайной лаз, который начинался и кончался под потолком, так что заметить его не удавалось даже при свете. В центре хода имелся узкий выход на склон одного из суурь-тэсэгов. Выход Шооран заложил большим ноздреватым валуном и присыпал листьями растущего неподалёку туйвана. «Беглым камнем» Шооран нарёк обломок скалы, закрывавший прямой проход между двумя суурь-тэсэгами. Если нажать на него посильнее, то он начинал качаться, открывая секунды на полторы щель достаточно широкую, чтобы в неё можно было проскользнуть.
Незадолго до мягмара, когда обмелели ручьи оройхона, Шооран попытался выяснить, куда девается вся эта масса воды. Но даже теперь узкие разломы, в которые уходила вода, оказались недоступны для него. Зато неожиданно Шооран нашёл вкус в купании и с тех пор часто проводил время в ручье рядом с бовэрами.
Год закончился, наступил мягмар – всеобщий день рождения и годовщина маминой гибели. Шоорану исполнилась дюжина – возраст совершеннолетия. Как будто прежде он не жил сам… Теперь он имеет право жениться… можно подумать, что это ему нужно или оройхон переполнен невестами, неустанно сохнущими по нему. В жизни Шоорана не изменилось ничего. Правда, в первый день мягмара он хотел идти к далайну, но обнаружил, что старый жанч и мамины буйи ему решительно не налезают – за год привольной жизни Шооран вытянулся и окреп. Пришлось брать одежду старика и его буйи. Но, даже собравшись как следует и вооружившись гарпуном, Шооран к далайну не вышел. Остановило воспоминание, как гонял его здесь год назад хищный парх. Шооран потоптался у поребрика и поплёлся назад пристыженный, так и не сумев переломить неведомый ему прежде страх.
Вернувшись домой, Шооран принялся разбирать вещи старика, в которые и так уже влез, подыскивая себе одежду. У старика было необычайно много всяческих нарядов – грубых и праздничных, для сухого и мокрого оройхонов. Нашлась даже кольчуга, сплетённая из живого волоса и усиленная костяными пластинами. Напротив сердца в кольчугу был ввязан прозрачный кусок выскобленной чешуи пучеглазого маараха, чтобы противнику казалось, будто грудь не защищена. Ничего подобного Шооран прежде не видал – очевидно, такие доспехи носили в земле старейшин. Вся одежда была велика Шоорану, а доспех так и вовсе делался на могучего цэрэга.
Сначала Шооран недоумевал, зачем старику столько добра, но потом представил десять бесконечно одиноких лет, которые надо чем-то заполнить, и больше не удивлялся. В конце концов, такое же ненужное изобилие встречалось и в кладовой с инструментами, и среди припасов. Старик сушил и прятал наыс и туйван, хотя в любую минуту мог набрать свежих, вялил мясо. А бурдюков с вином было не меньше трёх дюжин, словно готовился пир для целой армии.
Один из бурдюков Шооран поднял наверх и, удивляясь, почему не сделал этого раньше, нацедил большую чашу. Вино понравилось. Оно было почти не сладким, зато запах восхитил не избалованного ароматами Шоорана. Главное же, оно ничуть не походило на кислую пенящуюся брагу, которую как-то довелось попробовать Шоорану еще в землях вана. Тогда, после чашки браги, Шоорана долго мучила тухлая отрыжка, и он поспешно дал зарок никогда больше не пить хмельного. Но вино – совсем иное дело! Должно быть, его пьет сам Тэнгэр, когда, сидя на алдан-тэсэге, размышляет о долгой вечности.
Не ожидающий подвоха Шооран одну за другой осушил ещё две чаши, а потом коварный напиток бросился в голову. Очнулся Шооран на другой день под деревом на самом краю оройхона. Головная боль мучила невыносимо, и лишь кольчуга, напяленная поверх лёгкого жанча, позволила вспомнить события минувшего дня, а вернее, всего одну картину: как он в своём нелепом наряде мотается по краю оройхона, не осмеливаясь переступить поребрика, и орёт, что он новый илбэч и плевать хотел на весь далайн разом.
Мерзкое чувство похмелья и жгучий стыд помогли Шоорану осознать то, что он целый год скрывал от самого себя: не из-за парха и гвааранза не выходил он на мокрое – эти звери выползают на поверхность лишь раз в году, и не Ёроол-Гуй пугал его – в конце концов, стоя на поребрике, можно спастись и от Многорукого. Настоящий, глубокий ужас внушал далайн. Шооран боялся, что последние слова старого илбэча окажутся ошибкой, но ещё больший, хоть и неосознанный, страх вызывало предположение, что они истинны. Потому и жил целый год так, словно никто ему ничего не говорил и вообще никакого далайна на свете нет. Но теперь пришло понимание, и, сидя на прелой листве и трясясь от озноба, Шооран шептал непослушными губами:
– Я илбэч… Я новый илбэч…
А вдруг всё неправда? Может быть, старик в последнюю минуту передумал, и он остался таким же, как был… Или вообще дар илбэча неподвластен хозяину и переходит к кому попало, не считаясь ни с чьим желанием… Ну с чего он решил, будто стал илбэчем?
Шооран вскочил и, пересиливая страх и дурноту, побежал к далайну. Он увидел мечущиеся холмы волн, шипящую пену, насыпь разбитых тел вдоль побережья. Ну конечно, ведь сейчас мягмар, на далайне буря, и строить нельзя. Обрадованный отсрочкой, Шооран поспешил обратно в обжитой алдан-шавар, к привычным делам, подальше от неизвестности.
Отсрочка растянулась на три месяца. Всё время находились дела, не дававшие повторить поход к далайну. Каждый вечер Шооран стыдил себя и говорил, что завтра он непременно… но завтра снова занимался чем-нибудь другим. Должно быть, с такими же мыслями старик плёл кольчугу или сушил неимоверные запасы наыса, намереваясь затем сходить и привести на свой оройхон семью охотника. Наконец в один из вечеров Шооран попросту спрятал свою одежду, а у постели положил стариковы буйи и тяжёлый жанч, чтобы утром не было никакой отговорки, что, мол, заработался и не успел.
Очутившись на берегу, Шооран поднял руки, обратив их ладонями к стелющимся облакам, и неуверенно начал:
– Далайн, я ненавижу тебя, я не хочу, чтобы ты был…
Бугры влаги беспорядочно бродили по сонной поверхности, ничто не менялось ни вблизи, ни вдалеке. Далайн спал, ему не было дела до заклинаний беспомощного мальчишки. Со смешанным чувством облегчения и разочарования Шооран опустил руки.
Он не илбэч! Он может спокойно жить здесь, ничто в нём не изменилось. Ему не надо бояться людей, и Ёроол-Гую до него не больше дела, чем до любой твари на оройхоне. Страшное проклятие, прозвучавшее прежде сотворения мира, не имеет к нему никакого отношения! Он будет счастлив в жизни, долгой, безмятежной, скучной… Плечи Шоорана затряслись от рыданий, он отвернулся от далайна и, словно сдавшийся Ёроол-Гую Ван, пошёл назад, к прозрачным ручьям, туйванам, одиночеству.
Через несколько дней Шооран успокоился и зажил прежней жизнью, хотя временами его одолевали приступы беспричинной хандры. Зато его полностью оставил страх пред далайном, такой странный для человека, выросшего на мокром оройхоне. В случае нужды Шооран спокойно шёл к побережью, опасаясь Ёроол-Гуя и его младшего брата не больше, чем те заслуживали. А когда пришёл новый мягмар, то Шооран, натянув поверх жанча кольчугу – давняя встреча с пархом не забылась! – пошёл на заготовку кости, чтобы поправить износившийся инструмент. Жертв владыке далайна Шооран приносить не стал – уважения к Ёроол-Гую в нём заметно поубавилось. Зато устроил охоту и неожиданно легко загнал четырёх крупных тукк. Прославленное мясо тукки припахивало нойтом, раз попробовав, Шооран не стал его есть. Зато шкуры тщательно обработал и, припомнив давние мамины уроки, сшил себе пару башмаков – высоких, защищающих ногу до середины голени, непроницаемых для нойта и, как мечталось в детстве, с иглами, вправленными в носок и пятку. Башмаки получились великоваты, но Шооран не без оснований надеялся подрасти ещё, хотя уже сейчас богатырская кольчуга была ему впору, если надевать её поверх жанча.
Кольчуга и боевые башмаки навели Шоорана на мысль о ещё одном доспехе. Где-то в непроходимых землях лежал мёртвый уулгуй, вернее, то, что осталось от него за два года. Вряд ли до этого места слишком далеко. К тому же теперь он значительно сильнее, чем тогда, у него есть прекрасная одежда и сколько угодно смолы и сока туйвана, чтобы пропитать губку. А глаза можно защитить выскобленной чешуёй. В таком виде не страшно отправиться в путешествие хоть через все гиблые земли.
Потихоньку Шооран начал готовиться к экспедиции. При этом он резонно рассуждал, что царский обруч ему, конечно, не найти, а вот из многих тысяч дисков должно же уцелеть хоть несколько… Старался представить, как можно пустить костяные бляхи в дело, чем их скреплять, как вообще строить доспех, которого он ни разу не видал, ведь наверняка не у всякого одонта есть в сокровищнице подобная вещь. Но под этими внешними мыслями, словно нойт под присохшей корочкой, скрывались другие – о людях. Не о маме и не о старике – их можно было вспоминать открыто, а о тех, кого он оставил, уходя, и кто, возможно, до сих пор живёт на Свободном оройхоне и в стране вана. Шооран представлял, какие словечки отпустит по поводу его снаряжения старый Хулгал, как заохает соседка Саригай и сбегутся отовсюду её дети. Видел, как сгорающий от зависти, но не смеющий тронуть одетого словно цэрэг Шоорана Боройгал срывает дурное настроение на замордованных жёнах. Пытался догадаться, какие чувства испытает Мунаг. Пожалеет, наверно, что прогнал его. Короче, размышляя о доспехе из уулгуя, Шооран на самом деле тосковал о людях, хоть они и не стоили этой тоски. Но Шооран больше не мог жить в одиночестве. Ему исполнилась дюжина и один год, а это плохой возраст для отшельничества.
Наконец Шооран собрался в путь. В несколько минут он дошагал до мёртвой полосы и здесь остановился. Ему стало страшно, он понял, что не дойдёт. Слишком сильно въелся в память запах горящего нойта, он парализовал ноги. Шооран не мог заставить себя ступить в огненное болото. Дороги не было.
Тяжёлый бугор влаги разбился о берег, смыв часть старого завала и нагромоздив новый. Удушливый пар разъедал горло даже сквозь ароматическую губку. Жгло глаза. Не было дороги к людям, была лишь вечность, полная одиночества.
Шооран задрожал от тоски, негодования и бессилия.
– Пусти… – попросил он глухой далайн.
Далайн продолжал бесцельно колыхать густую влагу, будто Тэнгэр, впавший в младенчество и замесивший небывалую кашу-малашу.
– Пусти!.. – заорал Шооран, угрожающе замахнувшись на далайн.
Далайн пришёл в движение. Бугры влаги выросли и забегали, словно крик стегнул их. Явилась пена, следом за ней – твердь. Перед воспалённым взором Шоорана повторялось чудо творения, но старого илбэча не было рядом, всё вершилось по воле Шоорана. И Шооран – полумальчик-полумужчина, измученный одиночеством и раздавленный внезапно обретённой силой, – не выдержал. Он вздрогнул, попятился, заслонившись рукой, и тут же очнувшийся далайн смял не успевшую окаменеть постройку, ожившая влага взломала поверхность неродившейся земли, канули в глубину призраки суурь-тэсэгов.
Шооран бежал. Он спрятался на сухом оройхоне, заперся в алдан-шаваре и две недели не показывался оттуда. Лишь созревший урожай заставил его выйти на поверхность. Ни о каких доспехах Шооран больше не думал, случившееся отодвинуло вглубь даже тоску по людям. Постепенно страх угас. Теперь свою неудачу Шооран расценивал философски: знал – не получилось сегодня, получится в следующий раз. В конце концов, первая тукка у него тоже сбежала, а потом оказалось, что изловить тукку не так уж и сложно.
Однако следующего раза Шооран не торопил. Жил, словно ничего с ним не случилось, лишь вечерами доставал старикову карту и подолгу рассматривал её, водя пальцем по линии побережья и бормоча под нос. Пересчитал оройхоны – отдельно мокрые и сухие. Измерил далайн. Выходило, что в нём может поместиться ещё без малого пять двойных дюжин оройхонов. Никто из илбэчей прошлого так много не строил, даже великий Ван, как гласило предание, сумел поставить лишь три двойных дюжины новых островов. Отыскал Шооран на карте свой оройхон, а вооружившись тростинкой и чёрной краской, добытой из брюшка тайзы, обозначил ту землю, что поставил при нём старый илбэч. Успел ли старик сделать что-нибудь ещё, Шооран не знал, и на этом месте карта обрывалась.
Шооран решил выждать два месяца, прежде чем предпринимать вторую попытку, ведь именно этот срок называл старик, предупреждая о набегах Ёроол-Гуя. Но Многорукий так и не появился, и Шооран напрасно проводил время на верхушке суурь-тэсэга, ожидая чудовище, которое прежде видел лишь раз. Зато потом пришлось навёрстывать упущенное, приводя в порядок осыпавшееся поле. Как бы ни обстояли дела, Шооран привык есть хлеб и не собирался отказываться от него.
Урожай пропал, месяц Шооран прожил за счёт старых запасов, которые необходимо было восстановить, так что назначенный срок прошёл безрезультатно, а там уже и мягмар близился – дюжина второй в жизни Шоорана и третий со дня смерти мамы. Два месяца, как и следовало ожидать, превратились в полгода.
На второй день мягмара Шооран отправился к далайну. Ничего особого ему было не нужно, просто хотелось доказать себе самому, что выползшие из шавара хищники больше не страшны ему. И, как нарочно, снова встретил парха, возможно, того самого, что три года назад. Гигантский гвааранз был, конечно, сильнее и опаснее, но во время мягмара, попав на поверхность, терял агрессивность и лишь отбивался от наседавших охотников. Парх и на поверхности продолжал оставаться активным хищником. Но сейчас ему встретился не умирающий мальчик, а полный сил и отлично вооружённый юноша. У Шоорана был с собой гарпун и припасённый на тукку хлыст, которым он уже неплохо владел. Когда парх неожиданно прыгнул, Шооран встретил его ударом хлыста. Удар ничуть не повредил зверю, сражаясь в шаваре за самку, старый парх, случалось, часами хлестался с соперником. Тем более что этот враг оказался одноусым. Парх мгновенно, как привык во время свадебных дуэлей, заплёл усами хлыст, вырвал его из рук Шоорана и пополз вперёд, широко раздвинув серповидные жвалы. Но Шооран, потеряв хлыст, обежал недавно прыгнувшего и потому неповоротливого зверя и вогнал гарпун под топорщащуюся на спине чешую. Парх завертелся, беспорядочно хлеща усами. Шооран отпрыгнул в сторону и, укрывшись за тэсэгом, принялся кидать в раненого зверя камни. Потом, изловчившись, подхватил оставленный пархом хлыст, с третьего удара захлестнул гибким концом гарпун и вырвал его из раны. Затем вновь сунул хлыст в морду парху и, обезопасив себя от усов, повторил удар гарпуном, но уже в другой сегмент тела. Движения парха стали вялыми, напор ослаб, и в течение пяти минут Шооран добил его. Это была победа, которой мог гордиться настоящий охотник!
Шооран вырезал усы (теперь в его арсенале было четыре режущих кнута!) и острые пластины изогнутых жвал. Выдрал на память колючую чешуйку из хвоста. Больше поживиться было нечем. Конечно, Шооран знал, что из хвоста, которым парх отталкивался во время прыжков, можно извлечь большой кусок белого мяса, но после неудачи с туккой охоты пробовать парха не было.
Домой Шооран вернулся переполненный чувством уверенности в себе. Остаток праздничной недели он провёл в алдан-шаваре, не считая нужным раньше времени замахиваться для удара. Но едва кончился мягмар, Шооран появился на берегу. Встал, пристально, с прищуром оглядел далайн, представил, где именно встанут суурь-тэсэги, и уверенно потребовал, чтобы они появились. Сначала ничего не происходило, мир не слышал его, но через минуту Шооран почувствовал сопротивление не желающей меняться косной массы, и это подсказало ему, что надо делать. Сразу налились жаром ладони, и словно огненный авар зажёгся в мозгу. Оройхон вставал из глубин тяжело и мучительно медленно. Каждый тэсэг, любой камень всей тяжестью ложился на плечи Шоорана, и только неутихающий, неукротимый огонь позволял выдержать эту громаду. Шооран не кричал, не признавался в ненависти, не стремился мстить. Он работал. От былой уверенности не осталось и следа – слишком велика была поднятая тяжесть. Но Шооран знал: на этот раз он её не бросит – и тянул землю на свет, закостенев в страшном усилии. И когда в одно мгновение разом исчезла тяжесть и погасло пожиравшее внутренности пламя, Шооран не испытал ни малейшего облегчения. Это было так, словно собственная сила разорвала его пополам. Шооран вскрикнул и упал замертво.
Сознание вернулось рывком, его пробудило чувство опасности. Шооран поднял голову и не сквозь кровавую пелену запредельного надрыва, а простым человеческим взглядом увидел, что там, где четверть часа назад расстилался далайн, теперь тянется земля. У него получилось! Но это значит, что вскоре, может быть, уже через минуту, Ёроол-Гуй явится сюда, чтобы исполнить старинное проклятие и отомстить илбэчу.
Шооран побежал. Ёроол-Гуя ещё не было, возможно, он вообще плавал в глубинах, из которых не так скоро мог вынырнуть даже он, но всё же Шооран бежал столь же отчаянно, как пять лет назад, когда он в последний миг успел перескочить закрывшее путь щупальце. Никакой Хулгал не смог бы остановить его сейчас, и, окажись на пути авары, Шооран сгорел бы, но не прекратил бега. Лишь когда он пробежал не только весь мокрый, но и половину сухого оройхона, способность мыслить вернулась к нему, и Шооран остановился. Ему не было стыдно за свой страх, не стало стыдно и потом. Построив оройхон, он получил право на любое поведение. Если бы строитель оройхона мог рассказывать о себе, Шооран говорил бы об этом припадке ужаса спокойно и не смущаясь. Но строитель оройхона должен молчать, если, конечно, он хочет жить. И всё же сейчас, отдышавшись и придя в чувство, Шооран громко сказал себе и всему пустынному оройхону:
– Я илбэч!
* * *
Ёроол-Гуй появился лишь через сутки. В течение недели он поочерёдно бросался то на новый оройхон, то на какой-нибудь из старых. Потом исчез. Тем не менее Шооран выжидал ровно два месяца, прежде чем вновь отправиться на мокрое. Приступ слепого ужаса был последним в его жизни, но Шооран понимал, что не стоит легкомысленно относиться к Ёроол-Гую. Смеяться над ним можно, только когда стоишь на сухом.
Два месяца Шооран увлечённо занимался хозяйством. Все дела, бывшие прежде столь значительными, измельчали в его глазах, но именно поэтому Шооран с особым тщанием любовно убирал урожай, мастерил инструменты, кроил одежду и готовил замысловатые салаты из варёного наыса, плодов туйвана и зелёных стеблей набранной в ручье водяной травы. Всякое дело приносило радость, поскольку теперь Шооран знал, что спокойная жизнь пришла ненадолго и надо успевать радоваться.
Пять дюжин дней оказались достаточным сроком, чтобы прийти в себя, но не растерять уверенности и не забыть острого ощущения огня в груди и на ладонях. Вернувшись к далайну, Шооран предусмотрительно встал у самой границы оройхонов, внутренне собрался и, словно не было двух месяцев безделья, сразу нащупал в душе нужную струну. Далайн покорно отозвался, и то ли он признал власть молодого илбэча, то ли сам Шооран действовал более умело, но на этот раз создание оройхона потребовало куда меньших усилий. Но и Ёроол-Гуй был наготове, так что измученный Шооран едва успел унести ноги.
Сначала, выбежав на безопасное место, Шооран не обратил внимания на происходящие изменения, все чувства были ещё там, где полз, сокрушая камни и раздирая свою плоть о верхушки тэсэгов, разгневанный бог далайна. И лишь потом Шооран остановился, заворожённый невиданным зрелищем. Оройхон был залит водой. Вода разливалась широкими потоками, переполняла впадины, бурлила в темноте шавара. Сухой оройхон рождался в плеске волн. Вода смывала нойт, заляпавший всё вокруг, мутные буруны уносили грязь, обломки хохиура, в водоворотах кружились тела подохших от пресной воды зоггов. Покинувшие шавар звери спешили удрать от невыносимой для них чистоты. Многие ползли на новый оройхон, навстречу негодующему Ёроол-Гую. Бежала тукка, тяжело скакал парх, волочил по скрипящим под панцирем камням неповоротливое тело гвааранз. Пара бледных уулгуев, раскинув дюжину цепких рук, неожиданно быстро пробиралась между валунов. Тропили извилистый след жирхи, тайза пыталась укрыться, сжавшись в комок. Бежали, прыгали, ползли другие звери, те, которых Шооран никогда не видел, о которых никогда не слышал, и те, которым и названия не было, как не было живых людей, видавших этих тварей. Вода фонтанами била из источников, переполняла шавар, и расщелины на краю оройхона захлёбывались, не умея принять такую массу жидкости разом.
Через неделю вода схлынула, затянутые илом поля дружно зазеленели всходами хлебной травы, на каменистых россыпях показались рощицы миниатюрных ростков. Лишь по резным зубчикам на краю листа в этих побегах можно было узнать будущие могучие туйваны. Вскоре вода непостижимым образом покинула подземные пустоты, страшный прежде шавар стал чистым и удобным, в нём завелись безобидные светляки, дно нижнего яруса покрылось грибами, и лишь застрявшие кое-где выбеленные наводнением панцири и скелеты бывших хозяев напоминали о том, что было здесь прежде.
Теперь у Шоорана стало два сухих оройхона, хотя и одного хватало ему с избытком. Но Шооран не думал, нужна ли ему эта земля. Как завещание звучали в ушах последние слова старика: «Я илбэч. Я должен строить». Раз испробовав мучительной и сладкой отравы созидания, он уже не мог от неё отказаться и продолжал бы строить даже ценой своей жизни, даже ценой жизни других людей, что гибли на далёких оройхонах из-за того, что Ёроол-Гуй в такие времена приходит чаще обычного.
На этот раз Шооран не стал выжидать полные два месяца, ведь так за свою жизнь он едва ли сумел бы выстроить двойную дюжину островов, а ему надо сделать в пять раз больше. Третий оройхон Шооран решил поставить через месяц. Из-за этой торопливости Шооран пропустил время, когда в ручьях второго оройхона появились бовэры. Шооран просто увидел, что ленивые звери лежат в воде и жуют сильно разросшуюся водяную траву. Они были ещё не очень крупными, но уже вполне взрослыми.
Раз появившись, бовэры затем размножались естественным путем, хотя и случалось изредка, что на каком-нибудь оройхоне после мягмара вдруг резко прибывало бовэров. Почему так случалось – никто не знал, зато немедленно вслед за радостным событием начиналась братоубийственная делёжка свалившегося богатства.
Насколько мог судить Шооран, бовэров на первом оройхоне не убавилось, да и как бы они могли перебраться сюда? Плоские обрубки, заменявшие бовэрам лапы, были не приспособлены для ходьбы по суше, а уж перелезть через поребрик неповоротливые толстяки были физически неспособны. Оставалось гадать, вынесло ли большущих животных водой из родника или они самозародились в чистых струях и выросли за одну ночь. А может быть, как рассказывают женщины, ночью пришёл сказочный дурень Бовэр и поселил на пустом прежде оройхоне своих потомков.
Тайна бовэров осталась неразгаданной, Шооран всего лишь увидел, что сначала бовэров не было, а потом вдруг они появились. Впрочем, об этом он мог догадываться и раньше, ведь жили водолюбивые животные на оройхоне старого илбэча – значит, откуда-то появились, не по далайну же приплыли, и не в сумке принёс их с собой бежавший от мира Энжин.
Третий оройхон ещё сильнее сжимал мёртвую землю. Сухой страны он не обещал, а вот часть огненного болота должна была высохнуть. Теперь лишь один шаг отделял Шоорана от поселения изгоев, так что те могли различить замаячивший вдалеке берег. Но Шооран успокаивал себя, что даже изгои посещают западный край своего оройхона лишь под новый год. А во время мягмара туман над далайном усиливается, и ничего заметить невозможно. Зато сухая полоса выйдет в те места, где лежит уулгуй, и, может быть, там удастся что-то найти. Шооран чувствовал шаткость своих объяснений, но цеплялся за них, не желая признаваться, что его просто тянет к людям.
Поскольку безопасный срок ещё не вышел, а значит, скорее всего, Ёроол-Гуй находится где-то неподалёку, приходилось принимать меры предосторожности. Шооран вышел к далайну по самому поребрику, что тянулся вдоль мёртвого края. Дышать здесь было практически нечем, но Шооран надеялся, что прозрачная маска и губка с вином помогут ему. Зато Ёроол-Гуй здесь вряд ли появится, а в случае беды всегда можно спрыгнуть на свободную сторону.
Оройхон встал на удивление легко, и Ёроол-Гуй не появился, так что Шооран был даже разочарован. Назад он шёл вдоль новой сухой полосы, ещё заваленной грязью и дымящейся. Среди ломкого и бесполезного хлама Шоорану удалось разыскать большой, в размах рук, диск со щупальцев уулгуя. За три года, проведённые в кипящем нойте, диск разбух, потерял твёрдость и красоту. Прочнейшую когда-то кость можно было без усилий крошить пальцами. Вздохнув, Шооран выбросил испорченный диск. Пора было торопиться к дому.
Или лёгкость, с которой поддался далайн, оказалась обманчивой, или не помогла губка и Шооран всё же отравился дымом, но ещё по дороге он почувствовал себя дурно. Сначала его начал бить озноб, хотя Шооран двигался вдоль жарких аваров. Потом заболела голова, заломило в суставах. Домой Шооран вернулся в полубреду. Залпом выпил две чаши вина, накрылся с головой пушистой шкурой бовэра и провалился в душные объятия горячки.
Шооран метался по изъёрзанной постели, огонь, пылавший в нём во время строительства, не погас, он продолжал бесцельно сжигать, но никто из тех, кто собрался вокруг, не принёс воды, и огонь палил всё безжалостней.
– Мама, пить… – просил Шооран.
– Не могу, мальчик, – ответила мама. – Ты теперь илбэч, ты обязан быть один и всё делать сам. Я не была женой илбэча и не хотела бы такой доли для своего сына, но ты не послушал меня. Ты всегда был таким же упрямым, как и твой отец.
– Я не могу жить один, – сказал Шооран. – Огонь убивает меня. Дайте мне пить!
– Я звал тебя к себе, – возразил добрый уулгуй, – но ты не пошёл. Ты упрям, как настоящий илбэч. Живи один, а если не можешь – умирай один.
– Я не хочу так, – сказал Шооран. – Принесите воды.
– Я предупреждал, – произнёс старик, – что ты устанешь проклинать меня. Теперь поздно менять что-либо. Ты илбэч. Ни один человек не подаст тебе напиться, но всё же ты будешь жить и строить.
– Зачем надо строить оройхон? – спросил Шооран. – Отец ушёл с сухих мест, потому что там не было правды. А для чего умножать ложь? Старик, ты знаешь, что, сколько бы я ни сделал земель, ван и жадные одонты отнимут их. Ты сам строил лишь мокрые оройхоны, но на них страшно! Почему я должен делать это?
– Потому что ты илбэч, – повторил старик.
– Ты можешь отказаться от дара, – мягко предложил уулгуй, – и у тебя будет счастье. Мой брат снимет проклятие, ведь ты последний илбэч.
– Это больше не дар, это твоя жизнь, тебе придётся защищать её от врагов. – Старик протянул Шоорану старый кинжал с костяной накладкой, подаренной дюженником Мунагом. – Я не могу дать воды, но я дам оружие.
– Всякая сила кончается, и тогда нужен отдых. Твой главный враг – ты сам. Погаси огонь, и вода тебе не понадобится. – Уулгуй вытянул гибкую руку. В руке был зажат старый кинжал с костяной накладкой, подаренной Мунагом.
Две разных руки – человеческая и звериная подавали ему его собственный нож, который он не снимал с пояса. Тусклый свет змеился на неровностях лезвия, смертельной брызгой чернело повисшее на острие жало зогга.
– Мама, – позвал Шооран. – Они зовут меня к разному, но предлагают один нож. И никто не даёт воды…
Мама не ответила, но тоже протянула руку. В подставленную ладонь перетекло голубое ожерелье, и каждая бусина превратилась в прохладную каплю.
* * *
Шооран очнулся от звука голосов, и сначала ему казалось, что это продолжается привидившийся в бреду спор. И лишь потом понял, что голоса настоящие, человеческие, от которых он так давно отвык, звучат на самом деле. Один – резкий, визгливый, не разберёшь чей; второй поглуше, явно мужской.
– Ты смотри – ещё! – захлёбывался первый. – Это уж точно моё!
– Не-ет! – возражал басистый. – Я уже сказал: все туйваны мои, и вообще весь этот оройхон мой, а твой – первый.
– Да он какой-то недоделанный, там ни одного дерева нет!
– Я тут не виноват, – добродушно пророкотал низкий голос и вдруг заревел, мгновенно налившись яростью: – Ты что мои плоды жрёшь? А ну, положи обратно!
Шооран с трудом встал, придвинул к стене кость маараха и, поднявшись, выглянул в одно из отверстий под потолком. Через них удавалось рассмотреть немногое, но два человека, чьи голоса слышал Шооран, оказались прямо под оконцем. Несомненно, это были изгои. Изношенное рваньё вместо одежды, мешки, набитые чавгой, незрелой хлебной травой, раздавленными плодами туйвана – всем, что попалось им во время путешествия по незаселённым оройхонам. Новое добро было уже некуда складывать, но остановиться эти двое не могли и продолжали ссориться, вырывая друг у друга богатства, изобильно растущие и просто валяющиеся вокруг. К тому времени, когда Шооран увидел гостей, ссора переросла в драку. Пользуясь правом сильного, один из изгоев немедленно объявлял своей собственностью всё, что только встречалось им на пути, а под конец, окончательно ополоумев, принялся отнимать у товарища то, что тот успел запихнуть в свой мешок. Теперь в криках дерущихся можно было различить только одно слово: «моё!», повторяемое на все лады. Высокий изгой, вцепившись в чужой мешок, рвал его из рук противника, владелец тянул сокровище к себе, орал и лягался. Сила, разумеется, одержала верх, мелкий изгой отлетел в сторону, а победитель, взвалив на спину два мешка, удовлетворённо промолвил:
– Так-то! Не трожь чужого.
Тщедушный с визгом ринулся на обидчика, но был отброшен ударом ноги. Дико было видеть драку из-за мешка испорченной, подавленной и перепачканной жратвы среди невероятного изобилия, расстилающегося вокруг. Два человека не смогли бы не только съесть, но и попросту убрать всё, что росло на оройхоне, но всё же продолжали спор из-за мешка. Тщедушный вновь метнулся вперёд, рука его, секунду назад пустая, неожиданно выросла на длину ножа. Острая кость вошла высокому в левый бок. Высокий изгой пошатнулся, мешки сползли со спины и шмякнулись на землю. Тщедушный, ударив, быстро отдёрнул руку и теперь, пятясь, тихо подвывал, словно это его ударили только что. Большой изгой слепо шагнул вперёд и сграбастал длинными лапами противника. Мелкий взвизгнул, затем его затылок с мокрым треском впечатался в камень, и стало тихо. Высокий сидел, привалившись к валуну, о который раздробил голову врага. На лице изгоя застыло чувство удовлетворения сделанным. Лишняя дырка на драном жанче была незаметна, и кровь снаружи не выступила, так что казалось, будто человек просто отдыхает после трудной, но нужной работы.
Шооран вышел наружу, обогнул суурь-тэсэг и снова увидел своих гостей. Он сразу понял, что маленькому уже ничем не поможешь, а вот высокий был жив. Шооран подбежал, начал стаскивать вонючий жанч. Изгой открыл глаза. Большущая рука сжалась в кулак.
– Не трожь, – сказал изгой. – Не отдам.
– Не нужна мне твоя рвань! – огрызнулся Шооран. – Я помочь хочу. Сильно он тебя?
– Сильно… – На лице раненого впервые появилось недоумение. – Как же это вдруг? Жили вместе, бедовали, последней чавгой делились – и вот… И ведь что обидно: зря это. Всё равно отнимут. Скоро здесь весь оройхон будет, а потом и цэрэги. Отнимут… Нарвай прибежала, говорит: «Там оройхон видно». Никто не поверил – она же дурочка, ума Ёроол-Гуй не дал. Так она убежала, а на другой день приходит и приносит хлеб, туйван… И нет, чтобы тихонько показать, раззвонила на весь оройхон и дальше побежала хвастать. Одно слово – дура, никакого соображения. Ведь приведёт цэрэгов, можно и на костях не загадывать…
Изгой закашлялся, на губах появились красные пузыри. Шооран тем временем стащил с него жанч, под которым ничего не было, промыл рану водой из фляги. Что делать дальше, он не знал.
– Ты, парень, не тревожься понапрасну… – Изгой с трудом проталкивал слова сквозь бульканье в груди. – У Каннача ножик злой, мимо не бьёт. Я-то знаю… мы с ним друзья были… Мы и сейчас… он меня подождёт… вместе к Ёроол-Гую отправимся… – Умирающий поднял голову и неожиданно громко, чистым голосом спросил: – Где торбы?
– Вот они, – сказал Шооран.
– Дай сюда.
Шооран подтащил мешки.
– И не трожь, – постановил изгой. – Моё.
Он облапил мешки мосластыми руками и застыл с блаженной улыбкой.
Хоронить мёртвых Шооран не стал – не было ни сил, ни времени. Если действительно безумная Нарвай разнесла повсюду весть о новых землях, то с часу на час следует ожидать нашествия поселенцев. Как это будет выглядеть, Шооран понял по первым двум гостям. И вообще, ежели илбэч хочет жить, ему не следует слишком долго оставаться на новых оройхонах. Не так важно, в конце концов, замучают ли его жадные цэрэги, требующие новых земель, стопчет ли в припадке умиления благодарная толпа или он, неузнанный, будет зарезан во время дележа земли.
Опасность подстегнула неоправившийся организм, к Шоорану вернулись силы. Он начал собираться. Взял праздничный, ни разу не надёванный стариком наряд, который давно стал ему впору, пару ароматических губок, немного еды, самые необходимые инструменты. Уложил всё в котомку. Часть припасов стащил в потайную камеру на «дороге тукки», рассчитывая, что, если придётся вернуться, нищим он не будет. Сам оделся для путешествия по мокрому и вооружился гарпуном. Гарпун и башмаки с иглами были разрешены для охотников. Кольчугу Шооран надел под просторный, специально для того сшитый жанч и убедился, что хотя доспех по-прежнему велик, но уже не болтается, словно на палке, а по длине так и просто впору. Запрещённый нож, с которым Шооран был не в силах расстаться, он спрятал на груди вместе с маминым ожерельем и картой, на которой за последние полгода появились три новых оройхона.
