Читать онлайн Земля Обручева, или Невероятные приключения Димы Ручейкова бесплатно
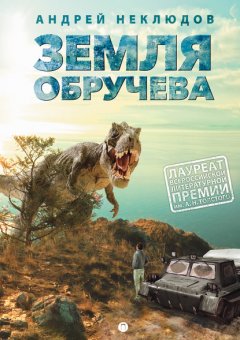
© Неклюдов А. Г., текст, иллюстрации, 2018
© Обручева Т. С., предисловие, 2018
© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018
* * *
Автор выражает благодарность за поддержку и помощь в подготовке этой книги Неонилле Анатольевне Самухиной, Татьяне Сергеевне Обручевой, Наталье Владимировне Обручевой, сотрудникам Иркутского областного краеведческого музея, сотрудникам Кяхтинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева.
Связь времен
Дорогие ребята! По правде говоря, я немного завидую вам. Ведь я уже знакома с героями этой приключенческой повести, а у вас радость ее чтения еще впереди. Вам еще предстоит вместе с главным героем книги Димкой Ручейковым столкнуться с невероятными, порой опасными, а порой и забавными ситуациями и приключениями.
Зато у меня была особая причина заинтересоваться этой книгой. Дело в том, что одним из главных действующих лиц повести выступает мой родной дед – Владимир Афанасьевич Обручев. Кто-то из вас наверняка читал его научно-фантастические романы «Плутония», «Земля Санникова», «В дебрях Центральной Азии» и другие. Или хотя бы слышал о них. Но, думаю, немногие из вас знают, что В. А. Обручев – не только писатель-фантаст, но и, в первую очередь, крупнейший ученый, академик, один из основоположников отечественной геологии. В книге «Земля Обручева» он предстает перед читателями именно как геолог, молодой исследователь Забайкальского края, еще не написавший своих знаменитых романов и главных научных трудов. Именно от него Димка узнает много нового для себя – о строении Земли и ее истории, о тайне возникновения гор и залежей полезных ископаемых. Именно с ним, в его отряде, Димка подвергается серьезнейшим испытаниям и становится закаленным, опытным «полевиком». А вот как встретились школьник, ваш современник, и будущий знаменитый писатель и ученый, изучавший Сибирь в конце XIX века, я вам не стану выдавать, пусть это для вас пока остается загадкой.
Хочу сказать, что сначала я читала эту историю как посторонний человек, мне было интересно взглянуть на своего деда глазами мальчишки, героя повести. И это было необычное узнавание близкого человека, хотя, признаться, я не могла знать его столь молодым: я родилась, когда ему было восемьдесят четыре, а прожил он девяносто три года. Я была совсем маленькой, когда жила летом на даче у деда под Москвой. Помню, как он строго придерживался заведенного годами распорядка дня. С утра, в первой половине дня – научная работа, обработка экспедиционных материалов, написание статей, потом ответы на письма. Во второй половине дня – прием посетителей. Вечером – чтение научной литературы. И так всю жизнь, до глубокой старости. А в экспедициях – целый день маршрут, а поздно вечером – записи по итогам дня.
В повести Андрея Неклюдова будущий академик говорит: «Труд, особенно мыслительный, дарит человеку радость и делает его жизнь осмысленной и интересной». Действительно, труд всегда был для моего деда радостью. Однажды мы сажали с ним вдоль забора маленькие елочки, и я помню, с какой любовью он это делал. И как эта его любовь к деревьям, к природе, к труду передавалась и мне.
В редкие минуты свободного времени он гулял со мной, рисовал для меня фигурки животных, вырезал их из бумаги, и потом мы играли с этими фигурками. Для меня он был тогда просто моим дедушкой.
В жизни мой дед был чрезвычайно внимателен к людям. В экспедициях, которыми он руководил, все относились друг к другу с уважением, а тон задавал сам Обручев со свойственным ему спокойствием и особым суховатым юмором. Владимир Афанасьевич всегда готов был поделиться своими научными знаниями с другими, особенно с молодыми людьми, приобщить их к своей любимой геологии. Именно таким вы увидите его и в повести «Земля Обручева». Однако от тех, кто делал с ним общее дело, он требовал полной самоотдачи, добросовестности и ответственности. Так он воспитывал и своих сыновей – Владимира и Сергея, когда они, будучи мальчишками шестнадцати и четырнадцати лет, ездили с ним в экспедицию в Центральную Азию. И они работали там наравне со взрослыми. Оба они в дальнейшем связали свою судьбу с геологией, стали крупными учеными, а Сергей Владимирович Обручев – еще и моим отцом.
Позднее, уже будучи академиком и немолодым человеком, Владимир Афанасьевич, несмотря на служебную занятость, постоянно переписывался с ребятами из многих школ, занимающимися в краеведческих кружках. «Милые краеведы», – так обращался он к ним в своих письмах. Он посылал ребятам свои книги, статьи, советовал создавать при школах музеи и не только проводить исследования, но и писать очерки, рассказы, стихи о родном крае.
Он поддерживал, в том числе и материально, семьи многих геологов, оказавшихся в трудной ситуации. Больше того: рискуя своим положением, а возможно, и свободой, он отваживался писать письма в правительство в защиту несправедливо арестованных геологов, помогал их близким.
Очень надеюсь, что повесть Андрея Неклюдова пробудит у ее читателей – современных школьников – интерес к личности Владимира Афанасьевича Обручева и к его замечательным книгам.
А еще я уверена, что не только подростки, но и многие взрослые с удовольствием прочитают эту книгу и, пережив вместе с Димкой захватывающие приключения, заодно откроют для себя удивительный, полный загадок и тайн мир геологии и, возможно, немного иначе, с бо́льшим уважением и любовью станут воспринимать после этого нашу родную планету.
Татьяна Сергеевна Обручева
Глава 1. Тайное ликование
«Ну вот, я, кажется, и еду», – сказал себе Димка, когда вагон мягко качнулся и платформа с провожающими неспешно поплыла назад. Сказал он это себе сдержанно, не выражая пока большой радости. Во-первых, ему еще не до конца в это верилось. Мало ли что бывает! А вдруг сейчас на весь вокзал объявят: «Дмитрий Ручейков! Выйди из поезда! Твоя поездка отменяется!» А во-вторых, было бы глупо сидеть с сияющей, как смайлик, физиономией среди таких серьезных и совсем не сияющих соседей по купе.
Знали бы эти серьезные и важные люди, куда он едет, то-то бы фейсы вытянули! А едет он… Да-да, это не шутка! Едет он в настоящую… в самую что ни на есть настоящую!.. геологическую экспедицию! Экс-пе-ди-ци-ю!!! Он, пока еще школьник, только-только окончивший предпоследний класс, отправляется в глубочайшую глубь Сибири, в тайгу, в необитаемую глушь! И ждут его там – он нисколечко в этом не сомневался – невероятнейшие приключения! Потому что не бывает экспедиций без приключений. Без приключений в экспедиции никто и ездить бы не стал, ясное дело!
Видно, физиономия его все же расплылась в счастливой улыбке, потому как мужчина напротив беззвучно усмехнулся, глянув на него, после чего снова сделался серьезным. Димка тоже постарался придать лицу строгости и сосредоточенно уставился в окошко.
Но он ничего там не видел, хотя стоял день, и сияло солнце, и город разворачивался как на ладони. Видел он совсем другое… Димка видел себя шагающим через таежные дебри с рюкзаком за спиной и с карабином на плече (ведь могут же ему доверить карабин!). Или взбирающимся на скалистую, обдуваемую бурными ветрами вершину. Или…
Покосившись на соседей, он достал из сумки небольшой блокнот с карандашом и, заслоняя блокнот плечом, нарисовал на первой странице себя с карабином. Так он задумал – рисовать все, что ему покажется важным. Или просто интересным.
Как его взяли в эту взрослую экспедицию – это отдельная история.
Началось с того, что ему попала в руки книжка о геологах (в отличие от большинства одноклассников, он любил читать, и не только в чатах и блогах).
«Вот, – подумал он тогда. – Вот настоящая жизнь, настоящие испытания, а не компьютерные игры, где все за тебя делают какие-то мультяшные человечки или как бы твои, но вовсе не твои руки. Вот бы мне туда! Испытать на себе этот экстрим!.. Это вам не каких-то там макак с руки кормить!»
Как раз накануне случилось одно досадное событие. Не событие даже, а так… неприятный момент. Гошка Краснов по прозвищу Рэд съездил на новогодних каникулах в Индию (с родителями, само собой), после чего его популярность в классе взлетела, как новогодняя петарда. Гошка хвастливо рассказывал, как он кормил с ладони обезьян, показывал на своем планшетнике фотки, на каждой из которых красовался он сам: Рэд с обезьянками и Рэд без обезьянок, Рэд с белобородым индусом и Рэд с красно-сине-зеленым попугаем на плече. Понятно, что девчонки класса (и Полина в их числе, что самое прискорбное!) смотрели теперь на Гошку как на героя какого-нибудь блокбастера.
Ну и как было ему, Димке Ручейкову, переплюнуть этого выпендрежника? Вот если бы и вправду… Вот если бы его, Димку… Если бы взяли его в экспедицию… Вот это было бы да-а-а!
…В самом большом геологическом научном институте города, в его просторном каменном вестибюле Димка нашел доску объявлений. Большим выбором предложений доска похвастаться не могла. Только в один полевой отряд требовался рабочий-радиометрист. Зато отряд этот направлялся не куда-нибудь, а в Сибирь! Так и было написано: «для работ в Восточной Сибири». Шанс, конечно же, крохотный, но он все же имелся.
Кто такой радиометрист, Димка представлял себе смутно, но он не сомневался, что радиометрист из него получился бы, не говоря уже о простом рабочем. Однако в тот день он позвонить не решился, хотя тут же, в вестибюле, висел телефонный аппарат. Димке требовалось время, чтобы настроиться, набраться храбрости. Что там за люди? Суровые, сердитые или не очень? Они же могут сразу, едва увидев, прогнать его вон. Хотя был он не из мелких и последний год усиленно занимался спортом, два раза даже выступал на районных соревнованиях по плаванию. Он, конечно, мог бы наврать им, что уже окончил школу, но они ведь потребуют паспорт.
Два дня он настраивался и наконец – эх, была не была! – позвонил. Он старался говорить побасистее, и, кажется, это подействовало: его пригласили на собеседование.
Последующие события развивались очень быстро. Так быстро, что Димка не успевал даже обдумывать происходящее.
– Взять на работу я тебя не могу, раз тебе еще нет восемнадцати, – твердо заявил ему приземистый, крепкий мужчина с грубым, даже страшноватым лицом, которого звали Григорий Борисович Шмырёв. – Здесь не могу, – прорычал Григорий Борисович, оскалившись по-волчьи. – Но! – резко поднял он палец. – Могу взять тебя на месте работ. На месте я могу нанимать кого угодно. Усек? Если ты готов на такой вариант, то ты приезжаешь туда своим ходом, и там я тебя оформляю. Рабочим-радиометристом. Но! – снова вскинул он палец. – Проезд в таком случае за свой счет. То есть за твой. Готов на такое?
– Готов! – выдохнул Димка и как будто сиганул с вышки в бассейн. При этом он понятия не имел, откуда возьмет деньги на дорогу и как воспримут это его решение родители.
Родители восприняли новость без восторга. Отец – просто без восторга, мать – без восторга абсолютно. И сколько слов и эмоций понадобилось для их переубеждения!
– Пусть едет, – сдался первым отец. – Узнает, что такое настоящий труд.
– Три месяца!.. – сокрушалась мать. – Я же изведусь здесь вся!
Но вскоре и мать сдалась. После этого надо было спешно делать прививку от энцефалита, досрочно сдавать экзамены (чего это стоило!), заказывать билет, собираться. В общем, голова шла кру́гом!
И вот он едет! Он едет один, потому что отряд Шмырёва уже полмесяца как кайфует в тайге. Не могли же они из-за Димки сместить начало сезона! Через двое суток пути на маленькой сибирской станции, как пообещал Шмырёв, его должны встретить доверенные люди и отправить дальше в горы – туда, где его ждут соратники. И еще ждет столько всего!..
Димка взволнованно вздохнул, представив себе, каким героем вернется он через три месяца домой… Обезьянки отдыхают! Что обезьянки! Ха! Да он сфотографируется с настоящим диким медведем! А что? Запросто!
Конечно, он не был уверен, что медведь согласится с ним фотографироваться, но даже снимок Димки, позади которого, пусть даже на отдалении, будет маячить громадный медведище, – многого стоит! А еще он снимется в обнимку с суровыми бородатыми мужчинами – геологами. Григорий Борисович, правда, не совсем такой геолог, какие описываются в книжках, коротковат и без бороды, но все равно мужик крутой, сразу чувствуется железный характер.
Жаль только, что всего не заснимешь. В экстремальных ситуациях не до позирования перед камерой. Но сами эти ситуации, бурные события останутся с ним, в его памяти, в его, можно сказать, судьбе. А таких моментов и событий будет, конечно же, полным-полно. Например, при переправе через горную реку их лодка легко может перевернуться (такое часто бывает), и бурный поток понесет их прямо к бушующему перекату (а то и к водопаду), и только чудом в самый последний момент они сумеют выкарабкаться на берег. Может случиться, что он, Димка, заблудится и один без еды много дней будет пробираться через чащу, пока не выйдет к людям. Да много чего может произойти в настоящей геологической экспедиции… У него будет что порассказать одноклассникам. А Рэд со своими скучными историями просто сдуется, развеется, как струйка пара.
Однако еще важнее то, чтобы он сам, Димка Ручейков, был готов к тяжелым испытаниям, чтобы не сдался, не испугался, не запросился домой (это уж совсем позор). Надо, чтобы они, эти суровые геологи, поняли, что перед ними не какой-нибудь там маменькин сынок.
Хорошо, что он отговорил мать провожать его, а то она уже собиралась ради этого отпроситься с работы. Димка даже покраснел, представив сцену слезного прощания, которого он, по счастью, избежал. Правда, едва тронулись, как мать тут же позвонила на мобильный. Спрашивала, хорошие ли соседи-попутчики, и просила обязательно позвонить, как только он доберется до места.
– Хорошо, мам, я же говорил, что позвоню. Пока.
– Если тебя вдруг не встретят…
– Мама, встретят! Пока.
– Послушай меня: вытащи курятину из пластика, иначе она пропадет.
– Хорошо, мам, пока.
– И не забывай там шапку надевать, голову не застуди. Ведь горы – не шутка!
«Какая же это всё байда, – думал Димка, – курятина, шапка… И почему матери все такие беспокойные?» Хотя насчет того, что «горы – не шутка», с этим он был согласен.
В дорогу Димка захватил несколько любимых книжек, в том числе «Плутонию» Обручева. Он взялся было читать, забравшись на свою верхнюю полку, но вскоре бросил. Чужие приключения сейчас, когда его ждут собственные, не волновали его. Ему вдруг захотелось, чтобы кто-нибудь из его серьезных попутчиков спросил у него: «Куда ты, парень, едешь один? Далеко ли?» И Димка сказал бы немного небрежно, как если бы это было для него самое обычное дело: «Да в экспедицию. С геологами буду работать три месяца, в тайге и в горах».
Но никто его ни о чем не спрашивал. Соседи занимались всякой чепухой. Один с каменным лицом читал, уткнувшись в экран электронной книжки. Женщина вязала, подложив под спину подушку. Еще один мужчина спал на полке напротив Димки, но спалось ему, видимо, плохо: он постоянно ворочался и кряхтел.
Усмехнувшись мысленно над их серой и скучной жизнью, Димка вновь с несказанным удовольствием принялся рисовать в своем воображении грядущие приключения.
Ночью он не раз просыпался и под стук колес и скрип вагона (и под чей-то неистовый храп) размышлял о своей предстоящей необыкновенной жизни.
В таковых мечтаниях время бежало быстро. Оно не просто бежало, но даже совершало скачки: поезд двигался навстречу солнцу, пересекая часовые пояса, и Димка два раза уже переводил часы вперед. Когда он прибудет на нужную станцию, там будет ночь, а до́ма, где остались его родители и друзья, солнце только-только приблизится к горизонту. На уроках географии они проходили часовые пояса, но теперь Димка воочию мог убедиться, что это не выдумка учителей.
Глава 2. Первое приключение
На нужную станцию состав прибыл, как и предполагалось, ночью.
Димка уже часа полтора как не спал. И полчаса как стоял в тамбуре со своим рюкзаком, сумкой и зачехленным спиннингом. В то время как весь вагон дрых, посапывая в полумраке и духоте, он, Димка Ручейков, был бодр и готов действовать. И когда поезд наконец остановился, он браво (хотя и волнуясь в душе) спрыгнул на мокрый щебень.
Сверху из тьмы сыпалась морось. Жёлто мерцали сквозь водяную пыль редкие фонари. Пахло железом и шпалами. Локомотив прогудел прощально, и темные вагоны поползли мимо Димки. Вот уже проплыл и последний вагон, светя красным огоньком на торце. Перестук колес постепенно затих вдали.
Димка еще раз огляделся. Сказать: он был здесь один – это почти ничего не сказать… Ему казалось, что он был один во всем окружающем мире, во всей Вселенной!
Может быть, это прикол? Может быть, у геологов принято так шутить, разыгрывать новичков, и сейчас кто-нибудь выскочит с хохотом из-за серой станционной будки? Но нет, никто не выскакивал. Вокруг была лишь мокрая ночь без единого звука и без единого живого существа. Казалось, люди покинули эти места несколько веков назад.
«Похоже, никто и не собирается меня встречать, – подвел Димка неутешительный итог. – Или я не там вышел. Не до той станции взял билет. Но ведь Григорий Борисович сам записал мне ее название… А! Наверное, встречающий сидит на станции! Уснул!»
Мальчишка поспешил к приземистому строению, больше похожему на сарайчик, чем на станционное заведение.
Увы, внутри было так же пусто, как и снаружи. Отличие состояло в отсутствии мороси и затхлом воздухе (Димка сморщил свой курносый нос). Да еще вдоль стен разместилось несколько скамеек. Димка присел на одну из них (липкую и исписанную неприличными надписями) и принялся ждать. Чего ждать? Он и сам не знал чего. Хотя бы утра. Утром все должно разъясниться. Вот только верилось в это все меньше. Ему начало казаться, что и поезда никакого не было, а очутился он тут по щучьему велению – на этой заколдованной станции, где никогда не бывает ни людей, ни поездов.
«Если меня никто так и не встретит, то сам я не смогу добраться до отряда, – родилась в голове у него ясная, даже чересчур ясная мысль. – Я даже понятия не имею, где отряд».
«Но и обратно я не смогу уехать, – явилась вторая, не менее ясная мысль. – Ведь на обратный путь у меня нет денег». И, наконец, со злорадством, голосом Рэда прозвучала третья мысль: «Вот уже и начались твои приключения, Ручей».
На этом мысли иссякли.
Так он просидел часа два или три. Еще в поезде Димка заранее перевел часы на местное время. И по местному времени уже должно было светать, но почему-то никак не светало. Он опять посмотрел на часы, и часы показывали полночь (или полдень). Димка потряс их, и удивительное дело: стрелки поползли в обратном направлении, должно быть желая вернуться к московскому времени.
Оказалось, он задремал и ему это приснилось.
Однако как ночь ни упорствовала, а мало-помалу ей пришлось уступить место хмурому рассвету.
Снаружи стоял сырой туман, поблескивали лужи. Димка со своим рюкзаком, сумкой и спиннингом шагал по мокрому, с выбоинами шоссе и по этим бесконечным лужам. Он шел в поселок, который, по словам женщины-кассира на станции, находился в трех километрах от железной дороги.
…Поселок еще спал. В окружении густого, дымчатого леса неровными рядами тянулись одноэтажные деревянные домики. Возле каждого высилась, точно крепостная стена, огромная поленница дров. Величина поленниц красноречиво говорила о суровости здешнего климата. По поленницам деловито прыгали воробьи. А вот люди как будто попрятались.
Но вот на боковой улочке внезапно что-то застрекотало, и через минуту показался верхом на мотоцикле нахохленный мужичок в зеленом плаще. Димка замахал ему, и когда тот притормозил, прокричал сквозь треск мотора:
– Здравствуйте! Вы не подскажете?.. Тут где-нибудь есть геологи?
– Геологи?! – прокричал мотоциклист в свою очередь. – А кто их знает? Была тут когда-то их контора, но давно уж не видать – поразбежались.
– Куда?
– А кто куда. – И мужичок с треском покатил дальше.
«Вот так фишка! Как это так – поразбежались?» Димка решил не поверить. Он побрел медленнее, приглядываясь к домам, как будто ожидая увидеть на каком-нибудь из них табличку с надписью: «Геологи».
Стали появляться редкие прохожие, все больше мужчины, одетые по-таежному – в сапоги, брезентовые куртки. Любой из них мог бы сойти за геолога.
– Были тут геологи, приезжие, – сообщил ему третий или четвертый встречный. – Они, кажется, арендовали дом у Василия Иваныча. Пойдешь по этой улице, в конце свернешь направо, в проулок, и по правой стороне – двор без калитки. Это и будет Василия Иваныча дом. Авось там что узнаешь.
Димка проследовал по одной улочке, повернул наугад на другую и каким-то чудом вышел к дому, где действительно не было калитки.
На стук в дверь долго никто не отзывался. Затем послышались неторопливые грузные шаги, и дверь отворил гориллоподобный мужчина с помятым небритым лицом, в одних спортивных штанах. Из-за двери шел такой бражный дух, точно там находилось не жилое помещение, а винокурня. Сам хозяин смахивал на персонажа из пиратских романов, не хватало лишь черной повязки на глазу.
– Геологи? – переспросил он, почесываясь. – Да, стоят у меня геологи. Сейчас они в горах. А ты кто таков? Не Ручьёв ли? Рабочий?
– Да! Я! – обрадовался Димка. Так обрадовался, что едва не обнял этого пирата. – Я – Ручьёв, то есть Ручейков! Дима Ручейков, рабочий-радиометрист!
– Вот оно что… А что ты так? Того… Ты же завтра вроде как должен быть. Какое сегодня число? Вот дьявол! Нестыковочка вышла, – пробормотал мужчина. – Ну ничего. Добрался, и ладно. А сейчас вот что, Дима Ручьёв…
– Ручейков, – поправил Димка.
– Делаем вот что, Дима Ручейков: я одеваюсь, и мы с тобой идем к вертолетчикам, в «Лесавиа». Может, сегодня тебя и забросят на Буруниху. Твои сейчас там, на Бурунихе, должны стоять.
С этими словами помятый «пират» скрылся в доме. А Димку охватила неудержимая, прямо-таки дикая радость оттого, что все так здорово, прямо-таки чудесно разрешилось (а казалось, что конец и нет выхода). В порыве восторга он ухватился за столбик крыльца и так затряс его, что все крыльцо зашаталось и заскрипело.
– Эй, ты что там? – послышался из дома обеспокоенный голос хозяина.
– Ничего, извините. – Димка оставил крыльцо в покое.
Минут через десять они шагали по малолюдной улице поселка. Шагали они по шлепающим под ногами мокрым доскам, выдающим себя за тротуар. С правой стороны к улице подступала река. Она шумела внизу, под высоким обрывом, а сам обрыв был завален огромными угловатыми глыбами. Димка догадался, что их навалили специально, чтобы река не подмыла берег вместе с поселком.
– А что это за бочки? – спросил он у своего провожатого. Он давно уже обратил внимание, что возле каждого дома у калитки стоят по одной, а то и по две бочки, железные или пластиковые.
– Какие бочки? – переспросил Василий Иванович. – А, эти? Эти для воды. Вода у нас привозная.
Надо же! Димка даже не представлял себе, что где-то люди еще так живут, без воды, вернее, с привозной водой. Наверное, так жили тут и сто, и двести лет назад.
– А колодцев почему нет? – задал он очередной вопрос.
– Слышал такое понятие – вечная мерзлота? Вот потому и колодцев нет, – получил он ответ.
«Ух ты! Вечная мерзлота!» – восхитился Димка.
Пока они шли, воздух посветлел, туман поднялся, и за рекой, над тайгой, как на экране кинотеатра, появились горы. Сначала они были видны наполовину, словно их обрезали ножницами, но скоро обнажились и зубчатые, убеленные снегом вершины. Лишь самые высокие из них продолжали кутаться в облаках. Димка даже замедлил шаг, словно загипнотизированный этим видением. А еще был запах – совершенно незнакомый ему запах, – может быть, тайги, а может, этих горных снегов. Но Димке чудилось, будто это запах самих приключений.
– Ваши сейчас где-то там, – кивнул в сторону гор Василий Иванович.
– В снегу?! – пораженно воскликнул Димка.
– Да нет, пониже, – лениво хмыкнул провожатый.
«А было бы классно, – подумал Димка, – побывать на тех снежных вершинах! Забраться на самый высоченный пик и сфотаться на нем. Но так, чтобы не свалиться».
Дома и деревянные тротуары кончились, и какое-то время дорога пробиралась по лесу. Но вот рядом с дорогой встал высокий дощатый забор. Через приоткрытые ворота вслед за своим предводителем Димка прошел внутрь. Тут как бы продолжался лес, но среди высоких елей и лиственниц размещалось несколько бревенчатых домиков. Димка поглядел во все стороны, но вертолетов не увидел. Да и как бы они тут взлетали, среди деревьев?
Обстучав сапоги о ступеньки крыльца, Василий Иванович вошел в один из домиков. Димка не отставал.
– Здоро́во, Петрович, – пожал «пират» руку крупному лохматому мужчине, сидевшему за столом возле помигивавшей огоньками радиостанции. – Вот клиента тебе привел. Его надо бы к Шмырёву забросить.
– Здоро́во, – отозвался лохматый мужчина. – Заявка есть? – взглянул он на Димку, с интересом разглядывавшего рацию. В следующую секунду мужчина кашлянул и громко заговорил в зажатый в кулаке черный микрофон: – «Соболь», «Соболь», я «Центральный», прием!
«Заявка»… Димка ощутил себя так же, как этой ночью на пустой станции, когда его никто не встретил. Он растерянно посмотрел на Василия Ивановича.
– «Соболь», слышу тебя хорошо, – продолжал говорить по связи Петрович. – Здоро́во, Алексей, как у вас погода? Прием. Понял, понял. Низкая облачность, низкая облачность. Значит, ждем до двенадцати, до двенадцати, прием. Без заявки не возьмем, – снова мимолетно взглянул он на «клиента».
– Петрович, Шмырёв же договаривался, что вы одного рабочего закинете, – вступился за своего подопечного Василий Иванович.
– Шмырёв? Вот пусть Шмырёв и закидывает. С кем он договаривался? Всё, «Соболь», до связи, – закончил Петрович разговор по рации.
В эту минуту из соседней комнаты в радиорубку вошел мужчина в синем спортивном костюме, с гладкой, без единого волоска, головой и острым выбритым подбородком.
– К Шмырёву? – спросил он начальственным тоном у Василия Ивановича.
– К Шмырёву! – поспешил подтвердить Димка. – Григорию Борисовичу.
– У нас будет грузовой рейс на Буруниху. Одного человека можем взять.
Он без улыбки, но явно насмешливо окинул взглядом подростка, который даже рюкзака с плеч не снял.
– И это для тебя, парень, единственный шанс, – прибавил он равнодушно. – Не улетишь – твоя проблема. Съемочным рейсом я тебя забросить не смогу: полный борт аппаратуры.
– Когда вылет? – деловито осведомился Василий Иванович.
– А кто его знает? Полетим, как только облачность поднимется. Может, через час, может, после полудня, а может, и завтра. Ему же на Буруниху? – снова обратился лысый командир к Димкиному провожатому.
– На Буруниху, – подтвердил тот, – к Шмырёву.
– Шмырёв, я слышал, на днях перебрался на новый участок. Под гольцами[1] работают.
– Может, меня надо туда? – с беспокойством спросил Димка.
– Может, и туда. Мы там тоже будем подсаживаться.
Василий Иванович потер свой щетинистый подбородок:
– Дак это точно?
– А кто его знает? Нам Шмырёв не докладывает. На связь он выходит редко. Вроде бы связывается иногда по «Карату»[2] с базой на Бурунихе, где нормальная рация. А может, и «Карата» у него никакого нет.
– Что же мне делать? – спросил Димка у Василия Ивановича, когда они вышли из домика.
– Сиди жди, – равнодушно ответил тот, и стало понятно, что у него не было никакого желания возиться дальше с этим невезучим рабочим. – Я тебя сюда привел, а дальше ты уж сам, Дима Ручьёв. У меня своих дел по горло.
– А куда же мне все-таки лететь – на новый участок или на Бурундиху?
– Буруниху, – поправил Василий Иванович. – Речка так зовется. А вот этого я тебе, парень, не скажу, не знаю. Мне Шмырёв тоже не докладывает. Ну, а не улетишь – приходи, кровать есть, переночуешь.
Димка вспомнил, какие «ароматы» источал дом этого помятого небритого человека, и решил, что улететь надо во что бы то ни стало сегодня же.
Глава 3. Волнения
Под бревенчатой стеной дома размещалась скамья из двух досок, отполированная, похоже, не одним десятком задов. Димка бу́хнул на нее рюкзак, поставил рядом сумку, уселся сам и приготовился ждать. Главное – быть начеку, чтобы не улетели, чего доброго, без него. Никто тут о нем беспокоиться не станет, это он уже уяснил.
Тем временем из соседнего домика вышли, позевывая, два молодых парня – один худощавый, с бородкой и залысинами, похожий на научного работника или компьютерщика, другой пухлый, с короткой шеей и добродушной круглой физиономией.
«Может, это геологи и они знают, где сейчас Шмырёв?» – заерзал Димка на скамье.
Отойдя шагов на десять от крыльца, толстячок вдруг подпрыгнул и повис на укрепленной между двумя деревьями железной трубе. И принялся так быстро подтягиваться на ней, что Димка скоро сбился со счета. Второй же, с бородкой, лениво плюхнулся на скамейку рядом с Димкой. На Димку они не обращали ни малейшего внимания.
– Погодка-то разгуливается! А?! – весело прокричал полный, спрыгнув на землю после, наверное, полусотни подтягиваний. – Есть шанс после обеда вылететь. – Он снова повис на перекладине и, раскачавшись, выполнил «склёпку».
– Хорошо бы, – отозвался худощавый, поглядев на небо.
И действительно: сквозь ветви елей нет-нет да и пробивались лучи утреннего солнца.
Правда, Димка к этому часу уже не так сильно переживал, улетит он сегодня или нет. Его больше занимало другое: он сосредоточенно думал о стоявшей у него под боком сумке. А точнее – о находящемся в сумке контейнере с остатками курицы, которую ему сварила в дорогу мать. Но ему казалось неудобным доставать и жевать при чужих людях (возможно, геологах) эту свою несчастную курицу.
На крыльце между тем появился, закуривая, уже знакомый Димке взлохмаченный Петрович.
– Ну что, Петрович? – подошел к крыльцу спортивный толстячок. – Как там обстановочка в горах?
– Пока закрыто, но, говорят, облачность поднимается.
– Так-таки поднимается? Значит, есть шанс?
– В лучшем случае – после обеда. Сначала – грузовой рейс. Вот еще рабочего надо на Буруниху забросить, к Шмырёву, – кивнул Петрович на Димку.
– Какого рабочего? Этого? – Оба парня как будто только сейчас увидели Димку. – Это рабочий? – переглянулись они. – Ай да рабочий! Всем рабочим рабочий! Нам бы такого!
И Димке было непонятно, прикалываются ли они над ним или, может быть, говорят серьезно.
– А вы геологи? – спросил он уважительно.
– Нет, мы круче! – вскинул бородку худощавый. – Мы – геофизики. Слышал о таких?
Да, Димка знал, что есть такая наука геофизика, что люди этой профессии работают с приборами, измеряют какие-то волны, электромагнитные поля… что-то в этом роде… Однако он совсем не считал, что геофизики круче геологов.
– Игорь, – протянул Димке худощавый свою худощавую руку. – А это Володя, – кивнул он на крепыша. – Так, значит, к Шмырёву летишь?
– Да. А вы его знаете? – еще больше оживился Димка.
– Зна-а-аем, – протянул толстенький Володя и выразительно поиграл глазами.
– Слышали, он там кучу аномалий понаоткрывал, – прибавил Игорь. Однако прозвучало это не слишком почтительно.
– Прыткий мужик! – усмехнулся толстячок. – Мы профили прорубили, а он по ним быстренько пробежал и уже якобы карту нарисовал. Ловко!
– А не знаете, где их отряд сейчас? – попробовал Димка прояснить волнующий его момент.
– Кажется, на плато. Или под ним, под гольцами. Считай, тебе повезло, друг-рабочий: попадешь в уникальное место, – проговорил худощавый, и опять было непонятно, шутит он или говорит серьезно. – Там, на гольцах, несколько лет назад брякнулся метеорит. Из-за этого аномалии всякие и вообще чудеса… Может, и метеорита кусок найдешь. Некоторые находили.
– После Шмырёва фиг что найдешь, – добавил полный, и оба геофизика захихикали.
Несмотря на их смешки, Димка ощутил душевный трепет. Метеорит! Вот бы привезти домой кусок настоящего метеорита! Это было бы супер! Одноклассники припухли бы. А он взял бы да и подарил эту редчайшую вещь Полине…
– А может, и алмаз найдешь, – продолжал Володя. – При ударе метеорита о земную поверхность образуются алмазы, слыхал? Обогатишься!
И оба уже открыто расхохотались. Димка понимал, что над ним потешаются. Он принял отстраненный вид и снова стал думать о курице.
Еще немного поболтав, весельчаки покинули скамью. Ушел в дом и неразговорчивый Петрович.
С нетерпением Димка расстегнул молнию сумки, вытащил пластиковый контейнер, открыл его… и тотчас же быстро закрыл. Курочка, похоже, претерпела вторую смерть. А ведь мама предупреждала…
Отойдя от домиков, Димка похоронил покойницу под слоем хвои.
Прошло еще около часа. Теперь Димка захотел еще и пить.
Между тем из крайнего отдаленного домика вышли трое человек в синих костюмах и фуражках.
«Вертолетчики!» – догадался Димка, вскакивая и хватаясь за рюкзак.
Пилоты прошли по дорожке до ворот и стали усаживаться в стоявший там микроавтобус.
Димка моментально забыл и про жажду, и про обманувшую его надежды курицу. Он кинулся в дом.
Петрович сидел в кухоньке и преспокойно попивал чаек.
– Что, летим?! – выкрикнул Димка возбужденно.
Петрович, не глядя на него, пробурчал:
– Пока нет.
– А как же?.. Вертолетчики прошли только что…
– Ничем, парень, тебя не порадую: вместо тебя подсаживаются два байкальских геолога.
– Как?! Но ведь вы обещали… – с обидой в голосе протянул мальчишка.
– Что ж я, за свои деньги повезу кого-то чужого, а своих оставлю? – громко прозвучало у Димки за спиной. В дверях кухни стоял уже знакомый ему мужчина командирского вида с крепкой, как кокос, лысой головой.
– Как же мне теперь быть? – промямлил Димка.
– Не знаю, – ледяным тоном отчеканил кокосоголовый командир. – Ничем помочь не могу. Жди.
– Сколько ждать?
– Не знаю.
Димка стоял опустив руки и чувствовал, что никому он тут не нужен и никто не заинтересован ему помочь. А Шмырёв далеко и, наверное, даже не догадывается о том положении, в каком оказался его работник.
– Ксан Ксаныч! – донеслось из комнаты (Димка узнал голос одного из геофизиков). – Пусть с нами летит. Выполним съемку и подсядем на Бурунихе.
– А перегруз? Ваш борт нашпигован аппаратурой, как рождественский гусь.
– Какой там перегруз! Сколько он весит? Килограммов шестьдесят? Сколько ты весишь? – прошел в кухню полный круглолицый Володя.
– Шестьдесят семь, – отвечал Димка.
– Ну и рюкзак килограммов пять. Чепуха! Надо же человеку на легендарных гольцах побывать.
– Ладно, – неохотно уступил Ксан Ксаныч, – забирайте. Считай, повезло тебе, парняга, – кивнул он Димке.
– А если Шмырёв на гольцах? – осторожно спросил Димка.
– Тут уж, парень, тебе не до жиру. Забросим тебя на Буруниху, а там начальник базы пусть разбирается.
– Садись пока чаю попей, – предложил гостю Петрович.
Уговаривать Димку не пришлось. Он быстро сел за стол и едва не залпом опустошил налитую ему кружку чая, сопроводив ее восхитительным пряником.
– Не торопись. Вылет не раньше двенадцати, – уже гораздо приветливее пробурчал лохматый Петрович.
Димка выпил еще три кружки чая, съел два бутерброда с колбасой и в блаженном состоянии выполз из избы и уселся на скамью рядом со своими рюкзаком и сумкой. Освещенная солнцем, скамья была уже ощутимо теплой. От леса шел запах нагретой коры и смолы. Дзинькали какие-то невидимые пташки. Димка разомлел и даже начал подремывать, как вдруг раздался топот по доскам крыльца. Из дома вышел Петрович. Но это был уже совсем не тот медлительный, лохматый и сутулый Петрович, что говорил по рации или сидел в кухне за чаем. Это был подтянутый, энергичный мужчина в синей летной форме, что Димку немало удивило.
– Все, быстро вылетаем! Облачность поднялась! – бросил он Димке на ходу. – Вещи с собой?
Из соседнего домика выскочили знакомые Димке геофизики, оба в зеленых полевых костюмах, с планшетными сумками на боку.
В микроавтобусе уже сидели трое вертолетчиков, но другие – не те, что выезжали несколько часов назад. Немедленно тронулись.
Минут через двадцать машина подъехала к летному полю. Поле походило на футбольное, но только расширенное раз в десять. На правом его фланге виднелись два вертолета.
Петрович снял навесной замок с ворот из металлических труб, и все уже пешком прошли внутрь. Димка старался ни на шаг не отставать.
Вблизи вертолеты оказались неожиданно большими. Один был темно-зеленый, другой синий с белыми полосами. «Ми-8» – значилось на корпусе обеих машин. Стояли они на квадратных забетонированных площадках – стояли, приопустив лопасти, напоминая спящих доисторических животных.
Была еще и третья площадка, с которой, видимо, улетел вертолет грузовым рейсом.
Пилоты по лесенке поднялись в кабину синего. Петрович же остался внизу.
– Петрович не летит? – вполголоса спросил Димка у геофизика Володи.
– Нет, конечно. Он начальник летного отряда. Командует всеми экипажами.
Димка поглядел на Петровича с еще большим уважением.
– А Ксан Ксаныч тогда кто?
– Ксан Ксаныч – заказчик, проплачивает наши рейсы.
Кто же главнее – Петрович или Ксан Ксаныч, Димка так и не понял, но расспрашивать дальше постеснялся.
– Через десять минут взлет! – высунулся сверху, из кабины, один из пилотов. – Не расходиться!
Никто и не собирался расходиться. Тем более Димка, которого разве что силой можно было бы оттащить от готового взмыть в небо геликоптера.
Глава 4. Над горами
Внутри этого необыкновенного (по крайней мере, для Димки) летательного аппарата обнаружилось несколько сидений в ряд, почти как в микроавтобусе. Но, в отличие от микроавтобуса, между сиденьями и в проходе размещались какие-то металлические ящики, опутанные проводами, с ручками и лампочками-индикаторами. А еще был монитор, к которому подсел лысоватый худощавый геофизик Игорь.
– Впечатляет? – спросил он у Димки, который почтительно разглядывал аппаратуру. – Мы сейчас направляемся на участок, над которым будем летать по заданным линиям и производить аэросъемку. Увидишь, как это делается.
– Съемку чего? – не понял Димка.
– Полей – магнитного, гравитационного, теплового. Геофизика, если ты не в курсе, изучает физические поля Земли.
– Да? А для чего их изучать?
– Для чего?.. В двух словах и не объяснишь, друг-рабочий. Видишь ли… Наша планета Земля неоднородна, как ты понимаешь. Это тебе не колобок из теста. А потому ее физические поля также неоднородны и имеют участки как повышенных, так и пониженных значений. Такие участки называют аномалиями. Ясно?
Димка кивнул, хотя никакой ясности у него не было.
– Так вот, эти аномалии мы и выявляем. Гравиметрия, например, выявляет плотностные неоднородности, – продолжил Игорь. – А это, в свою очередь, помогает в поисках нефти, позволяет разобраться, как там внутри Земли все устроено. Вот он, аэрограви́метр, – привстав, геофизик ласково похлопал по светло-серому металлическому ящику с гроздьями проводов-макаронин. Ящик был установлен на небольшом железном «табурете» с толстыми короткими пружинами вместо ножек (чтобы смягчать тряску, догадался Димка). Ему очень захотелось покачать этот прибор на его ножках-пружинах, но он решил, что геофизикам это вряд ли понравится.
– А это магнито́метр, – уважительно указал Игорь на черную плоскую коробку с тумблерами на белой лицевой стороне. – Он фиксирует магнитные аномалии.
– Мотай на ус, – обернулся с переднего сиденья Володя. – Как устанем, ты нас сменишь.
Димка пропустил эту очередную подначку мимо ушей. Он не много понимал из того, что говорил ему лысоватый специалист, но почувствовал, что геофизика (если в ней разбираться) тоже, наверное, интересное дело. Особенно если все время летать на вертолете.
– Данные со всех приборов, – с энтузиазмом продолжал объяснять Игорь, – а также сигналы со спутников ГЛОНАСС поступают на бортовой компьютер. Компьютер в реальном времени вычерчивает…
Страшный рев заглушил последние слова научного работника. Это пилоты запустили двигатель. Димка от неожиданности даже голову в плечи вобрал. Железный корпус аппарата затрясся, как стиральная машина Димкиной мамы при отжиме, только еще сильнее. У Димки внутри тоже все завибрировало, а в глазах зарябило. Он поскорее сел в хвосте на одиночное откидное сиденье и прильнул к мутноватому круглому иллюминатору.
В иллюминатор видны были концы вращающихся вверху лопастей. Проносились они всё быстрее и быстрее, пока не размазались в одну сплошную плоскость, некий блин, но блин полупрозрачный, через который все же просматривались белые облака на голубом небе. Лопасти продолжали с бешеной скоростью крутиться, а вертолет продолжал стоять на месте. Димка начал уж беспокоиться, что это из-за него (из-за лишнего веса) вертолету не взлететь. Но вот гул достиг такой силы, что дальше оставалось только оглохнуть, и тут машина словно бы привстала на цыпочки. Бетонная площадка внизу плавно сдвинулась, заскользила назад и вниз, сменилась травой. По траве, как по воде, побежали круги. Промелькнула фигурка Петровича, обеими руками придерживающего фуражку, и вот уже внизу развернулось все летное поле и лес вокруг него, а вон и поселок – прямоугольнички крыш и крошечные поленницы дров. Блеснула река, делающая у поселка крутой изгиб. Земля уходила все ниже и как бы раздавалась вширь. А впереди, точно на картине, появились горы – четко очерченные, с яркими снежными зубчатыми вершинами. Самые высокие из них по-прежнему были окутаны облаками. Внизу же расстилалась плоская буро-зеленая равнина – тайга вперемежку с болотами.
До этого Димка летал лишь однажды, на самолете с родителями, и запомнил только холодную синеву и слепяще-белые поля облаков. Не было тогда ощущения полета. А вот вертолет – это, как оказалось, совсем другое. Тут ты прямо чувствуешь, что висишь в воздухе. И не понятно, почему висишь и не падаешь. То есть умом, конечно, понимаешь: лопасти винтов, кружась, как бы отталкиваются от воздуха и поднимают над землей эту железную махину со всем ее содержимым. Но в душе все равно – ощущение чего-то невероятного, сказочного, коверно-самолетного.
Как ни медленно они летели (по сравнению с самолетом), горы тем не менее заметно наползали на них и как будто росли ввысь. Димка представить себе не мог, как они перелетят через них, если их вершины о-го-го где! Однако, к его большому изумлению, они не стали перелетать их по верху. Сначала ему показалось, будто вертолетчики, точно камикадзе, правят прямо на отвесные скалы. Но потом в скалах открылся проход, и вот они уже летят между горами, в глубочайшем ущелье. Сбоку прямо перед Димкиными глазами (чудилось: рукой достать) проползала неровная, в трещинах и расщелинах, каменная стена. Димка не сомневался, что стоит вертолету чуть-чуть вильнуть в сторону – лопасти врежутся в эту стену, и они, кувыркаясь, рухнут в бездну. Туда, где далеко внизу серебристой ниточкой извивался ручеек. Такими же серебристыми ниточками тянулись со стен ущелья водопады. Там и сям белели обрывки облаков, зацепившиеся за неровности скал.
– Жесть… – пробормотал Димка, поежившись.
На минуту он отлепился от иллюминатора и взглянул на остальных. Удивительно: никто не глядел с восторгом и ужасом на эти исполинские скалы. Никто вообще не смотрел в иллюминатор. Сухощавый Игорь оцепенело уставился на светящийся, но пустой экран монитора, Володя дремал… В приотворенную дверь кабины видна была синяя спина одного из пилотов, но и эта спина не выражала никакого потрясения. Конечно, им ведь это не впервой, заключил Димка. Может, они уже в сотый раз пролетают через это ущелье.
Прошло с полчаса (а может, всего минут пять), ущелье незаметно расширилось, и вертолет, целый и невредимый, что казалось истинным чудом, выскользнул из его тисков. Грозный хребет остался позади, а внизу теперь потянулись горы гораздо ниже, округлые и густо поросшие тайгой – лиственницами, соснами, кедрами. Однако порой между ними, всякий раз неожиданно, распахивался глубокий провал.
Геофизики с этого момента преобразились: теперь они внимательно следили за приборами, подкручивали какие-то ручки. На мониторе рисовались несколько разноцветных кривых линий. Димка догадался, что началась аэросъемка физических полей.
Вертолет теперь как будто старался огибать рельеф, не опускаясь, конечно, в самую глубь ущелий. Вот он словно взбирается вверх по склону, едва не касаясь колесами верхушек деревьев. Но он благополучно переваливает через гору и слегка даже проваливается вниз, в распахнувшуюся пропасть. Зависает над ней. Затем, преодолев ущелье, вновь наползает на следующую гору – и все повторяется. Один раз машина так резко ухнула вниз, в пустоту, что Димка невольно зажмурился.
«Хорошо бы долететь живым, – мелькнуло у него в мозгу. – А то так и не познаю настоящей геологической жизни». Но тут же он пристыдил себя за эту малодушную мысль. Затем он подумал: «Интересно, по таким же местам будут проходить наши маршруты?» И ему ужасно захотелось полазить по этим кручам и походить по лесистым горам, проплывающим под днищем вертолета.
Прошло немало времени, а вертолет все продолжал описывать рельеф, а компьютер – вычерчивать график. И теперь уже Димка не гадал, долетят ли они живыми до места. И полет уже не восторгал и не пугал его. Теперь он сидел стиснув зубы, и ему казалось, что у него вот-вот разорвется живот. Как он жалел теперь, что выпил в домике у Петровича столько чая! Он поглядывал на геофизиков, которые преспокойно занимались своим делом, и все тверже убеждался, что они, как и вертолетчики, научились, по-видимому, отключать на время полета свои мочевые пузыри.
Димка терпел, собрав в кулак всю свою волю, все запасы выносливости.
«Конечно, – говорил он себе, – это не такое испытание, к каким я готовился, но все-таки испытание».
Однако всякая выносливость имеет свой предел. И Димка в конце концов не выдержал – смущенно оглядываясь, пробрался в самый хвост вертолета и там, встав на колени, совершил непристойное – через узенькую щель между громадными железными створками окропил с высоты эту прекрасную дикую тайгу.
Зато как после этого ему стало хорошо и весело! Хоть танцуй! Но он танцевать не стал, а снова с интересом приник к иллюминатору.
Летали они так добрых четыре часа. И когда Димка уже снова сидел скрючившись и стиснув зубы, машина наконец-то пошла на снижение над широкой, с множеством протоков рекой.
Сели на голую галечную косу. Видно было, как рябью ощетинилась вода и даже покинула мелкие места, отгоняемая поднятым винтами ветром.
После долгого свиста и гула внезапно наступила оглушающая тишина.
Один из пилотов, пройдя в салон, отворил наружную дверь и прикрепил железную лесенку. Димка со своими вещами спрыгнул на гальку. В первые секунды ногам его было странно, что земля не трясется и не проваливается под ними, как трясся и проваливался в пропасти вертолет. Затем его поразил мощный, всепроникающий запах. Это был совершенно специфический запах. В поселке и на базе «Лесавиа» тоже пахло лесом, но здесь не просто пахло – здесь разливался густой настой, концентрат запахов хвои, болотного мха, багульника, голубики и сотен других, неведомых Димке растений. Мальчишка даже забыл на минуту, что он первым делом намеревался рвануть к ближайшим кустам. И вспомнил об этом, когда увидел, что все – и пилоты, и геофизики – поспешили к этим самым кустам. А еще через несколько минут вновь взревели двигатели, командир экипажа, высунувшись из оконца, махнул прощально Димке рукой, и машина, задрав хвост, понеслась вперед и вверх, хватая лопастями воздух. Мощный гул, отдаляясь, скоро стал походить на тихий шум вентилятора.
Только теперь Димка огляделся: куда же его занесло?
С одной стороны от него с шумом и плеском бежала река, с другой, на террасе среди высоких деревьев, виднелись несколько бревенчатых срубов и палаток. Это, очевидно, и была база «байкальцев» на Бурунихе.
Вот он, мир, о котором Димка знал до сих пор лишь по книжкам да видел в собственном воображении, – мир суровой природы и железных людей.
От террасы шагал к Димке как раз один из таких людей – приземистый мужчина с плечами штангиста. Его подвернутые болотные сапоги зычно хлопали голенищами в такт шагам.
Глава 5. На базе
– Алексей! – протянул руку тяжелоатлет. Димка ощутил шершавую, как будто вытесанную из крепкого дерева ладонь. Ладонь эта так сжала Димкину кисть, что та на время онемела.
– Дима. Ручейков, – пролепетал мальчишка.
– Знаю. Мне по рации про тебя сообщили. Сообщили мне уже, так-то вот.
У мужчины было грубоватое скуластое лицо и пошкольному короткая прическа. Помимо сапог, он был одет в выгоревший до бледной желтизны энцефалитный костюм (это Димка потом уже узнал, что такой костюм называется энцефалитным, защищающим от энцефалитных клещей). Говорил мужчина громко и твердо, повторяя, как будто для большей убедительности, отдельные фразы.
– Пойдем, поселю тебя. Свободных палаток нет, нет свободных, поживешь пока у меня… у меня поживешь. – И он зашагал к террасе.
«Поживешь?» – повторил про себя Димка. Ему что же, придется тут жить? А Шмырёв? А маршруты?
– Шмырёв ваш сейчас под гольцами стоит, – на миг обернулся Алексей. – Под гольцами, – повторил он, – километрах в двадцати от базы.
– Как же я… туда доберусь? – растерянно спросил Димка.
– От нас пойдет туда вездеход. Вездеход пойдет. Но не раньше чем через два дня. Все вездеходы обломались. Сегодня доставили запчасти, будем ремонтироваться. Ремонтироваться будем. Так-то вот.
Несмотря на предстоящее ожидание, Димка обрадовался. Еще бы: он поедет на вездеходе! На вертолете сегодня летал (почти полдня), теперь и на вездеходе прокатится. А если вездеход сломается в дороге, ему придется добираться до лагеря пешком через тайгу и горы, по компасу. А это уже настоящее приключение! Правда, компаса у него не было.
Палатки и домики базы расположились среди высоких лиственниц на сыром и мшистом болотистом месте.
– Ты в тапочках? – оглядел Алексей Димкины ноги в кроссовках. – Сапог нет? Ладно, жди здесь.
Он ушел и вернулся с большими сапогами, явно почтенного возраста, облепленными, точно лейблами, овальными заплатками.
Но Димка обрадовался и таким. Было ясно: без сапог тут шагу не ступишь. Почва по всей базе была разворочена тракторами или вездеходами – чернели глубокие борозды. Пахло сероводородом, торфом, а еще сильнее – соляркой и машинным маслом. Под накрытым толем навесом Димка увидел полуразобранный вездеход со снятыми гусеницами. Рядом с ним на бревнах стоял зеркально блестящий, словно отполированный двигатель. Возле «больного» возились с инструментами, почти как хирурги в операционной, двое бородатых рабочих в грязных брезентовых робах. Их зверские физиономии заставили Димку засомневаться в приятности предстоящей поездки. У одного из них вместо брови тянулся кривой шрам, а глаз прикрывала кожа, напоминающая смятую бумагу.
– Как дела? – спросил у рабочих Димкин вожатый.
– Работаем, начальник, – отвечали те, из чего Димка заключил, что Алексей – начальник этой базы.
Палатки были расставлены беспорядочно, но зато крепились на каркасах из жердей. В палатке, в которую они вошли, было тепло и уютно. Посредине стоял, вбитый или вкопанный, отличный стол из струганных досок, по бокам от него – два лежака (нары). У входа, в ящике, наполненном мелкой галькой, помещалась жестяная печка, и от нее тянуло жаром.
– Бросай свои вещи и пойдем в столовую, – властно распорядился начальник базы. – Ужин ты уже пропустил… пропустил ужин, но надеюсь, что-нибудь у Фар-хата найдется… найдем, думаю, кое-что.
Только сейчас, когда они снова вышли на воздух, Димка заметил, что солнце висит уже над самыми макушками деревьев на том берегу реки и что заметно похолодало. А воздух, помимо комаров, наполнен мелкой липучей (и кусачей) мошко́й.
– Почему так мало народу? – подивился мальчишка. – Вы говорили: все палатки заняты.
– Люди на участках. На участки заброшены люди, – объяснил Алексей. – Канавы бьют, бурят. А в палатках у них вещи… Это как личные помещения, без разрешения негоже.
– А вы? – спросил Димка. – Вы на участки не забрасываетесь?
– Я-то? Мне-то как? На мне хозяйство. Всех надо обеспечить – продуктами, запчастями, горючим, вездеходами вот, которые постоянно ломаются. Ломаются, черти! – сокрушенно покачал головой начальник базы.
Столовая находилась в самом большом бревенчатом срубе. Войдя в нее, в первую секунду можно было решить, что ты попал в баню, так жарко тут было натоплено. Но в отличие от бани, тут пахло не вениками, а печеным хлебом и жареной рыбой. Повар, молчаливый молодой парень, по-азиатски смуглый и черноглазый, казалось, был недоволен, что Димка явился не в положенное время, но все же, по распоряжению Алексея, положил новичку в алюминиевую миску картофельного пюре и румяного, с корочкой окуня.
Окунь этот затмил всех, когда-либо пробованных Димкой окуней. Жаль только, что через несколько минут от него остался лишь хребет да тщательно высосанная голова. Не уступал окуню и хлеб – пушистый, ароматный, как будто только что из печи. Оказалось, так оно и есть: Фархат сам его пек в специальных формах.
После ужина Димкой овладело одно, но очень сильное, почти необоримое желание – добраться до нар в палатке Алексея и рухнуть на них. Столько за этот день случилось всяких событий, волнений, тревог, столько нового, непривычного, что казалось, прошел не один, а два или три дня.
Спал Димка в стареньком ватном спальнике, пахнущем соляркой, но зато теплом. Даже, можно сказать, жарком. Таком жарком, что к утру Димка был мокрым от пота. И, кстати, тоже весь пропах соляркой. По исходящему от него запаху Димку теперь можно было принять скорее за тракториста или вездеходчика, чем за рабочего-радиометриста.
И всю ночь напролет Димке чудилось сквозь сон, будто гудит, вращая винтами, вертолет. Но это шумела, не умолкая ни на миг, перекатываясь через пороги, бурная река Буруниха.
Глава 6. Баня
Весь следующий день Димка маялся, не зная, чем заняться. Попробовал покидать на реке спиннинг, но только оборвал, зацепив за камни, блесну. Ходил несколько раз смотреть, как чинят вездеход. Искупался в бурных струях Бурунихи, после чего долго согревался, размахивая руками и приседая.
Под вечер он сидел на бревне у палатки и гадал, когда же он попадет наконец в свой отряд.
– Скучаешь? – прозвучал у него над головой голос Алексея. – Пойдем! Поможешь мне баню истопить. Баню истопить поможешь.
Димка неохотно поднялся.
«Так и буду тут всякой мутотой заниматься вместо настоящих маршрутов!» – подосадовал он.
Баня походила на избушку Бабы-яги – низенькая, с плоской крышей и двумя крохотными оконцами. Не хватало только курьих ножек.
Рядом высилась беспорядочная гора громадных чурбаков, расколоть которые, как представлялось Димке, обычному человеку нечего и пытаться. Однако начальник базы был, очевидно, очень сильным мужчиной. Как Димка узнал чуть позже, в армии Алексей служил в десантных войсках и на его счету было более пяти сотен прыжков с парашютом. Вскинув над головой увесистый топор-колун, Алексей, ухнув, с треском и как будто без особого напряжения раскалывал эти чурбаки на половины, затем – на четвертины и так далее. Димка таскал поленья в баню, где гудела, светясь внизу алым светом, большая железная печь.
Печь была сделана из двух поставленных друг на друга железных бочек из-под солярки. В нижней бочке имелись дверцы для топки и поддувала, а верхняя вся была заполнена крупными камнями. Огонь с горячим дымом, проходя через камни, должен был нагревать их.
И действительно, скоро они здорово нагрелись, точнее сказать – раскалились. Так раскалились, с бочками за компанию, что находиться даже в двух метрах от них было нестерпимо. Дрова приходилось подкладывать в топку рывками. В первом рывке Димка заскакивал в баню, открывал поленом дверцу и тотчас же пулей вылетал наружу с вытаращенными глазами. Отдышавшись, начинающий истопник вторым рывком заскакивал снова, забрасывал в топку два-три поленища, захлопывал дверцу и удирал на четвереньках, давясь кашлем. По его перепачканному сажей красному лицу ручьями струился пот.
Снаружи Димка поддерживал огонь под бочкой с водой для мытья.
Зато уж протопилась баня на славу! Кроме Димки и Алексея пришли париться и те два страшных рабочих, что чинили вездеход, и еще два человека.
Вообще-то слово «париться» тут не совсем подходило. Сидя рядком на горячем полке́, мужчины скорее жарились или даже запекались, как пироги в духовке. У Димки зубы от жара зудели, точно по ним пробегал электрический ток. Изредка кто-нибудь из старших плескал ковшом горячую воду на камни внутри печи, и из нее, точно из сопла реактивного самолета и почти с таким же ревом, вырывался раскаленный воздушный вихрь. Одновременно с этим все как по команде бросались на пол. Когда же жар распределялся равномерно по всей бане и становился чуточку менее злым, парильщики вставали и принимались дружно и с пугающим остервенением хлестаться вениками. Причем веники у них были тоже пугающие – из колючего можжевельника или из корявых веток карликовой березы. Листочки этой березы выделяли какую-то слизь, и после того, как Алексей похлестал таким веником Димку, его тело сделалось слизким, как у налима.
Нахлеставшись до пунцового цвета кожи, мужчины выскакивали наружу, окутанные паром, и – кто с гоготом, кто с рычанием – бросались в ручей, протекавший у самого порога бани. Ручей был специально запружен валунами, так что получилась большая глубокая ванна или маленький бассейн, заполненный хрустальной водой.
Не желая отставать от других, Димка тоже рискнул бултыхнуться в эту ледяную купель. И удивительное дело: он совсем не ощутил холода. Ему лишь показалось в первую минуту, будто тысячи тонких иголок вонзились в его разгоряченное тело, а руки, ноги и голову словно стиснули тугие жгуты. Может быть, от этого голова временно перестала работать. Оскальзываясь на камнях, Димка с трудом выбрался из «ванны» и минут пять стоял, покачиваясь, точно пьяный. Деревья, баня, отдаленные палатки плыли перед его глазами и казались ему видениями из сна. Затем мальчишка улегся на усыпанную хвоей и щепками землю и лежал с блаженной улыбкой, точно под ним была не колючая лесная подстилка, а пушистая перина. Никогда прежде не испытывал он такой эйфории!.. Он даже ощущал, как вместе с ним вращается планета Земля. И вращалась она довольно быстро. К этому часу уже сгустились сумерки, и в небе над черной тайгой густо, как мошка, зароились звезды.
После бани Алексей заварил в закоптелом эмалированном чайнике крепкий чай.
В полевых условиях, как успел заметить Димка, чай заваривают прямо в большом чайнике или в котелке. Никто не возится с заварными чайничками. А чай в пакетиках, по словам Алексея, таежники не признают.
Они сидели на нарах друг напротив друга, с влажными волосами и красными лицами, и Димка чувствовал себя совсем взрослым. Горела электрическая лампочка, что было удивительно тут, в глуши.
– Это движок работает, – растолковал Алексей. – Движок у нас, портативная электростанция, на соляре работает.
На столе, помимо кружек с чаем, железной баночки с сахаром и открытой пачки печенья, размещались ближе к сетчатому оконцу какие-то камни, молоток, несколько охотничьих патронов, керосиновая лампа, стопка книг. «Земля Санникова» – прочитал Димка на корешке одной из книжек.
– Мне Обручев тоже нравится, – провел Димка ладонью по обложке. – Я читал «Плутонию» и «Землю Санникова». А еще – «Охотники за кладами». Но «Плутония» самая классная! Я ее три раза перечитывал. Мне только обидно, что в конце все их коллекции громадных бабочек, жуков пропали и никто не узнал об этой потаенной стране.
– Что жалеть? Это же вымысел, фантастика! – Скуластое мужественное лицо Алексея смягчила улыбка. – Фантастика, – повторил он. – Но когда за день умаешься, такое чтение – самое то! А вообще у Обручева… он же большой ученый был, академик – у него масса толковых работ по геологии, в том числе по геологии Сибири, именно этих мест, где мы сейчас находимся. Да, где мы с тобой, брат, сейчас сидим, он проводил полевые работы. Кажется, в конце девятнадцатого века[3]. – Начальник базы с минуту помолчал. – В «Плутонии» и «Земле Санникова», кстати, тоже немало научных сведений, о вымерших животных например. Но все события, конечно, придуманы. Хотя Санников этот, между прочим, лицо реальное, был такой[4]. Да и сам Владимир Афанасьевич, как о нем пишут, долгое время верил, будто обитаемая земля к северу от Новосибирских островов существует. И все же ее до сих пор не нашли, эту Землю Санникова. Не нашли ее, да… Арктика сейчас изучена вдоль и поперек, но никакой неизвестной земли там нет, и тем более того, что описано в романе, – тропических растений и прочего.
– Значит, такое вообще невозможно? – с сожалением спросил Димка, отхлебнув чаю и вытирая со лба испарину.
– Чтобы на севере росли южные растения? Это вряд ли. Хотя, ты знаешь… загадок в природе полно. Да, хватает загадок. У нас тут, кстати, тоже чудеса завелись – как раз в тех местах, куда ты, Дима Ручейков, путь правишь, на гольцах.
– Про метеорит мне уже говорили, – вспомнил Димка геофизиков.
– Загадочное место, – продолжал Алексей. – И вправду загадочное… Наши вездеходчики неохотно туда ездят. Жалуются на всякие неприятности: то двигатель ни с того ни с сего заглохнет, то трак[5] заклинит. А случалось, и часы в обратную сторону начинали идти. Я, правда, в эти байки не верю. Не верю я в них. Любят люди небылицы сочинять. Мол, из-за метеорита всё. А один дак рассказывает: видел, дескать, на плато лошадей. Навьюченных. Но я думаю, ему это с похмелья примерещилось: лошадей тут давно не используют. Хорошо хоть лошади, а не черти… что не черти ему привиделись! – рассмеялся рассказчик.
Димка задумался. Что-то необыкновенное наверняка там есть, решил он, если все про это говорят. Может, и не метеорит то был, а какое-нибудь НЛО… И ему совсем уж не терпелось поскорее попасть на эти таинственные гольцы.
Глава 7. «На броне»
Димка устроился на вездеходе сверху – как на танке. «На броне» – говорят про бойцов, едущих сверху на танке или бронетранспортере. Вездеход, хоть он и был когда-то военным, на танк походил не сильно, разве что гусеницами и грязно-зеленым цветом. Зато его помятые бока доказывали, что он побывал в разных переделках. В кабине (Димка успел в нее заглянуть) сидели на маленьких сиденьицах два уже знакомых ему бородатых мужика – водитель и, наверное, штурман. Там было жарко и пахло мотором. Вездеходчики, сами пропахшие насквозь моторными запахами, с серыми от машинной смазки руками и лицами, казались сроднившимися со своим транспортом. Можно было подумать, что они родились и выросли в этом вездеходе. Сзади имелись дверцы, ведущие в брюхо этого железного чудища. В объемном его «животе» могло бы поместиться, помимо наваленных там коробок и ящиков, наверное, треть Димкиного класса. Однако там стоял такой удушливый запах солярки, что сами водители, опасаясь, видимо, за Димкино здоровье, предложили ему ехать сверху, чему он был только рад, ведь из «брюха» он бы не увидел ничего вокруг.
Наверху имелась специальная площадка, что-то вроде мелкого кузова, с бортиками. Там Димка и устроился, подложив под себя ватник. Ватник ему сунул в последний момент начальник базы «байкальцев» Алексей.
– Теплые вещи есть? – спросил он у Димки, когда тот уже забрался на «броню».
– Свитер есть, – отозвался Димка. – И шапка.
– Мало. Малова́сто будет.
– Да лето же, Алексей! – возразил Димка.
– Забудь! Про лето забудь. Это тут, внизу, лето, а там, на высоте, еще и зима не раз наведается. Наведается зима, помяни мое слово.
Он крикнул водителю: «Погоди ехать, Сергеич!», сходил в свою палатку и вернулся со старенькой серой фуфайкой.
– Держи! – кинул он фуфайку Димке. – Можешь не возвращать. Как и сапоги.
– Да не надо, – начал было отказываться Димка.
– Не валяй дурака!
Вездеход нетерпеливо взревел, окутавшись синевато-белым облаком газов, и тронулся с места. Палатки, срубы, начальник базы остались позади.
Скоро Димке пришлось этот Алексеев ватник надеть, поскольку солнце спряталось в тучи и задул совсем не летний ветер. На голову он натянул синюю вязаную шапку, про которую напоминала по телефону мать.
Ехали они по боку горы, по специально прорезанной бульдозерами дороге, постепенно поднимавшейся наискосок выше и выше. Сначала по сторонам тянулся густой еловый и лиственничный лес. Такой густой, что под ним стоял сумрак. Пахло прелой древесиной. Потом пошли каменные склоны, частично покрытые мхом, с рассеянными чахлыми деревцами.
Хотя по силе своей вездеход и уступал, наверное, танку, но по боевитости – ничуть. Он грозно рычал и выдувал сбоку из трубы толстую струю дыма. Из-под его гусениц вылетали камни и ошметки грязи. Некоторые из них попадали даже в Димку. Но это его ничуть не смущало.
Накануне Димка расспросил Алексея про вездеход, на котором он сейчас ехал, и выяснил, что называется этот монстр – МТЛБ, что значит: «многоцелевой тягач легкий бронированный». Это и вправду была когда-то боевая машина, таскавшая за собой пушки. Но когда она устарела, ее списали и продали в частные руки, то есть руки этих двух ее водителей (а заодно – хозяев), которые сейчас вели ее по сибирским кручам. Перед выездом Димка успел сфотографировать этого мастодонта и зарисовал его в своем блокноте.
Сидя наверху, Димка гордо поглядывал по сторонам, как если бы под ним и в самом деле был танк, лишь замаскированный под мирный рабочий вездеход.
Далеко впереди то появлялись, то прятались за деревьями округлые вершины. Очевидно, к ним и прокладывал свой путь старый железный вояка.
Врезанная в склон дорога скоро кончилась, и дальше тянулся лишь тракторный или вездеходный след. Объезжая выбитые, видимо, другими вездеходами ямы, мощный транспортер легко подминал под себя небольшие деревца и с треском повалил несколько довольно высоких лиственниц. Мелкие веточки и хвоя густо сыпались при этом Димке на голову и за шиворот. Чуть ли не из-под самых гусениц в одном месте выскочила пестрая куропатка, а за ней – целый выводок птенцов. Отлетев метров на двадцать (птенцы не столько летели, сколько бежали, смешно подпрыгивая), птицы остановились, как будто в удивлении, что за ними никто не гонится.
Однако чем выше, тем дорога становилась хуже. Вездеход поминутно накренялся то вправо, то влево, то нырял носом в какую-нибудь рытвину, то вставал почти на дыбы. Казалось, этот бронтозавр прет наугад, ничего не видя и не слыша. Да и что можно видеть через его прищуренные оконца-щели?
Димка уже не поглядывал с гордостью по сторонам. Его занимало теперь другое: вцепившись в бортик, он изо всех сил старался не выпасть. И всякий раз, когда вездеход накренялся, он суматошно прикидывал, куда, на какую сторону ему спрыгивать, если транспорт начнет опрокидываться. А опрокинуться он грозил ежеминутно.
В дополнение к этой эквилибристике зарядил дождик. Сперва сверху сыпалась какая-то мелкая водяная пыль, но потом дождь разошелся и показал, что настроен серьезно. Вершины впереди скрыла серая мгла. В какой-то момент вездеход сбавил скорость, хотя он и так двигался не быстрее пешехода. На одном из люков впереди откинулась крышка. Из люка показалась страшная одноглазая физиономия и грязная лапища. Лапища швырнула Димке кусок брезента, и люк захлопнулся.
Догадавшись, для чего брезент, Димка попытался им накрыться. Но это оказалось непросто: ветер заворачивал края этого подобия тента, трепал его и силился вырвать из рук. Удерживая его, пассажир сам рисковал свалиться за борт. От выхлопных газов у него слезились глаза и першило в горле. А с брезента текла за шиворот пахнущая соляркой вода. Димка уже оставил мысль спрыгнуть в критический момент с «брони» и полностью отдался на волю судьбы.
«Меня не должен пугать этот дождь и ветер, – убеждал он себя. – Ведь это и есть полевые будни – под дождем или даже снегом, под шквалами ветра. Мне надо радоваться этим испытаниям». Но, по правде говоря, он больше радовался тому, что на нем ватник, который всучил ему начальник базы. С ватником эти будни переносились несравнимо лучше, чем без ватника. Хоть он и подмок, этот толстый ватник, но он не давал Димке совсем окоченеть.
В одном месте, проезжая маленькое болотце, они забуксовали. Вездеход хоть и назывался легким тягачом, на деле оказался достаточно тяжелым. Он ревел, бешено вращал гусеницами, так что земля и камни летели тучей, но оставался на месте и даже как будто погружался глубже.
Димка был озадачен. До сих пор он считал, что вездеход потому и зовется везде-ходом, что проходит везде. Но получалось, что это не так.
Один из водителей (который страшнее) вылез наружу с топором.
– Ишь, ядрическая сила! – выругался он, заглянув монстру под брюхо, после чего принялся рубить высокую лесину.
«Вот и приключения…» – подумалось Димке. Может, дальше они и ехать не смогут. Но ему почему-то расхотелось идти в гору пешком.
Димка тоже слез и, прикрываясь от дождя все тем же грязным брезентом, стал смотреть, как вездеходчик подсовывает ствол дерева под гусеницу.
– Чего стоишь?! – прикрикнул на него мужик, тараща здоровый глаз.
– А что делать? – спросил Димка.
– Как – что? Валежник, камни таскай!
Димке не очень-то хотелось таскать валежник и камни, но трудно отказать человеку с таким лицом.
Второй водитель включил ход, и гусеницы стали затягивать под себя бревна и принесенные Димкой камни. Одно из бревен тотчас же вылетело сзади. Хорошо, что там никто не стоял.
Димка всей душой уговаривал машину вылезти из этой хляби. «Ну! Давай! Еще немножко. Поднатужься», – шептал он. Но вездеход был глух к его мольбам.
Провозившись с полчаса без всякого толку, одноглазый водитель выругался матом и врезал машине сапогом по ее железному заду. И – о чудо! – в тот же миг тягач испуганно взревел и каким-то неизъяснимым образом выскочил из западни, оставив после себя безобразную ямину. У Димки же сложилось впечатление, будто вездеход лишь притворялся беспомощным, а на самом деле ему просто хотелось отдохнуть.
Опять поползли вверх по склону.
Возвращаясь мысленно к физиономии вездеходчика – морщинистой, со шрамом вместо брови и затянутым кожей глазом, Димка подумал, что если ему не удастся сфотографироваться с медведем, то вполне можно сняться с этим вездеходчиком. Пусть бы одноклассники увидели, с какими мужичарами он тут водился. А еще было бы круче – самому приехать с таким шрамом. Весь класс бы ахнул! Вот только неизвестно: понравилась бы Полине такая его мордуленция?
Склон между тем стал более пологим, а затем впереди открылось ядовито-зеленое поле с редкими чахлыми деревцами. Поле это, к удивлению Димки, оказалось болотом. Болото на такой высоте! Впрочем, он вспомнил (из уроков географии), что бывают так называемые верховые болота.
Уроки географии мигом вылетели у него из головы, когда он разглядел на дальнем крае этой плоскоти́ны, под серыми скальными уступами три светлые палатки. Мальчишку это так обрадовало, что он сбросил с себя вонючий мокрый брезент и привстал, вглядываясь вперед. Но МТЛБ сильно качался, и пришлось опять присесть.
У палаток появились фигурки людей. Димка победно помахал им. Вот она, долгожданная встреча! Наверное, сейчас его начнут обнимать, тормошить, радуясь, что он наконец добрался, да еще так героически, «на броне», под дождем и ветром. И он заранее улыбался, предвидя заботы, какими его окружат: проведут в палатку к жаркой печке, помогут снять мокрый ватник, напоят горячим чаем. А может, и застолье небольшое устроят в честь его прибытия. Ведь так всегда геологи встречают своих, если судить по книжкам.
Однако, когда вездеход остановился вблизи палаток, никто не кинулся к Димке с объятиями. Не было ни аплодисментов, ни криков «ура». Вместо этого люди озабоченно и энергично принялись вытаскивать из нутра МТЛБ коробки и уносить их в палатку, а затем – забрасывать внутрь вездехода тюки и рюкзаки, при этом как бы вовсе не замечая нового члена отряда. Была здесь и одна девушка, но и она не удостоила Димку своим вниманием.
Мальчишка в недоумении спрыгнул вниз, на захлюпавший под ногами мох.
– Прибыл? Хорошо. Сейчас мы едем дальше, на новый участок, на гольцы, – только и рыкнул мимоходом приземистый и зубастый, одетый в полевой костюм Григорий Борисович Шмырёв.
Горячая печка, чай, тепло и уют – все это растаяло как туман. Но не беда, зато они едут на гольцы, то есть, видимо, на самую-самую высь.
– Бери с собой только необходимое, потому как возвращаться в лагерь будем своим ходом, – добавил Григорий Борисович. – Спальник и пенка на тебя есть.
Димка никак не мог сообразить, что ему понадобится из вещей на вершине горы.
– Спиннинг там тебе точно не понадобится, – приметил начальник торчавшее из Димкиного рюкзака сложенное удилище.
Бородатые вездеходчики, усевшись верхом на кабине, курили, равнодушно поглядывая на происходящее. Видимо, с ними заранее все было договорено.
– Там в палатке чай горячий есть, пойди попей, – предложил Димке молодой горбоносый парень с коротким ежиком волос на голове. Но в эту самую минуту из палатки вышел тощий мужичок с чайником в руке и выплеснул его содержимое на землю, а пустой парящий чайник запихал в брезентовый мешок.
Димка полез обратно на «броню».
– Куда полез?! – прикрикнул на него тощий. – Грузиться помогай!
Глава 8. Гольцы
Теперь они ехали «на броне» впятером. Вездеход снова карабкался на горные кручи. Но деревьев тут уже не было. Одни камни. Лишь кое-где стлались по камням темно-зеленые хвойные ветви. Димка уже знал, что это кедровый стланик, или кедрач, как называл его Алексей.
Примерно через час они выехали на вершину. Впрочем, ее трудно было назвать вершиной в привычном понимании. Это было огромное, усыпанное камнями пространство с отдельными холмами-горками и зубчатыми скалистыми выступами. Видимо, это и были гольцы. Не сказать чтобы эти пресловутые гольцы Димку так уж очаровали. Это были не те красивые, сияющие белизной пики, которые он наблюдал, находясь в поселке. И встретили они гостей не праздничным сиянием, а ветром, моросью и несущимися прямо на них тучами. Да и тучи были – не тучи, а просто клочья сырого тумана. Ветер то пропадал, то внезапно выскакивал, словно из засады, и начинал гнуть и трясти кусты и стегать по лицу воздушными струями, высекая из глаз слезы и забираясь каким-то образом в рукава и за пазуху, хоть Димка и застегнул ватник на все пуговицы.
В понижении этой громадной территории (всю громадность которой скрывал туман) среди зарослей стланика и карликовой ивы пробегал ручеек. Проехав вдоль него, остановились на щебенистой, приподнятой над этим ручьем площадке. Все тотчас же слезли и с большим энтузиазмом стали выгружаться – то есть выбрасывать из кузова на мокрые камни и мох рюкзаки, тюки и зачехленные палатки.
Как только извлекли последний тюк и закрыли дверцы, вездеход завелся, развернулся, сдирая с камней мох, и поспешно, как бы боясь, чтобы его не вернули обратно, покатил на базу – туда, где была жаркая баня, столовая, надежные сухие жилища на каркасах и даже электричество.
Прибывшие немедля принялись налаживать палатки. Это были крохотные капроновые туристические палаточки. Размещали их на голых мокрых камнях, и пока разворачивали, они успевали вымокнуть. Каждую палатку ставили два человека, и Димка оказался вроде как лишним. Да по правде сказать, его в эти минуты интересовали не столько палатки, сколько торчащая поодаль, точно исполинский зуб, одиночная скала. Под скалой белело. Снег? Снег! Целый сугроб! Димке захотелось сбегать туда, чтобы убедиться, что это действительно настоящий снег, что они на такой высоте, где снег и летом не до конца тает. Жаль, что он оставил свой фотоаппарат внизу, в нижнем лагере, а то он заснял бы этот сугроб и показал бы потом в классе.
– Что стоишь зеваешь?! – прозвучало внезапно у Димкиного уха (хотя он вовсе не зевал). Это был тот сердитый тощий мужичок, который вылил чай и которого остальные называли Фомичом.
– Ты тут не на отдыхе, – продолжал ворчун. – Бери вон топор и чеши за дровами!
– А где здесь дрова? – растерянно огляделся Димка.
– В поленнице! – издевательски отвечал Фомич. – А поленница в сарае! Вон стланик, разуй глаза!
«Да он же сырой, этот стланик, – недоумевал мальчишка, направляясь с топором к купе мокрого зеленого кедрача. – Разве он будет гореть?» Его догнал рабочий – тот, что предлагал ему выпить чаю.
– Дай-ка мне, – взял он у Димки топор. – Сделаем так: я буду рубить, а ты таскай.
Решительно забравшись в гущу мокрых кустов, парень принялся вырубать не живые, а отмершие кривые ветви и стволы, похожие на куски серого скрученного каната, и бросать их Димке.
– Разгорятся, тогда и зеленые пойдут, – пояснил он.
Скоро чуть в стороне от палаток запылал костер. Пламя его, раздуваемое ветром, кидалось яростно из стороны в сторону, сердито гудело. Огонь как будто силился оторваться от головней и улететь вместе с клочьями тумана. Над огнем повесили закоптелый алюминиевый чайник с водой, и все обступили костер, греясь и подсушиваясь.
– Ну что, – подвел итог Григорий Борисович. – Довольно оперативно забросились, по-взрослому. Вышло, как я и планировал. И отряд наконец в полном составе, – кивнул он подбородком на Димку. – Значит, так: встаем завтра пораньше – и вперед! В общем, все идет по плану, коллеги.
Чай пили тоже стоя, у огня, повернувшись спиной к ветру. Сырые дрова шипели и трещали, стреляя угольками. Чай пахнул смоляным дымом.
Димка был немного разочарован странным недружелюбным приемом. «Наверное, в таких суровых условиях и люди становятся суровее», – объяснил он себе это обстоятельство.
Правда, после выпитого чая все немного размякли, стали разговорчивее. Шмырёв представил Димке остальных членов отряда.
– Это Семён Фомич, – указал он на тощего нервного человечка. – Он у нас старший геофизик и завхоз.
«И тут геофизики», – подумал Димка.
– Фомич у нас любит порядок и очень строг, так что смотри… – многозначительно предостерег главный.
– Алёна, – вытянул Шмырёв обе руки в сторону бледнолицей, с мальчишеской фигурой девушки. – Алёна – студентка Горного института, у нас она техник-геолог. Это Иван, – кивнул Григорий Борисович на горбоносого молодого человека. – Иван – рабочий и охотник. Он местный и знает все окрестности, и потому для нас особенно ценный кадр.
– Охотник есть, дичи нет, – сам над собой пошутил «ценный кадр».
– Ты, парень, попал, можно сказать, в уникальный район, – продолжал просвещать новичка руководитель отряда. – Как показала аэросъемка, здесь, на гольцах, проявились и магнитные, и гравиметрические, и радиационные аномалии.
– Это всё из-за метеорита? – оживился Димка.
– А! Слышал уже?! Нет, метеорит тут ни при чем. Это естественные аномалии, которые много о чем говорят. В частности – о вероятности рудных образований.
– А вы находили? – спросил Димка.
– Рудные образования?
– Нет, куски того метеорита.
Главный геофизик, не поворачивая головы, держа свой острый нос в кружке с чаем, проворчал:
– Делать нам больше нечего, кроме как метеориты искать. Глупостями заниматься, когда своей работы полно.
Иван же усмехнулся хитровато, молча расстегнул нагрудный кармашек сырой брезентовой куртки, вытащил оттуда матерчатый мешочек, тоже подмокший, в желтых пятнах, и извлек из него черный поблескивающий кусочек камня (или металла) с очень неровными, как будто оплавленными краями. Положил его Димке на ладонь. Обломок был довольно тяжелый для своих размеров и имел выемки и как бы мелкие ребра.
– Это метеорит? – спросил мальчишка недоверчиво.
– Он, – кивнул Иван.
Впервые в жизни Димка видел и держал в руке осколок метеорита. Метеорита, прилетевшего из космической бездны, может быть даже из другой галактики. Фантастика!
– Он железный? – повернулся Димка к Григорию Борисовичу.
– Железо-каменный, точнее – железо-силикатный, – небрежно пояснил Шмырёв. – Редкий тип, между прочим. Примерно один из ста такой. В основном они каменные – обыкновенные хондриты.
– А железные бывают?
– Даже чаще, чем железо-каменные. Впрочем, они не совсем железные, правильно сказать: железо-никелевые.
– А этот… От чего он откололся, не известно? От планеты? – продолжал расспрашивать Димка.
– Тебе надо было устраиваться к астрономам, а не к геологам, – съязвил Фомич.
– А кто его знает? – пожал плечами начальник. – Железо-никелевые соответствуют по составу ядру нашей планеты, а железо-каменные – эти, считается, происходят из ядер астероидов. Но Семён Фомич прав: мы не космологи.
– А еще рассказывают, – никак не мог успокоиться Димка, – будто тут, на гольцах, всякие… – он хотел сказать «чудеса», но решил, что это слишком детское слово. – Всякие странные вещи случаются.
– Точно. Случаются! – хохотнул Шмырёв, блеснув глубоко сидящими, как у волка, глазами. – Бывают, бывают странности, верно говорят. Идет, к примеру, человек по профилю номер пятнадцать, а в конце оказывается на профиле шестнадцатом.
Все заухмылялись, кроме Алёны.
– Ладно вам, – насупилась девушка. – Подумаешь, ошиблась, туман был и дождь. С вами такого не случалось?
– Никогда! – отчеканил Григорий Борисович. – Чудеса обходят меня стороной. Знать, боятся!
Стоя у костра, Димка почти высушил на себе одежду, даже носки подсушил, встав на свои же лежащие на боку сапоги босыми ногами. Хотя без прожженной в штанине дырки не обошлось. Зато он вполне согрелся. Но все равно было не очень-то приятно забираться в холодный, липнущий к телу спальный мешок.
Этот новенький ярко-голубой спальник обещал (если верить этикетке) комфорт при температуре от плюс десяти до нуля и терпимые условия при морозе до минус семи градусов. Но производители, очевидно, забыли указать, что для этого следует забираться в мешок в шубе и валенках. У Димки не было ни шубы, ни валенок, и он забрался туда в спортивных штанах, свитере, носках и шапке. Но этого оказалось недостаточно, хотя температура снаружи, как и внутри палатки, вряд ли была ниже нуля. Словом, Димка мерз. Правда, у мешка имелись и кое-какие достоинства. Внутри него, например, вполне можно было читать книжки. Димка убедился в этом, когда залез в него с головой (рассчитывая, что так будет теплее). Сквозь капроново-синтепоновую оболочку, как и через стенку палатки, легко проникал свет все еще горевшего костра. Возможно, так было задумано, однако сейчас Димка не испытывал желания читать (да и нечего было), а предпочел бы поскорее заснуть. Но как раз это оказалось делом непростым.
Палатка, доставшаяся Димке, своими размерами ненамного превосходила конуру некрупной собаки. Она была как раз такая по величине, чтобы одному человеку протиснуться в нее и лечь, поджав ноги. Впрочем, вытянуться все же можно было, но тогда либо голова выпирала бугром с одной стороны, либо ноги норовили высунуться наружу, прорвав молнию входа. Под спиной же у Димки, несмотря на подстеленную «пенку», ощущались угловатые камешки и какие-то штыри.
«Ну и что? – строго сказал себе испытуемый. – Я же не принцесса на горошине. И даже не принц. И тут не курорт, а полевые условия. Вот завтра начнутся маршруты, и все эти неудобства вмиг забудутся». Он набросил поверх спального мешка свой незаменимый, хотя и отяжелевший от влаги ватник, поджал ноги к животу и… не сразу, но ухитрился-таки заснуть.
Глава 9. «Черепаший маршрут»
К утру Димкиным ногам так надоело находиться в согнутом состоянии (а вытянуть их хоть немного не позволяла образовавшаяся в хвосте спальника морозильная камера), что пришлось подняться ни свет ни заря.
За ночь в окружающей природе мало что изменилось. Те же голые скалистые горки виднелись по сторонам сквозь дымку, шевелились под ветром сбившиеся в кучи кусты кедрача, подрагивали, как от озноба, веточки карликовой березки. И те же растрепанные серые тучи мчались вверху и у самой земли.
Выбираясь из палатки, Димка полагал, что он встал первым. Однако костер уже горел, раздуваемый ветром, над ним висели на кривой палке кастрюля и чайник и рядом возился хозяйственный Семён Фомич. Чайник уже кипел – фыркал, выплевывая из носика кипяток. Фомич заварил в пластмассовой кружке кофе (Димка понял это по долетевшему до него запаху) и понес парящую кружку в палатку. Палаток было четыре – три одноместные и одна побольше, где поселились начальник отряда и его деловой завхоз. Выходит, Фомич понес кофе главному.
Хоть Димка и старался ничему не удивляться, тут он все же удивился. Странно… При всем уважении к Григорию Борисовичу сам он, Димка, ни за что не стал бы подавать тому кофе в постель. Вообще никому не стал бы подавать, разве что больному человеку.
Пока не встали остальные, Димка сбегал к ближней скале и убедился, что под ней действительно лежит сугроб снега. Он опасался, что за ночь снег растает, но тот, похоже, и не собирался таять. Снег был рыхлый, холодный и хорошо лепился, так что Димка слепил из него небольшую фигурку – не то лешего, не то гнома. На этом исследования окрестностей он решил пока приостановить и поспешил обратно к жаркому костру.
После скорого завтрака, состоявшего из отварных «рожек» с тушенкой и черного чая, Григорий Борисович также наскоро объяснил Димке устройство и правила работы с радиометром.
С виду радиометр – это такая небольшая, но увесистая светло-серая металлическая коробка со шкалой и стрелкой за стеклом и двумя ручками настройки и регулировки. К коробке подсоединяется кабелем толстая алюминиевая трубка с рогообразной ручкой (чтобы держать трубку в руке) и с резиновой нахлобучкой на другом конце.
В наконечнике трубки, по словам Григория Борисовича, помещен особый кристалл, который и улавливает радиоактивные частицы, летящие из земли. Каждая частица при ударе по кристаллу порождает микроскопическую вспышку, как бы искорку. Специальный усилитель (называется он мудрено: фотоэлектрический умножитель, или ФЭУ) обращает эти вспышки в слабый электрический ток. А электрический ток отклоняет стрелку. Прилагались к прибору еще и наушники, в которых при включении слышался треск. Чем больше радиоактивность, тем сильнее треск. Коробка радиометра вешается на шею радиометристу. Трубку можно подвесить на пояс, словно дубинку, но при работе полагается держать ее в руке (при этом ее лучше удлинить, выдвинув из алюминиевой гильзы). И надо не просто держать, а приставлять резиновым концом к земле (к камням) и записывать показания.
Вот это и будет отныне Димкиной работой – измерять и записывать.
– И береги трубку. Не дай бог уронишь – или кристалл, или ФЭУ раско́каются – и хана прибору, – предупредил Григорий Борисович.
Димка не все понял из рассказа руководителя, не понял, например, почему образуются эти самые вспышки. Это было как раз самое интересное. Но расспрашивать было некогда, поскольку все уже изготовились, и по знаку Григория Борисовича отряд двинулся в маршрут.
Впереди шагал сам начальник, за ним – Семён Фомич, потом Алёна, а в хвосте – Димка. Шли след в след, точно волки. Иван, как Димка понял из разговоров, еще раньше, до того как Димка проснулся, отправился на охоту.
Итак, у Димки на шее висела коробка радиометра, которая вдобавок была закреплена ремнем вокруг груди. За этот ремень, по примеру Алёны и Фомича, Димка вставил трубку с рогообразной ручкой. Рюкзак и наушники с проводом дополняли его снаряжение. У него было ощущение, будто на него нацепили упряжь, точно на лошадь. Однако в душе он был доволен своей амуницией. Слегка досаждали ему лишь ветки кедрача, которые так и норовили зацепиться за какой-нибудь из многочисленных ремней и проводов.
– Сегодня походишь с нами хвостиком, – приостановившись, громко пояснил Димке Шмырёв. – Поучишься. А завтра, я думаю, разделимся: ты пойдешь с Алёной, а мы с Фомичом. Усек?
– Усек, – кивнул новоиспеченный радиометрист, бережно придерживая на груди трубку радиометра с ценным кристаллом.
Туман к этому часу рассеялся, но на небе мало что изменилось. Если до этого там была сплошная серая масса, то теперь – серая масса с более темными пятнами. Пятна эти быстро перемещались, что говорило о том, что ветер буйствует не только у земли.
Оглядев небо и однообразный ландшафт по сторонам, Димка стал всматриваться в каменную россыпь у себя под ногами, надеясь найти что-нибудь интересное. Кусочек метеорита, например. Пусть не крупный, пусть хотя бы такой, как у Ивана. Но камни были все одинаковые, светло-серые, покрытые в большинстве своем корочками лишайников разного цвета – бледно-зеленого, оранжевого, черного. Попадались иногда кустики брусники со сморщенными темно-бордовыми ягодами, сохранившимися, как видно, с прошлого лета. Димка попробовал на ходу несколько штучек. Они были резкие на вкус, но все равно приятные и душистые. Кроме него, никто из отряда не сорвал ни одной ягодки. И Димка тоже больше не стал, посчитав, что это несерьезное, почти детское занятие – собирать ягоды в рот.
«Интересно, – гадал он, – сегодня мы будем обследовать только это плато или заберемся на соседние горы?»
Пока что ни на какие горы забираться они не стали, а медленно двинулись по прорубленной в стланиковых зарослях узенькой просеке. Просека эта тянулась ровной линией поперек долины ручья и терялась где-то вдали, у шеренги скалистых возвышенностей плато.
– Профиль номер десять! – деловито объявил Григорий Борисович, поглядев на воткнутый в землю кусочек деревянной рейки, когда они ступили на эту просеку.
Копируя действия Фомича и Алёны, Димка включил прибор. В наушниках тотчас затрещало.
Семён Фомич, шагая за начальником, тыкал трубкой радиометра во все крупные камни, и под соседние кусты, и просто в мох, а то и под ноги Димке. Он неотрывно, изогнув худую шею, глядел на шкалу прибора и слушал сосредоточенно шум в наушниках. Лицо его при этом было таким значительным, как если бы ему через эти наушники передавали сообщения государственной важности.
Алёна же отбегала со своим прибором то вправо, то влево от просеки и часто скрывалась из виду.
– Здесь сорок! – доносился из зарослей ее звонкий голос.
– На чем? – спрашивал геолог, разбивая молотком кусок камня, рассматривая его и что-то записывая в особую книжицу.
– Конгломерат! – слышалось из дебрей.
– Хорошо. Сейчас запишу.
– Девяносто три, – точно в школе, поднял руку Фомич. – Сто. Сто двадцать! – ощупывал он концом трубки с разных сторон крупную глыбу.
– Отлично. Берем образец и пробу на анализ. А точку надо пометить репером.
Фомич снял с себя рюкзак, прибор, достал из рюкзака небольшую, почти новенькую кувалду и принялся колотить ею по глыбе.
Димка подошел и померил рядом.
– А у меня показывает всего девять, – недоуменно поглядел он на главного. – А тут и вовсе шесть.
Фомич отложил кувалду и покачал со вздохом головой, как бы говоря: ну что за олух?
– Шкалу переключи, недотепа! Не тот диапазон. – Он подошел и щелкнул сердито одним из переключателей на Димкином радиометре. – Ну? Что показывает? Шестьдесят, а не шесть. Перед этим, значит, было девяносто. Цена деления – это тебе что-то говорит? Двоечника взяли, Григорий Борисович!
– Ничего, – добродушно пророкотал Шмырёв. – Не всё сразу. Освоится. Все идет нормально, коллеги.
Уже с правильно установленным диапазоном Димка померил глыбу, которую долбил минуту назад Фомич.
– Восемьдесят, – доложил он. – Почему у меня восемьдесят, а не сто двадцать?
– Почему? – ядовито хмыкнул геофизик. – Это ты у нас спрашиваешь? Потому, что не в одном месте надо измерять, дорогуша, а искать, где излучение выше. И вообще: работать надо, а не плестись за нами хвостом.
– Пусть учится, – благосклонно махнул записной книжкой начальник.
К отбитым от глыбы кускам Алёна приклеила кусочки лейкопластыря с выведенным номером и упаковала камни в новенькие белые мешочки, в которые положила еще и специальные этикетки.
– Учись, тебе это тоже предстоит выполнять, – обратил Димкино внимание Фомич. – Хотя до сих пор мы и втроем вполне справлялись.
– Ничего-ничего, двумя маршрутными парами мы больше сделаем, – сказал свое слово главный.
Когда заросли стланика кончились, профиль продолжился по голым камням. Тут его можно было проследить по редким колышкам-рейкам, установленным словно по веревочке. Так добрались до скал, после чего сместились в сторону и попали на другую вереницу колышков, которая ниже по откосу также переходила в просеку. То есть это был профиль, параллельный первому. Столь же медленно, прощупывая путь радиометрами, словно миноискателями, двинулись по этому новому профилю в обратном направлении. Часа через полтора дошли до ручья, прошли по нему до следующего профиля и потащились опять к скалам.
И что же, озадаченно думал Димка, они так и будут ходить по этим линиям целый день? Или даже несколько дней у них будут такие черепашьи маршруты? А когда же в настоящий?
– Григорий Борисович! – обратился он к начальнику. – А когда у нас начнутся настоящие маршруты – по горам и по тайге?
– Чем тебе эта работа не нравится? – тут же встрял Фомич. – Скучно? Тогда тебе в турпоход надо было отправляться, а не в геологическую экспедицию.
Шмырёв дал высказаться своему помощнику, после чего дружески похлопал Димку по плечу:
– Ничего. Втянешься. Мы не первый сезон так работаем. Геологическая съемка, чтобы ты знал, практически по всей стране проведена. Сейчас ведутся в основном поисковые работы на перспективных площадях. Как у нас здесь.
– А то он хотел, понимаешь, и кайф ловить, и деньги чтобы платили, – продолжал глумиться Фомич. – А так не получится, господин турист. Тут уж или одно, или другое. А то со спиннингом приехал, видишь ли! Как на турбазу.
Димке вдруг очень захотелось подойти и приварить этого сморчка трубкой радиометра. Но он помнил, что в этой трубке находится хрупкий кристалл и такая же хрупкая лампа, а их полагалось оберегать.
И никто – ни начальник, ни студентка-техник – не сказали ни слова в защиту новичка. Шмырёва, похоже, все это только забавляло, а Алёну волновали исключительно аномалии. А может, они сами думали так же, как и Фомич, только не говорили об этом вслух.
Глава 10. Глупые вопросы
После четвертого профиля сделали привал у ручья. Развели костер, приладили над огнем на двух камнях чайник. Фомич раздал всем по куску лепешки, заменяющей хлеб. Димке почему-то – самый маленький, и опять никто этого как будто не заметил. Свой кусок Димка сразу съел, а чай потом пил с рыбными консервами без хлеба. Чай был таким крепким, что у Димки от горечи сводило челюсть.
– Молодец, – похвалил начальник Фомича. – Хорошо заварил, по-взрослому! А то бывает: заварят белый чай. Я белый чай не пью!
– Григорий Борисович, – обратился к геологу Димка. – Радиоактивность была шестьдесят и даже сто двадцать. Это ведь много? Из-за чего такая радиоактивность? Из-за метеорита?
На лицах у всех появились улыбки. Алёна отвернулась, видимо, чтобы не расхохотаться. Даже вечно насупленный Фомич сморщил лицо и подтянул губу к носу.
– Или, может, тут урановая руда? – поспешил исправиться мальчишка.
Старшие товарищи снова заухмылялись. Все это указывало на глупость Димкиных вопросов.
– Видишь ли, друг Дима, – кашлянув, заговорил Шмырёв. – Метеорит тут вовсе ни при чем. Дался тебе этот метеорит! А насчет руды – не так все просто. Все дело в том, что́ мы хотим получить. Если мы ищем урановую руду, то это невысокие значения, хотя с глубиной активность может возрастать. Если же мы используем радиоактивность для разделения пород[6], поскольку у разных пород она разная, то для обычной породы это довольно высокие показания.
– А какие тут породы? Ценные?
– Обычные. Сланцы, доломиты, вулканические туфы… – монотонно принялся перечислять геолог.
– Вулканические туфы?! Значит, тут есть вулканы?! – обрадовался Димка.
– Ну, не столько вулканы, сколько их продукты – вулканические породы, – охладил его начальник, поднимаясь на ноги. – От вулканов остались рожки да ножки. Всё, хорош прохлаждаться, господа. Работа не ждет! В прошлом году мы вовсе без чаёвок работали.
– И правильно! Вполне можно и без чаёвок, – подхватил Фомич. – Продуктов экономия.
«Без чаёвок вообще будет тоска…» – уныло подумал Димка.
Пока сидели у костра, начал накрапывать дождик. Отдаленная гряда скал скрылась за дымчатой пеленой. Когда же двинулись по очередному профилю, вперемешку с дождем пошел и мокрый снег.
«„Про лето забудь“, – вспомнил Димка слова начальника базы Алексея. – Похоже, и вправду придется забыть. Зато для меня это закалка. А еще будет что рассказать друзьям».
И он старался не замечать озябших рук и ног и того, что штанины вымокли от кустов и неприятно липли к ногам. Другие ведь не замечали этого. Наверное, ему было бы легче не замечать эту непогоду, если бы на нем был ватник. К сожалению, ватник он не взял в маршрут, понадеявшись на выданную ему новенькую накидку-дождевик лимонно-желтого цвета. Но, по всей видимости, дождевик этот не был рассчитан на продолжительный дождь со снегом, ибо через какое-то время он бойко потек по всем швам.
– Сорок пять! – продолжала выкрикивать с разных сторон профиля Алёна, тоже облаченная в желтый дождевик. – Пятьдесят!
С прежним усердием ощупывал трубкой каждый камень и Фомич. На Фомиче, как и на Шмырёве, был серый прорезиненный плащ, некрасивый, но зато, наверное, более надежный.
Димка забыл еще выяснить у начальника, откуда берется эта самая радиоактивность, которую они меряют, но спрашивать при Фомиче ему не хотелось. Поэтому он дождался, когда Семён Фомич занялся очередной глыбой, и подошел к геологу:
– Григорий Борисович, скажите, а радиоактивность – почему она идет из земли?
И тотчас же за спиной у Димки прозвучал язвительный голосок:
– Чему вас в школе учат? Еще спросил бы, почему Земля вращается, грамотей.
«А правда: почему она вращается?» – подумал мальчишка, но спрашивать, конечно же, не стал.
– Вообще-то, излучение исходит не только из земли, но также из воздуха, из космоса, – скороговоркой отвечал начальник. – Со всех сторон – как душ Шарко́, – хмыкнул он. – В земле же, в горных породах содержатся в разных количествах радионуклиды – уран, радий, торий… Слышал о таких? И еще много других, в том числе радон[7]. Распадаясь, эти элементы выделяют альфа-, бета– и гамма-частицы.
– Гамма-излучение, – поправил Семён Фомич.
– Строго говоря, да, – согласился начальник. – Альфа – это ядра гелия, бета – электроны, а гамма – это уже волны, хотя, как мы знаем из физики, электромагнитные волны – это одновременно и кванты. Так вот, наши приборы настроены на гамма-излучение. Мы проводим, чтобы ты знал, площадную гамма-съемку. Усек? Детально объяснять некогда. Захочешь – в книжках почитаешь. – И руководитель потопал дальше. За ним поспешил Фомич, ворча что-то себе под нос.
– …Взяли неуча, – расслышал Димка его сердитое бурчание.
«Черепаший маршрут» продолжался до сумерек. От постоянного треска в наушниках Димке стало мерещиться, будто трещит у него в мозгу.
«Лучше бы музыку слушать через них, чем этот дурацкий треск», – вспомнил он про оставленный в нижнем лагере аудиоплеер.
С возвышенности хорошо был виден дым от костра в лагере. Значит, Иван уже вернулся и что-то готовит на ужин. Видимо, добыл какую-то дичь. Вот было бы здорово!
Однако оказалось, никакого зверя хваленый охотник не добыл.
– Нет живности, – сокрушался он, потирая остриженный затылок. – Геофизики, видать, распугали всю своими облетами.
Зато Иван позволил Димке осмотреть и подержать в руках карабин, который оказался таким тяжеленным, что Димка засомневался, смог ли бы он целый день таскать на плече такой груз (если бы ему вдруг доверили).
– А на кого ты охотился? – поинтересовался мальчишка.
– А кто попадется: коза, олень… Выбора особого нет.
– А медведи тут водятся?
– Этих совсем извели. Повыбили. Охотники, браконьеры… Да и геологи с геофизиками руку приложили.
– Жаль, – вздохнул Димка.
Значит, повстречаться с медведем, а тем более сфотографироваться с ним – нечего и рассчитывать. Перед друзьями не похвастаешься, что видел настоящего дикого медведя. Не повезло…
– Работал с нами один парняга, – вспомнил по случаю Шмырёв. – Не здесь – на Верхоянье. Тоже все рвался медведя увидеть. А как увидал – влез на дерево, и мы никак потом не могли его оттуда стащить. Хотели уж было лесину подрубать, да он сам свалился, когда руки устали держаться.
Все расхохотались, а Фомич, фукая носом, зыркал насмешливо на Димку, как будто это Димка сидел на дереве и свалился с него.
Жевали опять все те же рожки с тушенкой. В целях экономии Фомич в одну варку клал из открытой банки только жир и желеобразную жижицу, а в следующую варку – то, что считалось мясом (а в реальности почти растворялось в каше или рожках). Димка не был привередой в отношении еды, но отварные рожки в третий раз за два дня заставили его невольно вспомнить о маминых наваристых борщах с кусками настоящего мяса, котлетах, рыбе, тушенной в томатном соусе, и прочих вкусностях. Но он остановил разгулявшееся воображение, говоря себе, что здешний скудный рацион тоже, наверное, способствует воспитанию в человеке мужского характера.
Ужинали в специфических условиях, забившись впятером в двухместную палаточку Шмырёва и Фомича, поскольку дождь со снегом не прекращались. Слышно было, как шумит в ветвях стланика ветер. Прямо над головой время от времени раздавался визгливый звук – это съезжал по тенту налипший слой мокрого снега. Было сыро, и хотелось погреться у костра. Снег уже не удивлял и не веселил Димку так, как утром, когда он лепил гнома.
– Ну, – проговорил руководитель, отложив пустую миску, – радиометр ты, друг Дима, сегодня освоил. Хвалю! Завтра пойдешь в паре с Алёной. Она будет за геолога, а ты… ты по-прежнему за рабочего-радиометриста.
– А что мы, Григорий Борисович, должны тут найти? – спросил Димка. – Золото?
– Почти угадал. Хотя не только золото, а вообще руду. Руда – одна из наших задач, – отвечал геолог, почему-то хмурясь. – Но первое – это детальная геологическая карта. На нижнем участке, под гольцами, мы уже полевую карту сделали, и даже в электронном виде. А вот руды пока нет. Но будет в конце концов и руда. Не всё сразу. Пока нет, но – кровь из носу – найдем! – яростно прорычал он.
– Работать надо – и будет результат, – добавил Фомич, и это прозвучало как упрек, но кому – не ясно.
Димке хотелось еще спросить, можно ли с помощью радиометра найти метеорит, но он опасался, что над ним опять начнут подсмеиваться.
После ужина здесь же, в командирской палатке, так же скорчившись, Димка диктовал Алёне цифры из ее и Фомича радиометрических журналов, а она заносила их в ноутбук, и там сразу строился график.
Глава 11. Алёна за геолога
Ночью снег перестал, но подул такой сильный ветер, что палатка не переставая трепетала и билась, будто пойманная птица. Чудилось: вот-вот она оборвет растяжки и улетит. Тент над ней едва удерживали увесистые камни, положенные, по совету Ивана, сверху на воткнутые металлические колышки. Природа словно решила доказать непрошеным гостям, что есть еще на Земле места, где человек не царь.
Димка лежал съежившись, и ничто не смогло бы выманить его сейчас из этого единственного в окру́ге, как казалось ему, сухого убежища. Лежал он, как и в прошлую ночь, прикрытый поверх спальника ватником и так же, как в прошлую ночь, трясся от холода. Ступни как замерзли в маршруте, так с тех пор и не согрелись. Силясь оживить их, он взялся шевелить пальцами и с героическим упорством шевелил ими до боли в мышцах икр. После чего пощупал. Результат его не порадовал: ступни оставались такими же, то есть ледяными. Тогда Димка применил растирание. Он тер свои пятки так долго и с таким старанием, что будь это ноги мертвеца, то даже они потеплели бы. Димкины же ступни, как показалось ему в отчаянии, стали только холоднее.
Эх, ему бы сейчас то теплое пухлое одеяло, под которым он спал дома! Вот это был бы кайф! Он бы закутался в него, подвернул со всех сторон и мигом бы согрелся. А еще лучше – самому оказаться дома. Хоть ненадолго, всего на одну ночку. Только на одну. Согреться, выспаться – и опять сюда.
И ему живо представилась родительская квартира, теплая, чистая, просторная. Сейчас отец, мама и сестра сидят в уютной кухне, пьют чай с домашним печеньем и с вареньем. Бери сколько желаешь печенья, никто тебя не ограничивает, как тут этот вредный завхоз. Пей сколько хочешь чаю, не боясь, что ночью тебя «припрет» и придется вылезать из палатки на холод и ветер.
«Стоп, – остановил себя Димка. – Хорош себя расслаблять!» Ведь, отправляясь сюда, он знал, что придется терпеть разные неудобства. Значит, нечего ныть!
Между тем оставленные без попечения ступни незаметно сами собой согрелись. Но все равно заснул Димка нескоро. Дело в том, что назавтра он был назначен дежурным. Это значило – встать на час раньше других, разжечь на ветру костер и приготовить кашу и чай. Димка боялся проспать. Часов у него не было, а мобильный телефон остался в нижнем лагере, да и аккумулятор в нем давно разрядился (хорошо еще, что он успел из поселка звякнуть домой – сообщить, что добрался). Когда Димка спросил у начальника, как же ему встать без будильника, тот ответил просто: «Как начнет светать, так и вставай».
И вот Димка то задремывал, то опять просыпался, слушал, как трепещет палатка и хлопает тент, и старался понять, не начало ли рассветать. И всю ночь протяжно и жалобно кричала какая-то птица. Наверное, тоже ждала рассвета и мерзла. Ей-то, под открытым небом, на ветру, было куда хуже, чем Димке, лежащему в палатке и в спальнике.
К утру ветер немного успокоился, и Димка вполне успешно, изведя всего только полкоробка спичек, развел костер. Правда, вел себя костер странно. Он соизволял гореть лишь тогда, когда Димка, стоя на четвереньках, беспрерывно дул в него. Дул он до помрачения в голове. Но как только он останавливался, чтобы прийти в себя, пламя тотчас же съеживалось до размера фитилька.
Когда остальные встали, каша еще не была готова. Не замечалось и признаков кипения. От костра валил густой дым, а дежурный, со слезящимися от дыма глазами, на четвереньках, упорно дул в эту дымящую кучу хвороста. Потом, когда огонь все же разгорелся по-нормальному (не без помощи Ивана), а Димка побежал к ручью умыться, каша успела за это короткое время основательно пригореть.
– С дымком, – дипломатично заметил Григорий Борисович за завтраком.
– И с поджарками, – ехидно прибавил Фомич.
Весь этот день Димка снова ходил «хвостиком», но теперь уже за Алёной. Со студенткой он чувствовал себя проще, но все равно работа была не менее однообразной, чем вчера. Никаких тебе приключений, никаких испытаний! Разве что испытание на терпение. Никаких новых мест… Лишь дергающаяся тоненькая стрелка прибора да беспрерывный треск в наушниках. Разве о таком он мечтал? О таком читал в книжках? И будут ли они позднее, эти приключения? Теперь уже Димка в этом сильно сомневался.
Показания радиометра Димка записывал карандашом в особую тетрадь, именуемую журналом.
– Вот здесь померь. И вот тут, – указывала ему Алёна. – Сколько? Хорошо померил?
– Не хуже Фомича.
– Ну, до Семёна Фомича тебе далеко, – усмехнулась студентка.
Для разнообразия Димка померил и ее саму, приставив трубку к спине девушки, пока та, присев, писала в полевой книжке.
– Тринадцать! – объявил он. – Что-то маловато. Записать?
– Перестань, – нахмурилась техник, но все же блеснула смешливо глазками. – Себя лучше померяй, шутник. Всё, не сбивай меня.
День тянулся и тянулся – так же нудно, как и эти одинаковые профили, как и эти одинаково серые тучи. Одно радовало – то, что сегодня договорились вернуться на стоянку пораньше, чтобы перенести палатки на новое место – ближе ко второй части профилей. А переносить палатки, по мнению Димки, куда интереснее, чем ходить за кем-то «хвостиком» и тыкать в землю трубкой. Кажется, в школе на уроках и то было интереснее.
Однако, когда дошли в очередной раз до подножия скал, Димка, к своей большой радости, обнаружил нечто необычное. Он обратил внимание на странное расположение камней на косогоре.
Вообще, тут, на плато, камни имели в большинстве своем плитчатую форму. Но если повсюду они лежали плашмя, то тут часть из них стояла на ребре. Но и это бы ничего. Удивило Димку то, что эти «неправильные» плитки образовывали довольно правильные геометрические фигуры – окружности, дуги, линии. Часто они бугром или кольцом выпирали над общей поверхностью вершины. Создавалось впечатление, будто кто-то специально уложил эти плитки в некие узоры.
– Алёна! – возбужденно подозвал Димка старшую. – Глянь: что это?! Что за странные знаки? Может, это следы древней цивилизации?
– Да, это следы, – кивнула студентка. – Но только не цивилизации, а мерзлоты. Это результат деятельности вечной мерзлоты.
– Шутишь? – не сразу поверил Димка. – Ну и ну! А почему они такие… геометрически правильные? Каким образом мерзлота выстраивает такие четкие круги?
Но Алёна объяснять не захотела (или сама не знала).
– Как-то выстраивает, – только и сказала она.
Димка счел нужным зарисовать эти загадочные фигуры в своем блокноте, который был у него постоянно под рукой – в кармане куртки.
Пройдясь дальше вдоль подножия скал, он наткнулся еще на одно загадочное образование. Это был весьма глубокий, Димке почти по колено, желоб, тянущийся параллельно скалам ровной линией. Неугомонный исследователь прошел немного по нему, но тот убегал вперед метров на пятьдесят или больше и терялся за уступом горы, то есть спускался, видимо, с вершины плато вниз.
– Дмитрий! Мы не на прогулке! – сердито окликнула его издали техник, которая уже перешла на другой профиль.
Мальчишка догнал ее и рассказал про необыкновенную борозду.
– Скажешь: это тоже действие мерзлоты? – с сомнением спросил он.
– А чего же еще?
Димка и сам не мог придумать никакого другого убедительного объяснения. Не окоп же здесь когда-то рыли…
– Алёна! – обратился он к студентке чуть погодя. – А что, зря говорят, будто тут, на гольцах, всякие необычные явления происходят? Часы будто в обратную сторону крутятся…
– Не знаю. У меня они крутятся нормально. Не отвлекай меня, пожалуйста. И не отставай.
Алёна весь маршрут сосала карамельки, и если бы Димка сильно отстал, он смог бы легко найти ее по конфетным фантикам.
Во время привала, пока пили молчком чай, Димка вспомнил, как он летел на вертолете через ущелье и какие там были скалы. «Жаль, что мы не работаем в тех местах», – подумал он.
– Алёна, – нарушил он молчание, – а почему Григорий Борисович выбрал для экспедиции такое скучное место? Тут ни пиков острых, ни ущелий… Даже медведей нет.
– Мы не пики покорять сюда приехали и не охотиться, а искать полезные ископаемые.
– Какая разница, где их искать? Горы – они везде горы.
– Везде, да не везде одинаковые.
– Не одинаковые – это точно! – согласился Димка. – Откуда они вообще взялись, все эти горы? – обвел он рукой вокруг. – Не мерзлота же их породила?
Алёна наморщила лоб.
– Ну, откуда… – проговорила она не совсем твердо. – Считается, что где-то на границе рифея и кембрия[8], это примерно пятьсот миллионов лет назад, на юге Сибири происходило горообразование, байкальская складчатость… Но лучше бы ты Григория Борисовича расспросил. И насчет той своей борозды заодно.
Глава 12. Необычные явления
С Григорием Борисовичем и Фомичом они встретились около шести часов вечера на подходе к лагерю. Димка не замедлил спросить у Шмырёва про горы и про борозду.
– Насчет образования гор тебе лучше к тектонистам[9] обратиться, – пробурчал геолог. – Это их вотчина. Я поисковик, и мое дело – полезные ископаемые. А что там у тебя за борозды – это надо на месте смотреть.
– У нас хватает работы, чтобы еще на всякую чепуху отвлекаться, – тотчас встрял Фомич.
– Бугры, борозды – это обычно проделки мерзлоты, – договорил Григорий Борисович. – Мерзлота – это тебе не хухры-мухры.
– Все его куда-то не туда тянет, – гнусаво проворчал Фомич. – Турист – он и есть турист.
Димке бы смолчать, но он в этот раз не удержался.
– Никакой я вам не турист! – выговорил он отчетливо, чувствуя, как его охватывает нервная дрожь.
– Да и турист негодный, – продолжал еще более язвительно геофизик. – Кашу сварить не умеешь.
Правда, Димка не мог похвастаться поварскими способностями, но он старался, он готов был учиться… Теперь же от слов Фомича у него возникло ощущение, будто его тычут носом в эту его пригоревшую кашу. Обида, злость, даже ненависть к этому сморчку-завхозу, которые накапливались в нем за эти последние дни, должны были в конце концов прорваться наружу. И они прорвались…
– Да, – проговорил он, едва сдерживаясь, чтобы не закричать. – Не умею! И кофе в постель начальникам не умею подавать. Как некоторые… «шестерки».
Они как раз подходили к лагерю, но Димка резко развернулся и зашагал, не оборачиваясь, вниз по откосу – к ручью.
– Ишь! Дерзит еще! – неслось ему вслед. – Думал, это ему тут кофе станут подавать!
«К черту! Пусть увольняют! – скакали в Димкиной голове отчаянные мысли. – Достали! Фомич этот!.. Шестерка поганая!»
Подойдя к воде, мальчишка сбросил с себя рюкзак, раздраженно принялся стаскивать через голову коробку радиометра. Просунутая за ремни трубка выскользнула и звонко ударилась о камни…
Быстрее чем за секунду все предыдущие горести и обиды выпорхнули из Димкиной головы. Их заменило одноединственное слово: «КРИСТАЛЛ».
Медленно опустившись на колени, Димка похолодевшими пальцами включил прибор. Стрелка стояла на нуле и нисколечко не колебалась. И в наушниках царила гробовая тишина. Он потряс трубку, коробку, пощелкал ручками – ничего не изменилось.
«Всё, разбил кристалл… или лампу…»
Почувствовав внезапно страшную усталость, Димка присел на камень. Вот. Случилось. Непоправимое. Ужасное…
«Предупреждали же… Григорий Борисович предупреждал: осторожнее с трубкой…»
«Теперь, сто процентов, уволят», – решил он.
Предыдущие свои слова: «Пусть увольняют!» – он, конечно же, говорил сгоряча. Как?! Ну как он вернется домой, едва уехав?! Что скажет друзьям, родителям? Не справился? Выгнали?!
«Я и на обратный билет не заработал, – вдруг сообразил он. – Выходит, и уехать не на что. И как вообще можно выбраться отсюда, на чем? Вездеход, вертолет… Кто повезет меня? Кому это надо?»
И он почувствовал такую безвыходность своего положения, такой тупик и отчаяние, что встал на четвереньки на мокрый прибрежный мох и сунул голову в ледяной ручей. Голову сжало, точно железным обручем, как на базе у Алексея во время бани, но только еще сильнее. Какое-то время после этой процедуры Димка ничего не соображал и не видел. В глазах все расплывалось. Когда же взгляд прояснел, он увидел бойко бегущую стеклянно-прозрачную воду. Различим был каждый камешек на дне. И тут… Что это? Погоди-погоди!.. Сквозь играющие струи среди серой и желтоватой гальки, устилавшей дно, он приметил черный, угловатой формы кусочек – почти такой же, какой показывал ему Иван, только чуточку поменьше. Да это же…
«Ядрическая сила!» – вырвалось у него выражение одноглазого вездеходчика. На секунду Димка забыл про все свои беды – про ссору, про сломанный прибор, про угрозу увольнения. Неужели ему повезло, как Ивану?! Неужели у него будет настоящий метеорит? Да весь его класс просто обалдеет! И Полина… Полина еще как обалдеет!
Димка сунул в ручей руку, однако никакого черного обломка там не было. Странно. Ведь только что был. Куда же он девался? Что за чертовщина?! Унесло течением? Но ведь он тяжелый. Наверняка тяжелее всех этих камней. Или он Димке всего-навсего примерещился?
Внимательно осматривая дно ручья, мальчишка медленно прошел вниз по течению метров десять. Ничего. Ноль. Как будто никакого осколка и не было.
Ну и черт с ним! Зато он, Димка, кажется, успокоился. Ситуация уже не представлялась ему такой уж трагической. Ну нагрубил Фомичу. Подумаешь! Не Фомич тут главный, а Григорий Борисович. Григорий Борисович же, как Димка заметил, старается не вмешиваться в личные разборки. Делает вид, что его это не касается. А прибор… Есть ведь еще третий радиометр – тот, с которым ходила Алёна.
Димка заметно ободрился. Ему показалось, что даже воздух вокруг посветлел. Он решительно повернулся, чтобы идти к своим – признаться насчет испорченного радиометра. Сделал несколько шагов по откосу берега и… не увидел палаток. Палатки исчезли. Неужели успели перетащить стоянку на новое место? И без него? Это нечестно! Он взбежал на площадку, где еще недавно размещалась стоянка. Никого. Никаких вещей, никаких вообще следов, даже от костра… Не было и вездеходного следа, особенно глубокого в том месте, где МТЛБ разворачивался.
Ничего не понимая, даже и не пытаясь понять, Димка вернулся к ручью и пробежал вдоль него в одну, потом в обратную сторону. Пусто… Ни души…
Что же это такое?.. Можно, конечно, предположить, что после конфликта с Фомичом он, разгоряченный, расстроенный, не заметил, как ушел далеко от стоянки. Но даже если так, палатки все равно должны находиться где-то у ручья, даже на новом месте. Да вон и одиночная скала со снежником в подножии, он ее хорошо запомнил! Это точно она! Вот только… вот только гнома там нет – того, что Димка вылепил из снега вчера. И сугроб как будто увеличился в размерах.
В довершение бед Димка не мог теперь найти и свой покалеченный радиометр, и рюкзак, и шапку. Проклятье! Проклятье! Проклятье!
Сжав губы, мальчишка сосредоточенно зашагал вверх по течению ручья и вскоре дошел до обширных зарослей стланика, через которые были прорублены профили, тянущиеся от ручья к скалам. Скалы стояли на своем законном месте, выступая в отдалении зубчатыми, немного туманными контурами, а вот профили… Профилей не было. Ни одного…
Ломать голову над тем, куда они запропастились, Димка не стал. Что толку? Возможно, он действительно ушел в растрепанных чувствах куда-то не туда, к какому-то другому ручью, к другим зарослям стланика. Но как бы то ни было, главное сейчас то, что отряд неизвестно где. А соответственно, неизвестно где и палатки, и спальный мешок, и заветный ватник. Через какое-то время наступит ночь – холодная ночь без убежища, без теплых вещей, даже без костра, поскольку спичек у него не было. В кармане куртки обнаружился лишь блокнот с карандашом, которые ему сейчас были совсем не нужны.
Димка отлично понимал, что оставаться тут, на этом безжизненном плато, никак нельзя. Эти поля плитчатых, покрытых лишайниками камней, каменные холмы и голые скалы, торчащие тут и там, даже эти корявые, замученные суровым климатом и ветрами кусты кедрача показались ему сейчас враждебными. Они как бы говорили: «Нет тебе здесь места, чужак. Уходи! Это наш мир. Уходи, или…» А тяжелые и низкие тучи вроде как опустились еще ниже, словно норовя придавить своей тяжестью одинокую человеческую фигурку.
Эх, был бы у него мобильник… Фигня! Что толку от мобильника? В такой дали от населенных пунктов он все равно не работал бы.
Что-то подсказывало Димке, что искать сейчас своих неразумно. Скорее всего, никого не найдешь, а ценное время потеряешь. Правильнее – спускаться с вершины вниз, туда, где размещался под уступами, у края верхового болота основной лагерь отряда. Но вот вопрос: с какой стороны они заезжали на плато, то есть в какой стороне тот лагерь? Кажется, какое-то время они ехали вдоль ручья вверх по течению. Значит, сейчас надо топать вниз по его течению. И топать как можно скорее.
Воздух похолодел, и бедолага уже начал было зябнуть, однако быстрая ходьба вскоре согрела его. Навстречу дул порывистый ветер, но теперь он лишь освежал разгоряченное лицо путника. О том, что ему грозит, если он не найдет нижний лагерь, он старался не думать.
Примерно через полчаса пути он подходил к краю плато. Впереди показались мутные вершины соседних гор. Тут начинался спуск. Ручей небольшим водопадиком, словно со ступеньки, ниспадал с веселым плеском в обрамленное камнями озерцо размером с ванну. Из этого озерца вода сливалась ниже, в следующее озерцо, – и так со ступени на ступень. Кое-где лежали плиты белого, с голубыми полосами льда, и ручей пробегал, булькая, под ними. По бокам же возвышались каменные уступы. В другое время Димка с любопытством осмотрел бы эту вереницу мини-водопадов и ванн, но сейчас он лишь мысленно отметил про себя, что вездеход вряд ли поднялся бы тут, по этой крутизне и ступеням. Значит, ехали они по другому, более пологому участку склона. Но отыскать то место на этом огромном плато было немыслимо, и Димка продолжил спуск.
Это были совсем не те ступеньки, по которым удобно ходить, а ванны будто только и ждали, чтобы путник поскользнулся и бултыхнулся в них в одежде. И не известно, куда эти ступени вели. Но в конце концов… Невероятно, но в конце концов ручей добросовестно привел Димку на обширное заболоченное поле, переходящее на краях в чахлую тайгу. Ура! Ручей, видимо, и питал это верховое болото.
Счастье странника, однако, было недолгим… То, чего он боялся в тайне души, то, о чем запрещал себе думать – то в точности и вышло. Палаток на краю болота не оказалось. Их, скорее всего, похитили. Но кто? Здесь же такое безлюдье! И тут Димке вспомнились слова начальника базы «байкальцев» Алексея. Загадочное место, сказал тот про гольцы, там странные вещи случаются…
Глава 13. Мираж?
Итак, палатки под гольцами сгинули. Точно так же, как и палатки на гольцах. Сгинуло и кострище с рогатинами и поперечиной на них. Но зато тут, в отличие от вершины, росли деревья – лиственницы и даже редкие ели. Можно было забраться под елку, под ее низкие густые ветви, навалить на себя сверху еловых лап и как-то дотянуть до утра, не окоченев до смерти. А утром спускаться дальше и искать базу «байкальцев». Если только… Нет, это было бы уж слишком. Достаточно того, что произошло. Приключения – это, конечно, здорово, он мечтал о них, но все хорошо в меру.
Медленно наплывали серые сумерки. Димка принялся высматривать среди худосочных, как будто ободранных елей менее ободранную и… замер, точно пораженный столбняком. Через болото протяженной вереницей двигалась группа людей и навьюченных лошадей. Людей было с десяток душ и лошадей не меньше восьми.
«Не сон ли это?» – подумал Димка в первое мгновение, еще не веря до конца в свое спасение. Да, это было спасение! Люди! Живые люди среди этих пустынных, диких гор и лесов.
– Эге-ге-ей! – закричал мальчишка и даже подпрыгнул несколько раз, размахивая руками, чтобы его скорее заметили.
И его заметили! Караван остановился, и путники обернулись в его сторону. Даже лошади повернули головы. Забыв про усталость, Димка понесся к ним. Впрочем, ему только казалось, что он несется. На самом же деле вязкий мох и кочки сильно тормозили бег. Он бежал все медленнее и медленнее. И не только из-за кочек. Чем меньше оставалось расстояние, тем лучше можно было разглядеть людей и тем более странными представлялись Димке эти люди. Во-первых, их одежда. На одних была просто серая рабочая одежда, на других же – какая-то странная форма: темно-зеленые брюки (скорее – шаровары) с желтыми лампасами, такие же кители с желтыми погонами, фуражки. И сапоги на них были не резиновые, не кирзовые, а вроде как кожаные. А еще… А еще у них за плечами висели… винтовки! Настоящие!
Кроме того, большинство из странников были бородатыми. Это были не те аккуратные бородки, что любят отпускать геологи, это были бородищи, у иных – по самую грудь. Кто-то был без бороды, но с усами. Выделялся из всех мужчина невысокого роста, лет тридцати пяти, по-военному прямой и подтянутый, с небольшой русой бородкой, слегка выступавшей вперед. Он был в серо-зеленой накидке, вроде плаща, но без рукавов, и в фуражке с кокардой.
И все же радость, что он встретил людей, затмила все Димкины сомнения и недоумения – радость, что он теперь не один.
– Здравствуйте! Вы геологи?! – выпалил он, не успев отдышаться.
– Здравствуйте, молодой человек, – как-то чересчур спокойно, но приветливо отвечал невысокий мужчина (чувствовалось, что он в отряде главный). – Геологи ли мы? Вы почти попали в точку. Не все, но есть среди нас и геологи. По крайней мере, один точно есть, – усмехнулся он приятной мягкой улыбкой. Из-под его прикрытого фуражкой лба поблескивали небольшие, но очень живые серые глаза.
– Я ищу геологов, – пояснил Димка, – отряд Шмырёва. Вы, случайно, не встречали их?
– Шмырёв? Кто такой Шмырёв? – переглядываясь, басовито спрашивали друг у друга бородачи.
– Признаться, не слыхал о таком, не обессудьте, – молвил мужчина в накидке. – И должен вам заметить, что во всей Иркутской губернии, за исключением нашего отряда, нет больше ни одного геолога.
– Как это?! – воскликнул Димка несколько даже возмущенно. – А база Байкальской партии на Бурунихе?
– Реку такую знаю, но ни о какой базе мне положительно не ведомо. Как и о Байкальской партии. Известна мне во всей округе, доложу я вам, лишь Восточносибирская горная партия. И это мы.
Говорил этот человек вроде как нормальным, но вместе с тем немного вычурным языком.
– Смею предположить, – продолжал он, – что вы отстали от своих соратников, милостивый государь. Верно? Тогда вот что, – решительно проговорил он. – Скоро ночь. Одному в тайге оставаться опасно. Посему настоятельно рекомендую вам присоединиться к нашему отряду. Мы проводим тут геологические изыскания. Если вы и в дальнейшем не найдете своих товарищей – оставайтесь с нами. Мне помощник не помешает. Позвольте только узнать, как мне вас, молодой человек, величать?
– Дима… Ручейков, – пробормотал Димка растерянно.
– Забавная у вас фамилия, Дмитрий Ручейков, – добродушно улыбнулся мужчина. – Обручев, – протянул он Димке руку, – Владимир Афанасьевич. К вашим услугам.
Сказать, что Димка удивился, – это почти ничего не сказать… Он был ошарашен, огорошен, сбит с толку!
– О-бру-чев? – повторил он медленно. – Да еще и Владимир Афанасьевич? Вы не шутите? Вы же полный тезка знаменитого геолога и писателя – того, что написал «Землю Санникова», «Плутонию» и другие книжки!
– Помилуйте, уважаемый Дмитрий! Извините меня, конечно, но вы что-то путаете. Боюсь показаться нескромным, но не существует во всей Российской империи второго геолога по имени Обручев. Это я вам совершенно ответственно заявляю. Ежели взять мою скромную персону, то, помимо научных статей, у меня выходили очерки, а вот художественных книг, увы, не было, хотя у меня и есть подобные замыслы. Однако, – оглянулся он на своих, – пора нам двигаться дальше, выбираться из этой ма́ри. Вон казачки мои уже заскучали. Смеркается, а нам еще бивак обустраивать. – Он сделал знак рукой, и караван тронулся.
«Казаки? – повторил Димка мысленно. – Откуда здесь казаки? И Российская империя…»
И у него возникло ощущение, что ум у него начинает заходить за разум.
…Димка брел вслед за этим странным отрядом, и в голове у него кружили и путались мысли.
«Или я спятил, – тревожно думал он, – и все это мне бредится, или… или это настоящий живой Обручев со своими спутниками, и тогда не понятно, кто же все-таки спятил. Одно ясно: произошла какая-то шизе́нь. Произошло что-то такое, что никак не должно, не могло произойти…»
– А ну давай! Шевелись! – покрикивали бородатые мужики на лошадей, которые, навьюченные по бокам ящиками и тюками, вязли в болотной жиже и останавливались. Увязали и люди, но животным приходилось тяжелее. Одна лошадь застряла так, что стала валиться на бок, и навьюченные тюки грозили угодить в грязь. С лошади тотчас же сняли поклажу, и трое человек принялись высвобождать животное. Один тянул за узду, двое толкали сзади.
– Понатужься! – подбадривали они друг друга.
Потом лошадь снова завьючили.
Вереницу людей и животных сопровождали серые клубящиеся облачка комаров и мошки. Насекомые жгли лица путников, лезли в глаза и в уши. Еще сильнее эти мучители донимали лошадей. Те трясли головами, фыркали, охлестывали себя хвостами, но полчища гнуса не отставали от них ни на шаг. Некоторые из людей были в черных сетках-накомарниках, защищающих лица.
Димка так был поглощен своими размышлениями, что почти не замечал ни мошки, ни вязкой зеленой гущи под ногами.
«Возможно, – рассуждал он про себя, – это какое-то редкое явление, пока еще неизвестное науке. Что-то наподобие миража».
Только вот мираж, насколько ему помнилось, это перенос через пространство отражений каких-то реальных предметов – корабля, допустим, или панорамы города. А тут… (другого объяснения у него пока не было) тут случилось перемещение – уже не через пространство, а через время – каких-то событий прошлого. А поскольку мираж, как Димке было известно, обычно длится недолго, то и происходящее сейчас рядом с ним, вероятно, скоро исчезнет.
«Но если уж мне выпал такой шанс, – решил мальчишка, – редчайший шанс, я должен все это хорошенько запомнить и все, что можно, разузнать. Даже страшно… Кому еще выпадало такое – встретить людей из прошлого?»
Вместе с тем что-то подсказывало ему, что не стоит пытаться объяснить Обручеву и этим бородачам, что он, Димка, и они – из разных эпох. Во-первых, ему – сто процентов – не поверят. А во-вторых, могут принять за безумца. Если только он и в самом деле не того…
«Странно еще, – подумалось ему, – почему этот Обручев отрекается от им же написанных книг?»[10]
Между тем болото кончилось, сменившись низкой порослью карликовой березки и пахучего багульника. Последовал пологий спуск. Справа сползала сверху осыпь, слева тянулся лес, над которым высовывалась соседняя гора. А здесь, в ложбине, бежал между покрытыми мхом валунами симпатичный ручеек, вытекающий из оставшейся за спиной мари (как назвал болото Обручев).
На травянистой поляне у ручья караван остановился. И сразу же все, как по сигналу, рьяно взялись за работу. Двое развьючили лошадей и, спутав им веревкой передние ноги, пустили пастись. Другие таскали из лесу дрова. Кто-то вырубал жердины, кто-то разводил костер.
Под большой елью шалашиком поставили винтовки – всего четыре. Отдельно лежала старая берданка кого-то из рабочих. И висела на суку двустволка (как Димка узнал позже – Владимира Афанасьевича).
Коней донимала мошка, из-за чего они начинали неуклюже (из-за спутанных ног) скакать, фыркать и даже сердито ржать. Лошади были коренастые, светло-коричневые с черными либо серыми хвостами и гривами, лишь одна была серая пятнистая.
Димка наломал пучок веток и попробовал отгонять гнус от бедных животных. Но те шарахались больше от новоявленного опекуна, чем от кусачих насекомых. Вскоре казаки устроили для них дымокур, навалив в разведенный на отшибе костер целый ворох сырого мха.
– Палатки умеешь ладить? – обратился к Димке бородатый великан с румяным веснушчатым лицом. – Ежели нет – обучим. Ты, стало быть, Митрий. А по батюшке как же?
– Алексеевич.
– Митрий Ликсеич то бишь. А меня зови: Герасим, – представился он.
Вихрастой русой бородой и веселыми голубыми глазами Герасим напоминал богатырей из русских народных сказок. По всей видимости, он был старшим над рабочими: те слушались его и делали всё, как он говорил.
– А ну, молодцы, поживее! – подбадривал он их и сам хватался за любую работу.
Палатки в отряде Обручева ставили так. Сначала устанавливали столбик чуть повыше человеческого роста, вырубленный из нетолстого дерева. Сверху на него накидывали огромную, пахнувшую походной пылью палатку. Подобно колонне, столбик упирался в макушку пирамидальной крыши. По углам прилаживали изнутри четыре кола, а сами углы оттягивали шнурами. Димке как раз и поручили держать поочередно эти угловые подпорки.
Кроме двух больших шатровых палаток, имелась еще одна поменьше, шалашиком. Большие предназначались: одна – для четверых казаков, вторая – для пятерых рабочих, включая повара. А в третьей, небольшой, размещался сам Обручев.
В больших палатках можно было спокойно стоять во весь рост, что Димке особенно понравилось.
Еще не закончили с палатками, а на галечнике у ручья уже вовсю пылал костер. Над ним стояла деревянная тренога, на которой висел объемный закоптелый котел с водой.
Кряжистый чернобородый мужик с густыми бровями и хищным, похожим на клюв совы носом бросал в котел куски мяса.
Владимир Афанасьевич в это время, устроившись на маленьком походном стульчике перед вьючным ящиком, точно перед столом в кабинете, что-то записывал, пользуясь светом костра. Зеленый исцарапанный ящик был застелен чистой бумагой, и на нем лежали рядком какие-то камни. Писал геолог в толстой тетради деревянной перьевой ручкой, обмакивая ее в маленькую темно-коричневую чернильницу.
– Вот извольте взглянуть, молодой человек, – подозвал он Димку. – Вот наш путь, – указал он обратным концом ручки пунктирную карандашную линию на топографической карте. – Марь, которую мы пересекли и где мы встретили вас, находится на этой плоской седловине[11]. По этой узкой па́ди стекает вот этот наш ручеек, – кивнул он на журчащий ручей. – Завтра мы намереваемся спуститься по нему, обследовать склоны и достигнуть реки. А дальше будем кочевать вдоль нее, совершая маршруты по ближайшим отрогам. Однако вот что меня беспокоит, уважаемый Дмитрий: чем дальше мы будем уходить, тем меньше вероятия у ваших товарищей, от которых вы отстали, сыскать вас. Но, с другой стороны, и оставить вас одного в тайге было бы нечеловечно.
Димка не знал, что ему на это сказать. Но меньше всего он хотел бы остаться один в тайге.
– Предлагаю вам примкнуть к нашему отряду, а там жизнь покажет, – заключил Обручев.
Пока он говорил, Димка разглядывал необычную чернильницу – приплюснутый с боков металлический кувшинчик (наверное, бронзовый), с завитками на боках. Его вполне можно было принять за экспонат музея. Рядом лежала крышечка. Затем его взгляд привлекла освещаемая неровным светом костра надпись внизу карты. Витиеватыми буквами, словно от руки, там было написано: «Иркутское генерал-губернаторство». Ниже: «Масштабъ: Въ дюйме 10 верстъ»[12]. И еще ниже: «1880 годъ».
«Карта сделана в 1880-м. Тогда какой, интересно, у них сейчас год?» – подумалось ему, но спрашивать об этом он, понятно, не стал.
Глава 14. Среди новых знакомых
– Владимир Афанасьевич, – деловито кашлянув, обратился Димка к старшему. – Что вы здесь ищете? Руду? – (Ему хотелось показать, что он уже немного разбирается в геологии.)
– Руду в том числе, – отвечал геолог. – Однако коренная наша задача – это геологические изыскания под будущую железную дорогу, которая должна пройти через Южную Сибирь. Возможность работать здесь я расцениваю как большую удачу, потому как это прелюбопытнейший в геологическом отношении район. Здесь, поюжнее от нас, выходят на поверхность самые древние, архейские[13], породы – те, что образовались, когда наша Земля была совсем еще юной планетой.
– Это когда на земле жили одни трилобиты[14]? – выкопал Димка из памяти какой-то оборванный клочок знаний.
– Задолго! Задолго до всяких трилобитов и любых живых организмов. Вообразите, Дмитрий, расплавленный шар, местами покрытый твердеющей коркой, но настолько еще горячей, что нынешних морей и океанов не могло быть в помине. Вся вода находилась тогда в виде пара в плотной атмосфере. Пар временами сгущался, и тогда на Землю обрушивались мощнейшие ливни, которые на горячей, как сковорода, корке вновь обращались в пар. Воздух был насыщен электричеством, а значит, над Землей грохотали беспрерывные грозы. Из трещин в коре вырывался пар, газы и изливалась раскаленная магма.
Слушать этого человека было не просто интересно. Он заражал своей увлеченностью, даже одержимостью геологией, которую, похоже, безмерно любил.
– Владимир Афанасьевич, а это трудно – быть геологом?
Димка опасался, что этот великий человек посмеется над его простоватым вопросом, как смеялись Димкины коллеги. Но тот и не думал смеяться.
– Трудное ли дело быть геологом?! – задорно блеснули глаза ученого. – Да, это нелегкое, но зато крайне интересное поприще, уважаемый Дмитрий. Смею утверждать, что геология – первейшая из наук. Подумайте сами: она о нашей родной матушке-Земле, по которой мы ходим, из которой мы все вышли и в которую в конце концов воротимся. Ее строение, вещественный состав, ее историю за миллиарды лет – вот что изучает геология. Мы, человечество, заглядываем в космос, смотрим в телескопы на далекие миры, а как устроена наша родная планета, знаем отнюдь не достаточно. Сколько еще неразгаданных тайн! Ведь доступна нашему исследованию пока только земная кора, да и то лишь самые ее верха. А представляете ли вы себе, молодой человек, что такое земная кора по сравнению со всей планетой?
– Н…не очень, – промычал мальчишка.
– Тогда возьмите для наглядности яблоко… Мысленно возьмите. И вообразите, что это Земля. Так вот, тонкая кожица данного плода – это и будет земная кора.
– Всего-то?!! А остальное?! Что же глубже? – пораженно воскликнул Димка.
– Что глубже – остается пока только гадать. Не так давно высказано предположение, что ниже коры находится разогретая мантия[15].
– Точно! – вспомнил Димка. – А еще глубже – ядро.
– Ну, вы уж совсем уподобили Землю яблоку или какому-то ореху[16].
– У-жин! – громко и как будто сердито прокричал в эту минуту костровой, стуча ложкой по котлу.
Димка давно уже улавливал волнующий аромат, исходящий от котла, и сердитый крик повара прозвучал для него как сладчайшая музыка.
Гомоня, подталкивая друг друга и спотыкаясь в сумерках, казаки и рабочие сгрудились у костра. Прежде чем рассесться на уложенных вокруг огня бревнах, они скинули фуражки и шапки и перекрестились. Фуражки у казаков были странные: желто-зеленые и без козырька. С любопытством разглядывал Димка и погоны – золотисто-желтые с какими-то вышитыми непонятными буквами и цифрами и гладкой металлической пуговицей[17].
Владимир Афанасьевич тоже переместился со своим стульчиком ближе к костру. Все уже держали наготове ложки – кто самодельную из дерева, кто металлическую (оловянную, как узнал Димка позднее). Нашли ложку и для гостя – деревянную, с кривым черенком, отчего держать ее было даже удобнее.
Мрачный крючконосый кашевар в меховой безрукавке поверх рубахи, освещенный пламенем костра, точно злой колдун, раскладывал по мискам куски разваренного мяса и наливал кружкой бульон. Миски тоже были разные: у рабочих – деревянные, серые (как и у Димки), у казаков и Обручева – то ли латунные, то ли медные, коричневые от времени, а по форме напоминавшие перевернутую шляпу.
– Что это? – поинтересовался Димка у повара, когда тот подал ему его порцию. – Что за зверь?
Повар и ухом не повел, будто вопрос был обращен не к нему.
– Мишка это! – со смешком проговорил сидящий рядом с Димкой молодой вихрастый парень, которого другие называли Нико́лкой. У Николки не было бороды, но имелись светлые усики с лихо подкрученными кончиками. Военный китель он сбросил и сидел в белой рубахе, разорванной под мышкой, не обращая внимания на комаров.
– Медвежатина, – подтвердил Обручев. – Герасим три дня тому добыл косолапого – пополнил наши оскудевшие запасы провизии.
Димка втянул ноздрями гуляющий над миской пар. Ему не доводилось нюхать медведя, но он готов был поклясться, что мясо пахло именно медведем (можно было и не спрашивать). От него исходил явный звериный дух.
Казаки и рабочие ели мясо с сухарями, размачивая их в бульоне.
Отхлебнув бульона, Димка остро ощутил, насколько он голоден. Если бы ему разрешили, то он, пожалуй, умял бы весь этот котел мяса. Но, к своему удивлению, он насытился и тем, правда немаленьким, куском, что положил ему мрачный повар.
Пока он ел, в его миску то и дело попадали комары и плавали на поверхности, задрав ножки. Димка пробовал их выуживать, но, пока вылавливал одного, в бульон добавлялось пять новых. Так что он оставил эти потуги и стал есть с комарами. При этом он так и не выяснил: вкуснее с комарами или без них?
А над огнем уже висело ведро с водой для чая. Ведро было цилиндрическое, черное снаружи и с целой шеренгой заклепок на боку.
К этому часу уже совсем стемнело, и люди сидели, сгрудившись у яркого костра, окруженные густой, как смола, темнотой, которая, чудилось Димке, тяжелой тушей наваливалась сзади на плечи. Шумел ручей, топтались где-то поодаль лошади, поскрипывали над головой высокие лиственницы.
Насытившись, люди заметно повеселели.
– Кузьмич, а Кузьмич! – принялся дурашливо приставать к повару Николка, самый, похоже, бойкий в отряде. – Слышь, Кузьмич, – продолжал он, – ты не разглядел, часом, медведь то был аль медведица? Ты, сказывают, по морде их определяешь.
– Вот я тебя счас по морде по твоей бесстыжей так определю!.. – замахнулся старик ложкой. Но шутник вовремя отскочил.
– Кузьмич! – не отставал Николка, соблюдая все же дистанцию. – Ты бы тово-этово… щей бы хоть сварил, свеженьких.
– Сварю тебе щей… из березы, язви тебя в душу! – выругался Кузьмич.
Один из рабочих, единственный без усов и бороды, но с большим, как баклажан, носом, уже дремал, кренясь на бок и едва не падая с бревна. Николка подкрался к нему, смешно ступая на цыпочках, и внезапно гаркнул бедняге в самое ухо:
– Хобот, подъем! В караул!
Парень вскинул голову и стал испуганно озираться и хлопать ресницами, вызвав общее веселье.
Обручев с улыбкой поглядывал на своих подчиненных, как поглядывают родители на невинно шалящих детишек.
Многие из сидевших давно сняли сапоги и, уложив их подошвами к огню, сидели босиком. Кто на ближайших кустах, кто у себя на коленях развесили и разложили для просушки портянки. Видя это, Димка тоже разулся. Носки его были влажные от пота и протерты на пятках.
– Чудна́я у тебя обувка, тово-этово, – обратил внимание на Димкины сапоги Николка и даже пощупал резину. – Что за матерьял такой? Не кожа, не юфть, не хром. Что за диковина?
Димка смутился.
– Сам не знаю, – соврал он. – Дали такие.
– Иноземные, поди.
Димка промолчал. Всего вероятнее, в тот исторический период, в какой он угодил, резина еще не была изобретена[18], и он не мог сказать этим людям, что сапоги резиновые.
– А что у тебя, Ликсеич, дозволь спросить, на ногах? – удивился богатырь Герасим.
– Носки, – настороженно ответил мальчишка.
– Э-э-э, молодой человек, – покачал головой Владимир Афанасьевич. – Этак вы ноги намнете и застудите. А ноги в походе пуще всего беречь следует. Тимофеев, выдай-ка новому участнику нашей экспедиции портянки. И чего еще там полагается.
Герасим неспешно поднялся, порылся в темноте, точно медведь, в накрытых брезентом сума́х и подал Димке два куска толстого серого сукна. Вдобавок к этому «новый участник экспедиции» получил отрез холстины в качестве полотенца, коричневый и твердый как камень кусок мыла и, что его особенно обрадовало, нож в деревянных ножнах.
– В тайге без ножа не годится, – пробасил Герасим.
– Без ножа не добудешь и ежа, – тотчас же сострил Николка.
Нож был небольшой, но удивительно острый, с костяной ручкой (из рога оленя, как пояснил Герасим). К ножнам была прикреплена кожаная петля, так что их можно было повесить на ремень, что Димка охотно и сделал.
Нож, конечно, серьезное оружие, но винтовка все-таки посерьезнее. С дозволения владельцев Димка рассмотрел одну из них, тяжелую и отполированную до блеска. Казаки называли свои винтовки трехлинейками.
Перед тем как укладываться спать, двое казаков нагребли в жестяную банку раскаленных углей из костра, сверху покрыли мхом и, когда мох задымил, принялись окуривать изнутри все три палатки по очереди. Вместе с дымом из палаток выносились и набившиеся туда комары.
– Еще мой учитель Иван Васильевич Мушкетов[19], – сказал Димке Обручев, – на первой моей студенческой практике говорил: «Нужно заботиться о спокойном ночном отдыхе. Только хорошо отдохнув, человек и работает хорошо на следующий день».
В палатке рабочих, куда поместили Димку, сладковато пахло свежими лиственничными ветками, которые толстым слоем покрывали пол, и кошмой, настеленной поверх веток. Пахло и горьковатым дымом, оставшимся от дымокура, а еще – сапогами, что выстроились в ряд у входа. Полотнища входа запахивались, точно пальто, и завязывались шнуром, чтобы кусачие насекомые не проникали внутрь и не нарушали «спокойного ночного отдыха». Вдобавок в разрез входа был вшит кусок сетчатой ткани, в котором Димка в первый раз запутался и чуть его не оборвал.
Пятеро бородатых мужиков (среди них и Герасим), Димкиных соседей, раздевшись до подштанников, улеглись в ряд, укрылись солдатскими одеялами и, задув свечку, тотчас же молодецки захрапели.
Несмотря на ужасную усталость, Димка заснул не сразу. Слишком много впечатлений выпало на его долю в этот невероятный день. Настолько невероятный, что разобраться в событиях этого дня не смогли бы, пожалуй, и мудрейшие головы, не говоря уже о Димкиной голове, все-таки не самой мудрой.
Он лежал, ощущая приятную мягкость и тепло. Невольно вспомнилось, как мешали ему спать острые камни и холод в капроновой палаточке в отряде Шмырёва. Выходит, полевая жизнь не обязательно должна сопровождаться неудобствами и мучениями, подумалось ему, когда он уже задремывал.
Глава 15. Кузница бога Вулкана
Чуть забрезжил рассвет – весь отряд уже был на ногах. Кони паслись, костер пылал, в котле булькала пшенная каша. Неприветливый кашевар стоял у котла на страже и не подпускал Николку, который норовил снять пробу. Выйдя в конце концов из себя, Кузьмич швырнул в приставалу горящей головешкой. Та ударилась о ствол лиственницы, рассыпав сноп искр. Это вызвало общий хохот.
Умывшись в ручье, Димка осмотрелся по сторонам, ища Владимира Афанасьевича. Наконец углядел его, спускавшегося с ближайшего склона с молотком и кусками камней в руке.
– Вот! – подойдя, показал он камни Димке. – Вот вам, дорогой Дмитрий, типичная туфовая брекчия. Обратите внимание на великолепную обломочную текстуру[20]. Экая красота!
Димка внимание обратил, но никакой такой уж красоты не заметил (камень как камень).
– Что это такое – туфовая брекчия? – спросил он скорее из вежливости.
– Если коротко, то это вулканическая порода, получаемая при извержении вулкана. Поэтому говорят еще иначе: изверженная порода. На что указывает нам наличие здесь изверженных пород?
– На что? – повторил Димка.
– На то, что много миллионов лет назад тут изливались потоки лавы, грохотали взрывы, выбрасывались из кратеров тысячи пудов пепла.
– И где он сейчас, этот пепел? – поинтересовался Димка осторожно, опасаясь, не глупый ли вопрос он задает.
– А вот он! – обрадованно, как будто и для него это было приятное открытие, воскликнул Обручев и протянул Димке кусок того же камня. – Пепел обратился в туф! Сначала это была рыхлая масса, засыпавшая склоны и подножия вулкана, но постепенно она слеживалась, уплотнялась, особенно если ее покрывали сверху новые порции пепла или лавы. И получилась твердая порода, которую геологи и называют вулканическим туфом. Вместе с частицами пепла вулкан часто выбрасывает обломки отвердевшей лавы, щебень. И тогда получается туфовая брекчия[21].
– А лава? – спросил Димка уже смелее. – Она сохранилась?
– Лаву еще увидите, вернее, увидите то, во что она превратилась, затвердев. А превращается она в разные вулканические породы в зависимости от ее состава.
– Хотел бы я увидеть действующий вулкан! – мечтательно вздохнул мальчишка. – А то я видел их только по теле… – Димка прикусил язык.
– Увы, в Сибири нет действующих вулканов. – Собеседник не заметил Димкин прокол. – Зато они хорошо изучены в других местах – там, где в наши дни протекает горообразование: на Камчатке, Курилах, в Италии.
– В Италии – Везувий! – подхватил Димка.
– Верно, Везувий считается действующим, его извержение запечатлено в истории и подтверждено раскопками Помпей[22].
Они подошли к костру, где уже собрались рабочие и казаки, со смехом выхватывая друг у друга миски.
– Ведь что такое вулкан? – продолжал Обручев. – Говоря по-простому, это отверстие, а чаще трещина в земной коре, доходящая до раскаленных недр. Трещина ослабляет давление в глубине Земли, и раскаленное, но сдавленное до твердого состояния вещество переходит в расплав. Образуется вулканический очаг – гигантская емкость, заполненная магмой. Далее расплав буквально выжимается через нашу трещину-канал и изливается на поверхность. Вот вам, пожалуйста, и извержение.
Владимир Афанасьевич так просто и зримо описал строение и действие вулкана, что Димка как будто увидел его перед собой, разрезанным поперек, словно овощ.
Судя по лицам остальных, они не понимали и даже не пытались понять, о чем толкует их начальник.
– Часто вулканы исторгают столбы дыма, пепла, а до излияния лавы дело так и не доходит, – рассказывал ученый. – Не даром в древности римляне считали вулканы дымящими трубами подземной кузницы бога огня Вулкана. Впрочем, – добавил он, – магма может и не достичь земной поверхности, а застыть на полпути, в глубине Земли. Но не стану больше загружать вашу голову, дорогой Дмитрий. Главное для нас то, что с вулканизмом, с вулканическими породами могут быть связаны некоторые полезные ископаемые. Но об этом, если угодно, как-нибудь в другой раз. Сейчас же нам пора подкрепиться – и в путь. Дело не ждет.
После завтрака Димка с интересом наблюдал, как рабочие вьючили лошадей. Сначала спину животного покрывали куском войлока, наверное, чтобы ее не терла поклажа. Затем взваливали на нее связанные попарно вьючные ящики или сумы. После этого груз закрепляли, завязывая под конским животом ремни. Не сказать чтобы лошадям это нравилось. Они пятились, встряхивались и всё норовили повернуться задом, за что иногда получали шлепок ладонью по боку, а то и по морде. Самым непокорным оказался светло-серый с темными пятнышками конь по прозвищу Леший. Димку попросили подержать этого Лешего за узду, пока на его спину закидывают сумы. В самый ответственный момент Леший внезапно скакнул в сторону. В результате сваленными на землю оказались не только сумы, но и Димка. Потом, когда коня все же завьючили, Димка в знак примирения поднес к его серым влажным губам пучок свежей травы, но животное отвернулось, враждебно кося черным глазом.
– Этот с характером, – сказал Димке один из рабочих, – тушинский[23]. Остальные здешние, алтайской породы, смирные.
Но вот лагерь собран, лошади завьючены, винтовки – у казаков за спиной, и отряд уже движется вниз по распадку. За стволами деревьев, кустами ивняка постепенно скрылась гостеприимная поляна с бревнами вокруг погашенного кострища – поляна, где еще час назад белели палатки, гомонили люди, пылал огонь.
Глава 16. Настоящий маршрут
Распадок незаметно перешел в ущелье, но не с отвесными стенками, а просто с крутыми склонами, заваленными глыбами камней. Глыбы лежали и на дне распадка, и прямо в ручье. Из-за них лошадей вели осторожно, чтобы те не повредили ноги.
– В Китае мне доводилось ездить верхом на верблюде[24], – поведал Димке Обручев, когда они задержались у целой баррикады глыб. – Не скажу, что эти животные удобнее лошадей. Движутся они куда как медленнее. А если сидишь на нем сверху, то возникает впечатление, будто ты оседлал живую гору, которая в любой момент готова тебя сбросить.
Вскоре Обручев отделился от отряда. Пока караван цепью медленно брел по берегу ручья, геолог, с плоской кожаной сумкой на плече и вещмешком за спиной, с удивительной легкостью взобрался на крутой склон. Его внимание, как понял Димка, привлекли выступы скал, торчащие из склона наподобие полуразрушенных крепостных стен или башен. Движимый любопытством, Димка взобрался следом. Отдышавшись, он замер на некотором отдалении, почтительно наблюдая за действиями ученого.
– Будьте любезны, подойдите ближе, молодой человек, – подозвал его Владимир Афанасьевич, повернув к Димке свое приятное, с аккуратной бородкой лицо. Димка подошел.
– Вот, извольте взглянуть. Перед нами, уважаемый Дмитрий, коренной выход пород, иначе говоря – обнажение, – указал он рукояткой молотка на «крепостную стену». – Такие выходы для геолога чрезвычайно важны. Вы спросите: почему?
Димка как раз собирался это спросить.
– А потому что породы пребывают в них в нетронутом состоянии. Они лежат точно так, как лежали миллионы лет назад, с тех пор как возникли эти горы. Видите? – Владимир Афанасьевич провел концом рукоятки по едва заметным волнистым полоскам. – Это слоистость. Так, слоями, осадки накапливались на дне древнего водоема, подобно слоеному пирогу. Слоями отлагаются часто и туфы, переслаиваясь с потоками застывшей лавы. В нашем обнажении слои пород, как легко заметить, лежат не горизонтально. Они имеют уклон вправо. Видите? Геологи говорят: падают вправо.
– Отчего же они так наклонились?.. – спросил Димка, рассматривая слои.
– Их положение изменилось при образовании гор, об этом мы как-нибудь еще поговорим. А сейчас разберемся со слоистостью. Слоистость в коренных выходах, представьте себе, может сослужить нам добрую службу.
– Правда? Какую же? – с сомнением спросил Димка. Ему трудно было вообразить, что какие-то неясные полоски на каменной стене могут быть чем-то полезными.
Обручев задумался на секунду, видимо прикидывая, как проще объяснить собеседнику непривычные для него вещи.
– Обнажение, любезный Дмитрий, в котором видна слоистость, оно для геолога – как та небольшая косточка, по которой ученые восстанавливают целиком облик вымершего животного. По расположению слоев в нашем обнажении мы можем судить, как они располагаются внутри этой горы и даже еще глубже. Для этого нам надо уяснить, скажем так, физиономию этой слоистости.
Димка недоуменно посмотрел на ученого.
– Да-да, физиономию, – подтвердил тот. – А поможет нам в этом простой, но замечательный инструмент – компас. Однако компас не обычный, а специальный, горный.
С этими словами геолог вытащил из потертого кожаного чехла серую металлическую пластину, откинул круглую крышку, и под ней за стеклом обнаружились циферблат и стрелка.
– Компас, уважаемый Дмитрий, это второе по важности орудие геолога. Первое – молоток! С помощью молотка мы отбиваем образцы пород, делаем зачистки, углубления, чтобы добраться до коренных пород.
– Однако вернемся к компасу, – Владимир Афанасьевич что-то подкрутил, и стрелка забегала из стороны в сторону. – Горный компас, Дмитрий, позволяет нам устанавливать направление, куда слои пород наклонены, а также угол их наклона. Геологи называют эти два замера азимутом падения и углом падения. Они-то и дают нам физиономию слоистости. Что такое азимут, вы, молодой человек, верно, знаете, раз уж вы оказались в тайге.
– Да, помню, по географии проходили, – наморщил лоб Димка.
– Это хорошо. Вы, верно, реальное училище заканчивали. В реальном дают больше практических знаний, чем в классической гимназии. Я тоже в свое время учился в реальном.
Дальше Обручев подробно разъяснил и показал Димке, как пользоваться горным компасом, как брать направление и считывать на лимбе азимут и как с помощью специального клиноме́ра измерять угол наклона.
– Итак, – сказал он, передавая прибор Димке. – Прошу вас!
Димка приставил компас к скале.
– Каково же значение, позвольте узнать?
Ученик назвал цифру.
– Ну вот! – обрадовался учитель. – Вы быстро разобрались, молодой человек. Все довольно несложно, как видите. Отныне у вас будет такая почетная обязанность – измерять элементы залегания и сообщать мне, чтобы я записал их в полевую книжку. Так мы сможем обследовать гораздо больше обнажений. Прежде вас, признаться, я пытался обучить обращению с компасом некоторых из моих рабочих, но, увы, ничего из этого не вышло. Они держат этот прибор на ладони, точно ядовитого скорпиона, и боятся даже дышать на него. – Владимир Афанасьевич рассмеялся. Затем он вытащил из нагрудного кармана куртки большие круглые часы на цепочке и открыл их крышечку. – Однако мы задержались, – покачал он головой. – Но не беда. Тимофеев знает, что в устье ручья у нас привал. Я всякий раз рисую ему перед выходом абрис[25], по которому он чудесно ориентируется без всякого компаса.
Договорив, геолог двинулся наискосок вверх по склону. Димка последовал за ним на некотором расстоянии. Его переполняла гордость и необычное волнение: он сейчас не просто в геологическом маршруте, он – помощник знаменитого геолога и ученого – Обручева. Если только это не сон.
Горный компас в кожаном чехле помещался у Димки на ремне слева, справа висел нож. Ногам его было мягко и удобно в сапогах с портянками, накручивать которые на ступни научил его утром Герасим. Между облаками то и дело показывалось веселое летнее солнце и освещало желтым медовым светом склон, заставляя прямо-таки светиться нежной зеленью редкие лиственницы.
По мере того как они поднимались, за спиной у них ширилось пространство. Земля словно растягивалась: ближние гряды гор как будто понижались, а за ними вырастали новые горы, бледно-голубые вдали. Тайга осталась внизу и, казалось, с завистью глядела на людей, забравшихся так высоко.
Вскоре склон стал более пологим, и незаметно геолог и его подручный оказались на вершине. Впрочем, это была вершина не горы, а отрога, то есть отходящей от главного хребта длинной боковой возвышенности. Отрог был отделен от соседних параллельных отрогов глубокими распадками.
Здесь, на гребне, пятнами рос сероватый мох, и среди него зеленели кустики брусники со сморщенными прошлогодними ягодками. Еще до того, как Димка увидел эти ягоды, он учуял их терпкий запах. Обручев тоже, видимо, уловил его. Он нагнулся, надергал в ладонь этих бордовых бусинок и забросил в рот.
– Ух! – довольно крякнул он, прожевав. – Хороши! Рекомендую, Дмитрий, не побрезгуйте. Это прекрасное освежающее средство. Сейчас, в начале лета, когда нет еще новых плодов, матушка-природа позаботилась о своих чадах – прошлогодние ягоды для нас сберегла. И для нас, и для прочих живых тварей – полевок, бурундуков, свиристелей. Даже косолапые мимо них не проходят.
Димка тоже с удовольствием съел горсть этих острых на вкус душистых ягод. И тоже крякнул:
– Ух, хороши!
– А еще весьма полезно для организма потреблять черемшу, – заметил Обручев. – Здесь ее мало. А вот на реке Витим, где мне довелось побывать в тысяча восемьсот девяностом году[26], есть остров, весь поросший этим чудесным растением, пахнущим и имеющим вкус чеснока. На этот остров привозят с приисков рабочих, больных цингой. И они там, представьте себе, благополучно исцеляются. Остров так и именуют – Цинготный.
– Этим рабочим не хватало витаминов, – показал свою образованность Димка.
– Извините, как-как? – не понял Обручев. – Витаминов? «Вита» по-латыни – «жизнь», а «мин»… Кажется, «амин» – это «азот»[27]. Что означает сие слово?
– Ну… это такие вещества… – Димка уже понял свою оплошность. – Нам про них в школе… то есть в училище говорили… И я уже позабыл.
– Интересно-интересно… – пробормотал ученый. – Надо будет уточнить.
По мере их продвижения геолог то и дело останавливался, стучал молотком и брал образцы пород. Димка вызвался нести их, и Владимир Афанасьевич не стал возражать – передал ему вещмешок. Это была торба, очень похожая на рюкзак[28], но с тем отличием, что горловина ее завязывалась ее же лямками и отсутствовали кармашки, что не совсем удобно.
Глава 17. Встреча
Пройдя немного по отрогу, путники стали спускаться в боковой распадок. Стенки распадка были крутыми, а дно плоским – «корытообразным», как выразился Обручев. По его словам, плоским его сделал древний ледник, который лежал тут и даже медленно полз, выглаживая свое ложе.
Сейчас это ложе, давно покинутое ледником, заполняли такие дебри, что здесь царил сумрак, как в палатке вечером. Тут росли громадные замшелые ели с косматыми лапами, лиственницы, пихты, редкие тощие рябинки и пышный кедрач. Ниже переплетались кусты шиповника, можжевельника, красной смородины, среди которых, как из-под воды, торчали лишь головы двух путников. Поваленные трухлявые стволы на каждом шагу преграждали путь. Землю покрывал густой упругий мох. Но странно, что кое-где он был содран и даже перевернут целыми пластами.
– Мишка безобразил, – пояснил Димке Владимир Афанасьевич. – Вон и лепехи его же, – указал он молотком на бурые кучи.
Димку эта новость чрезвычайно вдохновила: ведь с самого начала своей поездки в Сибирь он мечтал встретиться с медведем. Может, все-таки повезет? И он стал внимательно вглядываться в окружающие дебри и прислушиваться.
Так они прошли с километр. Скоро в сухих протоках ручья появилась вода – слышалось ее веселое журчание и тянуло из зарослей сырым холодком. Раздвигая руками крайние деревца перед ручьем, геолог вдруг замер и даже как будто слегка присел. Не оборачиваясь, он жестом приказал Димке стоять на месте и не двигаться. Но Димка не мог стоять на месте. Ему не терпелось увидеть, что же так насторожило начальника. Он крадучись приблизился и в просвете между хвойными ветвями разглядел освещенную солнцем поляну, расположенную, похоже, на той стороне ручья. А на поляне – какую-то вывороченную корягу. Но главное было не это. Главное было то, что находилось посреди поляны перед корягой. Посредине поляны возвышалась коричнево-серая бесформенная гора. Неожиданно гора пошевелилась, меняя очертания, и… и Димка увидел морду. Звериную морду. Это была массивная, вытянутая вперед башка с круглыми, маленькими, даже забавными ушками и еще более мелкими (по сравнению с величиной головы) глазками.
«Медведь, – отчетливо прозвучало у Димки в мозгу. – Настоящий. Вот и встретились…»
Хоть он и жаждал этой встречи, хоть и видел всего несколько минут назад следы деятельности этого могучего зверя, оказалась, что к встрече этой Димка совершенно не готов. Он не знал, как ему себя вести. У него никак не укладывалось в голове, что между ним и этим гигантом нет никакого экрана или железных прутьев, что это не фильм о хищных животных и не зоопарк. Протяни руку и… Но лучше этого не делать.
Зверь находился от них всего метрах в десяти – пятнадцати, если не ближе. Легко можно было разглядеть его во всех подробностях. Сидел он на заднице, опустив передние лапы, отчего и походил на конусовидную гору. Димка видел даже, как расширяются и сужаются черные блестящие ноздри: медведь усиленно нюхал воздух. Глаза зверя были направлены в их сторону. Более того, Димка готов был поклясться, что глядят они именно на него. Он, как ему показалось, уловил даже какое-то выражение в этих холодных дремучих глазах. Это было выражение силы, выражение хозяина, к которому явились непрошеные и докучливые гости.
– Дмитрий, слушайте меня! – негромко, но твердо проговорил Обручев. – Медленно уходим. Только не бегите, ради бога, иначе он может погнаться.
«Фотоаппарат, – шевельнулась у Димки досада. – Эх, сейчас бы фотоаппарат…»
Да, снимок мог бы выйти суперский. Но не выйдет, потому что фотоаппарата у Димки не было, он остался в прежней его жизни. У него, правда, имелся блокнот и карандаш, но вряд ли Владимир Афанасьевич одобрит рисование медведя с натуры. И к тому же этот гигант, судя по всему, не был любителем позировать. И вообще любителем компаний. Это окончательно стало ясно, когда он поднялся на все свои четыре лапы, похожие на бурые ворсистые столбы. Шерсть на загривке у него стояла торчком, что также не предвещало приятного общения. Вдобавок он угрожающе потряс своей косматой тушей. Если бы у Димки на теле росла шерсть, она, пожалуй, тоже встала бы дыбом. Но не от ярости, а скорее от страха.
Старший дернул Димку за рукав, причем довольно гневно.
Медленно и напряженно ступая, они двинулись через заросли вниз по течению ручья. Димка поминутно оглядывался, но сквозь хвойную гущу ничего уже нельзя было разглядеть. Зато перед его мысленным взором продолжала стоять громадная фигура зверя, его вытянутая, обращенная к нему морда и отнюдь не миролюбивые глазки…
Димка видел медведей в зоопарке, но там они были какие-то безобидные, забавные, казалось, их можно даже погладить (если бы разрешалось). Но этот… Это был совсем другой медведь. Медведь, который доныне и человека-то, пожалуй, ни разу не встречал, который был уверен, что он в здешней тайге самый сильный и самый главный. Этого гладить совсем не тянуло.
Внезапно ступавший впереди геолог резко остановился и выставил перед Димкой руку, приказывая и ему не двигаться. Затем он обернулся, и лицо его было бледно и встревоженно. Он кивнул своей бородкой вправо, в сторону ручья.
Димка повернул голову и снова увидел медведя. Бурым холмом зверь двигался по другому берегу. Наивно было бы думать, будто он решил просто прогуляться, размять, так сказать, лапы. Нет, он шел именно за ними…
Вот теперь Димке стало и впрямь не по себе. Он совершенно не знал, что будет дальше. И Обручев, видимо, не знал этого. Что будет дальше – это решали сейчас не они. Это решал зверь. Их судьбы находились сейчас в его руках (вернее, лапах – когтистых, косматых, могучих лапищах).
Медленно, избегая резких движений, Владимир Афанасьевич отстегнул кожаную петлю и вытащил из ножен блестящий охотничий нож. Следуя его примеру, Димка сделал то же самое. Однако, в сравнении с громадностью зверя, их ножи показались ему сейчас игрушечными.
– Уходи! – негромко, но отчетливо проговорил геолог, обращаясь к медведю. – Мы тебе не враги. Уходи, и мы уйдем.
Владимир Афанасьевич снова медленно двинулся через чащу, но теперь – пустив вперед своего подопечного, как бы отгораживая его собой от зверя.
– Если бросится, – тихо сказал он, – влезайте немедля на дерево, да повыше.
– А вы?
– А я как-нибудь попробую его задержать.
Как он сможет задержать эту тушу, эту гору мускул, Димка не в силах был вообразить. Скорее всего, он просто отвлечет зверя на себя. Ну нет, если уж им суждено погибнуть, то только вместе, твердо решил мальчишка.
Через короткое время Димка осмелился оглянуться. Медведь стоял на том же месте, как бы раздумывая над словами человека. Затем деревья скрыли его могучую фигуру.
Часа через два Обручев и его юный помощник пили чай с галетами и сухарями у жаркого трескучего костра. На мягкой травке поляны, где был устроен привал, сидели и возлежали рабочие и казаки, отмахиваясь веточками или фуражками от комаров. Неподалеку отдыхали лошади, освобожденные на это время от поклажи. Длинноносый толстомордый парень, тот, которого Николка называл Хоботом, дрых, лежа на боку, весь облепленный комарами, а по его спутанным волосам бегал муравей.
На земле у костра стояла деревянная плошка с колотым сахаром. Куски были угловатыми и напоминали дробленый кварц. Растворялись они, конечно, получше кварца, но все же достаточно медленно, так что с одним куском можно было выпить три-четыре кружки чая, пока кусок окончательно истает. Кружка, из которой пил Димка, была довольно тяжелой, скорей всего медной, но потемневшей до бурого цвета.
– Мне непонятно, – говорил Димка, размачивая в чае сухарь. – Я читал, что звери, и медведи также, столкнувшись с человеком, стараются уйти, даже убегают в страхе. А этот почему не уходил?
– Сей медведь книжек не читывал и не ведает, каково ему надлежит поступать, – пошутил один из казаков.
– По моему разумению, он проваживал вас со своего надела, – рассудил Герасим. – У всякого зверя заведен своей надел земли, вроде усадьбы, и они сильно не любят, ежели кто чужой к ним захаживает.
– К тому же животные гораздо разумнее, чем принято о них думать, – высказался Обручев, приглаживая ладонью бородку. – Они, к примеру, сейчас же смекают, с ружьем ты или без оного. Когда я беру в маршрут свою двустволку, то, как правило, за весь день почти ни единого зверя не встречу. Когда же не беру, вот как сегодня, непременно попадается зверь.
– Верно! Оно завсегда так! – подхватили несколько голосов. – Как назло прямо!
Медвежья тема вызвала среди рабочих оживление. Все принялись вспоминать разные истории, связанные с этим животным. Рассказали, как у горняков, копавших канаву на золото (здесь говорили не «копать», а «бить»), медведь уволок котомку с продуктами и тут же неподалеку принялся нахально, с чавканьем их уплетать. В свою очередь Герасим вспомнил, как на его охотничьей делянке медведь повадился шастать на лабаз[29]. И Герасим несколько ночей караулил вора, сидя с ружьем в засаде. Но когда разбойник явился, в кромешной тьме охотник лишь ранил его.
– Поверишь, нет?! – оглядел рассказчик слушателей. – Убёг, подлец! Убёг – веточка не хрустнула! Уж как я ни прислушивался – ни хоть бы что. Тишь! А развиднелось как – я по следу. И что ты думаешь? Он на брюхе в гору уполз – по кровяному следу видать было. На горке схоронился, разбойник, отлежался и дальше побёг. Обхитрил меня. Однако на лабаз боле не наведывался. Верно сейчас сказывали: шкодливый зверь. У-у-у, крепко шкодливый! – потряс детина бородой.
Димке нравился Герасим. При всей его громадной фигуре и грубой физиономии с неухоженной бородой, глаза его были хорошими, добрыми. В каждом его, даже самом малом, движении чувствовалась могучая сила, но сила эта тоже была не злой.
– Ну что, подкрепились? – повернулся к Димке Обручев. – Пейте вволю. У нас до вечера еще половина маршрута, а чай в экспедиции – вещь незаменимая. Человек после чая становится бодрее, и ему веселее работается.
– Истинная правда! – подтвердили несколько голосов.
Черный плиточный чай был необыкновенно душистым. Это казаки бросили в кипяток листья дикой черной смородины, которую Димка тоже встречал на склонах и которую в отряде Обручева называли каменушкой.
Сказанное Владимиром Афанасьевичем о чае Димка невольно сравнил с предложениями в отряде Шмырёва совсем отказаться от дневной чаёвки, чтобы сделать больше работы.
Глава 18. Окаменевшая рябь
Чай действительно прибавляет силы. Димка смог скоро в этом убедиться. Меньше чем через два часа Обручев и он очутились на гребне хребта, который снизу казался высоченным и недосягаемым. Сам гребень, правда, предстал совсем не тем острым гребнем, каким он виделся снизу, а широкой каменной грядой, уходящей волнами в одну и в другую стороны.
Куда ни глянь – повсюду громоздились горы, и каждая как будто старалась вытянуться выше других.
– Экая благодать! – воскликнул Обручев, оглядываясь. – Горы возвышают дух человека, говорят ему, что он не зря пришел на эту землю. Вон, – указал он рукояткой молотка на многовершинную каменную громаду, – плоскогорие, под которым мы вас встретили, мой юный помощник. Узнаёте?
Глядя на отдаленный горный кряж, юный помощник пригорюнился. Ведь вместе с этими гольцами отдалилась от него и единственная связь с тем временем, в котором он жил. Если только она, эта связь, не оборвалась еще раньше.
Гребень, на который они забрались, был завален крупными, как сундуки, глыбами и плитами. Геолог ударил молотком по одной такой плите. От нее откололась плитка потоньше. Откололась она не по ровной трещине, а по волнистой. Поверхность отбитой плитки была как будто собрана в мелкие, но широкие складочки.
– Обратите внимание, драгоценный Дмитрий, на это творение природы, – ученый любовно провел по складочкам ладонью. – Перед вами окаменевшая рябь. Да-да. Подобную рябь можно видеть на мелководье нынешних озер или морей, на дне ручьев и речек и даже на суше – в пустыне на поверхности песков. Однако перед нами рябь древняя.
– Как же она сохранилась? – выразил недоумение Димка. – Ведь прошло столько лет, что она даже окаменела.
– Именно! – воскликнул наставник. – Сотни миллионов лет! Сохраняются такие отпечатки, конечно, далеко не всегда. Это, можно сказать, счастливая редкость. Для их сохранения необходимы особые условия. Положим, происходит опускание участка земли, и водоем становится глубже. И если следы ряби не размылись, то сверху на них оседает уже более тонкий осадок – глина, ил. Через множество веков эти осадки отвердеют, спрессуются, глина и ил превратятся в сланцы[30], песок – в твердый песчаник. Затем они будут подняты геологическими силами на высоту. И эти слои, наподобие слепков, отделятся друг от друга сами собой или при ударе молотка. Так вот, по этим окаменевшим знакам геолог расшифровывает историю Земли. В нашем случае можно заключить, что много миллионов лет назад на этом месте плескалось море.
Димка огляделся. Да, он готов был допустить, что миллионы лет назад тут было что-то другое, но море… На такой высоте!..
– А вот тут, где мы с вами сейчас стоим, мой друг, – убежденно говорил геолог, – в прибрежной зоне, находилось устье ручья или речки. По характеру ряби мы могли бы даже сказать, откуда эта речка текла: более крутая сторона грядок всегда обращена в направлении течения. Вы это сами можете наблюдать на дне современных ручьев и речек. Понаблюдайте при случае!
Димке захотелось сейчас же понаблюдать, но все ручьи и речки остались далеко внизу.
– В результате, – продолжал учитель, – мы можем установить, где в те давние времена находилась суша, а где простиралось море.
– А для чего нам знать – где море, а где суша? – спросил слушатель. – Мы ведь все равно уже не найдем это море.
– Моря мы, конечно, уже не найдем, – согласился Обручев. – Но такое понимание может нам кое в чем пособить. К примеру, мы обнаружили следы древней россыпи золота. А зная, откуда текли те прежние речки и ручьи, мы сможем понять, откуда они несли это золото.
Димка потрогал рукой мелкие каменные волны, которые намыла когда-то вода. Намыла еще тогда, когда геологов, да и вообще людей не было на земле в помине. Ни той речки, ни того моря – ничего с тех пор не осталось, а рябь осталась, вот она. Чудеса! На миг Димке вообразилось то древнее море, бьющееся о скалы, наполненное необычными морскими существами. И теплые дожди, размывавшие берега. И речки, несущие золотой песок. И бродившие по берегам чудища, динозавры. И ни одного человечка…
– И обратите внимание, Дмитрий, – прервал ученый Димкины видения. – Вот на этом сколе мы видим острые гребешки и широкие впадины между ними, как это наблюдается и в нынешних водоемах. А вот на этом слепке – все наоборот: впадины острые, узкие, а валики широкие.
– Ну, это и ежу понятно, – легко догадался Димка. – Этот слой нижний, а тот верхний.
– Верно! Хотя еж, смею предположить, вряд ли догадался бы. Во втором случае мы, стало быть, имеем обратный слепок. А если в коренном обрыве этот обратный слепок лежал бы снизу, под нормальным, как бы вы это истолковали?
– Значит, его как-то перевернуло.
– Истинно! Браво, Дмитрий! – порадовался Владимир Афанасьевич сообразительности своего ученика. – Такое в природе случается сплошь и рядом. Тектонические силы сминают толщи осадков в гигантские складки и даже переворачивают их вниз головой. Геологи, кстати сказать, так и называют: подошва пласта и голова пласта, то есть его верха. Выходит, по этим бесценным знакам ряби мы можем также установить, опрокинута ли данная толща вниз головой или лежит нормально.
Взяв образец песчаника с такой замечательной рябью, они двинулись дальше по гребню водораздела (как назвал хребет Обручев)[31]. Водораздел все время менял свою высоту – то нырял вниз, то вздыбливался. Упругий ветерок приятно освежал и щекотал разгоряченное лицо, обдувал мокрую от пота, открытую Димкину грудь.
Наблюдая по сторонам и осматривая камни под ногами, Владимир Афанасьевич продолжал с увлечением рассказывать Димке необыкновенные вещи.
– Осадочные породы, – говорил он, – способны сохранять в себе не только древнюю рябь, но и отпечатки и окаменевшие остатки древних растений и животных, которые мы называем окаменелостями. Могут сохраниться – вы не поверите! – даже следы дождя.
– Как это – дождя? – не понял Димка.
– Очень просто. Капли упали на мягкую глину и оставили ямки. Глина высохла, отвердела, а затем опять оказалась под водой и покрылась другими осадками. И вот готов отпечаток. Бывает, остаются следы ползания червей и даже отпечатки лап давно исчезнувших животных, например ящеров триасового-юрского периодов[32].
– Ящеров?! – округлил глаза мальчишка. – Вот бы увидеть! Хотя бы их следы!
– Надеюсь, когда-нибудь увидите. Когда я был студентом, – вспомнил Владимир Афанасьевич и засмеялся, – на занятиях по палеонтологии профессор Лагузен[33] рассказывал нам о таких окаменевших следах динозавров. И один студент спросил: «Почему же они не пошли по этим следам?»
Обручев расхохотался веселым, задорным смехом. Было видно, что ему самому интересно все это рассказывать и объяснять. Серые глаза его особенно заблистали, когда он проговорил:
– У меня зреет замысел написать занимательную книгу по геологии – книгу о том, как накапливаются осадки, как образуются горы, пещеры, о вымерших древних животных. Книгу для всех интересующихся геологией и просто любознательных молодых людей – таких, как вы, дорогой Дмитрий. Я бы так ее и назвал – «Занимательная геология»[34]. – Он немного помолчал в задумчивости и прибавил: – А еще мне бы очень хотелось – это мое чаяние, – чтобы геологию читали в школах. Это был бы интереснейший предмет. И очень важный. Ведь мы все ходим по Земле, а зачастую и не знаем, как она устроена внутри. Меня радует, что в училищах и гимназиях начинают проводить прогулки по ближайшим окрестностям с наблюдением природных явлений, собиранием образцов местной флоры. Возникают даже маленькие музейчики. Было бы славно, если бы в каждом учебном заведении существовали такие уголки родиноведения.
– Краеведческие музеи[35], – подсказал Димка.
– Можно и так назвать, если угодно, – согласился Обручев. – Суть не в названии. Главное – это живое участие ребят в научных изысканиях. Важно, чтобы они сами, своими руками, собирали коллекции минералов и горных пород своей местности, образцы растений, археологические редкости. Такие музеи, уголки разжигали бы у ребят умственный аппетит. Так я это именую. Многие из тех мальчишек впоследствии стали бы знаменитыми исследователями, да хотя бы и просто – неравнодушными, увлеченными людьми.
Глава 19. Кварцевая жила
В понижениях водораздела среди россыпи камней встречалась мелкая травка и какие-то бледные цветочки, возвышения же представляли собой голые каменные конусы. При подъеме на такой конус необычного лилового цвета Димка обратил внимание на странный хруст. Мелкие лиловые плиточки, которыми был засыпан склон, позванивали и хрустели под сапогами, как если бы ты шагал не по камням, а по битому стеклу или битым блюдцам.
– Не удивительно. Ведь это почти и есть стекло, – подтвердил Димкины впечатления Обручев. – Точнее – липариты, изверженные породы с большой долей вулканического стекла.
– Значит, это вулкан?! – поднял брови Димка.
– Скорее, то, что от него осталось после того, как реки и ручейки расчленили эту территорию.
Такое объяснение мало что Димке говорило, но он не стал ломать над этим голову, поскольку ему не терпелось поскорее добраться до вершины. А вдруг там кратер? Но, как он уже знал, геолога опережать не принято, а тот двигался вверх размеренно, нередко останавливаясь и разбивая молотком более крупные плитки, которые лопались, точно фарфоровые блюда.
Наконец достигли самой высокой точки, хотя на деле эта «точка» представляла собой площадку размером со школьный двор. Никакого кратера Димка не обнаружил. Зато отсюда открывался во все стороны широченный простор. Горы, горы и горы – до самого горизонта. Лесистые и оголенные, темно-серые, бурые и голубоватые. Хребты улеглись между одиночными пиками, изогнувшись, точно исполинские ящеры. Сильный упругий ветер холодил вспотевший лоб, наполнял легкие чудесной свежестью. Дальние вершины слегка курились – это ветер сдувал с них каменную пыль.
Насчет жерла вулкана Обручев разъяснил, что жерла можно наблюдать лишь у молодых, действующих, вулканов, древние же вулканы часто оказываются разрушенными. И если мы видим гору, состоящую из вулканических пород, то это не значит, что эта гора вулкан. Такая гора действительно связана своим происхождением с вулканами, но горой ее в нынешнем виде сделали водные потоки, размывающие, как бы разрезающие на части широкие возвышенности.
Лиловая вершина через аккуратную неглубокую седловину соединялась с соседней округлой вершиной.
– Вот, пожалуйста, – остановился геолог на средине седловины и расколол желтовато-белую глыбу. – Жильный кварц с охрами гидроокислов железа. – Он вгляделся в свежий скол. – Такой кварц может содержать золото. А как хорошо видно положение жилы! – указал он рукой.
В самом деле, белые глыбы выстроились цепочкой, протянувшейся поперек седловины, словно кто-то специально уложил их в ряд.
– Будьте любезны, Дмитрий, замерьте азимут этой жилы: в каком направлении она протянулась?
Димка достал из чехла доверенный ему горный компас.
– А в какую сторону мерить? – спросил он.
– В любую. Разница – сто восемьдесят градусов.
Димка назвал цифру, геолог записал ее, после чего отбил несколько кусков жильной породы, которые Димка завернул вместе с этикеткой в плотную коричневую бумагу. На этикетке (простом обрезке бумаги) он написал карандашом названный геологом номер. Как он понял, эти куски будут потом тщательно исследоваться.
Завершив эту операцию, мальчишка опустился на колени и с большим вниманием принялся рассматривать обломки кварца, надеясь увидеть в них частички золота. Пересмотрел с десяток камней, но ничего похожего на золото так и не высмотрел. Зато в некоторых расколотых, похожих на сахар кусках обнаружились пустоты, а в них – красотища! – мелкие, как зубчики, прозрачные кристаллики. Это были еще недостаточно выросшие кристаллы горного хрусталя. Некоторые кристаллики были не прозрачными, а молочного цвета. Как объяснил потом Владимир Афанасьевич, эти нельзя назвать горным хрусталем. Это просто кварц. Сама же полость, утыканная внутри кристалликами, именуется жио́дой.
Поднявшись на ноги, Димка увидел, что его наставник уже шествует по склону соседней горки, постепенно спускаясь по косогору.
Подхватив вещмешок с камнями, мальчишка припустил наискосок по склону, рассчитывая сократить путь.
По скату второй горы, поблескивая на солнце, ручейком сбегала вниз светлая струйка осыпи. Димка добежал до нее, как вдруг «ручеек» ожил под его ногами. Склон и одиночные «хвосты» стланика на нем поползли вверх. Вернее, это Димка поехал вниз вместе с длинной змейкой стеклянно позванивающей щебенки. Сапоги увязли в этом сухом ручейке, а когда Димка попытался их высвободить, ручеек побежал еще быстрее. Это было похоже на эскалатор в метро. К сожалению, двигался он только в одном направлении – вниз. Когда Димка все же сумел покинуть этот коварный эскалатор, Владимир Афанасьевич был едва различим где-то под самыми облаками. Пришлось снова лезть в гору.
– Здешние осыпи не слишком опасны, – сказал своему подручному геолог, когда они опять соединились в пару. – А вот в Центральной Азии, на Нань-Шане[36], по такой осыпи можно соскользнуть прямехонько в пропасть. Бывало, люди гибли.
Они продолжили спуск.
Солнце садилось за далеким зазубренным хребтом, черным внизу из-за леса, а вверху окаймленным золотистой линией.
– Видите, Дмитрий, вон ту горную гряду? – показал Владимир Афанасьевич на дальний хребет. – У нас запланирован к ней большой четырех-пятидневный маршрут. Лошади туда не поднимутся, стало быть, пойдем с грузом сами – я, вы и кто-то из рабочих. Скажите: вы согласны?
Мог ли Димка быть не согласным?!
– Еще бы! – радостно воскликнул он. – С вами я хоть куда!
Ученый улыбнулся и тронулся дальше, как Димка догадался – к стоянке.
Глава 20. В биваке
В биваке, устроенном казаками и рабочими на высокой береговой террасе у реки, Обручев, как и в прошлый раз, разложил все принесенные образцы пород и принялся писать в своей черной толстой тетради. Он был без фуражки, пышные волосы иногда падали ему на глаза, и ему приходилось их поправлять.
– Владимир Афанасьевич, – подошел к нему Димка. – Ваш компас, – протянул он геологу его вещь.
Обручев поправил прическу и покачал отрицательно головой:
– Нет-нет. Пусть у вас останется, коль скоро вы теперь с ним работаете. К тому же у меня имеется запасной, так что позвольте этот вам подарить.
– Владимир Афанасьевич! – воскликнул мальчишка.
– Не стоит благодарностей!
И он снова взялся за ручку. Но, видя, что Димка не уходит, проговорил, легонько похлопав ладонью по тетради:
– Это, чтобы вы понимали, Дмитрий, полевой дневник. В маршруте геолог делает краткие записи в полевой книжке, а по вечерам, по моему убеждению, он должен вести дневник – записывать в него все впечатления рабочего дня, полезные мысли и соображения, делать зарисовки. И это будет ценнейший материал. Пржевальский говорил: «У путешественника нет памяти». Он имел в виду, что путешественнику нельзя надеяться на свою память, а следует все сразу же записывать, иначе многое забудется. Главное – не лениться записывать. Как выражается моя любезная супруга, лень – на ремень, а ремень на плечи. Иными словами, лень надо крепко держать в узде и не давать ей воли.
Сам ученый, как уже заметил Димка, никогда не давал лени волю. Когда стало смеркаться, он зажег в палатке свечу и писал при ее свете на вьючном ящике. Это было видно по тени, лежащей на стенке палатки.
Димка в это время сидел в большой компании у костра. Костер жарко пылал, потрескивал, и веер искр уносился в черное небо. Собравшиеся вокруг него рабочие и казаки пили чай, сидя на бревнах, курили самокрутки, подшучивали друг над другом.
Больше всех доставалось Михею по прозвищу Хобот. Михей был медлительным, вялым, вечно сонным и, как понял Димка, совершенно беззлобным парнем. На его прыщеватом пухлом лице выделялись черные ресницы и огромный, свисавший сарделькой нос. Михей редко говорил, чаще просто сопел, шумно вздыхал или зевал. Ходил он ссутулившись, как будто с трудом переставляя ноги. Казалось, толкни его легонько – и он упадет. По утрам, как заметил Димка, Михей вставал позже всех, а спать заваливался первым. Работал он еле-еле, сачковал, и всем приходилось его подгонять. В отряде он служил чем-то вроде живого анекдота. Может быть, поэтому его и терпели, не выгоняли.
Если от костра, где собрались казаки и рабочие, доносился бурный хохот, то почти наверняка можно было сказать, что хохочут над Хоботом. Задремлет тот, пригревшись у огня, кто-нибудь (чаще Николка) подойдет да как гаркнет ему в самое ухо:
– Хобот, подъем! Марш на кухню дежурить!
Тот испуганно хлопает своими черными ресницами, крутит головой, ничего не понимая, а толпа ржет. Бывает, кто-нибудь, желая подурачиться, запрыгнет с разгону Хоботу на спину, пока тот, ссутулившись, бредет куда-то по биваку. Михей при этом сразу валится вместе с ездоком.
– Ну и кляча! – хохочут казаки. – На такой далёко не уедешь!
– Его самого впору на себе таскать!
Вспоминали со смехом, как Михея пустили с кем-то в паре впереди отряда прорубать в дебрях проход лошадям и он, подремывая на ходу, чуть не обрубил свой нос-хобот.
Сейчас, пока Хобот зевал, Николка незаметно бросил ему в кружку с чаем черного усатого жука. Остальные давились от смеха, ожидая реакции Михея. Но тот, обнаружив в своей кружке непрошеного гостя, молча выловил его пальцами, бросил за плечо и продолжил преспокойно хлебать чай.
Выделялся среди рабочих и кашевар Кузьмич. Он еще в первый день произвел на Димку сильное впечатление – кряжистый чернобородый старик с маленькими злыми глазками. Кузьмич никогда не смеялся, говорил мало, лишь покрикивал сердито на других, если они, по его разумению, делали что-то не так.
«Почти как Фомич», – сравнил Димка. Хотя нет, своим обликом этот крепкий старик совсем не походил на дохлого завхоза, да и характером был явно покруче.
На Димку он тоже успел уже накричать, когда мальчишка подошел к костру погреться и задел треногу с подвешенным котлом.
– Гляди под ноги, чай, не слепой! – рявкнул кашевар. – Кашу вывернешь, язви тебя в душу!
А вот Обручев, по Димкиным наблюдениям, ко всем в отряде относился ровно-уважительно и к каждому обращался только на «вы».
– Ефим Кузьмич, сделайте одолжение, – говорил он, к примеру, злому повару, – приготовьте утром завтрак пораньше. У нас большой маршрут, и хорошо бы выйти по холодку.
– Будет сделано, Владимир Афанасьич, – с готовностью и даже преданностью отвечал старик, слегка поклонившись.
Нетрудно было заметить, что самого Обручева все в отряде сильно уважают. И все же Димка ни разу не видел, чтобы кто-нибудь подавал начальнику в постель кофе или хотя бы чай (как Фомич Шмырёву – в том, другом мире). Да и как это можно было бы сделать, если Владимир Афанасьевич поднимался раньше всех? До завтрака он либо осматривал окрестности, либо писал в своей тетради. Хозяйственных дел он не касался, занимаясь исключительно геологией.
Сидя в тот вечер у костра, Димка, несмотря на общее веселье и шутки, клевал носом, почти как Хобот. Все-таки маршрут с непривычки оказался для него тяжеловатым. Перед его внутренним взором проплывали то окаменевшая рябь, то громадная медвежья морда с маленькими округлыми ушками, то куски рыжеватого кварца с прозрачными кристалликами. И стеклянными колокольчиками позванивали в ушах плиточки вулканической породы.
Глава 21. Складки
Димке показалось, что едва он положил голову на свернутую из куртки «подушку», как тотчас же послышались уже знакомые ему хлопки. Это дежурный, назначаемый в помощь повару, хлопал палкой по палаткам, возвещая подъем. Так было заведено в отряде – хлопать палкой, чтобы криком не тревожить лошадей.
Вслед за другими Димка выбрался наружу. И обомлел. Тайга буквально купалась в росе. Прозрачные капли-бусины были нанизаны на каждую иголочку лиственниц и елок. Роса поблескивала на листьях, на паутине, на воткнутом в чурбак топоре. Капли почти беззвучно падали с листа на лист. Листья подрагивали, словно кто-то трогал их осторожной рукой. Над рекой стлался молочно-белый туман.
Холодная вода мгновенно выгнала из Димкиной головы остатки сна, едва он обдал ею лицо.
Справа, за кустами, послышалось громкое фырканье. «Лошадь?» – раздвинул ветки Димка. Однако вместо лошади он обнаружил Герасима. Забравшись в реку нагишом, Герасим принимал ванну: приседая, фыркая, плескал себе на плечи, на лицо, на бороду прозрачную воду. Речка была для него явно мелковата. Димку подивило, что при такой румяной огрубелой физиономии тело богатыря оказалось белым, как у младенца. На бледной груди болтался на шнурке темный крестик.
Владимир Афанасьевич, похоже, проснулся давно. Димка увидел его шагающим под обрывом террасы и бодро размахивающим молотком.
– Сегодня, уважаемый Дмитрий, вы увидите замечательную антиклина́ль! – весело провозгласил он, приблизившись. – Река подготовила для нас великолепное обнажение. А в нем – как в учебнике – классическая антиклинальная складка.
Что такое антиклинальная складка, Димка не имел ни малейшего понятия, но решил, что это нечто ужасно интересное.
Наскоро перекусив, геолог и его помощник отправились вниз по реке – туда, где обрывистый берег переходил в отвесные скалистые уступы высотой полтора-два человеческих роста. Местами вода плескалась у самого подножия уступов, и тогда приходилось брести.
– Вот! – остановился наконец Владимир Афанасьевич и, торжественно вскинув руки, оборотился к каменной стене. Вскинул он руки с таким выражением лица, как если бы тут, на этой неровной стене, висела бесценная музейная картина.
Димка всматривался в серую трещиноватую каменную поверхность с прицепившимися к ней кустиками и пучками травы и не понимал пока, чем тут полагается восхищаться.
– Ну?! Видите?! – воскликнул нетерпеливо учитель.
– Что? – смущенно спросил ученик.
– Да как это «что»?! Слои видите?
Да, пожалуй… если присмотреться, можно было заметить неровные полосы разной ширины и оттенка, наклонно пересекавшие стенку.
– Вроде бы вижу, – кивнул Димка.
– Хорошо. Ну и куда они, по вашему мнению, падают?
– Туда, – показал Димка вправо.
– И при этом слегка подворачиваются, так ведь? Отменно! Заметьте, пожалуйста, вот этот слой темно-серого сланца, а над ним – светлую пачку известняка[37]. Теперь последуем дальше…
Они прошли по воде еще метров десять.
– Смотрите теперь здесь! – снова остановился с вдохновленным лицом геолог. – Куда слои падают?
– Теперь влево. Здо́рово! – оживился Димка, тоже начиная ощущать азарт.
– Где наш сланец?
– Вот этот? – подойдя вплотную, провел мальчишка рукой по темной извилистой полосе.
– Разумеется, это мог бы быть и другой, похожий слой, но обратите внимание, какая порода соседствует с ним.
Да, над сланцем тянулась широкая светло-серая полоса.
– Известняк? – догадался Димка. – Тот самый?
– Именно. Только теперь он слева. Выше и слева. Таким образом, мы имеем как бы зеркальное повторение правой части обнажения. Мысленно соедините вверху эти слои. Удалось? Вот это и есть антиклинальная складка. Вот только верхушка ее, так называемый свод складки, разрушилась. Мы видим лишь ее бока. Однако по ним мы без труда можем восстановить всю складку.
– Если складка выпуклая, как в нашем случае, – продолжал объяснять старший, – то это антиклиналь, или седло[38]. Если же она, напротив, вогнутая, то это синклиналь, или мульда. Слои пород по обе стороны от перегиба называются крыльями складки. Они и вправду напоминают изогнутые крылья птицы. Вы согласны?
Да, Димка вполне был согласен с таким красивым сравнением.
– Ваша задача сейчас, уважаемый Дмитрий, замерить элементы залегания обоих крыльев, иначе – установить, в каком направлении и под каким углом они падают. Я же пока зарисую эту замечательную картинку в своей полевой книжке.
– А вначале эти слои лежали ровно? – решил уточнить Димка.
– Несомненно. Они поочередно, один за другим, накапливались в древнем водоеме.
– Почему же они так… согнулись? Это какая же для этого нужна была силища!
– Вы правы: силища колоссальная. Это так называемая тектоническая сила, о которой мы уже говорили вчера. Учтите еще, дорогой Дмитрий, что сминалась эта осадочная толща не в мягком изначальном состоянии, а в твердом, окаменевшем.
– Как же она при этом… не разломилась на куски? – недоумевал Димка.
– В этом, мой юный друг, есть своей секрет. Дело в том, что происходит такое сжатие обычно очень и очень медленно, веками, тысячелетиями. А твердое тело под воздействием длительного давления начинает вести себя как пластичное. Возьмем для примера стекло. Казалось бы, оно твердое и хрупкое. Однако под длительным давлением оно способно изгибаться, не ломаясь. Это доказано опытами.
Пока геолог говорил, рядом с берегом, в прозрачной, как жидкое стекло, воде проплыло что-то большое, серебристо-серое с красным. Какая-то крупная длинная рыбина. Она плавно двигала оранжевым хвостом и розоватыми плавниками. Димка застыл, очарованный этими грациозными движениями речного существа.
– Это таймень, – негромко проговорил Обручев, проследив Димкин взгляд, – представитель семейства лососевых. Красивая и сильная рыба. В бывшее лето двое моих рабочих залучили тайменя острогой. И пока тащили его, он опрокинул им лодку и едва не утопил обоих. Каков силач!
«Вот бы мне сейчас спиннинг!» – подумал Димка. Но где его спиннинг? Он остался в другом мире. Мальчишка даже немного приуныл. Не из-за спиннинга, а из-за недоступности для него его привычного мира. И может, унывал бы и дальше, если бы измерение элементов залегания не требовало большого внимания и сосредоточенности. И если бы Владимир Афанасьевич не предложил затем искупаться.
Это было классно! Они ложились на спину ногами вперед, и поток нес их, как бревна, между скользкими камнями, порой захлестывая пенистой волной.
– Уф, хорошо! – фыркала плывущая рядом с Димкой голова Обручева.
– Эх, хорошо! – вторила Димкина голова.
Потом приходилось бежать по берегу обратно. Пробегая мимо песчаной косы, Димка от избытка радости вывалялся в зеленовато-сером рыхлом песке и стал похож на шерстистого первобытного человека. Однако песок этот настолько прилип к коже, что великому Обручеву пришлось обмывать Димкину спину.
Оставшуюся часть дня они продолжали обследовать береговые обрывы. Димка замерял азимуты и углы наклона крыльев антиклиналей и синклиналей, а Обручев зарисовывал эти сложные, порой даже лежащие на боку складки.
Только поздно вечером добрались они до новой стоянки на этой же реке. Там их ждала ароматная наваристая уха из наловленной казаками рыбы.
После ужина, несмотря на сумерки, несколько человек возобновили рыбалку. Димка присоединился к ним. Многое в этой рыбалке показалось ему удивительным. Во-первых, леска, которую здесь называли лесой. Она была как будто сплетена из тонких серых нитей. Оказалось, что сплетена она из волосин конского хвоста. Крючок, правда, был явно фабричный – острый и блестящий. «Англицкий», как заявил Николка. При этом не было ни поплавка, ни грузила. Леску привязывали к вырезанным из тальника прутам, а вместо наживки приматывали к крючку красной ниткой пучочек волос. Вот и вся снасть. Димке не верилось, что на нее можно хоть что-то поймать. Неужто рыба такая глупая, чтобы позариться на пучок волос? Однако едва он забросил эту летучую снасть в воду, причем совсем недалеко от берега, как раздался всплеск, удилище резко пригнулось к самой воде, и мальчишка вытащил на берег упругую зеркальную рыбу. По форме она напоминала крупную плотву, но, в отличие от плотвы, на спине у нее имелся большой мягкий плавник, ярко раскрашенный зелеными и малиновыми полосами, как и другие, более мелкие плавники и хвост. Да и все тело было словно радужным, играющим оранжевыми, синеватыми, зеленоватыми цветами.
– Это харьюз, – назвал рыбу Герасим. – Сильно нежная рыба, потому долго не хранится. Особо хороша она в малосольном виде.
До наступления темноты Димка успел поймать еще двух хариусов, а другие рыбаки натаскали по десятку. Рыбу в два счета выпотрошили, пересыпали солью и затолкали в небольшой брезентовый мешок. И отправились, довольные, спать.
В ту ночь Димке приснилось, будто в палатку, где он мирно возлежал, пробрались синклиналь с антиклиналью. Они имели вид черных упругих дуг, выгнутых: одна – книзу, другая – кверху. Синклиналь-мульда сейчас же подползла под Димку, антиклиналь-седло оседлала его сверху, и обе дружно принялись его душить. Димка хотел было крикнуть, чтобы разбудить рабочих, но вспомнил, что у антиклиналей и синклиналей полагается измерять элементы залегания. Он схватил компас – и в тот же миг нападающие присмирели, как черти при виде креста, и уползли прочь.
Глава 22. Стланиковые «джунгли»
Подъем в гору на этот раз дался Димке нелегко: еще с позавчерашнего маршрута у него болели мышцы ног. И все же он был доволен: ведь он не просто поднимался в высь над низменностями и тайгой – он поднимался и над самим собой, преодолевая сопротивление усталого тела.
Перед глазами его перемежались обломки серых и коричневатых камней, редкие кривые стебли шиповника, бледные островки хрупкого ягеля. Над головой простиралось ярко-синее небо без единого облачка. А за спиной росла и ширилась пустота, гигантский провал долины реки. Там, внизу, среди густо-зеленой щетины тайги выделялись рыжие проплешины ма́рей (болот), блестящей лентой извивалась речка. Темно-голубая на плёсах, она чешуйчато серебрилась на перекатах. Удивительно: речка была отсюда вон как далеко, а ее чуть приглушенный величественный рокот легко доносился сюда, на этакую высоту! А вон на ближнем ее берегу, на малахитовом[39] пятнышке поляны – три крохотных светлых квадратика. Это палатки, их бивак, оставшийся в этот раз на месте.
Примерно через два часа путники достигли вершины. Они тяжело дышали и утирали потные лица. И тут выяснилось, что эта часть маршрута была самой легкой. Потому как впереди их поджидали заросли кедрового стланика. Чудовищные заросли! Их по праву можно было назвать: стланиковый лес. Или: стланиковые джунгли.
Тяжелые косматые лапы сомкнулись над головами смельчаков, едва они ступили в эту чащу. Изогнутые и переплетенные, точно шланги, шершавые смолистые стволы и стелющиеся по земле корни образовывали настоящую полосу препятствий. Причем полосу нескончаемой ширины. Продираясь через нее, Димка постоянно спотыкался, а то и падал. Колючие ветви при этом норовили хлестнуть его по лицу. Здесь, в дебрях, царили безветрие и духота, пропитанная запахом разогретой хвои и древесной смолы. Пот щипал лицо. Вдобавок мошка прямо-таки выжигала кожу на шее и запястьях рук. А впереди невозмутимо двигалась зеленовато-серая фигура геолога. Фигура эта решительно раздвигала ветви, иногда тоже спотыкалась, но неизменно сохраняла выдержку.
«Вот у кого железные нервы», – заключил Димка с легкой завистью.
Кое-где приходилось проползать на четвереньках под нависшими стволами и ветвями. Сухие, но гибкие, как проволока, сучки царапали спину, а за шиворот щедро сыпались иголки.
Так что когда начался спуск, Димка очень обрадовался. Он ожидал, что теперь идти станет легче. Однако не тут-то было! И вот почему. Здесь, на склоне, толстые, с руку толщиной, стволы кедрача тянулись сперва горизонтально, а затем резко выгибались дугой вверх. Склон же под ними круто уходил вниз. На сам склон не попадешь: не протиснуться между стволами, а чтобы шествовать по стволам, требовалась поистине акробатическая сноровка.
Обручев, похоже, такой сноровкой обладал. Он двигался легко, как будто всю жизнь только и делал, что преодолевал заросли стланика. Шагнув на очередной горизонтально вытянутый ствол, он ступал по нему, придерживаясь за соседние ветки, пока под его весом растение не прогибалось, плавно опуская умельца на стволы нижерастущих кустов. Освободившийся пышный хвостище с шумом взмывал вверх, после чего все повторялось.
Димка старался действовать так же, но ему, видимо, не хватало навыка, и он порой, не попав ногой на нижний ствол или не рассчитав его прочности, с треском и негромкими проклятиями проваливался вниз. Один раз, собираясь сделать шаг, он почувствовал, что нога его запуталась в переплетении веток. Тело уже наклонилось вперед для шага, но шага не получилось. Падая, Димка хватался за ближние ветви, но напрасно: они предательски следовали вместе с ним. Беспомощное Димкино тело проломилось сквозь гущу кедрача и повисло головой вниз. В ту же секунду кто-то, как показалось Димке, влепил ему звонкую затрещину. Это вещмешок с камнями и подвязанным котелком с размаху приварил его по темени. Бедняга висел, точно подвешенный для вяления хариус: ноги где-то вверху, спутанные, котомка тянет за плечи вниз и не дает поднять головы. Кажется, примерно так срабатывали ловушки, устраиваемые североамериканскими индейцами.
Пленник лишь слабо подергивался и сердито сопел, представляя себе, как дурацки-потешно он выглядит со стороны. Однако подоспевший на помощь напарник потешаться не стал.
– По голове крепко ударило? – обеспокоенно спросил он. – Вы знаете, такой звонкий был удар, что я уж, было, грешным делом, подумал: конец вашей голове.
– Коварное растение, – заметил Владимир Афанасьевич, когда они тронулись дальше. – Для двуногих коварное. А вот четвероногие чувствуют себя в таких дебрях распрекрасно. К тому же кедровый стланик, когда созревают орехи, дает прокорм многим обитателям тайг
