Читать онлайн Сестры Гримм бесплатно
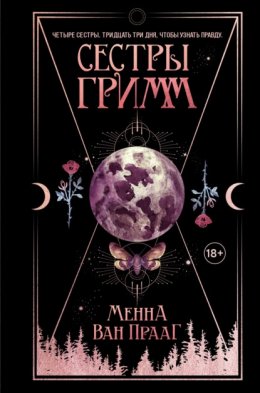
Menna Van Praag
THE SISTERS GRIMM
THE SISTERS GRIMM Copyright © 2020 by Menna Van Praag
© Е. Татищева, перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
* * *
- Окончился сон,
- Спустился туман,
- Послушайте сказку,
- Она есть обман.
- Послушайте сказку,
- Хоть лжива она,
- Но истины также
- Та сказка полна.
Пролог
Все души неповторимы. И неважно, сын это или дочь, неважно, Гримм это или не Гримм. Дух жизни касается каждого ее творения. Но зачатие дочери особенно мистично, оно требует некой алхимии. Ибо для того, чтобы зачать существо, способное выносить и родить саму жизнь, необходимо нечто такое… особое.
Любая дочь рождается от какой-то из стихий, каждой из которых свойственны свои силы. Одни рождаются от земли: они плодородны, как почва, крепки, как камень, неколебимы, как старый дуб. Другие рождаются от огня: они вспыхивают, как порох, чаруют, как свет, ярятся, как неудержимое пламя. Третьи рождаются от воды: они спокойны, как озеро, упорны, как волна, непостижимы, как океан. Сестры Гримм – это дочери воздуха, они рождены от грез и молитв, веры и воображения, стремлений, с их яркой белизной, и желания, с его черными очертаниями.
На Земле и в Навечье сотни, возможно, даже тысячи сестер Гримм. И вы вполне можете быть одной из них, хотя, может статься, так никогда об этом и не узнаете. Вы считаете себя обыкновенной, не подозревая, что вы сильнее, чем кажетесь, смелее, чем чувствуете, и больше, чем вам представляется.
Я надеюсь, что к моменту окончания этой истории вы начнете прислушиваться к неведомому, видеть знаки, указывающие на незримые пути, и ощущать тягу к невероятным перспективам. Хочется верить, что вы откроете для себя свою собственную чудесность, свое собственное волшебство.
Обратный отсчет
29 сентября – 33 дня…
9.17 пополуночи – Голди
Сколько себя помню, я всегда была воровкой и лгуньей. Возможно, я даже убийца, хотя так это или не так, решать вам самим.
– Голди, выходи!
Я убираю блокнот и ручку в карман фартука, разглаживаю заправленную постель, стираю последнее пятнышко с оправленного в золоченую раму зеркала в прихожей, посылаю воздушный поцелуй, адресую стихотворную строчку розовой пятнистой орхидее, стоящей на полке под зеркалом, и выбегаю из номера 13 в коридор.
Мистер Гэррик ждет, его близко посаженные глаза щурятся, лысая голова блестит в свете потолочных ламп. Он проводит по ней сальными руками. Вот если бы он мог пересадить волосы с кистей на лысину!
– Иди займи место за стойкой регистрации, Голди. Кэсси позвонила и сказала, что больна.
– Что? – Я хмурюсь. – Но… Я же не…
– Иди сейчас же. – Гэррик гладит узел своего галстука, слишком туго охватывающего его складками лежащую на воротнике шею, затем пытается щелкнуть заплывшими жиром пальцами, но он слишком вспотел, так что звук получается жалким. Я пытаюсь не выказать своего отвращения.
Иду за Гэрриком в лифт и вжимаюсь в стенку, но толку от этого нет. Эти сальные жадные руки все равно рыскают по моему телу, лапают его в таких местах, касаться которых он не имеет права. Когда кончик его пальца касается моего соска, у меня перехватывает дыхание и напрягается мышца, сдерживающая позыв к мочеиспусканию. В детстве я никогда не могла сдерживать этот позыв, теперь же, как правило, могу. Когда двери лифта со звоном открываются, я тут же вываливаюсь в вестибюль. Гэррик же не спешит, он разглаживает свою полиэстеровую жилетку на жирном брюхе, поправляет галстук и только затем неторопливо идет к стойке регистрации.
Я уже стою за ней и жду. Если бы я так не нуждалась в этой чертовой работе, чтобы кормить и одевать Тедди, то давно переломала бы все его жирные пальцы. И открыла бы рот, дав ему засунуть туда язык, а затем впилась бы в него зубами, чтобы по моему подбородку побежала кровь.
– А что с Кэсси? – спрашиваю я.
– Ничего особенного. – Гэррик понижает голос и плотоядно ухмыляется. – Женские дела.
– А ее не может заменить Лив? – пытаюсь протестовать. – Я же не обучена работать на стойке регистрации.
– Я знаю. – Гэррик вздыхает, испуская дурно пахнущий выдох. – Но ее телефон не отвечает. Да и вообще, сегодня мы ожидаем не более пяти-шести гостей. – Он снова расплывается в той же ухмылке. – Так что тебе надо будет просто стоять за стойкой и выглядеть хорошо. Думаю, с этим можешь справиться даже ты.
В ответ на это я просто смотрю в пространство и молчу.
– Привет, Голди.
Поднимаю глаза и вижу Джейка – носильщика, который робко машет мне рукой. Мы с ним вроде как встречаемся. Он немного скучноват, но зато мил и добр и просит немногого. Что хорошо, ведь я мало что могу ему дать.
Джейк бочком подходит к своей собственной стойке.
– Что ты делаешь тут, внизу?
Он довольно красив, но наши отношения продлятся недолго. Всякий раз, когда он пытается коснуться меня, я вздрагиваю и отстраняюсь. Это не его вина, но мне никак не подобрать слов, чтобы объяснить ему, в чем дело.
– Кэсси заболела, – говорю я.
– А раньше ты когда-нибудь работала за стойкой регистрации? – спрашивает он.
– Да, – без сомнений лгу. Джейк работает в отеле только шесть недель, так что я могу говорить ему все, что хочу. Могу притвориться смелой, сделать вид, будто мне все равно, будто, стоя за стойкой регистрации, я вовсе не чувствую себя так, словно меня посадили в колодки[1] на городской площади.
– Лично я нервничал бы, – говорит Джейк. – И не знал бы, что говорить. – Он робко кладет руку на стойку. Ему хочется потянуться ко мне, но он этого не делает.
– Джейк! Где ты, черт возьми? Джейк!
Парень опускает руку, и мы оба поворачиваемся в сторону крика.
– Я лучше пойду, – говорит он, уже пройдя половину пути до лестницы. Он не оборачивается, чтобы улыбнуться мне или помахать рукой – просто не может этого сделать. Наш босс не терпит многих вещей, но вены выступают на его лысом черепе особенно быстро, если его заставляют ждать.
Стоя за стойкой, я с ненавистью смотрю на телефон, мысленно заклиная его не звонить, затем снимаю с рукава дешевой блузки, составляющей часть моей гостиничной униформы, несколько длинных волос. Я слишком растрепана для этой работы, черт бы побрал Кэсси! Она должна быть здесь, эта принцесса стойки регистрации. Красавица Кэсси – пышная, как ваза, полная пионов. Рядом с ней я всего лишь скромный нарцисс. Раньше мы вместе убирали комнаты, но ей всегда хотелось чего-то большего: больше денег, больше престижа. Если ты работаешь за стойкой, тебе не нужно носить безобразную гостиничную униформу, и на жизнь можно зарабатывать, улыбаясь гостям, а не склоняясь над унитазами, от которых (будем надеяться) пахнет чистящим средством. Что до меня, то чем с меньшим количеством людей я общаюсь, тем лучше. С меня хватает и Гэррика, проглотить что-то большее я не смогла бы.
Кстати, насчет Гэррика и глотания – ни для кого не секрет, что именно это Кэсси и проделала, чтобы ее избавили от мытья унитазов и перевели на стойку регистрации. Со мной жадные ручонки Гэррика смогли сделать не много – я никогда не остаюсь наедине с ним достаточно долго. Так что он может только лапать меня и делать грязные намеки.
В один прекрасный день я схвачу какой-нибудь тяжелый предмет и хорошенько стукну им по его лысой голове.
* * *
Я стою за стойкой регистрации, нацепив гостиничный значок и приклеив к лицу дежурную улыбку, и чувствую мой блокнот в кармане фартука. Здесь я не могу в нем писать – наверное, это самое худшее в работе за стойкой. Дело в том, что я не только воровка, но и писательница. А, возможно, также и поэтесса, но только по моим собственным меркам. Так легче приспосабливаться к голосу, постоянно болтающему в моей голове и комментирующему каждое ничем не примечательное событие в моей жизни. Я не могу контролировать эту болтовню, но могу записывать все стоящее, когда есть возможность. Это немного успокаивает мой ум.
Поскольку сейчас я не могу писать, я думаю о Тедди. Интересно, что он сейчас учит, от каких новых знаний взволнованно раскрываются его глаза? Мысли о брате всегда приносят мне успокоение. Ему уже почти десять лет, и он именно такой, каким и должен быть ребенок: простодушный, радостный, добрый. Тедди – чистая душа, не то, что я, давно ставшая пропащей.
После оплаты аренды квартиры и счетов большая часть моей зарплаты уходит на плату за обучение брата в частной школе: 8590 фунтов в год. А поскольку я зарабатываю 7,57 фунтов в час и работаю 63 часа в неделю, остальную часть доходов мне дают кражи. Я знаю, что он мог бы учиться и в государственной школе, но мальчишка так счастлив в Сент-Фейтс. А мне после всех произошедших событий хочется, чтобы он как можно дольше оставался счастливым. Поэтому я время от времени и освобождаю наших богатых гостей от бремени всяких необязательных безделиц. Удивительно, сколько всего люди могут не замечать, когда имеют так много.
– Извините?
Я поднимаю глаза и вижу господина с римским носом, глядящего на меня сверху вниз.
– П-простите, с-сэр. Я не… Чем я могу вам помочь?
Он игнорирует мою улыбку и попытку исправить собственную невнимательность.
– Чарльз Пенри-Джонс, – изрекает он. – Мы пробудем здесь десять ночей. Моя жена просила дать нам номер с видом на двор.
Киваю ему. Я не умею вести светскую беседу и просто молюсь о том, чтобы просьба его жены была удовлетворена. У меня совсем не получается умасливать рассерженных гостей – они выводят из себя своим неприкрытым презрением и чванством.
Забиваю его фамилию в компьютер, и задача решена – требование его жены выполнено, все в порядке. А когда поднимаю глаза снова, рядом с Пенри-Джонсом стоит он.
Парень высок, строен и силен, точно белая береза, и так же необычно белокур – его волосы светлы, как солнечные лучи, золотящие ее верхушку. Глаза у него зеленые, и их цвет вобрал в себя с полдюжины оттенков: бледная зелень только что проросшей травы или первых весенних побегов, темная зелень леса, сероватая зелень лавровых листьев, глянцевитая зелень мирта, мягкая зелень авокадо… Он дарит мне смущенную улыбку. Я отвечаю на его взгляд и чувствую нечто такое, чего никогда не чувствовала прежде – внезапно меня охватывает огонь.
– Где ты был, Лео?
Улыбаюсь своим мыслям; теперь я знаю его имя. Должно быть, они отец и сын, хотя они не очень-то похожи. Отец идеально вписывается в этот роскошный вестибюль, словно ухоженный, выращенный в оранжерее кактус, а сын кажется здесь немного чужим.
– Где твоя мать?
– Достает что-то из машины. Сейчас придет.
Голос у него тихий и красивый, кисти опущенных рук сильные, пальцы длинные, так что мне кажется, что прикосновение его должно быть нежным, а рукопожатие – крепким. Я чувствую, как внутри меня начинают разворачиваться шелковистые ленточки желания, и тут же обрезаю их.
– Она в дурном настроении, – говорит Пенри-Джонс. – Вечно требует, чтобы я брал ее с собой в деловые поездки, а потом жалуется на то, что я занимаюсь делами. Хорошо, что ты здесь и можешь разрядить атмосферу.
– Ключи от вашего номера. – Я пододвигаю к нему ключи по полированному дереву стойки.
– Мне нужно, чтобы меня разбудили в шесть тридцать. – Отец Лео накрывает ключи ладонью. – Во сколько ресторан открывается на ужин?
– В с-семь часов, – отвечаю я. – Хотите сделать з-заказ?
– Нет, не нужно. – Он смотрит на Лео: – Пойдем. Твоя мать сможет найти нас в баре.
С этими словами мужчина идет по вестибюлю к лифту, сын следует за ним.
Обернись, – шепчу я. – Обернись, – заклинаю его. – Обернись и посмотри на меня.
Дойдя до лифта, он останавливается. Как только наши взгляды встречаются, я опускаю глаза на стойку, а когда поднимаю их вновь, его уже нет.
10.11 пополудни – Лео
Что бывает, когда на Землю падает звезда? Лео может об этом только гадать, поскольку ему не выпало такое счастье. Его сдернули с места, приказав явиться, покинуть свое место на небесах. Смог бы он сохранить свою чистоту и невинность, если бы просто упал? Возможно, он лишился их именно потому, что его вырвали из родного ему мира. И в его холодном каменном сердце укоренились ярость и отчаяние и росли, росли, покуда он не научился творить такие вещи, которые звезды не стали бы делать никогда. Кроме тех, которые были точно так же, как юноша, сдернуты со своих мест, дабы исполнять то, что скажет Он.
Иногда Лео узнаёт другие звезды, хотя теперь они превратились в парней и мужчин, перестав быть шарами раскаленного газа. После падения к ним уже неприменимо слово «звезда», ведь они больше не сияют, не испускают свет, а излучают только тьму и смерть. Куда более к ним подходит определение «солдат», потому что Он сдернул их вниз не затем, чтобы они светили, а затем, чтобы убивать, искоренять и истреблять. У их армии только одна миссия: гасить то, в чем зародился свет.
Поскольку когда-то свет жил и в них, эти солдаты справляются со своей задачей великолепно. На Земле они могут разглядеть сестру Гримм на расстоянии мили, а в Навечье они способны засечь, отследить и, порой, убить ее, не применяя ни одного из земных чувств. Этим звездам-солдатам, или lumen latros, как их предпочитает называть Он, достаточно просто подождать, пока их собственный внутренний свет не вспыхнет и не замерцает, узнав свет сестры Гримм.
Лео не скоро понял, что слово «солдат» ведет к неверным выводам, ибо подразумевает под собой борьбу за правое дело с неправым врагом. Для его отца же сестры Гримм вовсе не враг, а величайшая надежда. И, по правде говоря, его солдаты – это пушечное мясо, которое Вильгельм Гримм бросает против своих дочерей, дабы испытать их силу, привить им вкус к крови и убийствам и обратить их к тьме. Он хочет не войны и сражений, а хочет, чтобы его солдаты проиграли его дочерям. Хочет кровопролития.
Иногда это приводит Лео в такую ярость, что у него возникает желание дезертировать из армии и покинуть своего военачальника. Он не делает этого лишь потому, что не может – его отец карает всех дезертиров смертью, – а также потому, что для продолжения собственной жизни ему необходимо убивать: вбираемый им свет сестер Гримм питает свет и в нем самом. И, наконец, потому, что он все еще мстит за смерть того, кого любил.
Во время охоты Лео видит и других солдат, правда, это случается редко, ибо они стараются не посягать на угодья друг друга. Они охотятся каждый месяц в ночь первой четверти луны, пройдя в 3.33 пополуночи через врата, ведущие с Земли в Навечье.
Сестры Гримм являются в Навечье, чтобы собраться вместе, здесь Лео и находит их. Сестры приходят сюда, когда хотят – в любой час, в любой день, – а сам он может явиться только в строго определенное время. И им нет нужды непременно проходить через врата, хотя иногда им и нравится это делать, ибо это приятный ритуал, им достаточно просто заснуть, закрыть глаза и проскользнуть в страну, лежащую между светом и тьмой, между бодрствованием и снами. Иные из них, особенно молодые, даже не помнят, где они побывали, и пробуждаются так ничего и не узнав. Но большинство приходят сюда намеренно, дабы встретиться со своими сестрами, пустить в ход свои силы, тренируясь и готовясь к той ночи, когда им придется сражаться за свою жизнь.
Лео с первого взгляда видит, что Голди не помнит Навечья. Она забыла себя саму, не ведает, кто она такая, не знает, насколько она искусна и сильна. Именно это ее неведение, если она так и будет в нем пребывать, склонит чашу весов в его пользу. Лео улыбается. Он почти что чувствует, как свет ее рассеивающегося духа разом наполняет его жилы, словно электрический разряд, который возвращает ему жизнь.
11.11 пополудни – Голди
Изумительная наружность этого парня заставляет меня думать о том, как бы я описала саму себя. По-моему, у нас одинаковые волосы, хотя мои – вьющиеся – доходят мне до плеч. Раньше мои кудри ниспадали мне на спину, но я отрезала их, когда умерла мама. Моя кожа не так уж светла, глаза у меня не зеленые, а голубые. Мне бы хотелось сказать, что они вобрали в себя с полдюжины оттенков: живокости, колокольчиков, васильков, гортензии, ломоноса… Но сказав так, я солгала бы, а себе самой я стараюсь не лгать. Голубизна моих глаз светла и бледна, это голубизна незабудок. Заурядная, неприметная.
То, что он оглянулся и посмотрел на меня, просто совпадение. Хотя ощущение у меня определенно было такое, словно я приказала ему это сделать. Знаю, что это глупо, но не могу не гадать. В моем мозгу роятся мысли, вопросы, соображения, они множатся и множатся, пока у меня не начинает болеть голова.
Чтобы отвлечься, сбрызгиваю водой стоящую на каминной полке фиолетовую орхидею, глажу ее листья, шепчу ее лепесткам стихи Вордсворта. Теперь на ней столько бутонов, что я ищу карандаши и шпагат, чтобы подвязать ее. Пока я не начала работать в отеле, смертность среди здешних цветов была просто ужасной. В месяц их погибало не меньше дюжины, но я положила этому конец, потому что всегда любила и умела ухаживать за растениями. Затем смотрю на монитор компьютера, полирую и так блестящую поверхность стойки, выдвигаю и задвигаю ящики. Даже желаю, чтобы подошли новые гости, хотя час уже поздний. Все равно не могу не думать о той минуте, когда он оглянулся, дойдя до лифта. Я так привыкла постоянно чувствовать себя на нервах – словно сжавшийся заяц, всегда готовый юркнуть в свою нору, – и не знала, что способна чувствовать себя по-иному. В ту минуту я чувствовала себя сильной. Так, как будто я могу повелевать армиями, повергать в прах целые страны. Как будто мне подвластно волшебство.
11.11 пополудни – Лео
Насколько Лео известно, прежде ему никогда не доводилось видеть сны. Ему не нужно восстанавливать силы с помощью быстрого сна, собственно, он вообще не нуждается во сне, хотя иногда и наслаждается им. Обычно его ночной покой не прерывает вторжение образов, никчемных и нелепых, и потому, когда после пробуждения он видит перед собой образ Голди, Лео оказывается искренне поражен. Возможно, это подсознательный посыл, предостерегающий его от самонадеянности, или подсознание предупреждает его против недооценки врага. Он явился в этот отель, чтобы просто понаблюдать за ней, однако ему следует присмотреться повнимательнее, оценить все сильные и слабые стороны, прикинуть ее потенциал. А может быть, в нем начинает развиваться нездоровая тяга к этой девушке (надо признать, что увидеть ее лицо вновь во сне отнюдь не было неприятно). И все же вопрос о том, почему ему вдруг начали сниться сны и не Голди ли тому причина, не дает Лео покоя до самого рассвета.
30 сентября – 32 дня…
6.33 пополудни – Беа
Когда Беа впервые полетела на планере, ее охватил неподдельный ужас, но она скорее согласилась бы разбиться, чем признаться себе в собственном страхе. Нет, дело было не в самом полете – оказавшись в воздухе, она испытала такую радость, какой никогда не знала прежде, – просто Беа не сразу привыкла к отрыву от земли. Ощущение было обратно тому, что испытываешь, съезжая вниз на американских горках – резиновая лента аэродромной катапульты медленно натягивается, потом раздается резкий, оглушительный звук.
Подъем же – о, подъем! – просто потрясал. После рывка вверх следовало чудесное парение – набор высоты, чувство, что ты совсем ничего не весишь. Тогда ты забываешь и про катапульту, и про планер, и вообще про все – весь твой прошлый опыт словно стирается этим моментом абсолютного божественного присутствия. Все продолжается, пока планер не начинает крениться и трястись, заставляя пилота схватить ручку управления и начать искать восходящий поток.
Понадобилось с полдюжины полетов, прежде чем Беа начала получать от катапульты наслаждение. Теперь, когда резиновая лента натягивается, внутри девушки сжимается пружина предвкушения. Она сидит в состоянии одновременно абсолютной неподвижности и беспрестанной дрожи, словно все ее тело сейчас сотрясет смех. Она не понимает ни физических принципов, ни метеорологических явлений, благодаря которым планер держится в воздухе без мотора, и не желает их понимать. Дать определение терминам, понять принципы действия значило бы отяготить себя, сделать земным то, что должно оставаться волшебным.
Беа смотрит в окно на уменьшающуюся фигурку доктора Финча, стоящего внизу и машущего руками. Она не машет в ответ. Главная цель ее связи с ним – это беспрепятственный доступ к планерам Королевского общества аэронавтики Кембриджского университета. Секс с ним неплох, но она не чувствует к нему ничего, если не считать порой возникающего отвращения.
По мере подъема дыхание Беа становится медленнее и глубже. Из узла волос выбивается прядь и частично закрывает ей вид, поэтому она быстро отбрасывает волосы назад. В полете Беа иногда охватывает желание побриться налысо, чтобы ничто не могло испортить окружающую ее красоту. Это наверняка привело бы в ярость ее элегантную mama[2] (вполне достаточно и этой причины) и принесло бы ей свободу. Но для такого шага, хотя Беа не желает признаваться себе в этом, она слишком тщеславна. Глядя в зеркало, девушка всякий раз сравнивает свою наружность с тем, что ей нравится. Иногда ей хочется, чтобы ее кожа и волосы были такого же орехового цвета, как оперение самки черного дрозда, а глаза – такого же угольно-черного, как у дрозда-самца. Вместо этого ее волосы больше напоминают цветом крыло вороны, и они очень тонки – в глубине души ей хочется, чтобы они были попышнее. Иногда…
Осторожнее! В заветную тишину кабины врывается со своим нытьем доктор Финч. Беа пытается не обращать на него внимания. Сейчас ей хочется не обрить голову, а сделать лоботомию – все, что угодно, лишь бы обрести покой.
Не будь такой безрассудной.
Callate[3]. Беа прижимает средний и указательный пальцы к виску. Отвали.
Она хватает ручку управления, направляет нос планера вниз, затем резко дергает ручку на себя. Планер дугой взмывает ввысь, и несколько изумительных, совершенных секунд она видит только небо – оно вокруг, сверху, внутри. Она полностью свободна.
Беа кричит в экстазе:
– У-уууууу!
На поле внизу ее преподаватель наверняка ругается и грозит небу кулаком. Выбросив его из головы, она глядит вверх на облака – розовые, благодаря заходящему солнцу, – и продолжает горизонтальный полет на потерявшем скорость планере чуть дольше, чем следовало бы, затем делает мертвую петлю, носом к земле описывает дугу, видя перед собой только ландшафт – сжатые поля и деревья с осенней листвой. Потом земля уходит опять, и планер вновь летит горизонтально.
Беа опять издает радостный крик:
– У-ууууууу!
Так держать, nina[4], покажи ему, что ты не какая-то пустоголовая девчонка, а сестра…! Vete a la mierda, mama![5] – сердито шепчет Беа, раздосадованная вторжением одобрительного голоса матери не меньше, чем упреками своего преподавателя. Почти восемнадцать лет мать всячески поощряла в ней бесстрашие, поэтому Беа никогда не удостоит ее рассказом о том, что на самом деле она любит вести себя безрассудно, а не бесстрашно.
Беа закладывает крен влево так внезапно и резко, что скользит на сиденье и чуть не ударяется лбом о солнцезащитный козырек. Она толкает ручку управления до упора, из-за чего планер резко пикирует и переворачивается, так что земля становится небом, а небо – землей, и Беа повисает в кабине, словно спящая летучая мышь, готовая пролететь головой вниз 2378 футов до полей и разбиться, превратившись в мешанину из плоти, костей и фюзеляжа. Затем планер делает бочку – двойной переворот через левое крыло – и выравнивается. Восторженные крики летящей Беа сливаются с руганью стоящего на земле Финча и вместе несутся к небесам в разноголосице ярости и экстаза.
– У-ууууууу! – Какого черта! – У-ууууууу!
– В какие игры ты играешь, черт бы тебя побрал?
– Я знала, что ты злишься, – говорит Беа, вылезая из севшего планера. – Слышала, как ты выкрикиваешь ругательства…
– Еще бы! – Доктор Финч оказывается рядом с Беа еще до того, как ее ноги касаются земли. – О чем ты думала? Я летаю уже пятнадцать лет, но никогда не проделывал подобного трюка – мертвая петля, затем бочка… и все это не имея подъемной силы, создаваемой потоком теплого воздуха. О чем ты, черт возьми, думала…
– О чем я думала? Да знаю, знаю. – Беа подходит к резиновой ленте, лежащей на траве. Теперь, когда она оказалась на земле, ей хочется одного – опять подняться в воздух. – А ну перестань ныть и помоги мне с катапультой.
– Что? – Финч уставился на нее. – Ты что, с ума сошла? Ты не полетишь, уже почти темно.
– Почти, – Беа поднимает резиновую ленту, находит лебедку, – а не совсем.
– Ни за что.
– Да брось ты! – рявкает девушка. – Не будь скотиной.
– Этого не позволяют правила Общества аэронавтики, – возражает доктор Финч. – Из-за тебя на меня могут наложить дисциплинарное взыскание или, чего доброго, вообще выгнать.
Беа ругается про себя. Она хочет летать, хочет чувствовать себя свободной. Только этого ей всегда и не хватало – наследие детства, проведенного в странствиях из-за mama, которую отправили в психушку, по причине чего Беа поменяла около дюжины приемных семей, то и дело сбегая от них.
– Ты такой долбаный трус.
– А у тебя суицидальные наклонности.
Ну и что с того? – хочет сказать Беа. Ведь это похвально – не бояться смерти, а прыгать прямо в ее пасть, издав боевой клич. Ее помешанная mama научила ее хотя бы этому. Беа открывает рот, чтобы сказать ему это, но потом решает не говорить.
– Да пошел ты.
Доктор Финч смотрит на нее волком.
Молчание становится напряженным, оно словно готово лопнуть. Беа в последний раз оглядывается на стоящий на земле планер и нехотя роняет резиновую ленту. Вместо ленты она смотрит на него – худое, дряблое тело, бесхарактерное лицо, анемичная бледность того, кто переборщил с образованием, плюс нарочито взъерошенные волосы и щетина, призванные свидетельствовать о том, что разум их обладателя сосредоточен на вещах более возвышенных, чем уход за собой. Какой козел. Жаль, что сейчас у нее нет кого-то получше.
– Что ж, – говорит Беа, – раз уж я не могу полетать, то мне нужно лучшее из того, что остается. Твоя жена ждет тебя домой?
Когда все заканчивается, она лежит на диване в кабинете доктора Финча, а он торопливо собирает свою одежду с таким видом, будто не совсем понимает, как это произошло. Будто потом он сможет заявить, что этого не было вообще. Беа шарит взглядом по корешкам его книг, ища какое-нибудь произведение своего любимого философа.
Ей не хочется оставаться здесь и дальше, она желает находиться в воздухе, а если это невозможно, то читать книгу. Уйти в какой-то альтернативный мир. Она была не права: оргазм, особенно в исполнении невнимательного доктора Финча, – это всего лишь слабый, жалкий отголосок полета. Надо было остаться в воздухе, угнать планер. В следующий раз она так и сделает, в следующий раз она не прервет полет.
1 октября – 31 день…
5.31 пополуночи – Лиана
Первый прыжок всегда самый лучший. Тот миг, когда разрезаешь водную гладь и оказываешься под водой. Вот она, наивысшая точка. Ее кровь переполняет восторг – Лиана ныряет, вытянув руки стрелой, двигаясь так быстро и свободно, что начинает чувствовать себя не твердой, а жидкой.
– Я не хочу быть человеком, – часто говорит она. – Вот бы всю жизнь плавать в воде вместо того, чтобы тащиться сквозь воздух.
– Ты вздыхаешь, как выброшенный на берег кит, – нередко отвечает ее тетя Ньяша. – Или как та русалка в фильме, который тебе…
– Мэдисон, – перебивает ее Лиана. – А фильм называется «Всплеск». Да, если не считать светлых волос и голубых глаз, мне хотелось бы быть такой.
Девушка позволяет себе эту радость раз в месяц. Она заимствует абонемент своей тети, проходит полмили до «Серпентайн спа» на Аппер-стрит и плавает час. Не больше и не меньше. Затем она уходит и не возвращается, как бы ей того ни хотелось, до следующего месяца и следующего раза. Это наложенное ею на себя ограничение прискорбно, но оно необходимо, ибо только так она может поставить заслон тоске, неизбежно охватывающей ее потом.
– Так зачем же ты делаешь это, vinye? – спрашивает Ньяша. – Зачем тебе это, если потом ты грустишь?
– По той же причине, по которой ты бегаешь за мужчинами, делающими тебя несчастной, – отвечает Лиана. – Потому что если я брошу – это все равно что умереть.
Почти пять лет назад Лиана проводила в бассейне по шесть часов в день, тогда плавание приносило ей только радость. К десяти годам она завоевала столько кубков, что дубовый сервант ломился от них, а в тринадцать ей прочили олимпийское золото. Затем произошел несчастный случай, из-за которого она не плавала год, и ее навсегда отбросило обратно в любительский спорт. Теперь плавание приносит ей одновременно и радость, и печаль. Первый прыжок – самый радостный, последний – самый печальный. Затем Лиана уходит прежде, чем тоска станет неодолимой. Иногда ей бывает трудно перестать плавать даже после одного-единственного часа, а в следующие дни ей кажется, что от ее кожи пахнет хлоркой, как бы она ни мыла ее, от чего у нее щиплет глаза. Ее кожа темна, как глубины океана, а глаза черны и блестят, как камешки на дне реки – и, когда запах уходит, у нее снова возникает такое чувство, будто ее коже не хватает влаги. И так до следующего месяца.
Под водой, когда движение ее тела-торпеды замедляется, она открывает глаза и смотрит на блестящие голубые керамические плитки, изображающие извивающегося морского змея. Она готовится оттолкнуться от этих плиток и выплыть на поверхность, когда видит в углу бассейна камень – белый, словно снег. Он размером с ее кулак, и, плывя к нему, Лиана вспоминает лицо Кумико. Кожа Кумико бледна, и на фоне черных волос ее лицо походит на луну в полночном небе.
– Если я луна, – в один из дней сказала Кумико, – то ты ночное небо, обнимающее меня.
Лиана рассмеялась.
– Что ж, пусть так.
– Нет, я не луна. – Кумико подалась вперед. – Я зубы в твоем темном, влажном рту.
Кумико притронулась губами к губам Лианы и медленно поцеловала ее.
– Ты пытаешься меня отвлечь.
Кумико улыбнулась.
– Ну и как, у меня получается? – Она улыбнулась еще шире.
– Я пытаюсь… Я хочу нарисовать тебя.
– А я хочу трахнуть тебя.
Лиана засмеялась снова.
– Ты не очень-то благовоспитанна, верно?
Кумико отстранилась.
– По чьему определению?
– Ну… – Лиана постучала ручкой по зубам. – Тебе определенно лучше не употреблять таких слов, говоря с моей тетей.
– Это мы еще посмотрим. Все зависит от того, похожа ли она на тебя.
Лиана положила ручку.
– Сейчас я определенно не стану знакомить тебя с ней.
Кумико картинно закатила глаза.
– Можно подумать, ты собиралась сделать это раньше.
– Я тебя с ней познакомлю, просто я…
– Ты ждешь подходящего момента, – перебила ее Кумико. – Я так часто слышала от тебя этот трёп, что могла бы повторить его задом наперед.
– Послушай, ты должна…
– …я должна дать тебе время. Ага. Бла-бла-бла… Знаешь что? Это тебе надо перестать быть такой благовоспитанной и такой долбаной трусихой.
Лиана выплывает на поверхность с камнем в руке и, стряхивая воду с волос, сталкивается взглядом с незнакомым мужчиной. Девушка хмурится и кладет руки на край бассейна, он глядит на нее сверху вниз.
– Я уже думал, что мне придется звать спасателя, – говорит он.
Лиана начинает не просто хмуриться, а смотреть на него волком.
– Вы можете очень долго не дышать, – поясняет он. – Было ощущение, что вы уже не всплывете.
– Пятнадцать минут тридцать семь секунд, – говорит Лиана. Ей не хочется говорить с этим мужчиной, и она понятия не имеет, зачем он вообще завел разговор, но беседовать о плавании ей хочется всегда, и слова вырываются у нее прежде, чем удается остановить себя. – Раньше я могла задерживать дыхание на два… дольше.
– Раньше?
Лиана пожимает плечами:
– Отвыкла без тренировки. – Девушка оглядывается на бассейн. Она теряет драгоценное время, отведенное на плавание. – Мне надо…
– Как часто вы бываете здесь?
Она хмурится снова.
– Вы спросили меня, часто ли я прихожу сюда?
Он смеется.
– Похоже на то… Извините, я не хотел напугать вас, – мужчина проводит рукой по волосам. Лиана замечает, что он весьма привлекателен – высокий, мускулистый, загорелый – можно даже сказать, необычайно красив, если тебе нравятся мужчины. – Я не это имел в виду. Я спросил просто… Я не хожу в этот спортзал. Мне хотелось узнать, стоит ли покупать здешний абонемент.
Лиана трет пальцем мокрый камень, ей хочется поскорее вернуться к плаванию.
– Не знаю, наверное. Я хожу сюда только для того, чтобы плавать.
– Как часто?
– Раз в месяц.
Он поднимает брови.
– В самом деле? Вы не… вы кажетесь мне очень спортивной.
Лиана закрывает руками грудь.
– По-моему…
– Черт, простите. Мне не следовало это говорить. Я не это…
– …имел в виду? – Лиана вскидывает одну бровь.
– Да, вот именно. Я, э-э, просто хотел сказать, что вы похожи на спортсменку.
Лиана смотрит на него. Он не только красив, а еще и обладает голосом, который, даже когда он смущен и запинается, похож на журчание реки, плавно бегущей по камням. Возможно, поэтому она так долго с ним и говорит.
Когда-то я была спортсменкой. Эти слова комом стоят в горле Лианы, но, если она скажет их вслух, это вызовет вопросы, на которые ей не хочется отвечать.
– Мне надо плавать, – говорит она. – У меня осталось только сорок семь минут.
– Это… вы очень… пунктуальны.
Он улыбается, и его улыбка действует на нее очень знакомо, напоминая происходящее давным-давно. Луну, выглянувшую из-за облаков, и реку, отразившую ее свет.
2 октября – 30 дней…
10.36 пополуночи – Скарлет
Скарлет не хотела идти, но ее бабушка настояла. Девушка не понимала, почему вдруг решили, что день учебы ремеслу у хэтфилдского кузнеца – это хороший подарок на восемнадцатилетие. Наверное, это еще один пример того, как быстро ее бабушка выживает из ума, – ведь до ее восемнадцатого дня рождения еще почти месяц. Но что она может поделать?
Кузнец, Оуэн Бейкер, самый дюжий мужчина, которого Скарлет когда-либо видела. Голова у него лысая и массивная, шея толщиной с ее ляжку, а ширина его ладони почти равна длине двух ее собственных. Он мог бы в два счета швырнуть ее через плечо и скрыться в лесу. Правда, кузница расположена во дворе, прилегающем к свиноферме, так что никакого леса рядом не видно. Всегда, когда Скарлет думает о кузнецах, почему-то ей на ум приходят сказки, в которых речь идет о лесах и беззащитных девочках – или же речь в них шла об охотниках?
– Так что вы хотели бы изготовить, мисс Торн?
Скарлет поднимает глаза, не понимая, о чем он. Она не слушала речь Бейкера, в которой ей кратко изложили историю благородного ремесла по изготовлению заклепок, и не ожидала, что он так быстро ее закончит.
– Что? – Скарлет начинает закручивать свои волосы в узел – темно-рыжие кудри, обрамляющие, словно пламя, ее голову и служащие фоном для ее карих глаз. – Я думала, я не…
Кузнец кладет широкие ладони на наковальню и наклоняется вперед.
– Вы можете изготовить, что хотите. Заклепку, гвоздь, меч…
Скарлет уставилась на него, отпустив свои волосы.
– Меч?
– О, да. – Кузнец улыбается, и глаза у него блестят, как у трехлетнего мальчугана. – Хотите выковать меч, мисс Торн?
Девушка обдумывает это необычное предложение.
– Вообще-то нет.
– Вопрос снят. – Он выпрямляется, и блеск его глаз гаснет. – Тогда что?
Она опять касается своих волос.
– Я думала, вы сами скажете мне, что делать.
Оуэн Бейкер качает головой:
– Тогда не будет потехи. Нет, это должны решить вы.
Скарлет озадачена. Она теребит свои волосы, закусывает губу. Затем ее озаряет.
– Хорошо, я знаю, чего хочу. – Будущая именинница улыбается, радуясь своей идее. – Я хочу выковать ворота.
– Ворота?
– Да. – Скарлет увлекается. – Этакие затейливые ворота с красивыми завитушками. Вы понимаете, что я имею в виду?
– Крестоцветы и завитки? – кузнец складывает руки на груди. – Что ж, мисс Торн, я восхищен вашим замыслом, правда, восхищен. Но боюсь, ворота за такое время не скуешь. У нас с вами есть только пять часов.
– А, понятно. – Она смотрит на молот, висящий на каменной стене.
– Но мы могли бы изготовить часть ворот, – предлагает он. – Как вам такой вариант?
Скарлет оживляется.
– Отлично!
– Так какую часть вам хочется выковать? Кудрявую или шипастую?
* * *
– Да, вот так, бейте по углу, когда расковываете. Правильно, хорошо. Да, а теперь немного помедленнее. – Он кивает. – У вас получается работать молотом, мисс Торн.
Скарлет смотрит на него и улыбается, лицо ее раскраснелось.
– Правда? Я же никогда…
– Нет, не останавливайтесь! Не давайте ему остывать. Да, так, бейте не по толстой части, а по углам – вам надо расплющить металл, как скалка раскатывает тесто. Во всяком случае, так мне говорит моя жена.
Но Скарлет не обращает внимания на его последние слова, она сосредоточена на ощущениях в своей руке, держащей молот, и на звуках, раздающихся, когда она бьет по раскаленному металлическому прутку или промазывает и ударяет по наковальне.
– Так, теперь бейте по центру, делайте форму. Бейте слабее, иначе острие отломится.
Скарлет переворачивает пруток, бьет сначала по одному боку, потом по другому, растягивая металл все тоньше и тоньше в сторону острия. Она надеется, что у них останется время и на то, чтобы сделать еще один такой прут, и на то, чтобы загрузить в горн новый металл. Ей хочется увидеть, как пламя радостно взовьется, заполучив новую пищу, наблюдать за огнем до тех пор, пока в горне не останутся только угли и зола. Хочется бить молотом опять и опять, слышать великолепный лязг, ощущать силу своих ударов, чувствовать, как они отдаются во всем теле с головы до ног. Как ни странно, Скарлет обнаруживает, что ей хочется погрузить руку в пламя и почувствовать его жар на своей коже. Хотя такое и немыслимо, ей кажется, что огонь будет к ней добр. Он будет обдавать ее теплом, которое распространится по всему ее телу, пока она вся не раскалится добела.
По идее, Скарлет должна была бы испытывать страх перед огнем, ненавидеть его, ведь он отнял у нее любимую мать и дом. Но поскольку она не помнит, как именно это произошло, то и боится огня, только когда думает о нем, а когда смотрит на него, он ее завораживает.
– Что ты делаешь с этим жутким заостренным штырем? – Бабушка сжимается на своем стуле, как будто Скарлет прижала крестоцвет к ее горлу. – Убери его.
– Я выковала его сама, – девушка прижимает штырь к груди. – Сегодня утром, когда работала с кузнецом.
Они сидят в кухне кафе и поедают намазанные маслом пышки, которые они пекут на ужин раз в неделю, чтобы побаловать себя.
Эсме Торн морщит лоб.
– С кузнецом?
Скарлет откусывает кусочек пышки, отгоняя подступившую печаль.
– Это твой подарок на мой день рождения, ты заплатила за несколько часов обучения у кузнеца, помнишь?
Глаза бабушки затуманиваются, и Скарлет мысленно ругает себя. Зачем она произнесла фразу «день рождения»? Пора уже понимать, что нужно быть осторожной, но ей никак не удается запомнить, что об этом дне нельзя говорить.
– Но сегодня же не твой день рождения, – ее бабушка вдруг становится похожей на ребенка – широко раскрытые испуганные глаза, россыпь веснушек на носу, одинаковая для трех поколений женщин семейства Торн. – Или все-таки сегодня? Я… я же не забыла, когда у тебя день рождения, не так ли?
– Нет, бабушка, нет, – быстро отвечает Скарлет. – Конечно, не забыла. Он будет в конце месяца.
Ее бабушка успокаивается.
– Я знала, что не могу забыть, когда день рождения моей Руби.
Юная Торн кладет свою пышку на тарелку.
– Нет, бабушка, я не Руби, – говорит она и сразу же начинает жалеть о своих словах. – Я Скарлет.
– Я знаю, – раздраженно отвечает Эсме. – Я так и сказала. – Она откидывает назад свои длинные седые волосы (хотя ей уже семьдесят восемь лет, в волосах только недавно пропали последние остатки рыжины) и заправляет их за уши. – Перестань меня поправлять, это несносно.
Скарлет ждет, готовясь потушить пожар, который только что разожгла, но он гаснет сам. Бабушка слизывает с пальца растопленное масло.
– Когда ты была маленькой, тебе хотелось стать кузнецом.
– В самом деле? – Скарлет чувствует облегчение и вместе с тем недоверие. В последние годы ей стало все труднее отличать правду от вымысла в бабушкиных речах, так что она подыгрывает старушке. – Правда?
Ее бабушка кивает.
– О, да. Я даже как-то купила тебе молот и наковальню – кажется, на твой двенадцатый день рождения. Они были маленькие, но настоящие.
– Ну и ну, бабушка. – Скарлет улыбается. – А я и не помню.
– Не помнишь? Надо же, я… – Эсме замолкает, глядя на свою тарелку. – Ты поехала на школьную экскурсию и после нее начала надоедать мне просьбами о том, чтобы я купила их тебе.
Скарлет по-прежнему не может вспомнить такого, но она чувствует – на сей раз бабушка говорит правду.
– И что же произошло? – спрашивает она. – Где же они?
– Не знаю, – женщина задумывается. – По-моему… ты сказала, что они тебе не нужны. Что это не то же самое.
Скарлет хмурится.
– Что не то же самое?
– Не знаю, – Эсме отрывает глаза от тарелки и щурится, пытаясь поймать ускользающее воспоминание. – Кажется, кажется… тебе были нужны не инструменты. Тебе был нужен огонь.
3 октября – 29 дней…
1.03 пополуночи – Лео
После того как родители устроились в отеле – по настоянию матери он побудет с ними там в будущие выходные, дольше он не смог бы, – Лео возвращается в колледж Сент-Джон. Ночью будет первая четверть луны, а ближайшие врата в Навечье – это ворота сада ректора. Сегодня ночью ему нужно выйти на охоту, дабы отточить свои навыки, убить и тем самым разжечь свой угасающий свет. Понаблюдав несколько дней за Голди и видя ее во сне по ночам, он знает, что должен готовиться к предстоящей схватке тщательно и усердно, ибо иначе ему не выжить. Ведь хоть она и не помнит себя, девушка все равно самая сильная сестра Гримм, которую он когда-либо видел. Предстоит напряженный бой, но на его стороне будет фактор внезапности.
Когда Лео выходит из своей комнаты, уже больше трех часов ночи. Шагая по коридору общежития, он слышит звуки, доносящиеся из комнат – в одной слышится пьяный смех, в другой – звуки увлеченного совокупления. Лео спешит. Он учится в колледже Сент-Джон при Кембриджском университете, потому что это один из тех немногих колледжей, на территории которых есть врата в Навечье, благодаря чему у него нет нужды бродить лунными ночами по улицам Кембриджа.
Такие врата есть только в самых старых и престижных колледжах – там, где мысль пропитывает камни, башни, деревья и землю уже несколько веков. К сожалению, колледж Сент-Джон также является одним из самых больших университетских колледжей, и комната Лео находится далеко от сада ректора, а потому он рискует – его может увидеть следящий за порядком ночной вахтер.
Спеша по каменным коридорам и, вопреки запретам, пробегая по лужайкам сада, Лео вдруг замечает, что ему не по себе. Обычно для него это самая любимая ночь месяца, но сегодня его обычный энтузиазм куда-то подевался. Странно, ведь он лучший из всех, самая яркая звезда, самый способный солдат своего демонического отца. Из всех солдат именно на его счету числится наибольшее количество ликвидаций, а ведь парню еще только восемнадцать лет, и он зависит от того мира, в котором ведет свой счет.
Лео слыхал, что солдат может (по крайней мере, теоретически) попасть в Навечье на волне сновидения сестры Гримм. В этом случае ты не будешь ограничен рамками определенной ночи и определенного часа, но овладеть этим способом самостоятельно не получится, ибо для этого нужны некоторые навыки и близкое знакомство с девушкой, чей сон собираешься оседлать. Такой способ не для него, ведь Лео никогда не сможет полюбить сестру Гримм по-настоящему. Только не после того, что они сделали с его другом.
Десять минут спустя, немного запыхавшись, он стоит перед вратами и смотрит на часы. В 3.33 ночи он поднимает руку и легко прижимает ладонь к кованым железным завиткам. Врата начинают отливать серебром, как будто их посеребрил лунный свет. Лео толкает их и проходит.
6.35 пополуночи – Голди
Теперь мысли о том, что я могу повелевать армиями и повергать в прах целые страны, уже остались в прошлом, уступив место моим обычным заботам о содержании Тедди, избегании Гэррика, плате за квартиру… и я этому рада. Эта иллюзия собственного могущества немного нервирует меня.
– Джи-Джи, иди сюда.
– В чем дело? – Делаю несколько шагов из кухни до кровати Тедди – в нашей квартирке все находится недалеко друг от друга, – чтобы выяснить, что нужно моему брату. Хотя я и без того знаю ответ на свой вопрос, поскольку это повторяется каждое утро. Тедди как всегда раздет, если не считать трусов с изображением Бэтмена, а рядом лежит груда забракованной им одежды.
Он уныло смотрит на меня.
– Что мне сегодня надеть?
Внимательно осматриваю разбросанные им вещи.
– Зеленые брюки, красную футболку и синий джемпер?
Выражение на лице Тедди красноречиво говорит мне, что я не угадала.
– Ты не хочешь надеть свой любимый джемпер? – Показываю на синий кашемировый свитер, украденный мною у сына швейцарского банкира (номер 23) месяц назад. Он был одним из полудюжины совершенно одинаковых – я могла бы взять и два, нет проблем. Но, когда крадешь, надо держать себя в рамках – если станешь слишком уж жадной, тебя могут поймать.
– Я надеваю его почти каждый день. Вчера Кейтлин сказала, что даст мне десять фунтов, чтобы я купил себе новый.
– Вот маленькая др… – Вовремя прикусываю губу. Дети. Некоторые из них милы, но большинству не помешал бы хороший шлепок. Тут же думаю о французской семье из номера 38, в которой есть мальчик одного возраста с Тедди.
– Скоро я принесу тебе что-нибудь новенькое, – обещаю я. – Это точно.
– Правда? – Брат бросается ко мне, раскинув руки, и обнимает. Я прижимаю его к себе. Он тоненький, как недавно посаженное деревце, его руки и ноги так худы, что я боюсь сломать их, если слишком крепко прижму мальчишку к своему телу.
– Да, – говорю ему. Я добуду для него что-нибудь такое сногсшибательное, что даже эта гадкая девчонка будет восхищаться.
07.07 пополуночи – Беа
– Вставай, вставай.
Продолговатый холмик под одеялом Беа стонет.
– Давай, – она упирается пяткой в его бедро и бьет по нему. – Просыпайся, лентяй.
Из-под одеяла выглядывает спутанная шевелюра и лицо, которое Беа смутно помнит по вчерашнему вечеру.
– Имей совесть, – говорит парень и роняет голову обратно на подушку. – Ведь сейчас еще только-только рассвело.
– И вовсе не только-только, – огрызается Беа. Она уже в который раз жалеет о том, что не смогла пронести в свою комнату в общежитии Котика – своего кота, всегда успокаивающего ее и не требующего ничего взамен. – Вали отсюда, у меня лекция. – Это неправда, и они оба это знают. Беа просто хочется поскорее отделаться от него, к тому же ей нужно зайти в университетскую библиотеку. Она ходит в нее каждое утро, как только та открывается, чтобы изучать философию. Девушка выбрала этот предмет, дабы продумать и рассмотреть с разных сторон те идеи, которые в ином контексте могли бы вызвать вопросы относительно ее душевного здоровья. Она все еще беспокоится о том, что может пойти по стопам своей матери, ведь яблоко от яблони недалеко падает.
Ее mama не устает напоминать Беа об этом. Ее похожая на ястреба mama, чей нос так же остр, как и ее ехидный язык.
– Не в этом заключается твое предназначение, nina, – говорит она. – Скоро ты это поймешь.
И всякий раз она говорит это так уверенно, так весомо, что иногда Беа бывает трудно игнорировать ее слова. Клео Гарсиа Перес всегда кажется такой искренней, рассказывая вымышленные истории, происходившие, по ее утверждениям, на самом деле, в которых речь идет о явно выдуманных местах, существующих только в ее воображении. Послушать ее, так можно подумать, что она в своем уме и совсем не прикалывается, а говорит всерьез, хотя и то и другое вовсе не так. Именно поэтому большую часть детства Беа ее мать провела в психиатрической больнице святой Димфны, а девушка в это время кочевала от одной приемной семьи к другой. Кроме фантастических историй, Клео тратит очень много времени, восхваляя преимущества пороков и настойчиво призывая дочь следовать ее сомнительному примеру. В отличие от других матерей, она одобряет дурное поведение дочери и журит ее за хорошее, хвалит за эгоистичные поступки, гнев, черствость и распекает за заботливость или великодушие. Ее mama – это стылый ветер жестокости, который бушует в безмятежном мире, являясь хрестоматийным примером того, как низко могут вести себя люди по отношению к себе подобным.
«Жизнь – это борьба за выживание, – говорила дочери Клео. – В силу своей природы добро проиграет в этой борьбе, а победит его противоположность. Entiendes?[6] Так что, если ты хочешь выжить, быть доброй просто нельзя».
Понятно, думает Беа, хотя сама она этого мнения не разделяет. Ей всегда казалось странным, что в своих страстных разглагольствованиях о войне между добром и злом ее mama никогда даже не пыталась утверждать, что эти самые сестры Гримм, о которых она говорит (по ее уверениям, к ним принадлежит и Беа), сражаются на стороне добра. Ибо зачем быть хорошей, доброй, если ты можешь быть великой? Зло – это величие, всегда говорит ей мать. Зло подразумевает под собой мужество и способность сделать все, что необходимо для победы и избавления мира от слабых.
– Если оставить будущее человечества в руках хороших и добрых, – говорит Клео, – то получится жалкое, убогое племя, ослабленное терпимостью и стремлением сострадать и сопереживать. Люди будут покорно принимать то, что есть, вместо того, чтобы сражаться за то, что может быть. Оставь жалкий человеческий род без нашего участия, и их сотрут с лица земли. Это сделают стихии, дикие звери или же вторгшиеся инопланетяне…
Теперь если mama снова пускается в такие рассуждения, Беа просто кивает и молчит. Только начнешь с ней спорить, и она не заткнется никогда. Беа поступила в Кембридж, чтобы сбежать от Клео, убраться подальше от высказываемых ею фашистских взглядов и вместо этого погрузиться в собственные размышления, в раздумья. Неформальное общение, если оно не служит целям удовлетворения физических потребностей, ее не интересует.
Изгнав, наконец, чужака из своей постели, Беа садится на велосипед и едет (слишком быстро) к зданию библиотеки. Она сбавляет скорость, только пересекая Квинз-роуд, чтобы посмотреть на тот берег реки, где высится церковь Королевского колледжа, и полюбоваться на ее затейливые остроконечные башни, тянущиеся, словно бессмертные пальцы, к диску восходящего солнца. Иногда девушка представляет себе, что эти башни пытаются поднять тяжелую громаду Королевского колледжа в небеса, дабы он, будто перелетная птица, полетел на зиму в теплые края. Может быть, в Париж, чтобы примоститься рядом с собором Парижской Богоматери, а может, в Барселону, чтобы оказаться в обществе великолепного собора La Sagrada Familia[7].
Каждый день Беа радуется тому, что она находится здесь, в окружении такого вдохновения и невероятной красоты. Радуется тому, что можно сидеть в университетской библиотеке и погружаться в рассуждения Бертрана Рассела[8], с которым ей, как и следовало ожидать, куда приятнее проводить время, чем с неуклюжим и неумелым студентом, изгнанным из ее постели утром.
11.48 пополуночи – Лиана
Положив альбом для набросков на колено, Лиана рисует очередную картинку графического романа, над которым работает уже почти два года. С помощью чернил она изображает Черную птицу, сбрасывающую Львицу с верхушки самого высокого дуба в Далечье. Черная птица смеется, глядя, как Львица, не умеющая летать, падает на виднеющиеся внизу камни. Заштриховав последний лист плюща, Лиана начинает писать историю Черной птицы.
ЧЕРНАЯ ПТИЦА
Давным-давно жила-была девушка с кожей цвета эбенового дерева, смоляными волосами и чернильно-черными глазами. Она была так темна, что могла остаться незамеченной, скользнув в тень, а в лунном свете ее кожа отливала синевой. Она также была самой очаровательной, умной и красивой девушкой во всех семи королевствах – куда красивее, чем ее сводные сестры с мертвенно-бледной кожей, бесцветными волосами и белесыми глазами. Все до одной также были немного скучны и бестолковы.
У этой девушки была в жизни одна великая радость. Ночью в полнолуние она могла летать: становилась в саду, нагая, и ждала, пока ее кудрявые смоляные волосы взовьются на ветру и превратятся в великолепные крылья. Тогда она взмывала вверх над сушей и морями, сверкая оперением в серебряном свете луны, и парила в потоках чистой радости.
Ее сестры не умели летать, они были так же привязаны к земле, как коровы, пасущиеся в полях. Однако вместо того, чтобы признать свою зависть к сводной сестрице, они притворялись, будто им совсем не хочется летать, будто ходить по траве – это более возвышенно, чем взмывать в небеса.
Они настолько завидовали Пчеле – придуманное ими прозвище, призванное подчеркнуть ее сходство с незначительным насекомым, – что измыслили план по убеждению сестры в том, что она безобразная дура. Каждый день они твердили ей это, изобретая хитроумные доводы и подхватывая примеры друг друга. Поначалу Пчела, которая была очень умна, разгадывала их хитрости, но шли дни, месяцы, и она начала колебаться и сомневаться в себе. Поскольку их было трое против нее одной, девушка потихоньку начала верить им, пока полностью не уверилась в том, что она и в самом деле безобразная дура.
Теперь, чувствуя себя неловко, Пчела летала только иногда, втайне, и это уже не приносило ей прежней радости. Месяцы, когда она не видела полной луны, начали складываться в годы, а затем и вообще превратились в жизнь, лишенную лунных ночей. Наконец, пришел тот день, когда она совсем забыла, что может обретать крылья и парить в вышине, забыла свою единственную радость.
Так и прошла бы оставшаяся жизнь, если бы Пчела, однажды гуляя в лесу, не встретила незнакомку, чьи кожа, волосы и глаза были так же темны, как и ее собственные. Они поговорили на обычные темы: о погоде, ценах на коров и так далее, и вдруг старуха перешла на шепот.
– Ты забыла себя, – сказала она. – Забыла настолько основательно, что даже не помнишь свое собственное имя.
Пчеле пришлось признать, что так оно и есть, ибо как девушка ни старалась, ей не удавалось вспомнить никакого имени кроме данного ей ее сводными сестрами.
– Пора тебе вспомнить, кто ты, – молвила старуха. – Пока не поздно.
– Но как это сделать? – спросила Пчела. – Как мне вспомнить?
– Заберись на верхушку самого высокого дерева в лесу, – ответила женщина. – И прыгни с самой верхней ветки вниз. В падении ты вспомнишь, кто ты.
Пчела посмотрела на старуху в ужасе.
– Ты в самом деле считаешь, что ради воспоминаний о себе прошлой мне стоит отдать жизнь?
Старуха задумалась только на один миг.
– Да, – сказала она, – я так считаю.
Много месяцев Пчела не придавала значения словам старухи, говоря себе, что та просто безумна. И месяцы опять складывались в годы, и Пчела становилась все печальнее и печальнее, пока не решила, что ей нечего терять, ей стало все равно, жить или умереть.
Она отыскала в лесу древний дуб, высокий, словно три дома, поставленные один на другой, и ветка за веткой взобралась на самую его верхушку. Там девушка села, переводя дух, и стала смотреть на землю далеко-далеко внизу. Пчела сидела и ждала, пока день не сменился ночью, после чего встала, шепотом сказала слова прощания живым и слова приветствия мертвым и прыгнула вниз. Падая так быстро, что воздух ревел в ушах, Пчела вспомнила свое имя – Черная птица. А вместе с ним она вспомнила и себя настоящую.
За мгновение до того, как ее тело должно было удариться о землю, а ее череп – разбиться о камни, Черная птица откинула голову назад и засмеялась, а ветер подхватил ее смоляные волосы, превратив их в огромные крылья. Они подняли ее в воздух высоко-высоко над верхушками деревьев, и девушка снова блестела оперением птицы в свете луны, паря в потоках чистой радости.
Больше Черная птица никогда не забывала ни себя, ни свое имя, ни то, что она любила. Остаток своей жизни она провела, летая по небу, ни разу не вернувшись на Землю.
И теперь, если в лунную ночь вы выйдете в свой сад и как следует прислушаетесь, то сможете услышать отзвуки ее смеха.
Лиана кусает кончик своей ручки, но, вспомнив, как в прошлый раз ее губы окрасились зелеными чернилами, быстро вытирает рот. Она берет ручку с более толстым пером, пририсовывает завитки к прическе Черной птицы в стиле «афро» и более детально прорисовывает ее крылья. Лиана работает медленно, не торопясь заканчивать свою работу, поскольку в этой книге мир намного лучше, чем он есть: хорошие побеждают, плохие погибают, и, даже если на какое-то время воцаряется хаос, в конце все неизменно выправляется. В том мире торжествует справедливость.
В мечтах девушка часто следует примеру своей супергероини-феминистки: борется с преступностью, спасает жизни, страдает от разлуки со своей возлюбленной и чтит память своей матери. Если честно, Лиана проводит больше времени в Далечье, чем в Лондоне. Она может ходить по улицам, сидеть в метро, натыкаться на пешеходов в то время, как на самом деле парит в воздухе над сказочной землей.
– Ана, ты мне нужна! – кричит ее тетя с первого этажа.
Лиана нехотя оставляет Черную птицу с Львицей, поразительно похожей разом и на ее тетю, и на Женщину-Кошку (автор собирается это исправить, когда на горизонте замаячит перспектива публикации ее книги), а также рисунки и набор ручек и возвращается на Землю.
5.48 пополудни – Скарлет
Взглянув на кованый крестоцвет, который она гордо водрузила на полку между банками сахара и соли, Скарлет перестает просеивать муку. Она с размаху ставит пакет на кухонный стол, так что по нему разлетается белая пыль, и торопливо идет из кухни в кафе.
– В чем дело, бабушка? – спрашивает она, подойдя к столику.
Эсме сидит на своем любимом месте рядом с эркерным окном, глядя на затейливые арки и башенки Королевского колледжа и представляя себе его тускло освещенные комнаты, среди которых она встретила своего мужа. До того, как ее разум пал под натиском болезни Альцгеймера, Эсме иногда рассказывала интересные истории о нем, а вот о своей дочери она говорила редко. Единственная история о ней касалась рождения внучки – то, как девочка родилась ногами вперед, выйдя из утробы матери в потоке крови в час, отделявший один день от другого. И всякий раз, когда Скарлет просила ее рассказать о маме что-нибудь еще, менее кровавое, Эсме отделывалась от нее, говоря о пустяках. Но так было раньше; теперь же тому, что говорит бабушка, вообще нельзя доверять.
Единственное, что Скарлет помнит о Руби, это то, как она выглядела – такие же рыжие кудри, такие же карие глаза. Девушка рада этим частичкам воспоминаний, ведь фотографий матери совсем не осталось – все сгорело в пожаре, который менее десяти лет назад убил ее.
– Посмотри, Скарлет, какая красота!
Внучка послушно смотрит туда, куда указывает скрюченный палец ее бабушки – оранжевое небо, похожее на языки пламени, полыхающего над остроконечными фигурными башнями Королевского колледжа. Иногда, убирая со столов, Скарлет останавливается и глядит на это стоящее напротив сооружение и перегородчатые витражи его церкви, окруженные резными каменными стенами и увенчанные бороздчатыми башенками. Над центральной башней здания колледжа реет флаг, похожий на огонь. Девушка отчего-то находит успокоение в мысли о том, что почти шесть веков назад фрагменты этих витражей были обожжены в печи, и в течение двух столетий их создавали искусные мастера. Вид прочных строений Королевского колледжа успокаивает и ободряет, они олицетворяют собой отрадное постоянство в этом слишком уж быстро меняющемся мире.
– Да. – Скарлет улыбается. – Это похоже на Ночь костров[9]. Я испекла булочки с корицей, хочешь попробовать? Это будет нашим лакомством на ужин. – И неважно, что вчера они ужинали пышками, ведь бабушка все равного этого не помнит.
– О, да. – Эсме улыбается, как обрадованный ребенок. – Булочки с корицей – это мои любимые.
– Я знаю. – Скарлет касается плеча своей бабушки и уходит. На самом деле сегодня она ничего не пекла, но у нее остались те булочки с корицей, которые она сделала вчера, их просто нужно разогреть в микроволновке. Узнай об этом Эсме, то была бы крайне возмущена, ибо, по ее мнению, микроволновки – это творение дьявола. После того как Скарлет купила ее, бабушка не разговаривала с внучкой целых два дня.
Главное при разогреве – это не перегреть булочки, а только подогреть их внутренность, и затем поместить их под решетку гриля, чтобы корочки стали хрусткими, как будто они только что испечены. Правда, хитрость Скарлет могла бы выдать нагретая тарелка, так что стоит подавать угощение с осторожностью. Обычно посуда так нагревается, что любой другой уже выронил бы ее из рук, но Скарлет может, не морщась, даже доставать противни прямо из печи, не то что ее бабушка. Впрочем, Эсме ничего не пекла уже несколько лет.
В кухне Скарлет загружает грязную посуду в посудомоечную машину – это уступка современным веяниям, против которой не смогла возразить даже старушка, – пока микроволновка работает, гудя. Когда она пикает, внучка ставит тарелку с булочками на кухонный стол, чтобы та немного остыла, после чего включает посудомойку, но ничего не происходит – из-за пластиковой дверцы не доносится привычный шум. Скарлет ждет, затем нажимает на кнопку еще раз.
– Черт!
Она бьет по машинке ногой. В прошлом месяце сломался холодильник, который при цене 356 фунтов оказалось дешевле заменить на новый, несмотря на то, что его вывоз на свалку стоил 125 фунтов, а теперь эта долбаная посудомоечная машина. Поскольку она стоит 2575 фунтов, ее все же придется чинить, а не заменять.
– Черт, черт, черт.
Поставив булочки с корицей под решетку гриля, Скарлет сердито смотрит на сломанную технику в тщетной надежде устрашить ее и заставить работать снова. Когда из этого ничего не выходит, она еще раз пинает посудомойку, берет тарелку с булочками и идет на кухню.
Сначала Эсме не замечает угощения, оставленного внучкой на столе, но затем отрывает взгляд от заката и переводит его со стола на Скарлет.
– Что, зачем… – Женщина хмурится. – Что это?
– Булочки с корицей. Лакомство для ужина, пом… – проглотив окончание слова, Скарлет пододвигает тарелку к Эсме. – Твои любимые.
Ее бабушка хмуро смотрит на булочки.
– Мои любимые?
– Попробуй, бабушка. Тебе понравится, я обещаю.
Эсме разглядывает тарелку. До того, как стать жертвой болезни Альцгеймера, она обожала выпечку. Если что-то состояло из муки, сахара и сливочного масла, она уплетала это без каких-либо вопросов. Теперь же она ко всему относится с подозрением, словно ребенок, с опаской разглядывающий тарелку с брокколи. Это зрелище всегда разрывает сердце Скарлет.
– Пожалуйста, бабушка, попробуй.
Эсме смотрит на булочки еще какое-то время, затем отодвигает тарелку, складывает руки на груди и снова переводит взгляд на закатное небо.
Более десяти лет назад
Навечье
Это страна опадающих листьев и голодного плюща, страна дымки и туманов, лунного света и льда. Страна, которая всегда находится в движении и в то же время остается неподвижной. Она никогда не меняется, хотя дымка сгущается и тает, туманы приходят с моря и уходят прочь. Зато лунное сияние никогда не тускнеет, лед никогда не тает, и здесь никогда не светит солнце. Это ночной мир, созданный из мыслей и снов, надежды и желания, который озаряет серебряный свет неизменной луны, освещающей все, кроме теней. Это мир осени, но его холод и краски принадлежат зиме. Представьте себе лес, простирающийся между настоящим и вечностью, с древними деревьями, тянущимися к мраморному небу, и бесконечным переплетением корней.
Входы в эту страну охраняют врата вполне обыкновенные, только затейливые ворота изредка – в определенный день, определенный час – превращаются в нечто необыкновенное. Только если в вас есть хоть капля гриммовской крови, вы сможете увидеть эту перемену.
Пройдя через врата, вы окажетесь среди деревьев. Они встретят вас белыми листьями, которые сыплются, как снег, устилая ваш путь и хрустя под вашими ногами. Ступайте осторожно по гладким камням, не то можете поскользнуться, хватайтесь за деревья, прижимая ладони к белому мху, в который одеты каждая ветка, каждый ствол. Вскоре вы услышите журчание воды в бесконечной реке, уходящей все дальше и дальше, протекающей между деревьев, изгибающейся вместе с тропами, но никогда не достигающей моря.
Лишь через какое-то время вы заметите, что все вокруг вас живет своей жизнью. Услышите, как у вас под ногами гудит земля, как дышат деревья, как шелестит их листва, как хлопают крылья пролетающих в небе птиц, а когда ваши глаза привыкнут к здешнему свету, вы увидите отметины на камнях, растоптанные листья, вмятины на земле.
Следы человеческих ног.
До вас здесь бывали и другие, вы пойдете по их следам и будете гадать, сколько их было, по каким тропкам они шли, в какую сторону и что нашли по прибытии.
По пути будьте осторожны, избегайте теней и не подходите к прячущимся в них существам. Не слушайте их голоса, их настойчивый ропот, который еще долго будет звучать в ваших ушах. Вместо этого держитесь своей тропы, прислушивайтесь к сердцу и позвольте ему привести вас к остальным, а ваше сердце приведет их к вам.
Голди
Я отчаянно хотела быть не такой, как все – особенной, исключительной. Несомненно, того же хотели и все остальные, за исключением разве что семи-восьми человек на этой планете, которые довольны и счастливы, являясь тем, кто они есть. Я же была недовольна. Мне хотелось быть необыкновенной с того самого момента, как я уже достаточно подросла и поняла, что ничем не отличаюсь от многих. Наверное, именно поэтому я так любила спать – во снах мне удавалось быть блестящей, великолепной. Я могла летать, дышать огнем, становиться невидимой; силой разума двигала предметы, слышала мысли людей и умела мгновенно переноситься с места на место.
Я выглядела необычно, хотя красивой меня вряд ли можно было назвать (по крайней мере, никто никогда и не называл). Мне было все равно. Мне было плевать, что я не такая хорошенькая, как Жюльет дю Плесси, сидевшая за моим столом для чтения и никогда не читавшая книг. Я не нуждалась в красоте, у меня был мой ум, мои мысли. Мне всегда было легко укрыться в собственной голове. Во мне было что-то от Франсуа, который всегда знал ответы на такие вопросы, на которые не могли ответить даже наши учителя. Обычно я тоже их знала, но в отличие от Франсуа никогда не поднимала руки.
Во снах моя магическая сила использовалась мной по-разному: в одних случаях – во благо, в других – во зло. Все это было неважно, ведь в сновидениях нельзя причинить вред кому-то, что иногда радовало меня, а иногда злило. По ночам я изобретательно увечила своего отчима, но каждое утро он, к моей досаде, представал передо мной без единого синяка. В том числе и поэтому моим самым любимым моментом было погружение в сон, а самым ненавистным – пробуждение.
Скарлет
Скарлет не сразу заметила, что ее мать наблюдает за ней, искоса смотрит на нее странным, непонятным взглядом. Девочка опустила глаза и увидела, что кончики пальцев у нее обожжены, словно от слишком долгого пребывания на ярком солнце, хотя сегодня стоял обычный пасмурный английский день – достаточно теплый, чтобы сидеть на траве и плести гирлянды из маргариток, но слишком холодный, чтобы снять что-то из одежды. Однако вопреки всем погодным условиям лепестки маргаритки, которую Скарлет держала в руках, были опалены.
– Что ты сделала?
Девчушка не смотрела в глаза своей матери.
– Ничего.
– Тогда почему…
– Просто так вышло, – сказала Скарлет, чувствуя, что гнев ее матери, всегда вспыхивавший быстро, начинает разгораться. – Я… я не делала ничего.
Глаза Руби Торн сузились.
– Точно так же, как ты не затапливала ванную комнату, не сжигала утюгом мою любимую, единственную шелковую блузку, не подменяла сахар солью, когда я вчера пекла булочки с корицей.
Скарлет открыла было рот, чтобы возразить матери, но тут же закрыла его. Что тут можно сказать? Ведь она сделала все это на самом деле, хотя и не откручивала кран с водой, не брала в руки утюг и не притрагивалась к жестяной банке для сахара. Девочка не могла объяснить, как это происходило и почему, но вокруг нее вот уже семь лет творились довольно странные вещи, происходившие явно не без ее личного участия.
– Прости… – пролепетала она, теребя лепестки маргаритки. Ее мать огорчалась еще больше, когда Скарлет начинала утверждать, что не знает, как происходят все эти странности. Лучше просто признаться и ответить за последствия. – Я э-э… – она дернула себя за волосы и закрутила их в узел на затылке. – Я играла с увеличительным стеклом… Мисс Диксон рассказывала нам о том, как можно жечь предметы с помощью…
Руби неодобрительно покачала головой:
– И чем только вам забивают головы в школе? Восьмилетних детей нельзя учить таким вещам. Я не…
– Семилетних, мама, – пробормотала Скарлет. – Мне еще только семь.
– Разумеется, семь. И это еще хуже, тебе так не кажется?
Скарлет тоже покачала головой, в который раз удивившись тому, что ее мать поверила несуразной лжи вместо того, чтобы принять пусть невероятную, но правду. Они сидели в саду вдвоем, и нигде не было видно никакого увеличительного стекла, однако Руби Торн поверила этому объяснению, как прежде верила и в намного большие небылицы.
Несмотря на всю рационалистичность своей матери, Скарлет молилась о том, чтобы налетел торнадо и унес ее в страну Оз[10], перевернула не один шкаф в поисках Нарнии[11] и испортила несколько лужаек, копая в них ямы, чтобы по примеру Алисы добраться до Страны Чудес. Мама не верила ни во что из этого и не хотела, чтобы в подобные сказки верила ее дочь. Поэтому девчушка научилась держать свои приключения в тайне, как и все остальное.
Руби встала, стряхнув с юбки насекомых и травинки, дерзнувшие пристать к хлопковой ткани.
– Пойдем. Возможно, твоей бабушке нужно помочь обслуживать посетителей, которых бывает так много в пору послеобеденных чаепитий, – сказала она. – Всех этих старых дам, которые жаждут кексов с изюмом.
– Что такое «жаждут»? – спросила Скарлет, встав с земли. Но ее мать, размашисто шагающая по лужайке, уже успела пройти половину расстояния до дома и не услышала вопроса. Тогда Скарлет, оглянувшись на опаленную маргаритку, нехотя побежала за ней.
Лиана
– Иди сюда, я хочу показать тебе кое-что особенное.
Лиана подняла глаза на свою маму, сидевшую на диване. На коленях у нее стоял резной деревянный ларец, выкрашенный белым. По тому, как Изиса держала его, Лиана поняла, что внутри находится что-то ценное.
– Что? – Девочка оставила на журнальном столике свой альбом для зарисовок, в котором начала набрасывать белые деревья с осыпающимися белыми листьями, и подошла к своей маме. Изиса посадила ее себе на колени.
– Сейчас я покажу тебе их, – сказала она, – но ты никому не должна о них говорить.
Лиана задумалась.
– Даже?
– Тете, – поправила ее мама. – Нет. Тете Нья и подавно нельзя рассказывать о них.
Дочь медленно кивнула и не стала спрашивать Изису, почему. Она никогда не задавала этот вопрос. Ни разу не спросила, почему как-то ночью они покинули Гану, приехали в Лондон и так тут и остались. Не спрашивала она и о своем отце – ни как его зовут, ни где он сейчас, ни жив ли он вообще.
Сидя неподвижно и прямо на коленях своей матери, Лиана ждала. Она чувствовала, что мама хочет поведать ей какой-то секрет, а поскольку Изиса Чивеше хранила множество секретов и почти никогда не открывала их, нынешнее ее намерение что-то рассказать своей дочке можно было считать большой удачей. В связи с этим руки Лианы подрагивали от радостного возбуждения.
– Я уже давно хочу показать тебе их, vinye, – сказала женщина. – Но мне пришлось подождать, когда ты достаточно подрастешь.
Малышка удивленно подняла глаза.
– Но мне же еще только семь лет.
– Возможно.
Лиана недоуменно сдвинула брови.
– Ну, думаю, так оно и есть, – согласилась Изиса, – но это, если измерять возраст в годах. Несмотря на возраст, ты уже сейчас куда более развита, чем большинство твоих ровесников, не забывай об этом.
Девочка не знала, что ответить, и потому не сказала ничего.
– Давай сядем на пол, – подняв Лиану с колен, Изиса встала с мягкого дивана, сняла с ног туфли из змеиной кожи и уселась на полу около журнального столика. Дочку она посадила рядом.
– Мы что, играем в какую-то игру, Dada? – спросила Лиана, когда мать открыла шкатулку и осторожно, словно беря из кроватки новорожденного младенца, извлекла оттуда колоду карт.
– Не совсем, – ответила Изиса и, немного подержав карты в ладонях, начала тасовать их. Чуть слышно пробормотав какие-то слова, она медленно достала из колоды три карты и положила их рубашками вверх рядом с альбомом Лианы. – И перестань называть меня Dada, в Англии ты должна называть меня «мамой». Не забывай.
– Мы будем играть в снап[12]? – с надеждой спросила Лиана. Мама редко разрешала ей играть в игры, которые не носили образовательный характер.
– Нет, – Изиса махнула рукой, – эти карты особенные. Если задать им вопрос, они ответят на него.
– Вопрос о чем?
– Обо всем.
– Но как? – удивилась Лиана. – Если они не могут говорить, как же они ответят?
– Они говорят не так, как мы, – улыбнулась Изиса. – Поэтому и слушать их нужно немного по-другому.
Лиана попыталась разобраться, что к чему, но из этого ничего не получилось, и ей пришлось спросить:
– В каком смысле? Как?
Ее мать подалась вперед и перевернула первую карту.
– Глазами, а не ушами.
Девочка тоже подалась вперед, вглядываясь в картинку на лицевой стороне карты – изображение мужчины и женщины, скованных вместе кандалами на лодыжках. Женщина была одета нарядно, в шелка и меха, а мужчина был нагой, имел зеленоватую кожу, красные глаза, волосы, причесанные в виде рогов, и копыта вместо ног. Она стояла, отвернувшись в сторону, а он смотрел на нее так, словно хотел получить нечто такое, чего женщина никак не желала ему отдавать. Глядя на картинку, Лиана заплакала.
– Что с тобой, малышка? Почему ты плачешь?
– Я не плачу. Я не хочу знать, – пробормотала она. – Я не спрашивала. Я не хочу, не хочу…
– Чего ты не хочешь знать?
– Он опасен, Da… то есть мама, – сказала Лиана. – Он причинит тебе зло, он…
– Не говори ерунды, Ана, – перебила ее Изиса. – Дьявола не существует, это просто символ.
– Что такое «символ»?
Мать девочки нахмурилась.
– Разве ты не знаешь?
– Конечно, знаю, – ответила Лиана, хотя на самом деле она не знала этого слова. – Я просто…
– Вот и хорошо, – Изиса ободрительно сжала руку дочери. – Не беспокойся, Дьявол – это не то, что ты думаешь. Посмотри… – она протянула руку и перевернула остальные две карты.
Все еще шмыгая носом, девочка поглядела на карты из-под руки матери.
Шестерка Кубков – мама-русалка с сыном, протягивающим матери вазу, полную цветов и звезд. Эта карта немного успокоила Лиану, но карта Башня показалась ей еще более жуткой, чем карта Дьявол, – на этой картинке дул серый ветер, на фоне которого стояла разрушающаяся каменная башня, а из ее окон падали мужчина и женщина, летящие в объятия смерти.
Лиана почувствовала, как мама сильно напряглась. Хотя Изиса ничего не сказала ни тогда, ни многим после, девочка поняла, что ее страхи подтверждаются. Даже после того, как ее мама убрала карты обратно в шкатулку и сменила тему, Лиана чувствовала необъяснимую тревогу, которая продолжала висеть в воздухе еще много дней.
На протяжение следующей недели дочурка несколько раз заходила в мамину спальню. Она старательно тасовала колоду карт снова и снова, затем вынимала из нее три карты. Но сколько Лиана ни перетасовывала колоду, эти три изображения оставались одними и теми же. Каждый раз. Иногда они выпадали в ином порядке, но история, которую они рассказывали, всегда оставалась одной и той же.
Беа
– Я не хочу.
– Давай, давай, – сказала ее mama. – Не будь такой трусихой.
– Я не трусиха, – возразила Беа, – просто не хочу.
Клео со вздохом подняла камень и ударила им по улитке, ее дочка вздрогнула. Женщина убрала камень и показала раздавленные останки – расколотую ракушку и мягкое тельце улитки, растекшееся кашицей по каменной плите.
Беа хотелось попросить у улитки прощения, ведь та ничем не заслужила такого безжалостного обращения. Она была принесена в жертву ради тренировки, ради того, чтобы преподать девочке урок бездушия.
– Не будь такой слабохарактерной, nina, – сказала Клео, убрав с лица длинные волосы. – Ese es el punt[13]. Мы делаем это не без причин, тебе надо закалить характер. Если ты не способна раздавить улитку, то как ты сможешь убить оленя или мужчину? Как подготовишься к тому, что будет?
Беа кивнула. Она знала, что будет – это было излюбленной темой ее матери, о которой та могла рассуждать часами, – и ей не хотелось снова об этом говорить. Интересно, подумала она, что сказала бы abuela[14], которая так любит обнимать и кормить ее, о том, как внучка провела воскресенье? А что бы сказали ее друзья? Вряд ли когда мисс Эванс спросит учеников своего класса, как они провели выходные, кто-то из однокашников Беа расскажет о жестоких убийствах моллюсков. Почему ее mama не могла вместо этого сводить дочь за покупками в универмаг Селфриджиз, как mama Люси Саммер? Или отдать на уроки балета, как mama Ники Челлис?
Клео совершенно точно нельзя доверить ни того ни другого. Если запустить ее в универмаг, то она в очередной раз начнет разыгрывать спектакль с участием произвольно выбранных пар, каждый раз притворяясь, что у нее роман либо с ним, либо с ней, дабы разлучить влюбленную пару, из-за чего будет выставлена за дверь охраной магазина. Женщину также перестали пускать на уроки балета, чтобы не давать ей отпускать громкие комментарии по поводу похотливых взглядов мужчин и подавления женщинами своих чувств. Беа убедилась в этом лично, когда в возрасте пяти лет наконец упросила mama сводить ее на уроки балета, а та начала раздавать матерям других детей экземпляры своей ироничной книги о работе над собой, озаглавленной «Как с помощью ненависти к себе довести себя до шестого размера»[15] и напечатанной маленьким издательством феминистского толка.
– Ты воображаешь, что сострадание – это добродетель, – сказала Клео, – но это не так. Как ты думаешь, уцелеют сострадающие люди в войне или же их истребят те, кто безжалостен и готов резать другим глотки ? ?Entiendes?[16] У животных не бывает сострадания – природа кровава, не забывай.
– Si, Mama[17], — ответила Беа, посмотрев на мертвую кашицеобразную улитку. – Но зачем мне вести войну? Почему я не могу просто жить, как другие люди…
Резкие ястребиные черты ее матери сделались еще резче, и она устремила на дочь свирепый взгляд.
– Потому что ты, слава Дьяволу, не такая, как все. Ты родилась, имея способности и силу, которых нет у простых смертных. И как же ты используешь свои таланты? Растратишь их впустую? Или поможешь своему отцу в осуществлении его великой миссии по очищению человеческой расы? – Клео отдала камень Беа. – Давай, nina, хватит артачиться.
Девочка занесла камень над следующей жертвой, слишком медленно ползущей к свободе по каменным плитам террасы. За улиткой тянулся все удлиняющийся мокрый след.
– !Por amor al… demonio![18] – Клео протянула руку и ущипнула дочь за подбородок. – Мы будем торчать здесь, пока ты не сделаешь это, хоть весь день, так что давай, бей.
– Ой, больно. – Беа дернулась от боли.
Мать сжала ее подбородок еще сильнее.
– Я делаю это ради твоего же блага. Поверь мне, тебе никак нельзя быть неготовой, когда настанет пора Выбора.
Дочка стиснула зубы, сердито глядя на свою mama, наполовину испанку, наполовину колумбийку, и думая о том, как обманчива ее красота, – никто не смог бы догадаться, какая жестокость таится под этим прекрасным обличьем.
– Я не всегда буду рядом, чтобы защищать тебя, nina. – Клео отпустила подбородок дочери. – Тебе придется самой сражаться за свою жизнь, поэтому и надо закалить свое сердце уже сейчас.
– Я по-прежнему не понимаю, почему я должна убивать людей? – сказала Беа. – Какой в этом смысл? Если мы дочери нашего отца, а они его же солдаты, почему он заставляет нас убивать друг друга? Я не…
Мать небрежно махнула рукой, как будто все эти убийства – и дочерей, и солдат – не имели никакого значения.
– Потому что он хочет, чтобы в его армии остались только самые сильные. Это испытание, что-то вроде собеседования при приеме на работу. Entiendes?
Беа кивнула. Не потому, что поняла, а потому что ее уже тошнило от всех этих россказней и не хотелось выслушивать их снова. Она желала поскорее стать взрослой и самой выбирать, какая у нее будет жизнь. Именно поэтому, несмотря на все запугивания ее mama, девочка ждала своего восемнадцатилетия с таким нетерпением, с каким заключенный ждет условно-досрочного освобождения из тюрьмы.
Лео
– Что случается, когда мы умираем?
– Не знаю, – ответила его мать. – Одни считают, что мы отправляемся в рай, другие верят в перевоплощение, а большинство вообще ни во что не верит.
– А что такое вера в перевоплощение? – спросил Лео.
– Это вера в то, что мы проживаем множество жизней, что после смерти мы рождаемся вновь и вновь в других телах. – Мама улыбнулась ему. – Вообще-то, когда ты был маленьким и только-только научился говорить, ты рассказывал мне, что ты жил и прежде.
Мальчик сел на кровати, откинув одеяло.
– Правда?
– О, нет, молодой человек, – сказала она, укрыв его снова. – Я больше не попадусь на твою удочку. Тебе пора спать.
– Пожалуйста, мама, – заныл Лео. – Пожалуйста, расскажи. Еще пять минут. Пожалуйста.
Женщина театрально вздохнула.
– Ну, хорошо, но потом мы потушим свет и ляжем спать. Идет?
Лео кивнул.
– Идет.
– Когда тебе было года три, ты часто рассказывал мне, что в прошлой жизни был звездой.
Сын недоверчиво сдвинул брови.
– Звездой?
Его мать кивнула.
– Ты говорил об этом очень серьезно и рассказал мне великое множество деталей, отвечал на все мои вопросы. Я была весьма впечатлена.
– И ты не подумала, что я сошел с ума?
– Нет, я подумала, что из тебя получится отличный рассказчик, и когда-нибудь ты, возможно, станешь писателем. – Мама наклонилась и поцеловала мальчишку в щеку. – Я и сейчас иногда так думаю. – Она перешла на шепот: – Но не беспокойся, я не расскажу об этом твоему отцу.
4 октября – 28 дней…
2.58 пополуночи – Лео
Лео был солдатом с тех самых пор, как оказался на Земле. Его – голого, плачущего и выглядевшего как человеческий ребенок – нашли под дубом в лондонском парке Хэмпстид-Хит, и, поскольку он был красив, смышлен и к тому же имел белую кожу, его быстро усыновили Чарльз Пенри-Джонс и его жена. С тех пор Лео ведет двойную жизнь – он, одновременно выросший в богатстве сын бизнесмена-миллионера, и солдат. Обе роли исполняются им великолепно, поскольку именно этого от него и ждут, и он никогда не ставил какую-то из них под сомнение. В качестве младшего Пенри-Джонса он изучает право в Кембридже и рассчитывает получить диплом бакалавра с отличием сразу по двум специальностям. В качестве же солдата он сражается с каждой следующей на очереди сестрой Гримм и убивает ее. До настоящего времени парень никогда еще не проигрывал ни один бой.
Уже прошло почти шесть лет с тех самых пор, как он впервые попал в Навечье, и теперь ведет эту двойную жизнь, не сомневаясь ни в ее ценностях, ни в ее этических принципах. Однако о своей очередной мишени Лео почему-то думает по-другому, не так холодно и расчетливо, как должен. Из-за этих мыслей солдат начинает гадать, стал бы он вести это сражение, если бы у него был выбор?
Теперь Лео знает, почему ему показалось, что он видел девушку прежде – она очень похожа на своего отца. Странно, что не удалось понять этого сразу же. Голди красивее других, хотя ей это, похоже, невдомек. И, естественно, намного сильнее, хотя ей невдомек и это.
Однако все эти раздумья не помешают ему исполнить свой долг, когда настанет ее час. Солдату и прежде доводилось испытывать влечение к тем или иным сестрам Гримм, однако это никогда не останавливало его. Лео нравятся женщины, хотя он никогда ни одну из них не любил, что хорошо, если учесть, как он должен поступать со столь многими из них. С Голди же ситуация обстоит иначе – его еще никогда так сильно не тянуло ни к одной женщине, и непонятно, почему Лео так влечет к ней, с каждым днем все сильнее. У нее явно необычайно могучий дар, хотя девушка этого пока не знает, но дело явно в чем-то другом. Парня снедает любопытство, он хочет узнать ее. Раскрыть все ее секреты, которых наверняка предостаточно, слушать ее, говорить с ней. Ему хочется рассказать Голди то, о чем он никогда не говорил вслух, что странно. Он не чувствовал ничего подобного с тех самых пор, когда был ребенком. За время, прошедшее с той поры, ему как в этом мире, так и в другом доводилось встречать многих красивых людей, к которым он питал приязнь и даже восхищение, но никогда не испытывал более сильных чувств. Так почему же с ней все по-другому?
7.32 пополуночи – Голди
Тружусь на четвертом этаже, мою и чищу отель сверху донизу, а не наоборот, как обычно. Гэррику это до лампочки, ведь он занят с Кэсси в своем кабинете.
Я работаю в отеле «Фицуильям» уже девять месяцев, и в отношении его постояльцев у меня выработалось шестое чувство. Взглянув на номер, я могу сразу сказать, какими окажутся привычки его обитателей: когда они будут у себя, а когда выйдут гулять, будут ли вставать рано, возвращаться поздно, опрятны они или же нет. Французская семья, расположившаяся в номере 38, встает на рассвете, любит осматривать достопримечательности, обедать в городских ресторанах, ужинать в шесть часов и сразу же ложиться спать.
Поэтому, стучась в их дверь, я знаю, что никто не ответит. Закатываю в номер свою тележку и оставляю дверь открытой. Эти французы опрятны – такими бывают большинство из тех, кто рано встает по утрам. У меня не уходит много времени на то, чтобы сменить им постельное белье и полотенца, смахнуть пыль, пропылесосить и вымыть полы. В ванной стоит аромат жимолости, сильный и нежный. Закончив мыть ее, не удержавшись, беру тяжелый стеклянный флакон и брызгаю духами себе на горло и на запястья, потом глажу листья белой орхидеи, стоящей рядом с мраморной раковиной, и шепчу стихи ее лепесткам.
После уборки перехожу к моей обычной работе. Одежда мальчика не висит в гардеробе, а аккуратно сложена в его чемодане. У него нет нескольких экземпляров того или иного предмета одежды, но все вещи – от носков до рубашек – самого высокого качества. Я решаю не брать его полотняную курточку, хотя мне и хочется: она темно-синяя, с шелковой подкладкой и гербовым щитом и короной, вышитыми золотой нитью на кармане. Тедди был бы от нее в восторге, но красть такую приметную вещь слишком рискованно. Если она пропадет, французы сразу поднимут шум. Надо действовать быстро, я беру три пары шелковых носков и хлопчатобумажную рубашку в полоску. Положив их в карман фартука, оглядываю номер в последний раз, затем беру свою тележку, выхожу и закрываю дверь.
Толкая тележку по коридору, смотрю на настенные часы – 11.11 утра. Я улыбаюсь и чувствую, что это знак, хотя и не знаю, о чем он говорит. Это своего рода ободрение, напоминание о том, что жизнь может быть лучше. Нет, я не говорю о волшебстве – в него я не верю – просто хочется думать, что мир не так однозначен, как кажется большинству людей. 11.11 лично для меня особенное время, потому что именно тогда на полу нашей гостиной почти десять лет назад и родился Тедди. Его появление на свет застало маму врасплох, так как роды продлились даже менее двух часов. Позднее, в больнице, братик впервые посмотрел на меня, не мигая своими яркими глазами василькового цвета, такими отличными от моих, бледно-голубых. Когда часы перескакивают на 11.12, иду дальше, но из-за своих размышлений не смотрю по сторонам, и моя тележка внезапно врезается в Лео.
– О, ч-черт, простите, – говорю я. – Я не сделала вам больно? Про…
Он улыбается мне, как будто услышал что-то забавное.
– Нет, – отвечает парень. – Все хорошо.
– Слава богу. Если бы вы подали на меня в суд, я… я бы оказалась в такой жопе, – смотрю на него в упор, немного испугавшись. – Простите, я не хотела быть такой…
– Не берите в голову, – перебивает меня он, не дав мне выставить себя полной идиоткой. – Я не стану подавать на вас в суд.
– Спасибо.
Я продолжаю глазеть на него, но теперь уже не нахожу слов. Мне опять начинает казаться, что Лео здесь чужой, как будто его место не здесь, а где-то еще. Сегодня он напоминает мне не березу, а редкую гибкую сосну, которую выкопали из земли где-то в Юте и пересадили в кадку в шикарную оранжерею какого-нибудь отеля.
Мы продолжаем смотреть друг на друга и молчать. У него странный, необычный, даже интимный взгляд, как будто он хорошо меня знает, даже слишком хорошо. Как будто ему известны все мои мысли и все, что я когда-либо делала. Надеюсь, что это не так. Подобный взгляд парня выбивает меня из колеи, но, как ни странно, не пугает. Он интимен, но не назойлив, как дар, который не сопровождается желанием получить что-то взамен.
Наконец я коротко киваю, опускаю глаза и толкаю тележку дальше, чувствуя, как ее древние колесики застревают в пушистом ковре. Наверное, дело просто в разыгравшемся воображении, но мне кажется, что его взгляд все еще прикован ко мне, пока я иду прочь. Такой близкий и теплый, будто он нежно прижимает ладонь к моей спине.
8.31 пополуночи – Скарлет
– Привет, Уолт.
– Привет, Скарлет. – Он останавливается перед стойкой. – Я могу пройти?
– Конечно, проходи, – кивает ему девушка. – Я испекла шоколадные пирожные с орешками, они остывают на кухне. Не хочешь угоститься, прежде чем начать?
Электрик улыбается.
– Это было бы замечательно, спасибо.
Когда Скарлет возвращается из кухни две минуты спустя с двумя пирожными и кружкой крепчайшего чая, Уолт уже пододвинул свой стул к столу ее бабушки и говорит нечто такое, отчего Эсме улыбается. За это Скарлет могла бы расцеловать его, но пусть уж обходится пирожными и той кучей денег, которую придется ему заплатить – 90 фунтов за вызов, 120 фунтов за каждый час работы, 365 фунтов за запасные части плюс НДС – чтобы он починил посудомоечную машину. Разумеется, эта долбаная штука нарочно ждала истечения гарантийного срока и сломалась два месяца спустя.
Звенит дверной колокольчик, девушка поднимает глаза, чтобы поприветствовать нового посетителя, но беспомощно застывает, раскрыв рот. К ней идет мужчина, держа свое тело так прямо и неподвижно, будто он плывет по половицам. Глаза у него невероятно голубые, волосы абсолютно черные, кудрявые и закрывают уши. Когда он протягивает ей руку, кажется, что Эсме ахает, но, возможно, это ахнула она сама.
– Правильно ли я понимаю, что вы хозяйка этого прекрасного заведения? – Его голос низок и тих.
Скарлет ухитряется кивнуть. Ей казалось, что Уолт видный парень, хотя, пройдя мимо него, она не обернулась бы вслед, но при виде этого мужчины женщины, должно быть, останавливаются на улице, чтобы поглазеть на него. Девушка пожимает протянутую им руку.
– Я Илай, – говорит он. – Изикиел Вульф. Мои друзья называют меня Илаем.
– Рада познакомиться. Скарлет.
Он улыбается своей лучезарной улыбкой, и Скарлет чувствует, как Илай завораживает, околдовывает ее. Он действует на нее как свет на самоубийственно настырных ночных мотыльков, которые бьются и бьются о яркие лампы, пока не погибают.
Когда Изикиел Вульф отнимает руку, девушка видит на кончиках своих пальцев искры. Настоящие искры – так искрит зажигалка, пока не загорается пламя. Так не бывает. Она моргает, и они пропадают.
– Это визит вежливости, – говорит Илай. – Моя компания открывает новую точку на вашей улице.
– В самом деле? – рассеянно спрашивает Скарлет, подумав, что ей, наверное, почудилось.
Он кивает и замолкает на пару секунд.
– Это будет кофейня «Старбакс».
Рука Скарлет падает.
8.57 пополуночи – Лиана
Погрузившись в ванну, полную горячей благоухающей воды, Лиана чувствует, как ее охватывает что-то похожее на счастье. И пусть это продлится всего лишь час, ведь этому чувству далеко до того, что она испытывает, плавая в бассейне, зато за ним не следует печаль. Горячая вода вбирает в себя одиночество, которое впиталось в кожу Лианы после смерти матери. По идее, она не должна чувствовать себя такой одинокой, ведь у нее есть возлюбленная, хорошие друзья, тетя Нья. И все же, когда мать умерла, Лиана поняла, что потеряла не только ее. Изиса Чивеше, словно не желая отпускать свою дочь, унесла с собой в загробный мир какую-то важную ее часть, и с тех пор девушка пытается найти пропавшую частицу самой себя. Поиски осложняются тем, что она совсем не знает, что ищет.
Лиана погружает голову под воду и смотрит на пузырьки воздуха, выскакивающие на поверхность.
Стук в дверь. Приглушенный голос.
– Можно войти?
Хватаясь за прохладные края фарфоровой ванны, Лиана нехотя приподнимается из горячей воды. На ее трехдюймовой прическе «афро» блестит россыпь капель.
– Входи.
Дверь ванной со скрипом открывается, и тетя Ньяша, все еще в шелковом халате и тапочках, идет по теплому мраморному полу и садится на край унитаза. Тетя Лианы, которая со своими большими глазами, полными губами и заплетенными в затейливые африканские косички волосами, похожими на сложную татуировку, всегда сияет красотой, однако сегодня утром она выглядит совсем не так лучезарно.
– В чем дело? – спрашивает Лиана, которой не терпится снова с головой погрузиться в воду.
Ньяша смотрит на свои тапочки.
– Дело в том, что…
– Да?
– Дело в том, vinye, – женщина нервно крутит крышку от пузырька шампуня. – Я… ну… я в некотором затруднении.
Лиана подавляет досадливый вздох, желая, чтобы вокруг вновь воцарилась тишина.
– Это не может подождать до завтрака? Я скоро выйду.
Ньяша кивает, но не сдвигается с места.
– Ну, хорошо. – Лиана опускает голову под воду, так что на поверхности остаются только ее колени и соски.
Шампунь выскакивает из тетиных рук и закатывается за унитаз.
– Что случилось? – снова подняв голову, не выдерживает Лиана.
– Я… мы…
– Да говори же!
Нья делает глубокий вдох.
– Мы разорены.
Девушка хмурит брови.
– Интересная точка зрения. Большинство людей сказали бы, что мы неприлично богаты.
Тетя становится на четвереньки, ища шампунь.
– Нья?
Она поднимает глаза, держа в руках пузырек.
– Что ты имеешь в виду, говоря, что мы разорены?
– Что у нас нет денег.
Лиана щурит глаза.
– Да, я знаю, что это значит. Просто не понимаю, почему это говоришь именно ты.
Ньяша опять садится на унитаз и ставит шампунь обратно на край ванны.
– Потому что звонил мой бухгалтер, и, похоже, у нас и правда больше нет средств.
– Что? Не может быть… – Лиане хочется снова погрузиться под воду, спрятаться в царящей там тишине. – Как такое возможно? Ведь один только этот дом наверняка стоит целое состояние.
– Да, верно. – Нья рисует ногой полукруг. – Поэтому я и заложила его.
– Что ты сделала? Зачем?
– Ну, мы… жили не по средствам.
– Да ну? – Лиане хочется возразить против использованного тетей местоимения «мы», но она решает не поднимать эту тему.
– Продолжай.
Женщина сидит, потупив глаза.
– У нас, э-э, есть кое-какие долги.
– Сколько?
Ее тетя, всегда такая уверенная в себе, уравновешенная, как утес, который тысячи лет омывало море, поникает и начинает невнятно бормотать.
– Нья?
Наконец она смотрит прямо Лиане в глаза.
– Когда мы продадим этот дом… наш долг составит… чуть менее шестисот восьмидесяти шести тысяч фунтов.
Племянница вскакивает с места так быстро, что из ванны выливается вода. Она смотрит на свою тетю, не находя слов.
– Прости меня, vinye. – Ньяша опять начинает разглядывать свои ноги. – Я… немного съехала с катушек, когда тот, кого нельзя называть, бросил меня ради этой… малявки. Возможно, у меня развилось, ну, похоже, я вроде как…
– Что? Да говори же.
Нья кашляет.
– Ну, наверное, я перенаправила свои чувства, подавила их с помощью… – она запахивает свой халат, – с помощью пристрастия к играм. – Женщина стыдливо краснеет.
– Нет. В самом деле?
– Я думала, что могу все исправить, не хотела тебя волновать. Я пыталась, но… – глаза тети наполняются слезами. – Мне не следовало подписывать этот брачный контракт. С моей стороны это было так наивно, но я думала, думала, что на этот раз…
Когда Лиана была ребенком, она чувствовала себя хрупкой, как треснувшее стекло, готовое расколоться от малейшего прикосновения. В тот период ее спасли только стойкость и надежность тети, которая взяла девочку под свое крыло. Теперь же они словно поменялись ролями: взрослая – это она, а ребенок – это ее тетя. Ей хочется вытереть слезы Нья и в то же время отвесить ей оплеуху, когда до нее доходит еще кое-что.
– Но я же должна начать учебу в «Слейде»… – У Лианы такое чувство, словно она опять погружается под воду. – Скоро начинается семестр, до него осталось меньше трех недель. Я… я…
После порванной в четырнадцать лет связки и захоронения мечты об Олимпийских играх Лиана хотела только одного – учиться в «Слейде», пожалуй, лучшей художественной школе в Англии.
Ньяша чуть заметно кивает:
– Я знаю, vinye, знаю. Ничего страшного, мы отложим… Я им напишу, все объясню. Уверена, они дадут тебе академический отпуск, а мы тем временем добудем денег, и ты сможешь начать учебу через год, в следующем октябре.
Лиана смотрит на тетю, не веря своим ушам.
– Я не хочу ждать еще год. Мне надо столько всего… Мне необходимо начать учебу сейчас.
– Понимаю, понимаю, – сокрушенно говорит Нья. – Но плата за обучение, мы никак не можем…
– А что, если у нас не получится отложить начало учебы? – Девушку вдруг пробирает дрожь, и вода кажется ей ледяной. – Что, если они не захотят сохранить за мной это место? Что тогда?
– Да нет же, его обязательно сохранят. Все хорошо, все будет хорошо, Ана. У меня есть одна мысль, я просто…
– Что? – резко спрашивает Лиана. – Ты пойдешь работать?
– Ну… – Тетя кусает ноготь. – Да, я, конечно, подумываю и об этом, но еще я тут думала…
– Что ты думала?
– Ну… о замужестве.
У Лианы вырывается смех, и по воде, снова ставшей теплой, идет рябь.
– Ты что, хочешь выйти замуж? Опять?
– Nye me nya o, – бормочет Ньяша. – Ao…
– Говори по-английски. Ты же знаешь…
– В общем-то, нет. Не совсем. Я, э-э, подумала, что это могла бы быть ты.
Лиана воззрилась на свою тетю.
– Черт возьми, ты серьезно?!
– Подожди, дай мне…
– Я выхожу. – Лиана встает, и вода из ванны выливается прямо на ноги ее тети. – Здесь стало совсем холодно.
Сняв с крючка полотенце, девушка идет к двери, и ванную затапливает внезапная тишина.
6.32 пополудни – Беа
– Вы верите в свободу воли?
Беа отрывает взгляд от «Логики и знания» и видит, что на нее смотрит сидящий напротив студент. Он кругленький, бородатый, и в его глазах светится надежда.
– Тут нельзя говорить, – одними губами произносит Беа и возвращается к своей книге.
Студент кашляет, но девушка не удостаивает его вниманием и сосредотачивается на Расселе. Парень кашляет снова.
– Что? – шипит Беа.
– Вы верите…
– Нет, я не верю в свободу воли, – она резко обрывает его, чем навлекает на себя сердитые взгляды нескольких студентов, сидящих за тем же длинным столом. – Или верю. Какой из этих ответов вы хотите услышать?
– Первый, – говорит он, дернув себя за бороду. – Я подумал, возможно… Если вы верите в предетерминизм[19], вы могли бы…
– Могла бы что?
Он переходит на шепот.
– Могли бы пойти попить со мной кофе после окончания вашего свидания с Расселом.
Беа озадаченно хмурит брови, ее взгляд становится злым, когда до нее доходит, что именно он имеет в виду.
– Это, несомненно, самый претенциозный и смехотворный способ съема, с которым я когда-либо сталкивалась, – говорит она. – И – нет, я не верю в судьбу. Так что нет.
На его лице появляется уныние, но затем его сменяет улыбка.
– А я верю. И потому надеюсь, что наши пути еще пересекутся.
Беа отвечает ему улыбкой, рассчитанной на таких вот похотливых уродов.
– Ну-ну, продолжайте надеяться, – шипит она. – И посмотрим, что готовит вам судьба.
Более десяти лет назад
Навечье
Вы заходите в лес с поляны, и камни уступают место толстому ковру мха, который приятно податлив под ногами: после каждого шага мох, как пружина, поднимается вновь. Вы останавливаетесь и поднимаете взгляд на деревья, обрамляющие спрятанную в глубине леса поляну и стоящие так тесно, что их кроны сплетены в единый полог из веток и листьев, такой густой, что за ним не видно неба. Когда же вы внимательней вглядываетесь в темноту, то замечаете, как глубина леса светлеет, тени отступают, звуки затихают, а воздух становится недвижным. Туман постепенно тает, дымка тоже. Прожилки на листьях мерцают в серебряном свете луны.
Вы замечаете, что вам стало легче, что каждое из ваших чувств обострилось. Наблюдаете, как отступают тени, ощущаете слабеющий запах дыма от костра – горящие торф и хворост, – слышите далекий крик птицы и распознаете в нем ворона. Он взлетает, и хлопанье его крыльев колышет воздух. Вы вытягиваете руку, чтобы коснуться ближайшего дерева, и вдруг ощущаете под своими пальцами бороздки коры еще до того, как прикоснулись к стволу; ощущаете на языке росу, хотя даже не открывали рот.
Вы чувствуете себя абсолютно чистым. Вам вдруг стали известны ответы на вопросы, которые вы задавали себе уже много недель, нашлись решения проблем, которые мучили вас уже много месяцев. Вам спокойно. Ваши долго нараставшие тревоги рассыпаются в прах. Вы довольны. Все жестокие раны затягиваются, не оставляя шрамов. Вы стоите и дышите воздухом, пропитанным лунным светом, дышите медленно и ровно, пока не перестаете понимать, где ваше дыхание, а где воздух. Пока не перестаете различать, где кончаетесь вы и начинается лес.
Голди
Мне всегда снились яркие сны, и я всегда отчетливо помнила их после пробуждения. Иногда они рассказывали мне о будущих событиях, как мне удалось понять позже. Как правило, во снах я оказывалась в совершенно необычных местах. В ту ночь, самую первую, я никак не могла заснуть, все зажимала голову подушкой, чтобы не слышать, как мама и отчим спорят в соседней комнате. Они всегда спорили о пустяках, но чаще всего все-таки о деньгах. Мама говорила, что ему надо зарабатывать больше, чтобы мы смогли выбраться из этой квартиры, а он отвечал, что она должна перестать его пилить, а если так хочется переехать, ей следует начать работать самой. Она отвечала, что не может из-за своих панических атак. Еще они ссорились из-за детей – мама хотела ребенка, а отчим нет. Иногда их ссоры кончались молчанием, иногда сексом. Лично я предпочитала молчание.
Прежде чем все же уснуть, я посмотрела на часы. Их светящиеся стрелки показывали то ли позднюю ночь, то ли раннее утро – почти полчетвертого. Внутри меня начало зарождаться беспокойство о том, как бы не заснуть на следующий день в школе за партой. Мисс Драммонд терпеть не могла, если я засыпала, и всякий раз говорила мне, что я «растрачиваю свой потенциал». В ответ ей прилетало, что мне всего семь лет, а она заявляла, что «уже почти восемь и в этом возрасте должны быть более высокие устремления». Тогда я начинала отвлекать ее от темы, прося дать определения ее любимым словам, к примеру, таким, как «ономатопея»[20]. Это всегда срабатывало. Мисс Драммонд обожала звук собственного голоса, так что достаточно было попросить ее что-то объяснить или изложить, и дело было в шляпе.
В общем, как бы то ни было, последнее, что помню перед сном – стрелки на часах, а затем я перенеслась в какое-то место, полное деревьев и скал, где все было приглушенного белого цвета; было немного похоже на Рождество, только вместо снега на землю сыпались листья. Вокруг довольно темно, но луна светила достаточно ярко, чтобы можно было увидеть, куда идешь. Как ни странно, я точно знала, куда направляюсь, хотя никогда прежде здесь не бывала, – на встречу с моими сестрами. Это также было странно, ведь у меня не было сестер. Отчим не хотел детей и всегда выигрывал в этом своем споре с мамой.
Мне предстоял путь по тропинке из камней, усыпанных белыми листьями, которые по-прежнему падали и падали вокруг. Я перелезала через скользкие скалы и сломанные деревья, толщина которых превосходила мой рост. Иногда луну закрывали облака, из-за чего в воздухе повисала дымка, так что обзор периодически становился не очень хорошим. Я ушибла колено и порезала руку, но мне было все равно. Мне хотелось летать, потому что уже часто это удавалось сделать во сне.
Временами тропинка пропадала без следа, но я не боялась и не сомневалась, куда нужно идти. Точно знала, надо или нет переходить через очередной ручей, не раздумывала, направо мне идти или налево. Было приятно так твердо знать, куда держать путь, ведь в моей жизни наяву все было не так. Обычно я чувствовала себя потерянной, прежде чем сделать какой-то выбор, обдумывала варианты часами, и, даже что-то решив, продолжала гадать и беспокоиться, правильно сделала или нет. Здесь же не было никаких сомнений, я была уверена в каждом своем шаге, в каждом действии и невероятно радовалась тому, что рядом нет ма с ее вечными страхами за меня.
Оказалось, я была там не одна. Соскользнув с очередного поросшего мхом валуна, я очутилась на поляне, где вся земля была покрыта плющом. Он образовывал ковер из белых листьев и обвивал стволы четырех громадных ив. Здесь играли три девочки, они бегали, смеялись и перекрикивались. Увидев меня, вся троица остановилась. На секунду я испугалась, будто бы вновь оказавшись на школьной игровой площадке. Самая высокая из них, с кудрявыми рыжими волосами, ниспадающими на спину, улыбнулась и поманила меня к себе. Остальные две – та, у которой была темная кожа и торчащие черные волосы, похожие на одуванчик, и худенькая, как птичка, с длинными темно-русыми волосами – помахали мне руками.
Мои сестры, это мои сестры.
Я уверенно двинулась им навстречу.
Скарлет
– Как тебя зовут?
– Голди.
– Я Скарлет, – сказала самая высокая. Похоже, из них трех заводилой была именно она. – А это Лиана…
– Лиана Мириро Чивеше, – перебила ее девочка с торчащими черными волосами, протянув мне руку.
Я посмотрела на нее, не зная, что делать, затем протянула ей руку в ответ. Она пожала ее за нас обеих и отпустила..
– Можешь называть меня Ана, – сказала Лиана и добавила: – Если хочешь.
Я кивнула.
– Хорошо.
– А это Беа. – Скарлет кивком указала на третью девочку, которая не протянула мне руки. – Мы играем в салочки. Хочешь поиграть с нами?
Я кивнула опять, не сказав, что хоть мне и известны правила салочек, играть в них прежде мне не доводилось. Ведь это можно делать только при наличии настоящих друзей, а у меня были лишь воображаемые. Мне было далеко не все равно, что обо мне подумают другие дети, поэтому играть в салочки с невидимыми детьми я не решалась.
– Начинай, – сказала Скарлет. – Досчитай до десяти и только потом беги. У деревьев нас уже нельзя салить, хорошо?
Я кивнула в третий раз.
– Берегись ее, – заводила кивком указала на Беа. – Она хитростью сделает так, чтобы ты осалила ее, ей всегда хочется быть водящей.
– Хорошо, – сказала я, и Беа засмеялась. Если ей хочется водить, я охотно предоставлю ей эту роль, а сама лучше встану под ивой и буду просто смотреть.
Скарлет подала знак, и сестры бросились бежать друг за другом, а за ними, точно ленточки, потянулись крики восторга. Лиана кинулась к ближайшему дереву и остановилась, а Скарлет стала обегать поляну по краю.
– Беги, беги так быстро, как только можешь, – пропела Беа, вприпрыжку описывая вокруг меня все сужающиеся круги. – Не поймаешь, не поймаешь!
Сделав шаг, хватаю ее за рукав, и она смеется.
– Я вожу, – закричала девочка. – Я вожу, вожу!
Повернувшись, изо всех сил начинаю бежать к дереву. Беа же, явно желая сохранить роль водящей, не спешит меня догонять.
– О, Голди, – сказала Скарлет, остановившись. – Я же тебе говорила. Теперь она ни за что никого не осалит.
Беа ходила взад и вперед, повторяя:
– Я вожу, я вожу.
Несмотря на свою досаду, Скарлет улыбнулась.
– Ты такая чудная, Беа. Я совсем тебя не понимаю.
Та загадочно улыбнулась.
– Это потому, что я настоящая энигма[21].
– Перестань воображать, используя мудреные слова, – с досадой и нежностью сказала Скарлет. – Ты ведь даже не знаешь, что это значит.
Не удостоив Скарлет внимания, Беа посмотрела на меня.
– Как жаль, – заметила она, – что завтра утром ты ничего из этого не вспомнишь.
Лиана
Девочка сидела на краю своей кровати, положив на колени украденные карты. В последнее время ей снились странные сны, подробностей которых она не могла вспомнить по утрам, хоть и старалась изо всех сил. Лиана даже зажмуривала глаза, надеясь снова увидеть рассеивающиеся картинки, но ничего не выходило. Однако общий смысл сна всегда был где-то рядом, на краю ее сознания, и она надеялась, что карты помогут ей вернуть ускользающие образы, превратить их в связный рассказ. Правда, не совсем похожий на ту историю, которую девочка наблюдала во сне.
Лиана перетасовала карты, потом еще раз, и еще. И еще разок, на счастье. Когда одна половина колоды входила в другую, переходя из ее правой руки в левую, какая-то из карт упала на пол.
Лиана нагнулась и подобрала ее. Четверка Кубков. Она посмотрела на картинку – четыре женщины, стоящие кругом, подняли в тосте кубки, на которых выгравированы красивые звезды. И тут девочка вспомнила и лунный свет на белых листьях, и смех, и своих сестер, окликающих ее по имени.
Ана встала на колени, положив Четверку Кубков на пуховое одеяло перед собой, затем взяла другую карту. Маг. Женщина в длинном плаще, держащая в руке сияющий жезл, который освещает небо. Рядом летают птицы, прямо над женщиной зависла сова, а у ее ног танцуют эльфы и феи.
Лиана положила эту карту рядом с первой и достала из колоды третью. Луна. Волк с фиолетовой шерстью, стоящий на берегу реки и воющий на желтую луну. У реки высились белые деревья, а их стволы обвивали две двуглавые змеи.
Малютка неотрывно смотрела на карты и вдруг вспомнила весь свой сон.
Беа
– Кто хочет послушать историю?
Мы все подняли глаза. Я хотела послушать историю, но промолчала. Не знала, хочет ли этого еще кто-то.
– Я хочу, – сказала Лиана.
Беа улыбнулась и посмотрела на нас со Скарлет.
– Вам тоже захочется это послушать. Из моей истории вы могли бы кое-что узнать.
Скарлет оторвала взгляд от листьев, которые она подожгла (остальных моих сестер это, похоже, не тревожило, так что и я сделала вид, что ничем не удивлена), и поглядела на девочку.
– Вы сидите удобно? – спросила Беа, как будто была нашей мамой. – Тогда я начну…
Лиана захлопала в ладоши. Скарлет улыбнулась. Я же не сделала ничего.
– Давным-давно, до начала времен, – начала Беа, – до того, как появились Навечье и Земля, не было ничего, существовали только свет и его тень. – Последовала пауза, полная самодовольства. – Затем, когда зародилась искра жизни, были сотворены люди. Взрывная сила этого сотворения была так велика, что свет с тенью раскололись и разлучились так надолго, что оба позабыли, что некогда они были единым целым. Одна половинка стала олицетворением добра, а другая – зла.
Когда это произошло, они решили вступить в борьбу за влияние на человеческий род, но, поскольку эти силы всегда были равны, ни те ни другие так и не смогли одержать победу. В конце концов, власть держащие изобрели игру в шахматы, чтобы судьбу человечества решила она, ибо такой способ был менее кровавым и работал куда быстрее. Однако и это не помогло, поскольку каждая игра все равно заканчивалась ничьей.
Тогда на чрезвычайно долгом и нудном собрании правления было решено, что влияние на человеческий род будет поделено – силы добра будут влиять на сердца людей, а силы зла – на их умы. И вот ангелы и демоны рассеялись по Земле и Навечью, дабы влиять на сердца и умы людей.
С помощью этого человечеству дали выбор – следовать велениям своих сердец или своих умов, но скоро стало ясно, что людям бывает куда проще прислушиваться к своим головам, так что влияние демонов стало намного превышать влияние ангелов. Многие из поверженных сочли, что демоны сплутовали, однако так и не смогли доказать, как именно было осуществлено плутовство. Без веских доказательств условия сделки не подлежали пересмотру, и как-то повлиять на людей было уже нельзя.
Все человечество постигла ужасная судьба: люди стремились ощутить влияние добра, реализовывая себя, обретая уверенность в своих силах и познавая радость, но вместо этого слишком часто их уделом становились лишь страх, тоска и отчаяние. Неся в себе проклятие свободы воли, люди барахтались, нередко переходя из-под влияния одних сил к влиянию других по десять раз на дню. Многие из них, не выдерживая, сходили с ума.
Последовала еще одна самодовольная пауза.
– К счастью, тем из них, в ком течет чистая кровь Гримма, приходится терпеть свободу воли только первые восемнадцать лет своей жизни. Затем они могут сделать выбор между добром и злом. И то и другое влечет за собой определенные последствия, но хорошо уже то, что делать выбор приходится только один раз.
Беа улыбнулась.
– Так что познайте свой ум и свое сердце, сестрички. Помните, что лежит позади, представьте, что ждет впереди, и делайте свой выбор тщательно и осторожно.
Не в силах больше молчать, я скосила на нее глаза.
– Откуда ты все это знаешь?
Беа небрежно пожала плечами, но я видела – она довольна тем, что пробудила во мне любопытство.
– Мне рассказала моя mama, – ответила сестра. – Она рассказывает мне всё.
– А это правда? – спросила Лиана.
Беа улыбнулась.
– Да, каждое слово.
Лео
Будучи звездой, Лео никогда не чувствовал себя одиноким, а став ребенком, испытывал одиночество почти всегда. Он жаждал дружеского общения, но без братьев и сестер, с матерью, которой часто было не до него, и сдержанным, холодным отцом, ему приходилось довольствоваться только обществом воображаемых друзей. Иногда ему представлялся озорной мальчишка, с которым он смог бы вместе шалить и который заменил бы ему брата (он знал, что братишки у него никогда не будет). В другие же дни его воображение рисовало девочку с голубыми глазами, светлыми волосами и полным пренебрежением к тем, кто имеет власть, – такой персонаж встретился ему в книге про медведей. Сам Лео не мог позволить себе пренебрегать мнением тех, кто имел власть, ибо Чарльз Пенри-Джонс был из тех людей, которые всегда требуют послушания. Мальчик надеялся, что когда-нибудь ему достанет смелости пойти против правил, установленных его отцом, но знал, что сделать это будет куда легче и куда менее страшно, если рядом с ним будет союзник.
5 октября – 27 дней…
6.28 пополуночи – Голди
Тедди в восторге от своих новых приобретений. Он кружится на ковре гостиной, ступая по неведению на то место, которое я всегда обхожу стороной, и его переполняет чистая радость. Если завтра семья этих французов еще будет в отеле, я вернусь за той полотняной курточкой. Мне не следует этого делать, ведь красть у одного и того же человека дважды слишком рискованно, но желание увидеть такую улыбку на лице Тедди опять заглушает голос разума.
– Ты хочешь есть, Тед? На завтрак у нас цыпленок, начиненный травами, полента[22] и мини-морковь.
Каждый день мы едим то, что подают в отеле, что бы это ни было. Начав работать горничной, я несколько недель встречалась с Казом, помощником шеф-повара, и всякий раз после окончания моей смены он давал мне две порции чего-нибудь деликатесного в пластиковых банках. Мне пришлось прекратить наши отношения после осознания, что флирт ради еды совсем неуместен, но Каз все равно отдает мне остатки блюд, у него есть такая возможность.
Тедди перестает кружиться.
– Можно я буду завтракать в моей новой рубашке?
– Можно, если ты будешь аккуратным. – Иду к холодильнику, чтобы достать еду и переложить ее из временного пристанища на тарелки. По пути ненадолго останавливаюсь, чтобы погладить листья моего карликового деревца, и, кажется, от моего прикосновения по нему проходит дрожь удовольствия. Похоже, его ствол стал сейчас немного толще (как лодыжки моей мамы, когда она была беременна Тедди), и я понимаю, что скоро оно зацветет, наполняя нашу квартиру сильным и сладким ароматом, похожим на запах жженого сахара. У нас есть маленький деревянный столик, стоящий у стены рядом с кроватью брата (я по-прежнему сплю на диване), и за этим столом мы и едим. Если учесть тесноту квартиры, в которой мы живем, с нашей стороны глупо не пользоваться комнатой родителей, но никто из нас не заходил туда с того самого дня, когда умерла мама.
– Спасибо, вкусно. – Тедди подцепляет на вилку цыпленка и морщится, ощутив вкус соевого соуса. Он никогда не жалуется, не просит бургеров и картошки фри, не говорит, что я слишком мало бываю дома и ему часто приходится заботиться о себе самому. Когда я возвращаюсь домой вечером, братик либо уже заканчивает делать уроки и начинает заниматься домашними делами или сидит за столом и рисует. Когда же я возвращаюсь ранним утром после вечерней смены, он обычно еще спит.
Я вознаграждаю его, как могу. Когда в отеле бывают дети, они уезжают с меньшим количеством блокнотов и цветных карандашей, чем у них имелось вначале. За последние несколько месяцев у брата собралась уже целая коллекция принадлежностей для рисования. Обычно я беру только то, что может потеряться и без моего участия – завалиться за спинку дивана или оказаться между сиденьями машины, – так что ни дети, ни их родители ничего не замечают. Правда, на прошлой неделе я осмелела и взяла целый набор масляной пастели, со всеми цветами радуги и промежуточными оттенками. Теперь Тедди спит, положив их к себе под подушку. Он рисует такие замечательные картины, вся наша квартира увешана изображениями персонажей, одетых в красочные костюмы, придуманные им самим.
– Джи-Джи?.. – Он кладет вилку на стол.
Я чувствую, что сейчас последует какая-то просьба, и сглатываю.
– Да?
– Скоро твой день рождения…
– И что?
– В выходные я еду со школой в Лондон. – Он опять улыбается, позабыв свои опасения. – Мой класс будет смотреть «Макбета».
– В самом деле? – Мы с ним репетируем эту пьесу уже несколько недель, особенно акт I, сцену I, поскольку в школьной постановке Тедди играет Вторую ведьму. – Когда мы увидимся вновь? В дождь…
– Нет, нет, нет. – Тедди энергично трясет головой, так что копна его светлых волос ходит ходуном. – «Когда средь молний, в дождь и гром мы вновь увидимся втроем?»[23]
– Ну да, – отвечаю ему. – Именно так я и собиралась сказать.
Брат смотрит на меня с таким видом, словно никогда еще не слышал большей лжи, затем делает глубокий вздох и говорит уже серьезно: – А еще мы поедем в Букингемский дворец. И проведем ночь в отеле.
– Ночь в отеле? – Моя улыбка гаснет. – Это абсолютно…
– Я не поеду, – перебивает меня Тедди. – Если ты не хочешь. Я могу остаться тут и отмечать с тобой твой день рождения.
Аккуратно подцепляю вилкой кусочек курицы и глотаю его.
– Нет, я… конечно же, ты должен поехать. Я… Вероятно, я все равно буду в это время работать. – У него делается такой довольный вид, что мне становится совершенно неловко задавать свой следующий вопрос. – Ну, и сколько это, э-э, будет стоить?
Тедди тыкает вилкой в мини-морковь.
– Триста сорок пять фунтов.
Я затаиваю дыхание.
Он поднимает взгляд.
– Мне нужно отдать их мисс Макнамара в пятницу.
– Хорошо, – говорю я. – Все хорошо. Никаких проблем.
– Спасибо, Джи-Джи. – Парнишка опять улыбается и засовывает в рот три мини-морковки. – Ты самая лучшая.
Киваю ему и через силу выдавливаю из себя улыбку.
Пять дней, чтобы найти 345 фунтов. Вот черт.
10.28 пополуночи – Лиана
Конечно же, девушка сразу отвергла нелепую идею своей тети. И хотя Нья о ней больше не говорила, Лиана никак не может сосредоточиться ни на чем другом. Из-за этого она не в силах думать, даже забыла позвонить Кумико, не может рисовать. Хотя теперь, когда ее учеба в художественной школе висит на волоске, какое это имеет значение?
Теперь Лиана находит утешение только в ваннах. Ей очень хочется вернуться в бассейн, но она не позволяет себе последовать этому желанию. Два раза за одну неделю – слишком рискованно, тоска, которую это вызовет, будет невероятно велика. Она уже и без того грызет сердце бывшей спортсменки.
Ана погружается в воду с головой и собирается лежать в ванне, пока ее кожа не сморщится, как чернослив, а чувства не онемеют. Она не может представить себе, как выполнит просьбу Ньяши, хотя тетя так много всего сделала ради нее. Когда Лиана была совсем маленькой, Нья профинансировала – пусть и с помощью состояния своего второго мужа – их бегство из Ганы и после этого платила абсолютно за все. В ту ночь, когда умерла ее мать, девушка пришла в спальню тети и забралась к ней в кровать. Так они и спали вместе, пока Лиана не оказалась готова перебраться в собственную спальню в новом таунхаусе на Барнсбери-стрит в Ислингтоне[24].
Нья приходила на каждое ее соревнование по плаванью, на каждый школьный спектакль или концерт. Она привозила Лиану в школу и забирала ее оттуда, утешала всякий раз, когда другие ученики оскорбляли ее или намекали, а то и прямо говорили, чтобы она убиралась в Африку, хотя сами наверняка не смогли бы отыскать Гану на карте. Тетя была рядом, когда у племянницы выпал первый молочный зуб, и потом, пять лет спустя, когда она порвала связку в левом колене, что поставило крест на надежде поучаствовать в Олимпийских играх и погрузило в депрессию, продлившуюся почти год. В то лето тетя Нья сидела у кровати Лианы, принося ей еду, расчесывая волосы, читая сказки… Она бросила спасательный круг в тот момент, когда Ана тонула в море отчаяния, и постепенно вытянула свою любимицу обратно на берег. Она купила Лиане ее первую книжку комиксов, поощряла на написание и рисование своих собственных историй. Если бы не Ньяша, девушка вообще не начала бы думать о поступлении в «Слейд». Так может ли она отказать своей тете в этой просьбе или в любой другой, какой бы неразумной та ни была?
* * *
Лиана вытирает руки полотенцем и берет свой телефон. Она послала и-мейл председателю приемной комиссии «Слейда» в то самое утро, когда Нья рассказала ей о бедственном состоянии их финансов, и ждет ответа уже двадцать четыре часа пятьдесят семь минут. С каждым часом волна ужаса поднимается внутри Лианы все выше, выше. Выйдя из ванной, она снова попытается вопросить карты Таро. Пока они не давали ей повода для надежды, но оставлять свои попытки Ана не планирует. Она еще не спрашивала их, следует ли ей сделать то, о чем просит ее тетя. Слишком сильно боится возможного ответа.
11.38 пополуночи – Скарлет
Сегодня утром Скарлет особенно сильно сожалеет о том, что в кафе так мало посетителей, и не только по финансовым причинам. Когда она вспенивает молоко для капучино, разрезает торты или вычищает мусор из швов между половицами, то напрочь забывает про мистера Вульфа. Однако сейчас в кафе нет никого, кроме горстки прижимистых студентов, так что Скарлет приходится искать другие способы для отвлечения. Сегодня это чистка Франсиско, аппарата для приготовления капучино. Девушка купила Франсиско, не пожалев денег, после того как на шестнадцатилетие бабушка подарила ей чек на три тысячи фунтов. В то время Скарлет была вне себя от радости, теперь же она видит в этом подарке очередную веху на пути Эсме к потере рассудка.
Скарлет уже наполовину очистила Франсиско от налипшего на него кофе, когда в кафе входит мистер Вульф, так и лучащийся самодовольством. Нож, которым она вычищала остатки кофе из аппарата, скользит, оставляя на нержавейке царапину.
– Черт. – Скарлет трет царапину и гладит аппарат. – Прости, Фрэнни.
– Вы что, разговариваете с вашей машиной для капучино? – спрашивает Изикиел, подойдя к ней. – Или вы забыли мое имя?
Скарлет не удостаивает его вниманием.
Мужчина похлопывает по кожаной сумке-портфелю, висящей у него на плече.
– Я называю мой портфель Фредом. У него есть и фамилия, но я все время ее забываю.
Нож в ее руке опускается на стол, словно меч.
– Вы странный человек.
– Спасибо.
– Это был вовсе не комплимент.
Он улыбается.
– Но ведь странный куда лучше, чем скучный. Это слово говорит о глубине натуры, о том, что у тебя есть вкус.
– Ничего подобного.
Его улыбка становится шире.
– Вы не правы, оно означает именно это. Если вы со мной не согласны, вам надо проверить словарь. Я цитирую Оксфордский словарь английского языка. Возможно, вы черпаете свою информацию из менее авторитетных изданий, и они ввели вас в заблуждение.
Скарлет складывает руки на груди.
– Что вам надо?
– Так вот как вы встречаете ваших видных гостей? – Он кивком показывает на нескольких студентов, сгорбившихся над своими ноутбуками. – Наверное, именно поэтому у вас их так мало?
– К тем посетителям, которые платят, мы относимся с непомерным уважением. Однако вы пришли сюда отнюдь не за куском торта. Я права?
– Думаю, да, – говорит Илай, поставив свой портфель на стойку. – Я принес вам коммерческое предложение.
Скарлет сощуривает глаза.
– Какое?
– Оно касается вашего кафе. – Парень щелкает замком своего портфеля и достает из него толстую папку. – Я проанализировал вашу выручку, вы едва сводите концы с концами. Мы предлагаем вам передать нам право аренды вашего помещения и дадим за это щедрый бонус.
Скарлет чувствует жар в руках, как если бы она поднесла их к огню. Руки девушки медленно сжимаются в кулаки. Ей хочется схватить нож и полоснуть им этого нахала, оставив шрам на его чересчур красивом лице. Наглый ублюдок.
– Вы готовы…
Его фразу обрывает антикварная люстра в стиле ар-деко, которую Уолт только недавно заново подвесил к потолку. Она вместе с кусками штукатурки летит Изикиелу прямо на голову. Он успевает отшатнуться, и люстра разбивается на цветные осколки об пол. Студенты отрывают глаза от своих ноутбуков, затем, поняв, что им опасность не грозит, снова возвращаются к экранам.
– Какого черта? – Илай, шатаясь, подходит к стойке и хватается за ее край. Найдя салфетку, он прижимает ее ко лбу. – Черт, больно. Черт.
Скарлет смотрит на него, утратив дар речи. Осколок стекла порезал Изикиелу лоб ровно там, где начинаются волосы, по его лицу медленно течет кровь. Ему наверняка придется накладывать швы, возможно, даже останется шрам. Шрам на его чересчур красивом лице. Мысли Скарлет несутся вскачь. Нет, это невозможно. Но тогда что же произошло? Пока парень продолжает ругаться и стонать, она чувствует, как ее руки становятся все горячее.
Взглянув на них, Скарлет снова видит искры на кончиках своих пальцев.
6.38 пополудни – Беа
Беа пристально смотрит на свои ладони, лежащие на страницах «Анализа разума» Бертрана Рассела, пытаясь сосредоточиться на чтении, но вместо этого думает о своей матери, о границе между безумием и нормальностью, между фантазией и реальностью. Хотя Беа ни за что не призналась бы в том, что у нее есть слабости, она никак не может отрицать свой нездоровый страх перед потерей рассудка в результате наследования ею материнской ДНК. Буквы под ее пальцами вдруг превращаются в черные линии и завитки, а хорошо знакомые слова – в иероглифы.
Типографская краска выливается со страниц книги, проникает в ее руки и медленно просачивается в ее вены, пока они не перестают быть голубыми и не становятся полностью черными.
Девушка подносит свою левую руку к глазам. Не может быть. Она зажмуривается, затем открывает один глаз и снова видит свои черные вены, похожие на татуировки. От ужаса ее бросает в холодный пот. Надо убраться отсюда. Беа начинает вставать, но, когда она уже готова отойти от стола и броситься в ближайший туалет, страх отступает и сменяется спокойствием. Она чувствует, что безболезненно приняла свои новые черные вены, что к новому обличью приспособились ее тело и душа. Как будто Иуда шепчет ей из ада: «Не бойся. Ты именно такова, какой и была всегда».
Беа отодвигает свой стул и встает. В библиотеке сидит всего лишь горстка студентов, покорно склонивших головы к книгам. В этот момент ей абсолютно наплевать на все, она не заметила бы их, даже если те глупо ухмылялись бы или осыпали ее насмешками.
Она улыбается. Как же здорово, когда тебе все равно, что о тебе могут думать чужаки, как же это раскрепощает.
Беа ставит на стул сначала одну ногу, обутую в сапог, потом другую. Нет, еще недостаточно высоко, так что она поднимается на стол. Теперь можно беспрепятственно обозревать свое королевство. Беа медленно поворачивается, глядя по сторонам, и любуется каждым стеллажом, книгой, столом и читателем. Отсюда ей видно все, даже стол, за которым сидит библиотекарь, уставившись в свой компьютер и хмуря брови.
Как приятно возвышаться над всеми, видеть то, что недоступно другим, чувствовать себя хозяйкой всего того, что находится вокруг, ощущать единство тела и духа. Ее небольшой рост всегда казался Беа недостатком, принижал ее. Ей было противно оттого, что часто приходится задирать голову, чтобы посмотреть на кого-то, оттого, как легко другим толкать ее в толпе, как будто она какой-то долбаный ребенок. Теперь же нет всех этих неудобств. Она высока, сильна, смертоносна.
Беа просыпается в поту. Она несколько раз моргает, отгоняя образы из сна, отгораживаясь от него. Прежде девушка никогда не засыпала над книгой. Беа думает о своей mama. Мысль о том, что она, возможно, тоже сходит с ума, заливает ее сознание такой же чернотой, как воображаемая краска, въевшаяся в ее вены во сне. Это самый главный страх – утраты рассудка она боится еще больше, чем смерти.
Все еще продолжая дрожать, Беа оглядывает библиотеку в поисках своего пухлого навязчивого ухажера, внезапно пожелав увидеть его бородатое успокаивающее лицо, но она здесь одна, больше вокруг нет ни одного студента.
11.45 пополудни – Лео
После каждой убитой им сестры Гримм у Лео оставался шрам: после каждой девушки – в виде полумесяца, после каждой матери – в виде звезды. Они покрывают его лопатки, всю его спину – целое созвездие шрамов. Обычно Лео даже не вспоминает про них, но в последнее время его мысли почему-то возвращаются к отметинам все чаще. Возможно, потому что они также возвращаются и к ней.
Не так давно парень начал представлять себе, как они окажутся рядом без одежды. Если это действительно произойдет, то как он сможет объяснить все свои шрамы? Она ведь обязательно спросит. Все женщины, с которыми он спал, задавали ему этот вопрос, кроме тех случаев, когда они были пьяны и многого не замечали. Вряд ли Голди относится к тем, кто готов напиться и связаться с кем-то на одну ночь. Он, конечно, не может быть в этом полностью уверен, но окажись она такой, он бы очень удивился. В девушке чувствуется странная смесь из света и тьмы, невинности и искушенности.
Насчет своих шрамов он, разумеется, солгал бы. Ведь не может же Лео сказать: «Я получил их на поле боя, каждый из них остался со мной после последнего вздоха той, кого я убил. Кого я убиваю? О, это просто – твоих сестер, их матерей, тетушек, кузин… За некоторыми из девушек, теми, чья кровь нечиста, я охочусь просто ради забавы, из спортивного интереса, дабы не потерять сноровку и быть готовым к схватке с теми, с кем я должен драться в ту ночь, когда им исполняется восемнадцать лет. Убью ли я тебя? О, да, если смогу. Боюсь, у меня просто не будет выбора, дорогая».
Определенно, это неподходящая тема для беседы.
По идее, он, вероятно, не сможет ей солгать, точнее, она непременно поймет, если он скажет неправду. Ее способности наверняка выходят далеко за рамки простого умения отличать правду от лжи, но с полной уверенностью охотник не может это утверждать. Эти способности слишком долго оставались нереализованными, незадействованными.
И, хоть она и является его врагом, Лео испытывает легкое сожаление оттого, что Голди пребывает в неведении. Она как фейерверк, к которому так и не поднесли огонь, как цветок, который так и не расцвел, как ребенок, так и не появившийся на свет. Он чувствует желание рассказать ей все, просветить, раскрыть ее потенциал. Стать первым, кто увидит сверкающий фейерверк, распустившийся цветок, появление младенца на свет. Помимо воли Лео хочется сказать: «Ты сестра Гримм, не имеющая себе равных, самая сильная из всех, кого я видел. Ты стала бы феноменальной, непобедимой, если бы смогла узнать правду».
Но, разумеется, он ничего ей не скажет.
Это было бы глупо. Это было бы самоубийством.
11.59 пополудни – Голди
Я лежу на диване, смотрю в потолок, покрытый трещинами и пятнами сырости, и слушаю сопение Тедди. Скоро ему понадобится нечто большее, чем то, что я могу ему дать. Он будет расти, и вместе с ним будут расти расходы. Скоро триста сорок пять фунтов покажутся пустяком. Сколько времени мы еще сможем жить в одной комнате? Ему ведь захочется иметь свою собственную. Брат не станет просить, но она все равно будет ему нужна, особенно когда он станет подростком.
Мне понадобится более смелый план. Большой куш. Я начинаю думать об ограблении банков, а затем прикидываю, сколько денег Гэррик держит в сейфе отеля.
6 октября – 26 дней…
7.08 пополуночи – Голди
По пути в комнату для персонала заглядываю в ресторан. Французская семья сидит за столом и поедает высококачественный английский завтрак. Мать с отвращением на лице тыкает вилкой в кровяную колбасу, а отец и сын уплетают ее за обе щеки. Это их последнее утро в отеле, так что чемоданы наверняка уже уложены и стоят наверху. Я не могу объяснить, откуда именно это знаю. Просто у них такой вид, как будто они уже приготовились и ждут отъезда, словно их сознание уже отправилось в путь и проехало полпути до Франции. Значит, мне надо спешить.
Десять минут спустя я уже нахожусь на четвертом этаже и толкаю дверь номера 38. Действительно, еще до того, как войти, уже чувствуется, что номер вот-вот освободят. Чемоданы составлены в аккуратный ряд на огромной двуспальной кровати: один большой, один средний и один маленький. Втыкаю пылесос в розетку и вытягиваю шнур, но не включаю его – если кто-то из французов вернется в номер, шум пылесоса заглушит и звук поднявшегося лифта, и шаги. Вместо этого я беру в зубы перьевую метелку, которой обычно смахиваю пыль. Теперь, если меня застукают, я смогу сделать вид, будто просто занимаюсь уборкой. Такое уже случалось и всегда срабатывало.
Сначала подхожу к рюкзачку, стоящему рядом с зеркалом в золоченой раме. Такие не сдают в багаж, их носят с собой, положив в них самое необходимое: паспорта, билеты, путеводители, наличность. Вот тут и возникает сложность: если я унесу рюкзачок в ванную, то смогу обыскать его без помех, но в случае возвращения кого-то в номер меня поймают с поличным, отболтаться уже не получится; если же оставить рюкзак на месте, меня можно будет увидеть через открытую дверь, и оправдаться снова будет нечем. Однако так все же будет быстрее, и в случае чего я смогу услышать приближающиеся шаги из коридора.
В итоге решаю обыскать рюкзак, не выходя из комнаты, сердце бешено колотится, глаза мечутся между сумкой и открытой дверью. Я быстро нахожу наличность – пачку пятидесятифунтовых и двадцатифунтовых купюр. Более 1000 фунтов. Держу ее в руках какое-то время, сделав потенциально фатальную паузу, предавшись фантазиям, затем отсчитываю шесть купюр по пятьдесят фунтов и кладу их в карман фартука. Проходя дальше через всю комнату к чемоданам, испытываю одновременно облегчение и чувство вины. Как правило, я ограничиваюсь одной купюрой на номер, но на сей раз не смогла удержаться от искушения. Теперь мне осталось раздобыть до пятницы только сорок пять монет.
Когда я подхожу к чемоданам, облегчение заслоняет чувство вины – удивительно, как быстро это чувство ослабевает после того, как дело сделано. К счастью, из дверного проема чемоданы не видны, зато их труднее открыть, и, если меня поймают во время копания в чужой одежде, моя участь будет предрешена. Опускаю метелку для пыли на кровать, кладу на пол самый маленький чемодан и пытаюсь расстегнуть его молнию, но дергаю слишком резко, и ее заедает.
Силой заставляю себя замедлить движения и, прислушиваясь к звукам из коридора (не идет ли кто и не приехал ли лифт), открываю молнию и смотрю, как расходятся ее пластиковые зубы, и чемодан открывает свою пасть, пружинисто поднимая все содержимое.
Я начинаю рыться в нем, но чертова куртка все никак не виднеется. Поднимаю стопки одежды, нашариваю пальцами игрушки и тут слышу звон – пришел лифт. Теперь у меня есть около тридцати секунд, может чуть больше, может чуть меньше, все зависит от скорости тех, кто вышел из лифта. Надо сейчас же закрыть чемодан, уже слишком поздно. У меня нет времени. Ничего не вышло.
Но я так близка к успеху, и мои пальцы опять начинают обшаривать чемодан. Ничего. Погоди-ка. Мой большой палец нащупывает шелк, я дергаю, и полотняная курточка падает на пол, увлекая за собой еще несколько пар носков. Наскоро засовываю наконец-то найденную вещь, прихватив и носки, в карман фартука, одновременно нажимая на чемодан коленом и застегивая его молнию.
«Que faites-vous?»[25]
Я спокойно встаю, разглаживаю выпуклость на фартуке и поправляю чемодан. Мне непонятно, что именно говорит француз-отец, но догадаться несложно. Опустив голову, я принимаю почтительно-невинную позу.
– П-простите, сэр. Ваш ч-чемодан упал, когда я убиралась. – Замолкаю, прикусив язык. Нужно иметь кураж, чтобы давать короткие ответы на трудные вопросы, ведь именно длинные объяснения тебя и выдают. Снова беру в руки свою перьевую метелку для смахивания пыли.
– М-мне выйти, пока вы будете укладывать вещи?
Он колеблется, глядя прищуренными глазами то на меня, то на чемодан.
“Non, – говорит он. – Nous partont maintenant”[26].
Я киваю, с трудом удержавшись от того, чтобы сделать реверанс.
– Х-хорошо, с-сэр. – Подхожу к зеркалу и начинаю энергично смахивать с него пыль до тех пор, пока французская семья не отбывает, взяв с собой все свои пожитки (почти все), и номер 38 снова не становится тихим, безлюдным.
Тогда я сажусь на кровать и выдыхаю.
Во время моего длящегося всего ничего обеденного перерыва я прячу украденные вещи в свой шкафчик, а триста фунтов засовываю в бюстгальтер. Сегодня мне надо быть особенно осторожной и избегать этого грязного ублюдка Гэррика или хотя бы не дать ему пощупать мою левую грудь.
7.58 пополуночи – Скарлет
После того как скальп Подлого мистера Вульфа, так его с неприязнью называет про себя Скарлет, был порезан осколками стекла, она начала испытывать тревогу. И из-за того, что он хочет разрушить ее жизнь, и из-за того, что она, возможно, обладает экстрасенсорной способностью причинять вред. Девушка неохотно отвезла его на машине в больницу, чтобы ему обработали рану, возможно нанесенную ею, хотя вместо этого Скарлет хотелось оставить его истекать кровью на полу. Вот только посетителям не понравилось бы, если бы в кафе кто-то умер, к тому же отмывать потом кровь с половиц пришлось бы ей самой. Поэтому она все же отвезла Вульфа в отделение экстренной медицинской помощи больницы Эдденбрука, превышая скорость и несколько раз проехав на красный свет, а затем, не церемонясь, высадила эту капиталистическую свинью на тротуар и укатила, поклявшись выбросить из головы все мысли о нем. Пока что у нее ничего не выходит.
8.08 пополуночи – Беа
– Что вы тут делаете? – Беа проходит через арку Тринити-Колледжа и выходит на брусчатую мостовую. Давешний пухлый бородатый студент, имени которого она не знает, сидит на низкой каменной стене, окружающей расположенные перед колледжем сады. – Потому что похоже не на судьбу, а на навязчивое преследование.
Студент встает.
– Нет, нет, – пристыженно говорит он. – То есть, да, со стороны может показаться и так, но… я надеялся, что, возможно, вы поможете мне с домашним заданием. Мне никак не даются, э-э, некоторые нюансы Principia Mathematica[27].
Беа прижимает свои книги к груди и сердито смотрит на него.
– Ваше домашнее задание? Вам что, двенадцать лет?
– Вы юморная. – Студент улыбается. – Поэтому-то вы мне и нравитесь.
– И вовсе я вам не нравлюсь, – бросает ему девушка, презрительно кривясь. – Вы же меня даже не знаете.
И идет прочь.
– Вы еще и красавица, просто потрясающая. – Он спешит за ней. – Но это так, к слову. Юмор всегда куда лучше красоты.
Беа останавливается.
– Что вам надо?
– Я ведь вам уже говорил…
– Нет, меня интересуют не эти ваши идиотские реплики, предназначенные для съема, – перебивает она его. – Я хочу знать, вы что, надеетесь получить быстрый перепихон?
У него делается удивленный и немного испуганный вид. Парень нервно дергает себя за бороду.
– Нет, нет, что вы… Даже в самых моих смелых мечтах – то есть, в самых моих смелых мечтах, возможно, но не в этом мире. Нет, я просто хотел узнать вас.
– Узнать меня? – Беа прищуривает глаза. – Чтобы потом попытаться…
– Нет, нет же. – Он всплескивает руками и отходит на шаг назад. – Что вы. Просто… в вас есть нечто такое… Меня к вам влечет, но не в этом смысле. Просто хочется провести с вами какое-то время, если вы позволите. Я хочу узнать вас хоть немного лучше, только и всего.
Беа смотрит на него с таким видом, будто даже не могла себе представить такой жалкий ответ, и идет дальше.
– А я не хочу тебя знать, – не оглядываясь, бросает она. – Так что будь добр, отвали.
Ей удается расслабиться, только убедившись, что он не идет следом. Из ее плеч уходит напряжение, и она перемещает взгляд на стоящие вдоль Тринити-стрит фахверковые здания в стиле эпохи Тюдоров. На их оконных карнизах толкутся кучки голубей, стены украшены горгульями и скульптурными изображениями выдающихся исторических деятелей – исключительно мужчин в несуразных каменных шляпах и чулках.
На минуту Беа вдруг начинает казаться, что она слышит и понимает язык птиц, что надо только прислушаться, и ей станет понятно, что они хотят сказать – веселый щебет радости, низкое печальное карканье, кокетливое чириканье… Затем она внушает себе перестать предаваться пустым фантазиям и спешит дальше.
4.31 пополудни – Лиана
– Замуж? Она хочет, чтобы ты вышла замуж? – Кумико соскальзывает на край кровати. – За мужчину? Это же чистое безумие.
– Ну… – Лиану охватывает желание оправдаться, хотя она много раз говорила себе то же самое, что сейчас сказала Кумико. – Вообще-то браки, устраиваемые родственниками, существуют во многих культурах, не так ли? В Гане такое случается нередко, во всяком случае, так было прежде…
– Я не об этом. – Кумико бьет пятками по деревянной боковине кровати. – Я не ставлю под сомнение договорные браки в общем, как институт, просто в твоем случае… – Она пристально смотрит на девушку. – Ты же сказала ей про нас, не так ли?
Сидящая на полу Лиана играет с бахромой ковра Кумико, начав сплетать черную шерсть в косу.
Ее возюбленная сощуривает глаза.
– Ты так и не сказала.
– Разумеется, сказала. И еще сказала, что скорее пойду работать в ночную смену в супермаркет «Теско», чем соглашусь соблазнить какого-нибудь легковерного старого пердуна, чтобы он оставил мне половину своих богатств.
– И что на это ответила тетя?
– Она заявила, что я не продержусь на работе и недели. Сказала, что взяла бы соблазнение на себя, если бы могла. Но…
Кумико соскальзывает на пол.
– Но что?
– Что-то насчет пердунов и красоток… – Лиана пожимает плечами. – Уже не помню.
– Все ты помнишь, – говорит Кумико, придвинувшись ближе и закинув ногу за спину Лианы.
Та только грустно вздыхает.
– Ньяша говорит, что богатому старому пердуну не нужна перезрелая красотка, ему нужна…
Кумико вскидывает одну бровь, и та исчезает под ее шелковистой черной челкой.
– Ты.
Лиана сжимает лодыжку девушки.
– Наверное. Она была тогда пьяна. Как бы то ни было, я завтра же подам заявление на работу в «Теско».
Кумико переплетает свои пальцы с пальцами Лианы.
– Боюсь, в этом я вынуждена с ней согласиться. Ты не продержишься в «Теско» и недели.
– Да ладно тебе, – протестует Лиана, сложив руки на груди. – Какого чер…
– О, Ана, я люблю тебя, но ты не сможешь работать в «Теско».
– Почему это не смогу?
– А ты когда-нибудь в своей жизни ишачила хотя бы один день на тяжелой работе?
– Что? Я же тренировалась изо всех сил, чтобы завоевать олимпийскую медаль в плавании, – говорит Лиана. – Что может быть тяжелее?
– Да, но такие вещи приносят радость, воодушевляют, а работа в супермаркете – это чистая тягомотина. – Кумико подается вперед, остановившись в дюйме от губ своей девушки. – Боюсь, ты годишься только для двух вещей, моя дорогая. Первая – это рисование, а вторая…
– Как же ты любишь дразнить. – Лиана целует Кумико. – Ты…
Телефон в кармане Аны вдруг вибрирует и гудит. Она спешит достать его, опрокинувшись на пол сама, опрокинув любимую и едва не ударившись головой о кровать.
– Черт, черт. – Лиана вбивает пароль и открывает свою электронную почту.
Вот оно. Единственное непрочитанное письмо, ответ из «Слейда». Увидев начало первого предложения, но не рассмотрев его конца, она делает глубокий вздох, шепчет молитву, затем щелкает по письму.
От кого: доктора Мартина Конвея, admissions@ucl.co.uk
Кому: Лиане Мириро Чивеше, liyana333@gmail.com
Уважаемая мисс Чивеше!
Спасибо за Ваш запрос о сохранении Вашего места для изучения изобразительного искусства в Художественной школе «Слейд». Мы понимаем, что Ваши обстоятельства неожиданно изменились, но вынуждены сообщить Вам, что мы не можем…
Лиана закрывает глаза. И все поднимавшаяся волна ужаса наконец обрушивается на нее со всей своей силой.
11.59 пополудни – Лео
Лео по-прежнему видит сны, что удивляет и пугает его. Может, он всегда видел сны, каждую ночь своей жизни на Земле, просто не мог вспомнить их наутро? Возможно ли это? Наверняка нет, ведь у него не вполне человеческое тело и не совсем человеческий ум. Ему в голову вдруг приходит строчка из «Гамлета»: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам» Так что все возможно, все.
Ему снится Голди, но каждый раз он просыпается перед самым соприкосновением их губ, и это вызывает у него одновременно досаду и облегчение. Досада вполне естественна, а облегчение объясняется знанием того, что именно случится после их поцелуя, поэтому парню больше не хочется об этом думать.
За свою короткую жизнь Лео убил в Навечье столько женщин, что уже не готов был всех вспомнить. В иные годы больше, в иные меньше, в зависимости от обстоятельств. В первые месяцы после гибели Кристофера он особенно разошелся и убивал, убивал. Парень готовился к каждой ночи начала первой четверти луны так тщательно, словно тренировался для участия в бое за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Каждое утро по нескольку часов медитировал, оттачивая точность и силу всех своих чувств, каждый вечер пробегал по нескольку миль, время от времени останавливая бег, чтобы убрать со своего пути препятствие – ударами ноги опрокидывал урны, ломал велосипеды, гонялся за коровами, пасущимися на лугах. Каждую ночь бродил по улицам, чувствуя, как зудит его кожа от желания мучить и увечить, от стремления причинить столько жестоких смертей, сколько позволят его воображение и навыки убийств.
Более десяти лет назад
Голди
Я смотрела на открытый учебник, цифры плавали по странице, и я пыталась обуздать их, привести в порядок, но особо не старалась. И в лучшие-то времена мне не очень-то давались цифры, в отличие от букв, всегда понятных и легких. Я люблю читать, научиться мне удалось самой. Мама, не читавшая ничего кроме местной газетенки, дала мне «Книгу рекордов Гиннесса» (единственную, имеющуюся книгу в нашей квартире) и предоставила мне учиться читать самостоятельно. К чтению других книг меня не поощряли, возможно, боясь, что они забьют мне голову рискованными идеями.
Я никак не могла сосредоточиться на дробях, так как постоянно вспоминала то место, как оно выглядело, какие вызывало чувства. Сны о нем снились мне уже несколько ночей подряд. Каждую ночь я видела больше, узнавала больше и начала называть это место Навечьем, потому что мне всегда хотелось вновь оказаться в нем и остаться там навек. К великому разочарованию, я обнаружила, что не могу контролировать сны о Навечье и не могу понять, каким образом попадаю туда и как возвращаюсь обратно. Поэтому каждую ночь, прежде чем заснуть, я представляла себе каждый тамошний камень, освещенный луной, каждую движущуюся тень, каждый ручей, каждое дерево. Дюйм за дюймом, вздох за вздохом старалась перенестись туда силой своей воли. Иногда это работало, иногда нет.
Попадая в Навечье, не каждый раз мне удавалось встретиться со своими сестрами, но это было не страшно, ведь иногда хотелось просто побыть там одной. Однако там всегда чувствовалось их присутствие – прикосновения в падающих листьях, голоса в звуках ветра и журчании ручьев. Я чувствовала сестер и когда бодрствовала, и когда обедала, сидя за крайним столиком школьного кафетерия, и по пути из школы домой, и смотря телевизор, до возвращения мамы домой. Она всегда сразу начинала расспрашивать меня о том, как прошел мой день, жаря яичницу с картошкой, что отвлекало меня от мыслей про них. Мои сестры из снов начали казаться мне такими реальными, что, говоря с ними вслух, я слышала их ответы в своей голове.
Лиана
– Перестань ерзать, Ана. – Ее мать в одной руке держала шпатель, а второй давила на плечи дочери, вжимая ее в стул. – Я уже почти закончила.
– Он жжется, дада, – запротестовала Лиана. – Мне больно, перестань.
Изиса наклонилась к уху дочери.
– Мама, – прошипела она. – Называй меня мамой. Сколько раз тебе повторять?
Девочка ничего не сказала, не смея перечить матери, которая могла быть мягкой и нежной, пока не начнешь с ней спорить; тогда она становилась грозной, как вздымающаяся волна. Вместо этого Лиана сердито зыркнула на зеркало ванной и на бутылочку, стоящую на краю раковины. «Чудо-выпрямитель для волос». Мама обманула ее, сказав, что это продлится всего минутку и она даже ничего не почувствует. На самом же деле прошло уже тридцать минут, и кожа ее головы горит так, будто Изиса вылила на нее бутылку кислоты.
– Ты уже сделала уроки? – спросила женщина.
– Да, – ответила Лиана, подумав, что раз уж ее жгут заживо, будет глупо говорить правду.
– Хорошо. – Изиса нанесла белую вязкую массу на затылок Лианы. – Я купила новую книгу, тебе не стоит и дальше тратить время на эти глупые сказки, которые дает твоя учительница, они слишком легки.
Ана закрыла глаза и стиснула зубы. Она терпеть не могла читать вслух истории под взглядом своей мамы, которая коршуном набрасывалась на нее, стоило лишь только ей запнуться на каком-нибудь слове.
– Здесь ты должна работать больше, чем кто-либо другой, Ана, – сказала она. – В Гане ты была кем-то – дочерью Изисы Сибусисиве Лондиве Чивеше, внучкой покойного Звелету Сибусисо Лондисизве Чивеше. Здесь же ты никто, здесь ты значишь меньше, чем самая нищая и грязная белая женщина, живущая на улице.
Лиана открыла глаза и проглотила рвущийся наружу протест. У нее еще будут споры с мамой, но она будет сражаться только в тех из этих битв, в которых у нее будет хоть какой-то шанс победить.
– Чтобы выделиться на общем фоне, ты должна сражаться, – продолжала Изиса, нанося белую массу на волосы вокруг ушей Лианы. – Никто не даст тебе ничего просто так, тебе придется выхватывать каждый свой шанс из рук других, понятно?
Когда до девочки дошло, что от нее ждут ответа, она кивнула.
– Ты должна тренироваться больше, учиться прилежнее, говорить убедительно и умно, – сказала мать, подняв шпатель, вымазанный этой жгущей субстанцией. – Каждый день тебе нужно бороться, чтобы доказать, что ты лучше всех. Только тогда ты сможешь выделиться, только тогда ты сможешь выжить.
У Лианы вертелось на языке, что, хотя она и желает выжить, ей не особенно хочется выделиться. Скорее, наоборот.
Вместо этого она кивнула, несмотря на ужасное жжение головы, и стала гадать, как можно выделиться и в то же время вписаться.
Скарлет
Скарлет дала себе клятву, что, когда у нее будет своя маленькая дочурка, она станет ее всячески баловать, давать ей все, что бы та ни попросила, и еще многое сверх того. Она точно не знала, что нужно сделать, чтобы иметь дочь, но раз уж таковой смогла обзавестись ее мать, которой маленькая девочка совсем не нужна, значит, это не так уж трудно. И когда Скарлет выяснит, как это делается, то сделает все, чтобы ее собственная дочка всегда чувствовала, что ее любят сверх всякой меры.
Ее малышка вырастет в атмосфере абсолютной любви, эта любовь будет окутывать ее со всех сторон, ей не придется выискивать крохотные клочки материнских чувств. Скарлет не знала, почему мать не испытывает к ней того, что матери должны испытывать к своим детям, но была уверена, что сама никогда не станет такой. Она будет души не чаять в своей дочурке, будет кормить ее, гладить ее мягкие рыжие кудряшки, ее пухлые щечки, ее кулачки. Скарлет будет обожать свою дочь с самого первого дня ее жизни, еще до того, как та сделает хоть что-то, чтобы это заслужить, когда ее Рыжик (так она будет называть малютку) еще только будет уметь плакать и больше ничего.
Скарлет часто гадала, каково это – чувствовать, что тебя любят просто так, без причин. Когда ты не лезешь из кожи вон, чтобы угодить, когда не приходится отдавать то, что тебе не хочется, точно зная, что тебя любят просто потому, что ты – это ты. Как только у нее появится дочурка, она докажет, что бескорыстная любовь существует, докажет, что ущербна не она, а ее бессердечная мать.
Беа
– Осторожно! – крикнула Лиана, глядя на исчезающие подошвы туфель Беа. – Не забирайся слишком высоко.
– Не слушай ее, – закричала Скарлет. – Заберись так высоко, как только сможешь!
Беа остановилась, стоя на ветке, и посмотрела вниз. Поймав взгляд Скарлет, она улыбнулась и выпрямилась, растянув позвоночник и вытянув руку вверх.
– Я заберусь на самую верхушку.
Почему бы и нет, подумала девочка. Ведь до верхушки не так уж и далеко. Здесь все равно все не так, как на Земле, где падение с такого высокого дерева означало бы верную смерть. Здесь все физические законы работают не так – как иначе можно объяснить постоянно падающие листья? В Навечье сила тяжести совершенно другая.
Добравшись до самой верхней ветки, Беа встала на нее и приготовилась к прыжку. Затем, придвинувшись к самому краю ветки, поглядела вниз, чтобы поймать взгляды своих сестер и убедиться, что все они устремлены на нее.
– Если ты упадешь, я тебя поймаю. – Лиана стояла у подножия дерева, прижав ладони к его стволу. – Но ты, пожалуйста, не падай!
– Я не упаду, – закричала Беа. – Я полечу!
Лео
– Псст!
Лео, неловко вытянувшийся на кровати в дортуаре[28], повернулся на бок и посмотрел на соседнюю кровать. В потемках он увидел протянутую ему руку и начал ждать.
– Псст.
– Что? – прошептал Лео.
Мальчик на соседней кровати покрутил рукой, как будто ожидая, что Лео пожмет ее.
– Кристофер Марсден, – прошептал он. – Если хочешь, можешь звать меня Крис.
Лео посмотрел на руку, но не пожал ее.
– Лео Пенри-Джонс.
– Рад познакомиться, – сказал Крис и, убрав руку, сел. Лео сделал то же самое. – Ты новенький, да?
– Да.
– А почему ты так припозднился?
– В каком смысле? – спросил Лео, обняв свои колени.
– Ну, большинство мальчиков начинают учиться здесь, когда им еще нет и шести, верно? Как я.
– Просто моя мама хотела, чтобы я оставался дома, рядом с ней, – сказал Лео. – Отец какое-то время соглашался, но, когда мне исполнилось восемь, настоял, чтобы я отправился сюда.
Кристофер опять скользнул под одеяло и положил голову на подушку.
– Везет же тебе. – Он улыбнулся. – Уверен, что твоя мама ужас как скучает по тебе. А моя даже не заметила, что я уехал из дома.
Лео улыбнулся в ответ.
– Если ты пробыл тут уже три года, она наверняка заметила, что тебя нет дома.
Крис фыркнул, как бы давая понять, что мальчик даже не представляет, насколько он не прав.
– А ты скучаешь по своей маме?
– Я э-э… – Лео не хотел признаваться, как сильно ему ее недостает.
– Ты можешь лечь со мной, – прошептал Кристофер. – Если хочешь.
И Лео понял, что хотя их отделяет метр пола и несколько дюймов матрасов и простыней, Кристофер чувствует его одиночество. Он быстро окинул взглядом остальные двенадцать кроватей в дортуаре и мальчиков, спящих на них, завернувшись в одеяла. Прежде чем испугаться и пойти на попятный, сдернул с себя одеяло и опустил ноги на холодный каменный пол.
Несколько минут спустя Крис уже спал, повернувшись к Лео, щекоча дыханием его ухо. Лео до рассвета смотрел на своего нового друга. И, только когда дортуар осветили первые лучи утреннего солнца, Лео тихонько вернулся на свою кровать.
7 октября – 25 дней…
7.11 пополуночи – Голди
Должна признаться, что втайне слежу за Лео. Нет, я не прослушиваю его телефон, не крадусь за ним, когда он уходит из отеля. Правда, мне все же известно, что он изучает право в Колледже Святого Иоанна, хотя по какой-то причине (скорее всего, дело в его гиперопекающей матери – все указывает именно на это) парень проводит некоторые ночи в отеле рядом с родителями. Должна признаться, что номер-люкс его семьи я убираю более тщательно, чем это необходимо, задерживаясь на его шампуне и рубашках. Мне известно, что в обязанности горничной не входит уход за его гардеробом или вдыхание ароматов его туалетных принадлежностей, но я действую не по обязанности, а от души.
Вчера вечером, смахивая пыль с внутренней части ящика прикроватной тумбочки, я нашла его дневник, но не стала его читать. Пусть я воровка и лгунья, но и у меня есть кое-какие моральные принципы. Даже не открывала его. И не открою, несмотря ни на какое искушение. Ей-богу!
После того как случилось удивительное – я сумела заставить Лео оглянуться, – ничего необычного больше не происходило. Жизнь течет скучно и безопасно, что определенно лучше, чем странно и непредсказуемо, пусть я и не упиваюсь такой безмятежностью. Просто езжу на работу, мою туалеты, грежу о Лео, пылесошу полы, вытираю зеркала, обмахиваю пыль с бронзовых часов, затем возвращаюсь домой, кормлю Тедди, помогаю ему делать уроки, убираю квартиру и ложусь спать. После того как подобным образом проходит несколько дней, я почти забываю о том странном случае. Поэтому так и изумляюсь, когда подобное происходит снова.
Я прохожусь пылесосом по коридорам второго этажа, когда вижу, что ко мне приближается мистер Пенри-Джонс. На секунду я замираю, ведь вполне возможно, что за ним шагает его сын, однако Лео тут нет. Прежде чем опять начинаю пылесосить, мистер Пенри-Джонс проходит мимо, наступает на шнур пылесоса и, не говоря ни слова, сделав вид, будто меня вообще тут нет, идет прочь.
Вот козел, – думаю я. – Хоть бы ты упал и растянул свою чертову лодыжку.
Секунду спустя он спотыкается о шнур пылесоса и падает ничком, растянувшись на богатом багряном ковре, словно морская звезда. Я могла бы посмеяться, но слишком потрясена для этого. Совпадение?
– Не стой столбом и перестань таращиться, идиотка! – рявкает мужчина, приподняв голову. – Позови врача. Кажется, я растянул мою чертову лодыжку.
Я таращусь еще несколько секунд, а затем беру себя в руки и иду. И, пока торопливо шагаю по коридору, вновь чувствую прилив силы, отчего сразу становлюсь выше, крепче, проворнее. Я могу повелевать армиями, – думаю про себя. – Могу повергать в прах целые страны. Мне подвластно волшебство… У меня такое чувство, будто моя голова касается потолка, а ноги парят над полом. Меня охватывает странное ощущение – кажется, что мои пальцы погружаются во влажную землю, касаются корней. Я управляю ими и вытягиваю из грунта взрослое дерево. Вдруг корни восстают против меня, оборачиваются вокруг моих запястий и тянут меня под землю. Меня захлестывает паника, и я начинаю съеживаться, сползать вниз, так что, когда дохожу до лестницы, уже снова становлюсь маленькой и ничтожной. Что же это было, черт возьми? – думаю я, торопясь за помощью.
7.48 пополуночи – Голди
Гэррик отсылает меня прочь, как только мы доходим до мистера Пенри-Джонса, все еще лежащего на ковре и хнычущего, как маленькая девочка, держась за лодыжку. Гэррик кудахчет над богатеем, словно неврастеничная мамаша, рассыпается перед ним тысячей извинений. Я жду, пока не оказываюсь в безопасности за дверью номера 17, и только тогда смеюсь, заглушая смех с помощью фартука.
Мои мысли смущают меня, совершенно не знаю, что и думать. Это странно. В детстве я хотела одного – быть сильной. Сильнее, чем взрослые, которые окружали меня. Теперь же, когда, возможно, мне это удалось, все кажется довольно пугающим и странным.
Оставляю номер Лео напоследок, как в детстве приберегала конфеты. Отсюда я ничего не украла, но сделала кое-что похуже, поскольку нарушение неприкосновенности частной жизни – это намного худший грех, чем воровство. Я не только копалась в вещах Лео, но и читала его мысли, и некоторые из них меня сильно удивили.
Я все еще сижу на его односпальной кровати, когда в комнату вдруг входит он сам. К счастью, его дневник только что был убран мной обратно в ящик. Я вскакиваю.
– Что ты делаешь?
Удивленно уставившись на него, открываю рот.
Он смотрит на меня с любопытством.
– Ты что, крадешь?
Я хмурю брови и тут замечаю, что на кровати рядом с вмятиной, оставшейся после моих посиделок, лежит бумажник из черной кожи.
– О, нет, я… – Резко передумываю. Пусть он лучше считает меня воровкой (ведь так оно и есть), чем той, кто сует нос в чужие дела. Я просто опускаю голову и молчу.
Лео пересекает комнату в три шага, и не успеваю я сделать следующий вздох, как его губы оказываются так близко от моих, как никогда не бывал ни один мужчина с тех самых пор, когда…
– Ты не… – Он протягивает руку к моей щеке, и я вздрагиваю. Ощутив тепло его пальцев и бьющийся в них пульс, вдруг понимаю, что не боюсь. Я смотрю в его глаза, вобравшие в себя невероятное количество оттенков зеленого, и вдруг замечаю в центре радужек брызги желтизны. Солнечный свет на листве. В его глазах светится любопытство и нежность.
– Лео! Что тут происходит, черт возьми? – В дверях стоит мистер Пенри-Джонс, опираясь на позолоченную трость и оторвав от пола левую ногу, его лицо раскраснелось от ярости.
Лео опускает руку и отступает назад.
– Объясни свое поведение. – Мужчина, хромая, входит в комнату и оглядывает всю сцену: своего сына, меня, бумажник.
Я смотрю на парня, который стоит, молча уставившись на своего отца.
– Лео. – Мистер Пенри-Джонс понижает голос. – Ты что, занимался чем-то неблаговидным с этой?..
– Нет, сэр. Конечно, нет.
– Тогда что же ты делал, черт возьми?
– Спрашивал ее…
Я делаю шаг вперед.
– Он п-поймал меня, – говорю я. – Я… я… пыталась украсть бумажник.
11.59 пополуночи – Голди
Лео отрицает все, говорит своему отцу, что это неправда. Они горячо спорят (отец при этом говорит громко, а сын – тихо). Я стою рядом с кроватью, глядя то на одного, то на другого, то себе под ноги, и не понимаю, зачем вообще решила сказать так. Это был глупый, глупый порыв. Знаю только одно – мне вдруг захотелось защитить Лео, чтобы отец перестал его стыдить. Наконец старший Пенри-Джонс, ковыляя, подходит к телефону и поднимает трубку.
– Я хочу поговорить с управляющим. Да, я подожду.
У меня душа уходит в пятки. Я знала, что это случится, и уже начинаю сожалеть о своем дурацком благородстве. Теперь уже слишком поздно что-либо отрицать.
Когда Гэррик даже не пытается лапать меня в лифте, я наконец осознаю, насколько тяжело мое положение. Вхожу в его кабинет первой, и он закрывает за нами дверь. Щелкает замок. Гэррик садится в стоящее за его письменным столом кресло, обитое искусственной кожей, и она скрипит. Он закидывает одну толстую ногу на другую.
– О, Голди, как же ты меня разочаровала, – театрально вздыхает управляющий, как будто судья, которому надо зачитать приговор серийному убийце. – Нуте-с… – Он откидывается на спинку кресла и, сложив пальцы домиком, прикладывает их к губам, делая вид, будто обдумывает мою участь. – Как… как же мы решим этот вопрос?
Я молчу. Нет, теперь я не стану отрицать обвинения или просить о снисхождении, это бы только ускорило дело. Гэррик опускает руки, ставит обе ноги на пол и подается вперед, при этом его потная лысина блестит, и от него начинают исходить липкие волны возбуждения.
– При обычных обстоятельствах я должен был бы уволить тебя немедля и вызвать полицию. Однако, – он делает театральную паузу, – есть и альтернативные варианты.
Гэррик отодвигает свое кресло назад и встает, искусственная кожа снова скрипит. Он обходит свой стол. Глядя на него, я прикусываю верхнюю губу, сейчас от нее наверняка отлила вся кровь.
– Ну, так что ты об этом думаешь?
Я продолжаю молчать, глядя на запертую дверь.
– Тебе и не надо ничего говорить. – Управляющий мерзко ухмыляется. – Мне, как и любому мужчине, нравится, когда женщина говорит непристойности, но сейчас меня не нужно заводить еще больше. Я и так уже раскочегарен до предела. – Он делает шаг ко мне. – Просто стой у стенки, как хорошая девочка. Я все сделаю сам.
Он подходит ко мне вплотную. Я делаю шаг назад, спотыкаюсь, и он придерживает меня рукой. Меня передергивает, поскольку его кабинет ненамного просторнее лифта, и теперь я оказываюсь вжатой в стену. Мое дыхание учащается, начинаю задыхаться. Гэррик наваливается на меня всей своей тушей и прижимает к стене.
– Хочешь расстегнуть? – кивает на свою ширинку. – Или ты предпочитаешь, чтобы это сделал я сам?
Пытаюсь заговорить, но сейчас у меня не получается даже нормально дышать.
– Что, проглотила язык? – Он придвигает свою рожу так близко, что виднеются все поры на его потной коже и чувствуется запах его несвежего дыхания. Меня охватывает ужас – а что, если сейчас он полезет целоваться? Вместо этого он засовывает мне в рот толстый палец, у меня стекленеют глаза.
– Тебе нравится? – Мужчина снова ухмыляется. – Пососи его, детка, – это прелюдия к грядущим утехам.
И тут я делаю то, что мне никогда не удавалось прежде. Вместо того, чтобы замереть, я сопротивляюсь. Нет, не пытаюсь продумать стратегию борьбы, а просто кусаюсь. Я так сильно кусаю его палец, что прокусываю кожу, и мой рот наполняется кровью.
Гэррик пронзительно кричит и отскакивает назад, держа свой окровавленный палец. Он дергается и визжит, как свинья, которую режут.
– Ты… Ах ты долбаная сука! – вопит он. – Какого хрена ты?..
Из его рта извергается поток ругательств, таких грязных и непристойных, что на миг я потрясенно застываю у стены. Затем поворачиваюсь и бегу.
12.34 пополудни – Лиана
Когда Лиана чувствует себя потерянной, она либо раскладывает карты Таро, либо ищет вокруг черных дроздов. Черные дрозды – это ее личные ангелы, посланцы благожелательной Вселенной, если такая вообще существует, их вид успокаивает и ободряет ее, говорит, что ее путь верен. При виде черного дрозда Лиана начинает думать, что по большому счету все в окружающем мире идет хорошо, даже если положение и кажется безнадежным.
Девушка выбрала именно черных дроздов, потому что, хотя она никогда никому в этом не признается, думает, что в некоем необъяснимом эзотерическом смысле в них перевоплотился дух ее матери. Возможно, дело в том, что Изиса так часто пела песню про черных дроздов, и эта песня звучит во всех снах Лианы. К сожалению, она уже не помнит точных слов, как бы ни старалась воскресить их в памяти.
Лиана уже несколько недель не подбирала перышек и не видела ни одного черного дрозда, так что пришло время вновь обратиться к Таро. Она вопрошает карты о деньгах, о замужестве, о возможности чудес. Выпадают Башня, Тройка Мечей и Пятерка Кубков. Ана снова и снова задает один и тот же вопрос, раскладывает карты опять и опять – вдруг выпадут какие-то другие? Тасует, перетасовывает, надеясь на иной расклад, отчаянно желая получить какой-то добрый знак, но такого знака все нет и нет.
2.59 пополудни – Скарлет
Скарлет прислоняется к своей любимой кофемашине для приготовления капучино, рассеянно полируя бок Франсиско посудным полотенцем и пытаясь не думать об Изикиеле Вульфе и его планах воздвигнуть еще один памятник мировому капитализму на том месте, где сейчас располагается маленькое кафе ее бабушки. Скарлет чувствует себя дурой, она ни за что не позволит мистеру Вульфу вонзить свои когти в кафе. Ведь его все еще любят, в него все еще приходят завсегдатаи. Правда, их число растет отнюдь не такими бешеными темпами, как арендная плата.
Глядя на свое неясное отражение в полированной нержавейке, девушка позволяет себе подумать о том, что бы делала, если бы не работала в кафе. Она уже давно не думала о том, чтобы начать заниматься чем-то другим, ведь у нее нет никакой квалификации – куда можно податься, если ты просто-напросто сдала десять экзаменов на аттестат об окончании средней школы? Даже если по всем ты получила высший балл. Причем, учитывая, что после школы она каждый день помогала бабушке в кафе, можно сказать, что это весьма впечатляющий результат. Чтобы получить другую работу, ей пришлось бы продолжить учебу или пройти профессиональную переподготовку. Это потребовало бы времени и денег, а и того, и другого у нее немного.
Пока Эсме еще работала в кафе до болезни Альцгеймера, Скарлет собиралась продолжить учебу и окончить старшие предуниверстетские классы, чтобы потом изучать химию. Она не очень-то ясно понимала, каково это – быть химиком, но, когда представляла себе, как будет сидеть в лаборатории и производить взрывы, такая работа казалась ей идеальной. Ее, в общем-то, не особенно огорчало то, что из этой идеи так ничего и не вышло, ведь это была просто смутная мысль, привлекавшая девушку за отсутствием других идей, к тому же кухня представлялась ей вполне сносной альтернативой лаборатории. Правда, смешение соды для выпекания с водой и выделение пузырьков скучновато по сравнению с бурной реакцией при смешении красного фосфора с хлоратом калия, но и это являет собой своего рода волшебство.
Скарлет не сразу заметила, что с ее бабушкой что-то не так. Все началось с того, что Эсме стала забывать названия простых вещей – тарелка, холодильник, булочки с корицей. Затем она начала терять предметы и находить их в совершенно неподходящих местах: ключи от ее машины могли оказаться в морозилке, пакет молока – в шкафчике в ванной, чайная ложка – в отделении кассового аппарата вместе с пятифунтовыми купюрами. Скарлет все равно ничего не говорила, не хотела, чтобы ее опасения подтвердились, надеялась, что тревожные симптомы пройдут, как попавший в ванну паук, который рано или поздно попадает в сливное отверстие и исчезает.
Но, наконец, настало время, когда уже ни Скарлет, ни сама Эсме больше не могли не замечать признаков болезни. Бабушка съездила к врачу, и худшие страхи были подтверждены. Внучке пришлось смириться с тем, что вместо научных экспериментов ей придется довольствоваться выпеканием кексов и тортов.
10.58 пополудни – Беа
После того причудливого сновидения, в котором ее вены почернели, подарив ей абсолютное единение тела и духа, Беа обрела новую веру в себя и начала кое-что замечать. Кое-что такое, что заставляет ее гадать, не соответствуют ли истине те невероятные истории, которые все время рассказывает ее мама. Может быть, в них все-таки что-то есть? С рациональной точки зрения это кажется невозможным, однако теперь Беа была вынуждена раздвинуть границы того, что считала возможным.
В последнее время девушка обнаружила, что знает, что люди скажут еще до того, как они это говорят. Нет, не дословно, но отчетливо представляет себе общую суть. Еще ей заранее было известно, кого и когда она увидит. На прошлой неделе Беа вообще привиделись почти все вопросы письменного экзамена по этике, что можно было бы объяснить усердным изучением предмета, вот только на самом деле эти вопросы приснились ей минувшей ночью. Это все еще далеко от тех таинственных предчувствий, о которых заявляет мама, но все равно довольно необъяснимо.
В результате Беа, к ее собственному недоумению, теперь специально подходит к некоторым воротам, разглядывая их в поисках каких-то аномалий, признаков того, что они не совсем то, чем кажутся на первый взгляд. Однако она все-таки не стала пытаться пройти через одни из таких в 3.33 ночи, правда пока не очень понимает, по какой именно причине: то ли потому, что до сих пор не решается поверить россказням своей мама о фантастических мирах, то ли потому, что в свою первую четверть войдет только 1 ноября. Если в эту ночь Беа не найдет себе занятий получше, то, возможно, все-таки попробует пройти.
– В детстве ты могла проделывать все это во сне, – говорит по телефону мама. Она звонит куда чаще, чем хотелось бы дочери.
– Ты всегда так говоришь, – отвечает Беа. – Прекрати, из-за тебя я чувствую себя ущербной.
– Por que?[29] Должно быть наоборот. Подожди немного и увидишь сама.
– Я всего этого не помню, и сейчас мне ничего об этом не говорит, так что… – Беа пожимает плечами. – Я знаю только одно – есть огромная разница между тем, что обо мне говоришь ты, и тем, как себя чувствую я сама.
– Перестань пожимать плечами, – говорит мама. – Это вредно для осанки.
– Перестань меня пилить, – отвечает Беа. – И я вовсе не пожимаю плечами.
– Ты можешь лгать кому угодно, только не мне. Так ты роняешь свое достоинство, к тому же это чертовски раздражает. Por amor al… demonio![30]
– Как же ты сама меня раздражаешь! – Беа хочется бросить трубку. – И я не понимаю, почему ты все время рассказываешь мне эти нелепые байки – на моем месте любой решил бы, что ты хочешь опять быть запертой в лечебнице Святой Димфны. Я-то думала, что тебе уже осточертела психушка.
Ее мама молчит.
– Если тебя кто-то подслушает, – продолжает дочь, не в силах упустить возможность лишний раз надавить на больное место, – они решат, что у тебя рецидив.
– Это лишь потому, что у большинства людей воображение на нуле, а ума и того меньше. Даже если ты проведешь их через врата и будешь держать за руку до самого рассвета, потом они все равно заявят, что это был всего лишь сон. Entiendes?[31] Если бы они заметили вспышку голубого света в своих черно-белых мирах, это взорвало бы их крохотные смертные мозги, если бы они увидели что-то необыкновенное, то разнесли бы это в прах с помощью рационалистических объяснений.
Беа картинно закатывает глаза.
– Deja![32] Перестань проявлять неуважение!
– Я его и не проявляю, – говорит Беа, досадуя на невероятную способность своей мама совершенно точно узнавать, как она реагирует на те или иные слова, даже когда они общаются по телефону.
– Знаешь, ты нравилась мне куда больше, когда была меньше.
– Ты все время мне это говоришь.
– Потому что так оно и есть, и я готова это повторить. Жду не дождусь, когда тебе исполнится восемнадцать лет, и я, наконец, получу мою дочь обратно.
Беа хочет еще раз закатить глаза, но не делает этого.
11.11 пополудни – Лео
Лео нравится ходить по улицам Кембриджа по вечерам и ночам, особенно когда в колледжах полно студентов и их мысли просачиваются сквозь древние камни, льются из окон и дверей, распространяясь по воздуху, словно дым костра. Лео вдыхает их желания, огорчения, отчаяние.
В отличие от Лондона здесь ночные улицы обычно бывают пусты, если не считать горстки одиноких бродяг, слишком многие из которых спят перед фасадами магазинов.
На тротуары падает свет, и в освещенных окнах видны обитатели домов. Лео гадает, кто они, эти люди, чьи мысли он слышит, но имен не знает. За одним из окон он чувствует присутствие сестры Гримм, девушки, сила которой пока спит и которая понятия не имеет о том, что ее ждет.
Больше всего Лео думает о Голди. Интересно, что с ней произошло? Что ей сделал ее босс? Завтра он это выяснит. Парень надеется, что она сумела за себя постоять, что взяла и откусила его крохотный член. Он улыбается, вспомнив о том, что Голди прочла его дневник. К счастью, он не написал там ничего дискредитирующего, иначе было бы потеряно его огромное преимущество – элемент внезапности.
Более десяти лет назад
Навечье
Выйдя за врата, вы видите перемену, она так неуловима, что почти не заметна. Лишь когда вы выходите из Навечья, когда рассеивается дым костров и ваши глаза приспосабливаются к более резкому свету, когда ноги переходят со мха на бетон и уши улавливают гудки машин и далекий собачий лай, вы замечаете, что стали немного скучнее, тупее и чуть-чуть грустнее. У вас тяжелеет голова, как будто вы плохо спали, и что-то беспокоит, как будто недавно вы получили плохую новость, но не можете вспомнить, в чем она состоит.
По мере того как вы все глубже заходите в тот мир, который знали всегда, мир, где все так знакомо, перемена чувствуется гораздо острее. Вся та уверенность в себе, то спокойствие и ясность, которые вы чувствовали в Навечье, куда-то исчезают. На вашу грудь давит печаль, затем она пронзает и ваше сердце. Вы чувствуете, как исчезают любые воспоминания о том, как вы когда-то смеялись, любая способность радоваться подобно тому, как тучи заслоняют свет на небе.
