Читать онлайн Безмолвные бесплатно
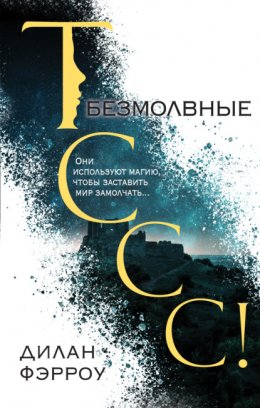
Dylan Farrow
Hush
Copyright © Glasstown Entertainment, LLC and Malone Farrow, 2020 This edition published by arrangement with InkWell Management LLC and Synopsis Literary Agency.
© Абмаева С., перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Отрывок из Манифеста Высшего совета
Процесс всегда начинается одинаково: в венах на запястьях появляется темнеющая синева. Это общеизвестный факт. Далее проявляются следующие симптомы: поверхностное дыхание, кашель, лихорадка и мышечная боль. После заражения может пройти один или два дня, прежде чем потемнение вен распространится по всему телу. На этом этапе склеры глаз покрываются пятнами. Далее пигментация достигает конечностей, которые становятся темнее грозовой тучи. На последних стадиях вены становятся крайне чувствительны, пульсируя, они готовы взорваться в любой момент.
В самых тяжелых случаях вены лопаются под кожей.
В конце концов боль становится невыносимой, сопровождаясь бредом и паранойей различной степени. Согласно распространенному высказыванию одного барда, «они боятся даже больше, чем мы».
Нынешняя эпоха безвозвратно запятнана смертью и хаосом; наши улицы, поля и дома пропитаны отвратительным, гнилостным зловонием болезни. Облако дыма от тысяч погребальных костров, от домов, которые мы должны сжечь, чтобы очиститься от болезни, поднимается над Монтаной.
Чтобы остановить развитие этой трагедии, надо понять ее истоки.
Болезнь, именуемая «Смерть Индиго» или «скверна», впервые была зарегистрирована в сельском поместье на юго-западе. Казалось, заражение распространялось вместе с молвой, и не успевало известие дойти до очередной деревни, как там уже вспыхивала болезнь. Она распространилась так быстро, что всего за несколько дней случаи массового заражения были зафиксированы во всех уголках Монтаны. Все, у кого обнаруживались признаки заболевания, немедленно помещались в карантин, но изоляция больных не могла остановить рост смертей. Всюду царило смятение. Мы были нацией, охваченной болью, страхом и хаосом.
Среди живущих сегодня есть те, кто еще помнит мрачные процессии врачей в масках, ведущих через сельскую местность караваны синих трупов к их последнему костру.
Только после тщательного исследования барды Высшего совета обнаружили истинную природу врага:
чернила.
Мы охотно использовали их – в наших рассказах, письмах и новостях. Они были в наших домах, мы передавали их нашими руками и распространяли, несмотря на все предупреждения.
Но вместе мы поднимемся над прахом наших павших и откроем новую эру спокойствия и процветания в Монтане. Пришло время присоединиться к Высшему совету, чтобы обезопасить себя от повторения этой трагедии в будущем. Тирания Смерти Индиго может быть свергнута.
Наша история показывает, что бдительность и осторожность равносильны выживанию. Выжгите чернила с этой страницы. Отворачивайтесь от запретных слов, ядовитых историй и смертоносных символов. Очистите страну от этой пагубной заразы.
Присоединяйтесь к нам.
* * *
Шай сидела под старым деревом возле дома, где умирал ее брат.
До нее доходили лишь самые громкие, самые пронзительные скорбные вопли, но они стихали по мере того, как он слабел. Брат все еще с ней, но скоро должен был уйти.
Перед ней стояла корзина с тряпьем. Она запустила в нее руку, разрывая ткань на длинные куски, и горе сжало ей горло. Как только на дереве появятся ленты, извещая о смерти Кирана, все узнают, что Смерть Индиго пришла за ее семьей.
Она подумала о синих венах, ползущих по коже брата, и содрогнулась. Старшие не позволяли ей приближаться к нему, но через приоткрытую дверь спальни она видела явные признаки обострения болезни. Она слышала звуки, которые он издавал, в основном крики боли и яростный кашель.
Он был совсем еще ребенком, младше ее на три года. Это казалось несправедливым.
В животе у нее все скрутило, когда она встала, готовясь взобраться на дерево, и в этот момент из дома донесся долгий, пронзительный вопль. Единственными звуками на многие мили вокруг оставались леденящие кровь крики Кирана и успокаивающий голос Ма, которые ветер уносил вниз по серому склону горы.
Шай сунула ленты, которые она сделала, в карман и начала взбираться на дерево. Устроившись в развилке ствола, она стала привязывать темно-синие ленты к ветвям. Блеклое зимнее солнце выглянуло из-за туч, и корявые тени от ветвей деревьев легли на их дом.
Шай вздрогнула. Тени походили на зараженные вены.
Со своего места на дереве Шай увидела вдали трех мужчин верхом на лошадях, которые быстро поднимались по тропе. Она никогда не видела таких красивых лошадей, хотя слышала об этих существах, разительно отличающихся от деревенских лошадей. Все в Монтане знали историю первого всадника: давным-давно, за много веков до того, как пришла болезнь, он приручил дикого коня, который, как говорят, был рожден от солнца. На его спине он скакал сквозь пустую тьму нерожденного мира, создавая жизнь словами, слетавшими с его губ. Там, где он ступал, земля обретала бытие и цвет.
Гривы и хвосты лошадей развевались, двигаясь словно под водой, и блестели даже в угасающем свете. Столь красивые животные могли принадлежать только Высшему совету.
Барды пришли, чтобы сжечь ее дом.
Хотя их лица скрывали капюшоны, Шай могла поклясться, что видела, как под их тенью губы бардов мерно шевелятся. Ветер дул все сильнее, пока они приближались, и вопли усилились, вторя его лихорадочным порывам. Ветка качнулась под ее рукой, и Шай потеряла равновесие. Она скользнула вниз, выпустив ветвь.
Все, что она увидела, когда падала, был безумный танец лент, яростных и диких, бьющихся на ветру.
Глава 1
Щелк. «Щелк, щелк, щелк». Мои глаза резко открываются, я лежу в своей постели. Тонкое одеяло подо мной скомкано. Тот же сон, воскрешающий день, когда все это произошло, пять лет назад.
Темная фигура стоит надо мной, щелкая пальцами.
– Просыпайся, соня!
– Шшш, – шепчу я, – потише, а то разбудишь Ма, – ей нужен сон еще больше, чем мне.
Фиона фыркает, отступая от кровати в полосу серого рассвета, льющегося из окна. При свете она не такая страшная. Высокая, стройная, светловолосая, с высокими скулами, какие во всей Монтане не найти, она словно пятнистый солнечный свет под деревом – прекрасна так, что сама не может этого видеть. Мои родители были оба темноволосые, невысокие и коренастые. У меня никогда не было шанса вырасти такой высокой и красивой, как Фиона. Однако ни одного из них не смущали тысячи веснушек на лице – это, казалось, было моей уникальной чертой.
Моя подруга пожимает плечами.
– Почему-то я сомневаюсь в этом, особенно если она спит так же крепко, как ты.
Я бросаю взгляд на маму. Она спит под одеялом на кровати напротив – хрупкая фигура, ее ребра мягко поднимаются и опускаются с каждым вздохом. Возможно, Фиона права. Мама спит как убитая.
– Что ты здесь делаешь? – я стягиваю с ног рваное одеяло и начинаю массировать рану в плече.
– Сегодня первая четверть луны, помнишь?
Отец Фионы продает шерсть наших овец и платит нам едой из своего магазина. Они одна из немногих семей в городке, которая продолжает общаться с нами с тех пор, как болезнь коснулась нас. И вот каждый месяц в первую четверть луны Фиона заезжает к нам, и мы обмениваемся скудными товарами, которые позволяют нашим семьям выжить.
– Но почему так рано? – я подавляю зевок. Мои ноги болят, а когда я опускаю их на холодный пол, то чувствую, как они дрожат от усталости. Прошлой ночью я не могла заснуть, даже после долгого дня в поле – темные сны бродили по краю сознания, полные тихих шепотов и теней. Я просидела несколько часов, щурясь на свое рукоделие при слабом свете полумесяца, струящемся через окно, и пыталась шить, чтобы отвлечься.
Фиона следует за мной в другой конец комнаты, где висит моя одежда. Простая белая рубашка, выцветшая зеленая юбка, вышитая шерстяными нитками, порванная и перепачканная по подолу, и жилет на подкладке из мягкого кроличьего меха – далеко не прекрасный, на самом деле совсем наоборот, но это все, что у меня есть. Я предпочитала работать в брюках, пока не выросла из них несколько лет назад (я носила их до момента, когда подшивать стало уже невозможно). Теперь казалось легче носить юбку, завязывая ее узлами выше колен, если становилось жарко или земля под ногами была неровной.
Фиона вежливо отворачивается, пока я снимаю ночную рубашку, закатывая глаза из-за моей стеснительности. Одевшись, я выпроваживаю ее из спальни и как можно тише закрываю за собой скрипучую дверь.
– Папа хочет, чтобы я вернулась в магазин до открытия, – говорит Фиона, наблюдая за моими руками – мозолистыми и огрубевшими от прядения, – пока я укладываю мотки пряжи в корзину, – сегодня прибудут барды.
Барды. Внезапно мне кажется, что дом заледенел. Старейшины города говорят, что есть сила в словах, что некоторые фразы могут изменить мир вокруг вас. То же относилось к названию болезни. Цвета индиго избегали, как будто один его вид или звук самого слова мог вызвать новую волну болезни. Теперь его называли – когда этого невозможно было избежать – проклятым цветом.
Только барды могут безопасно использовать слова в своих рассказах. Все в Монтане знают, что любой дурак может вызвать катастрофу, произнеся нечто запретное.
Некоторые считают, что мой брат был одним из этих дураков.
Говорят, болезнь началась с написанного слова. Опустошение, которое она произвела, обернулось с тех пор ужасом перед любым словом, написанным или произнесенным. Одного неосторожного высказывания может оказаться достаточно, чтобы снова началась пандемия.
Этого было достаточно, чтобы Ма перестала говорить после смерти Кирана.
Знакомое чувство страха змеится внутри.
Барды приезжают раз или два в год, отправляя письменное предупреждение, которое ворон доставляет деревенскому констеблю в лучшем случае за день до их прибытия. Констебль, в свою очередь, созывает жителей и собирает скудные плоды труда Астры, готовясь к встрече бардов. Барды собирают десятину для Высшего совета и – если пожелают – могут провести обряд благословения земли и ее народа.
Но они редко бывают довольны. Подношения Астры скудны: охапка шерсти, несколько пучков светлой пшеницы. Шкура и рога оленя, если повезет.
Благословения в Астре не проводились при моей жизни, но самый старший из старейшин, дедушка Куинн, часто рассказывает об одном. Тогда после ухода бардов его семейная пшеничная ферма дала урожай, которого хватило на шесть недель.
Последний раз я видела бардов издалека в день смерти Кирана. После этого мама запретила мне смотреть на них – это были последние слова, которые она произнесла вслух. Но у меня в любом случае нет времени следить за ними, когда они приезжают. Безжалостное солнце иссушает землю, и мне часто приходится отгонять наше стадо на много миль от дома, чтобы убедиться, что оно сыто. В прошлом месяце мы потеряли из-за голода трехнедельного ягненка.
Теперь я понимаю, почему Фиона пришла так рано. Если скудные мотки пряжи из шерсти наших овец хоть немного увеличат городскую десятину, возможно, барды помогут покончить с засухой. Астра не видела дождя почти девять месяцев.
– С тобой все в порядке? – тихо спрашивает Фиона.
Я отрываю взгляд от пряжи и смотрю на нее. В последнее время меня преследуют странные мысли. Вещи, которые я не могу объяснить. Сны, которые больше похожи на ужасные предсказания. Я просыпаюсь с растущим страхом, что со мной что-то явно не так.
– Я в порядке, – слова тяжело слетают с губ.
Фиона, прищурившись, смотрит на меня большими зелеными глазами.
– Лгунья, – прямо говорит она.
Я делаю глубокий вдох, когда отчаянная, глупая идея зарождается в моей голове. Бросив быстрый взгляд на закрытую дверь спальни, я хватаю в одну руку корзинку с пряжей и тащу Фиону из дома.
Солнце едва коснулось неба, когда мы выходим наружу, и воздух все еще холодный и сухой. Окружающие горы прорезают темную зубчатую линию вдали и отбрасывают на долину завесу прозрачных теней, туман поднимается от увядшей травы.
Я молча веду Фиону вдоль дома. Несмотря на холод, моя кожа кажется горячей. У меня голова идет кругом. Я боюсь, что если я повернусь и Фиона увидит мое лицо, пусть даже на мгновение, она каким-то образом узнает правду.
Я, возможно, была в серьезной опасности, и, находясь рядом со мной, она тоже оказывалась под угрозой.
Это началось около года назад, сразу после моего шестнадцатилетия. Я вышивала один из маминых платков, черные птицы кружились по ткани, когда я подняла голову и увидела стаю птиц, образующих стрелу в небе. Вскоре после этого случая, когда я вышивала на наволочке зайца с белым хвостом, одна из соседских охотничьих собак выбежала на пастбище перед домом с окровавленным белым зайцем в зубах.
Теплое покалывание начинало наполнять мои пальцы всякий раз, когда я шила. Совсем небольно, но странно.
Я провела бессчетное количество ночей, лежа без сна, уставившись на суровые деревянные балки потолка, пытаясь понять, схожу ли я с ума или проклята – или и то и другое одновременно. Только одно я знала наверняка: тени болезни уже падали на нас. Мы были затронуты ею, и неизвестно, какая еще беда могла произойти с нами из-за этого контакта. С тех пор, как я обнаружила, что мои вышитые фантазии эхом отдаются в окружающем мире, молчание мамы делалось все более и более давящим. Дом отзывается на все невысказанные слова.
Потеря. Истощение. Гложущий голод, день за днем.
Утренний воздух вызывает во мне дрожь, пробуждая ледяной страх внутри. Когда мы подходим к сараю, я наконец отпускаю Фиону, но не могу удержаться от настороженного взгляда через плечо. Маленький серый деревянный домик тихо застыл в утреннем тумане, такой, каким мы его оставили.
– Что на тебя нашло, Шай? – Фиона приподнимает бровь, она подозревает что-то, но и заинтригована одновременно.
– Фиона, – начинаю я, сильно прикусывая губу, когда понимаю, что не знаю, как это сказать, – мне нужна небольшая помощь.
Это первая правдивая вещь, которая приходит мне на ум.
Ее взгляд смягчается.
– Конечно, Шай. Что угодно.
Мне хочется подавиться словами. Я пытаюсь представить, что может случиться, если я просто объясню ей правду. Я могу быть проклята болезнью, поэтому хочу спросить, могут ли барды вылечить меня.
Наибольший риск – потерять подругу, которая испугается, что я навлеку на нее проклятие, и весь город узнает об этом через день. Ее родители откажутся от всех сделок с мамой, никто не будет покупать нашу шерсть, а моя семья начнет голодать.
Даже произносить такое запрещено; любое слово, вызывающее злобные мысли, никогда не должно быть произнесено. Считается, что такие слова таят в себе проклятия как для говорящего, так и для тех, кто их слышит. Слова могут вызвать к существованию само отрицательное событие.
Но при самом худшем раскладе, я распространю свое проклятие на самого дорогого друга.
Я не могу так рисковать.
Глядя на милое, нетерпеливое лицо Фионы, я знаю, что не могу рисковать потерять и ее тоже.
– Могу я доставить шерсть твоему отцу? – говорю я вместо того, что собиралась. – Мне нужно, чтобы ты привела стадо на северное пастбище, пока меня не будет. Они не должны слишком упрямиться сегодня, и я дам тебе все инструкции. Ты же много раз видела, как я это делаю.
Фиона морщит лоб.
– И это все? Да, конечно. Но почему?
Мое сердце начинает тяжело биться в груди. Я делаю глубокий вдох, прислонясь к грубой обшивке сарая, чтобы успокоиться и очистить голову от рассеянных мыслей, раздраженная тем, как ужасно это у меня получается.
– О, я знаю, что происходит, – лукавая улыбка появляется в уголках губ Фионы, и мое сердце внезапно замирает. – Ты ведь собираешься повидаться с Мадсом?
– Да! – я вздыхаю с облегчением. – Именно.
Никто не станет спрашивать, почему я неожиданно поехала в город встретиться с Мадсом, а если бы и спросили, их подозрения были бы далеки от тех, о которых я беспокоюсь.
– Шай, тебе не нужно смущаться, – Фиона смеется. – Я все прекрасно понимаю.
Я выдавливаю легкий и, надеюсь, убедительный смешок, хотя скорее может показаться, что у меня перехватило дыхание.
– Спасибо. Я твой должник.
– Уверена, что-нибудь придумаю. – Она наклоняется и обнимает меня. Я испытываю искушение отстраниться, будто даже мое прикосновение может заразить ее. Но вместо этого я позволяю ее запаху, в котором смешались свежий укроп, ежевика и прохлада струящейся воды, окружить меня, и чувствую себя в этот момент не проклятой, а счастливой.
Мы с Фионой всегда странно смотрелись как две подруги. Я низкая, она высокая. Я темноволосая, она светловолосая. У меня широкие плечи и крепкое строение, она стройная и хрупкая. У нее есть поклонники, а у меня – овцы. Ну, овцы и коровы. Но все это к лучшему. Фиона преданная, заботливая и готова мириться со всеми моими капризами. Она из тех людей, которые с радостью помогут и ничего не ждут взамен. Она заслуживает большего, чем мои секреты.
– Он обожает тебя, тебе не кажется? – спрашивает Фиона, отстраняясь. Ее лукавая улыбка превратилась в широкую ухмылку. – Я никогда не думала, что ты выйдешь замуж раньше меня.
Я искренне рассмеялась.
– Давай не будем заходить так далеко!
Если у Фионы и есть недостаток, это ее любовь к сплетням. А молодые люди, как правило, ее любимая тема. Если бы столько же их обращало внимание на меня, сколько на нее, это могла бы быть и моя любимая тема. Мадс, кажется, единственное исключение во всей Астре.
Он поцеловал меня однажды, в прошлом году, после неудачного праздника урожая. На следующий день констебль объявил, что засуха вернулась, и Мадс с отцом уехали на три недели на охоту. Мы никогда не говорили о поцелуе. Даже сейчас я не совсем уверена, что чувствую по этому поводу. Может быть, первый поцелуй не вызывает особого восторга, и люди просто лгут об этом, чтобы остальные чувствовали себя лучше.
Но Мадс – это наименьшая из моих забот. Я лишь надеюсь, что смогу скрывать эту маленькую ложь достаточно долго, чтобы добраться до городка и вернуться, пока Фиона или мама не узнали настоящую причину – или любопытные соседи не заподозрили неладное. В Астре меня может разглядывать кто угодно. Обычно так и происходит.
– Обещаешь, что расскажешь мне все, когда вернешься? – спрашивает Фиона, вонзая в меня этими словами нож еще глубже.
– Обещаю, – я избегаю ее взгляда. – Давай покажу, что делать со стадом, пока меня не будет.
Фиона послушно следует за мной мимо обветшалого сарая к воротам. Как и дом, он посерел от времени, соломенная крыша истрепалась. Удивляет, что он еще держится, хоть и едва-едва. Но еще больше поражает, что ему удается держать снаружи хищников и воров.
Овцы радостно блеют и трутся о стены, пока я отпираю и открываю дверь. Они, не задерживаясь в воротах, выходят на пастбище.
К счастью, сегодня они, похоже, настроены дружелюбно и держатся вместе, когда спускаются в долину. Только Имоджен немного медлительна, но я прощаю ей это. Она должна родить на этой неделе. Если она принесет нам еще одного ягненка, можно потратить время, ожидая, пока она догонит остальных.
Мы ведем овец на вершину холма в восточной части долины, которую не видно из нашего дома. Но прежде я поворачиваюсь и беру Фиону за руки.
– Что? – спрашивает она с растерянным видом.
– Чуть не забыла. У меня есть кое-что для тебя, – я лезу в карман и достаю свою последнюю вышивку – носовой платок, выкрашенный в красный цвет смесью свеклы и лепестков, пришитыми темными цветами, напоминающими глаза. Один из моих странных снов, но он, конечно, не может сбыться.
– Это прекрасно, – шепчет она.
Это еще одна особенность Фионы. Она любит все, что я вышиваю, даже странные и тревожные образы. Иногда мне кажется, она видит мир так же, как я. Но иногда я думаю, она любит мои творения именно потому, что видит мир совсем иначе.
Потому что для нее все кажется простым. Для нее солнце – это свет, а не бедствие. Для нее ночь – покрывало из звезд, а не полоса страха и тишины. Чего я не могу ей сказать – чего не могу понять сама, – иногда я боюсь, что эта темнота поглотит меня целиком.
Глава 2
Большинству путешественников приходится преодолевать коварный перевал, чтобы добраться до городка, но от нашего дома всего час ходьбы на север вдоль берега высохшего пруда. Идти этим путем достаточно легко, хотя местность вокруг немного унылая. Без дождей пыльный пейзаж потускнел, стал размыто-бурым. Пруд давно высох, и теперь это темная впадина посреди долины – шрам на коже земли, напоминающий о том, что когда-то здесь было.
Тошнота подкатывает к горлу, когда я приближаюсь к городу, а в глазах все расплывается, как будто меня поразила солнечная лихорадка. Высокие сторожевые башни надвигаются все ближе, зловещие и неподвижные. Каждый шаг в сторону их теней только усиливает мое беспокойство.
Даже если я поговорю с бардами, каковы шансы, что они не казнят меня за дерзость? Что, если они найдут во мне след Смерти Индиго и изгонят мою семью? Снова сожгут наш дом? Холодный озноб волнами накатывает на меня, когда я вспоминаю рассказы о наказаниях бардов. Мать Фионы однажды видела, как бард запечатал женщине рот, что-то прошептав ей на ухо.
Чтобы успокоить бешено колотящееся сердце, я пытаюсь вспомнить мамин голос. Если я сконцентрируюсь, смогу услышать его теплое дрожание: глубокое и нежное, как летний ветер, отдающийся эхом в колодце. Перед тем как замолчать, она рассказывала мне и Кирану длинные сказки на ночь – истории о месте, спрятанном за облачными вершинами гор, где мы все однажды отдохнем. Рассказы о Гондале, стране волшебства и красоты, где цветы растут вдвое выше человеческого роста, где говорят птицы и жужжат пчелы, где деревья, со стволами такими толстыми, что в них можно устроить дом, устремляются к небу.
Мы с Кираном внимательно слушали, лежа в одинаковых кроватях, которые папа соорудил для нас. У меня в изголовье было вырезано маленькое сердечко, а у Кирана – звезда. Мама сидела на табурете между нами, ее лицо освещала мерцающая золотая свеча, и она рассказывала нам о бардах Монтаны. Словами барды могут заманить удачу в сети жизни. Их слова могут заставить замолчать твое сердцебиение и открыть миру твои самые сокровенные тайны.
Это было счастливое время, и длилось оно до тех пор, пока миф о Гондале не был признан нечестивым, а барды начали проводить рейды, забирая любые истории или иконографию Гондала из домов и общественных мест, и само слово было запрещено.
Гондал – не более чем сказка, хотя и опасная. В детстве я, конечно, не понимала этого, но теперь знаю. Такие сказки коварны и не имеют места в реальности.
«Ей не следовало рассказывать нам эти истории, – сердито думаю я. – Если бы она этого не сделала, Киран был бы жив».
Мои пальцы чешутся от желания взяться за шитье, чтобы успокоиться, но вместо этого я делаю глубокий вдох, надеясь прогнать ядовитые мысли прочь. Наконец Астра открывается передо мной, раскинувшись по другую сторону перевала.
Из всех жителей местности мы с мамой живем дальше всех от ее центра. Констебль счел это необходимым после того, что случилось с Кираном. Тот день, когда мама взяла меня за руку и мы ушли в горную долину, где с тех пор и живем, все еще в моей памяти. Воспоминание, как стучал молоток констебля, когда он прибивал над нашей дверью почерневший знак – посмертную маску, рот и пустые глазницы, обозначающие болезнь, постоянное напоминание о том, что мы потеряли. Добрые люди Астры могут не беспокоиться, что наше несчастье заразит их, если останутся в стороне. Впрочем, это не имеет значения. Ма не покидала дом с тех пор, как умер Киран, разве что только когда работала на нашей земле.
С последнего подъема перед перевалом я едва различаю скопление крыш, сгрудившихся на продуваемой всеми ветрами равнине. Здесь встречаются табуны диких лошадей, которые нападают на все, что по глупости приближается к ним. До болезни эта бесплодная сельская местность считалась одной из плодороднейших в округе. Теперь голая пыльная земля тянется на многие мили, кое-где отмеченная давно погибшими деревьями. На западе высохшая река прорезает землю неровной линией, словно зияющая рана. Мост через реку был разобран на дрова во время особенно жестокой зимы, осталась лишь скелетообразная дорожка из растрескавшегося камня и извести.
Астра – это группа маленьких домиков, сбившихся вместе, и их число уменьшается каждый раз, когда сюда приходит очередная банда разбойников. Деревня приютилась одна на пыльной равнине, затененная неумолимыми вершинами гор. В последние десятилетия были возведены стена и сторожевая башня, возвышающиеся над домами. Это оказалось разумным вложением денег: деревня, перестав быть легкой мишенью, стала намного безопаснее.
Простые деревянные и каменные дома побелили, когда пандемия закончилась, чтобы придать видимость чистоты. Краска посерела и теперь, отслаиваясь, обнажает грязный материал под ней в подобии старого лоскутного одеяла. Маленькие вспышки цвета отчаянно пытаются пробиться сквозь эту серость: линия ставен, когда-то выкрашенных в ярко-красный цвет, ставший ржавым и потертым, стена, покрытая увядшим плющом, оконные коробки, заполненные мертвыми сорняками. Можно заметить, что когда-то Астра была милым городком, но нищета и болезнь пронеслись по его узким улочкам.
Сто лет назад, когда Смерть Индиго впервые опустошила горы, раздутые синие тела усеивали улицы. Но Высший совет спас Монтану от наихудшей судьбы, и на несколько десятилетий Смерть Индиго полностью исчезла. Однако люди пренебрегали их правилами. Они тайком проносили чернила в свои города, приглашали болезнь войти в их дома. И волна пандемии снова обрушилась на них.
И это произойдет вновь, если мы не будем осторожны.
Барды оберегают нас и благословляют. Несмотря на суровые наказания, мы обязаны им жизнью. Их слова могут вырвать дыхание из легких человека, если он произнесет что-то, что может вызвать Смерть Индиго. Но они также могут вдохнуть жизнь в того, кто находится на грани смерти, если человека считают достаточно добродетельным.
Кирану повезло меньше. Как и многим другим. Есть вещи, которые даже Высший совет не может сделать. Но я никогда не осмелилась бы сказать об этом вслух.
Окраины деревни почти безлюдны. Когда я иду между рядами обшарпанных дощатых домов, все, что я слышу, – это рев кошки где-то поблизости. Должно быть, все уже собрались на рыночной площади.
Музыка доносится из центра, и оживленная мелодия отдается призрачным эхом по пустым улицам. Я следую за звуками, кутаясь в шаль, чтобы скрыть свое лицо. У меня сжимаются зубы при мысли, что люди в толпе узнают меня – сверкающие глаза, шепот проклятий, – но все же ускоряю шаг и спешу к рыночной площади.
Завернув за угол заброшенной кузницы, я вижу первые знаки подготовки к прибытию бардов – их инспекции, хотя никто не осмеливается назвать это так. Дедушка Куинн играет на своей ржавой флейте, его жена дирижирует. Городские дети подпевают музыке. Перекрывая мелодию, кто-то выкрикивает указания, а группа молодых людей вывешивает из окон узкие транспаранты. Цвета потускнели от старости, а ткань истрепалась, и кажется, что их сдует при первом же сильном ветре.
Под своими флагами наиболее зажиточные семьи Астры открыли различные лавки и киоски, чтобы продемонстрировать лучшие из своих товаров. Среди них отец Фионы, высокий и светловолосый, как и его дочь, торопливо возводит потрепанный навес над скромной грудой овощей, которые он разложил вокруг перевернутой корзины, пытаясь создать видимость изобилия. Мое сердце сжимается от жалости – и страха. Даже отец Фионы, один из самых зажиточных людей деревни, изо всех сил старается, чтобы добыть пищу. Скоро все погрузят на телегу и отправят в Высший совет.
Если только барды не окажутся недовольны.
По другой стороне улицы девушки моего возраста спешат к площади в своих лучших одеждах, каждая несет блюдо с фруктами и кувшин с драгоценной водой. У меня сжимается горло. Я узнаю некоторых из них, хотя и надеюсь, что они не узнают меня. Сопровождающие девушек старейшины суетятся, поправляя их прически и платья, ворча: «Стой прямо» или «Обязательно улыбнись». Самых красивых ставят вперед, перед толпой, где они с большей вероятностью привлекут внимание бардов. Один из старейшин громко комментирует отсутствие Фионы, и у меня по спине пробегает холодная дрожь.
Возбуждение деревни едва ли может оттенить общее отчаяние. Это всего лишь легкая завеса, чтобы скрыть последствия засухи и нехватку пожертвований для Высшего совета. Интересно, достаточно ли этого, чтобы обмануть бардов?
Опустив голову, я пробиваюсь сквозь толпу, используя локти, каждым шагом приближаясь к центру площади. Я плотнее закутываюсь в шаль, но люди вокруг слишком поглощены происходящим, чтобы заметить меня.
Атмосфера гнетущая, лица людей напряжены под вымученными улыбками. Наша деревня давала очень мало даже до засухи, но констебль Данн говорит, что в этом году дела идут лучше. По словам Фионы, он заверяет, что в этом году мы получим благословение. Наши беды закончатся. Голод закончится.
Я осмеливаюсь иногда бросать взгляд по сторонам: многие люди одеты в лохмотья, а лица у них такие же изможденные и высохшие, как и у меня. Узел в моем животе затягивается туже. По краю площади люди толпятся так плотно, что я не могу разглядеть, что происходит в центре.
Я хмурюсь и пытаюсь протолкнуться дальше. В толпе трудно маневрировать, и я попадаю в ловушку далеко от того места, где хотела бы быть. Я приподнимаюсь на цыпочки, из-за плеча человека, стоящего передо мной, едва различая происходящее на площади.
Констебль Данн стоит у подножия лестницы ратуши, его худощавая фигура напряжена от волнения. Черепица и дубовые панели – когда-то прекрасные – сняты со здания. Данн смотрит на площадь. Он был лидером Астры, сколько я себя помню. Он высок и силен для своих лет, но в его глазах читается усталость, когда он следит за бардами. Проходит несколько минут, прежде чем он торопливо расправляет плечи, разглаживает поношенное пальто и поднимает руку.
Музыка становится громче, и люди совершенно замолкают. На другой стороне площади толпа расступается.
Барды уже прибыли.
Мое сердце подпрыгивает, и мне требуется время, чтобы найти слово для чувства, которое переполняет мою грудь. Надежда.
На площадь выступают три внушительные фигуры, и в толпе воцаряется тишина. Их длинные черные пальто вышиты золотом, в соответствии с цветами Высшего совета, и идеально скроены, подчеркивая резкие линии и идеальную осанку. На правом плече – герб Высшего совета, щит и три меча. Великолепие их одежды резко контрастирует с лохмотьями, в которые одет окружающий их сброд. Насколько я могу разглядеть, под темными капюшонами, их лица неподвижны и бесстрастны.
Констебль Данн приветствует их глубоким почтительным поклоном, который барды игнорируют. Он неловко выпрямляется и подает знак процессии девушек с корзинами.
Музыка набирает обороты: сначала дрожа, но постепенно играя все увереннее. Легкая, праздничная мелодия наполняет воздух, девушки выстраиваются вокруг бардов. Они начинают радостный танец, подбрасывая в воздух кусочки раскрашенной ткани, имитирующей лепестки цветов. Они натянуто улыбаются бардам и расходятся веером, каждая занимает позицию, которая успешно скрывает все, что может выглядеть чем-то отличным от совершенства. Одна девушка проводит ногой, обутой в тонкий башмачок, по темному пятну на земле. Кровь, понимаю я, пролилась во время последнего визита бардов. Мой желудок сжимается.
Затем купцы и торговцы провозят свои тщательно подготовленные товары через площадь. Они выстраиваются в линию, каждый кланяется бардам, прежде чем отступить назад. Три фигуры в черном обмениваются взглядами, прежде чем идти осматривать то, что предлагает им деревня. Все, кажется, замолкают, затаив дыхание, пока барды переходят от телеги к телеге.
Через некоторое время, которое показалось вечностью, они поворачиваются, чтобы посовещаться с констеблем Данном, пока толпа наблюдает. Данн сжимает челюсти. Его широкий лоб морщится, блестя от пота. Люди начинают тихонько перешептываться, шепот перемещается от передних рядов к задним, словно ветер над травой.
– Ты что-нибудь слышала?
– Возможно, они проявят милосердие…
«…Самая низкая производительность среди деревень в регионе, – слышу я, как женщина рядом говорит своему стареющему отцу. – Барды снова откажут нам в своих благословениях».
Кто-то всхлипывает, прижимая ко рту носовой платок.
– Мы недостойны этого.
Констебль умоляет бардов, но они, кажется, даже не слышат, что он говорит. Отчаяние нарастает в толпе с каждой секундой. Странно видеть, как почтенный констебль Данн, обычно уравновешенный и надежный человек, так беспомощно съеживается.
Если самый важный человек в деревне не может заставить их слушать, то какие у меня шансы?
Мои безумные мысли обрываются, когда один из бардов, высокий мужчина с плечами еще шире, чем у Данна, делает шаг вперед с поднятой рукой. Призыв к тишине. Толпа немедленно повинуется.
– Добрые люди Астры, – обращается он к нам. Хотя он не пытается кричать, я отчетливо слышу его – как будто он стоит рядом со мной. У него глубокий, звучный голос, с легким, изысканным акцентом, который я никогда раньше не слышала. – Как всегда, Высший совет скромно склоняется перед вашей щедростью. Нам очень больно, что ваша десятина не соответствует духу, в котором она дается.
У меня внутри все переворачивается. Поток голосов начинает подниматься из толпы, но бард обрывает их, поднимая руку выше. Его глаза щиплет от гнева.
– К сожалению, это еще один визит, который разочаровал нас, – визит в Астру. Милостью лорда Катала, Высший совет может предложить столько же, сколько вы даете взамен.
Он подходит к тележке отца Фионы и берет сморщенную репу. Из-за этого тщательно выстроенная композиция падает, переворачивая корзину. Другой бард берет яблоко и поворачивает его, показывая отметину, темнеющую на кожуре плода. Бард прищелкивает языком и качает головой. Отец Фионы стоит неподвижно, его лицо пепельно-серое.
– У других деревень за равнинами достаточно обильные урожаи, здесь же урожай скуден, – темноволосый бард продолжает, аккуратно кладя репу обратно на тележку. – Мы хотим помочь вам. На самом деле хотим. Но здесь явно что-то не так. Астра почему-то не может дать много.
Констебль Данн прочищает горло.
– Это из-за засухи. Ничего нет из-за нее…
– Пожалуйста, проявите милосердие! Мы не выживем без благословения, – женщина рядом со мной завывает, прерывая речь констебля. По ее лицу текут слезы.
Бард снова призывает к тишине, и толпа подчиняется, воздух наполняется невысказанными мольбами.
– Как я уже сказал, – голос барда становится тверже, – есть причина, по которой Астра одна испытывает такие трудности. Ответственная сторона.
Он делает паузу, оглядывая собравшихся. Я уверена, что его взгляд, направленный из-под капюшона, встречается с моим, – и прерывисто выдыхаю, когда он минует меня, продолжая изучать толпу.
– Я призываю всех, у кого есть информация, сделать шаг вперед. Кто-нибудь из ваших знакомых произнес запретное слово? Использовал или хранил чернила? Удерживал запрещенные предметы?
Женщина рядом со мной резко вздыхает.
Констебль Данн делает шаг вперед и слабо кивает.
– Сейчас самое время все рассказать. От этого зависит судьба Астры.
Многолюдная площадь погружается в тишину, но жители Астры не смотрят на бардов – они смотрят друг на друга. Их глаза широко раскрыты и полны страха. Это жестоко. Я знаю: это те же взгляды, что вынудили мою мать и меня покинуть наш дом. Может быть, они ищут кого-то, кого я знаю?
Мороз пробирает меня насквозь. Может быть, они ищут меня?
Маленький мальчик выходит на середину площади и молча идет к барду. Я узнаю его по копне темных спутанных волос. Младший внук дедушки Куинна.
Высокий бард наклонился, чтобы дать ребенку возможность прошептать ему что-то на ухо. Буря поднимается у меня в голове.
Он что, шепчет мое имя?
Сердцебиение глухо отдается в ушах, становясь быстрее и громче, когда бард снова выпрямляется. Он отсылает ребенка, ласково похлопав его по плечу.
– Старейшина деревни, известный как Куинн, обвиняется в распространении слухов о Гондале, – говорит бард, аккуратно складывая руки за спиной. – Пожалуйста, сделайте шаг вперед.
Мои кулаки разжимаются. Из задних рядов толпы доносятся звуки драки, смешанные с мольбами, и дедушку Куинна грубо хватают и тащат вперед. Его толкают к ногам барда, где он съеживается, его старое тело сильно дрожит. К горлу подступает желчь, но я не могу отвести глаз. Я верю в это, но все еще в шоке. От его предательства. От того, что он мог быть таким глупым. Мог рисковать всеми нами.
– Пожалуйста, добрые барды…
– Молчать! – в голосе барда слышится гнев.
– Делай, что он говорит, – я не могу не пожелать про себя. К счастью, старик молча падает.
– За преступление произнесения запрещенных выражений ты приговариваешься к молчанию. Твой язык заплатит долг Высшему совету.
С непроницаемым выражением лица Данн кивает группе, которая вывела Куинна вперед. Они колеблются, бросая взгляды друг на друга, пока самый большой из них не набрасывается на Куинна.
Его движения напоминают мне кошку, впивающуюся когтями в мышь. Куинн, обернувшись к внуку, бросает через плечо водянистую улыбку, но молчит, пока они тащат его к обветшалой ратуше.
Только когда он исчезает в тени здания, его крик пронзает тишину.
Констебль Данн бросается закрывать двери. С грохотом они отделяют Куинна от толпы так же резко, как острый клинок отделяет мясо от кости.
Констебль Данн поворачивается к бардам, крепко сжав руки.
– Что же, благородные барды, удаления этого пятна будет достаточно, чтобы снять порчу с нашей деревни и вернуть благосклонность Высшего совета?
Бард бесстрастно смотрит на Данна.
– Сегодня Астра продемонстрировала впечатляющую преданность Высшему совету, – отвечает он, – потребовалась большая храбрость, чтобы такой молодой человек рассказал это все. За ваши старания мы дадим благословения.
Этой новости достаточно, чтобы напряженность в воздухе полностью исчезла. Из толпы доносятся радостные возгласы, обещания обильного урожая, захватывающих дух праздников – и клятвы искоренить предателей. Бард коротко кивает в знак одобрения, прежде чем отступить, чтобы подготовить благословение.
Я делаю глубокий вдох, поднимаясь на цыпочки, чтобы увидеть их – и чтобы не упасть в обморок из-за тесноты, в которой оказалась.
Воздух трещит от энергии, когда мой взгляд задерживается на бардах. Три черно-золотые фигуры стоят лицом друг к другу, свив пальцы перед грудью.
Они стоят настолько прямо, что выглядят сделанными из камня. Но их губы безмолвно двигаются, грубая энергия собирается в пространстве между ними, тянется к ним через это безмолвное пение. Ветер крепчает. Мне кажется, что ткань мира с каждой секундой стягивается вокруг. Притяжение становится сильнее, когда их губы двигаются быстрее.
Над головой раздается гулкий раскат грома. Сотни благоговейных лиц одновременно смотрят вверх, рты открываются от изумления, когда люди видят темное облако, появившееся над Астрой.
Затем капля воды, сверкая, как драгоценный камень, падает на деревню. В течение одного вдоха за этой каплей следует еще одна, и еще, и еще.
Дождь.
Глава 3
Толпа разражается радостными возгласами. Мы смотрим в небо, позволяя благословенному дождю литься по нашим щекам. Мне кажется, что я плачу, – возможно, так оно и есть. Я всю жизнь знала о величии бардовских сил, но никогда не видела их в действии. Такие чистые, такие животворящие.
Люди начинают танцевать, их кожа блестит от дождя, и я выдыхаю благоговейный вздох. Надежда переполняет меня.
Так как все увлечены дождем, у меня есть шанс получить аудиенцию у бардов, как только церемония благословения будет закончена.
Внезапно чья-то рука срывает с меня шаль.
– Ты.
Жар узнавания проходит через меня волной тошноты.
Мой старый сосед – добрый человек, который однажды сунул мне в руку корзинку с клубникой, – сердито смотрит на меня. Головы поворачиваются, рты открываются, когда жители деревни осознают, кто я. Девушка, к которой прикоснулась болезнь.
– Как ты смеешь показываться здесь? Как раз тогда, когда мы наконец-то заслужили благословение?
Молодой человек злобно смотрит на меня:
– Они должны утащить тебя с дедушкой Куинном!
– Бедствие, – шипит женщина.
Кто-то с силой толкает меня на колени в грязь. Другой плюет в меня. Прежде чем я успеваю полностью прийти в себя, пинки, шипение и насмешки отталкивают меня назад, подальше от бардов. Все, что я могу сделать, – это перебраться через улицу и забиться в угол.
Несмотря на дрожь, я с трудом поднимаюсь на ноги, натягиваю на голову шаль и убегаю, стараясь не выдать навернувшиеся на глаза слезы.
Я хочу убежать домой, свернуться калачиком рядом с мамой и мечтать, как она споет мне колыбельную. Даже мечтать о Гондале, этой прекрасной ядовитой лжи. Мифе, которым жили мы с братом и который в конце концов смог его убить…
Это стоило дедушке Куинну его языка.
Но пути назад нет – не тогда, когда темнота ждет меня каждую ночь, когда я все яснее убеждаюсь, что что-то пожирает меня: проклятие, пятно, метка, которая указывает на того, кто обречен сам или обречен причинять боль другим.
Наконец, я выхожу из толпы, тяжело дыша. В этом хаосе никто не последовал за мной. Их внимание поглощает дождь. Я стискиваю зубы и отряхиваю грязь с одежды. Сердце колотится, а комок в горле словно душит меня.
Дыши же. Дыши, напоминаю я себе. Должно же быть что-то, что я могу сделать, чтобы привлечь внимание бардов.
Я бросаю взгляд на людей, все еще ликующих и празднующих, милосердно забыв обо мне.
Вспышка света на узкой дорожке между домами привлекает мое внимание. Потом еще одна. Прищурившись, я смотрю в ту сторону и вижу: огромный конь вскидывает голову, отчего на его золотой уздечке вспыхивает свет.
У меня перехватывает дыхание. Внезапно мне снова одиннадцать лет, и я вплетаю ленты смерти Кирана в ветви деревьев.
Лошади бардов нетерпеливо топчут землю, словно мгновение назад вышли из моей памяти.
Я крадусь прочь, пока не достигаю края площади, где могу обогнуть здание, добравшись до лошадей. Их владельцы должны будут вернуться к ним в какой-то момент.
Три изящных животных даже не привязаны к коновязи; они покорно ждут своих хозяев там, где их оставили. Это черные кобылы, почти устрашающие своей красотой, совсем не похожие на старых кляч, которых я видела в деревне или на фермах. Их темные умные глаза следят за мной, когда я приближаюсь, словно оценивая меня.
Ближайшая даже наклоняет голову, любопытствуя.
– Привет, – шепчу я, и лошадь качает головой, словно в знак приветствия. На меня накатывает волна спокойствия, и впервые с тех пор, как я покинула ферму – с тех пор, как солгала Фионе, – я могу дышать ровно. Свет падает на золотую уздечку кобылы, и когда ее грива падает со лба, открывается маленькая белая звездочка.
Я ставлю корзинку с шерстью, которую все это время крепко сжимала, у ног и медленно протягиваю руку. После любопытного фырканья кобыла позволяет мне провести пальцами по отметине на ее лбу и вниз по черной мягкой морде. Она ржет, наклоняя голову, чтобы я могла почесать ее за ухом.
Вблизи бросается в глаза невероятная деталь ее уздечки – она переливается под дождем. Налобный ремень уздечки и вожжи украшает тонкая филигрань форм, которые я не узнаю, и маленькие белые камни. Мне не нужно знать, как они называются, чтобы понять, что один из этих сверкающих камней стоит вдвое больше, чем вся Астра. Я пробегаю пальцами по гравировке и драгоценностям, ожидая, что от моего прикосновения все это великолепие исчезнет.
Твердая рука в перчатке внезапно обхватывает мое запястье и тянет назад. Развернувшись, я задыхаюсь, когда буря черного и золотого закрывает мне поле зрения. Дрожа, я оказываюсь лицом к лицу с бардом из Высшего совета.
Он больше не бесстрастен – огонь, кажется, танцует в темноте его глаз, заставляя их вспыхнуть под капюшоном. Низким голосом, таящим опасность, он шепчет: «Руки прочь, воришка».
Когда чувствительность возвращается в мои руки после шока, в запястье появляется тупая боль от хватки барда. Не настолько сильной, чтобы оставить след, но достаточной, чтобы напомнить мне, что все может стать хуже, если я сделаю какую-нибудь глупость. Мой взгляд падает на мокрые булыжники.
Он отпускает меня.
– Ну и что? Тебе нечего сказать в свое оправдание?
Его голос звенит в воздухе между нами. Глубокий и резонирующий, но есть странное, потустороннее эхо, которое несется под поверхностью, отдельный звук, вплетенный в слова, который держит меня приросшей к месту. Я вспоминаю, как цеплялась за мамины юбки, когда Клэр, булочница, пела на рынке в сумерках, а ее муж играл на струнном инструменте, названия которого я так и не узнала. Теперь голос барда создает свой собственный аккомпанемент. С каждым словом я чувствую покалывающий жар на коже лица и шеи, воздух вокруг нас сжимается и становится тяжелым, как будто вот-вот разразится буря.
Это ощущение рассеивается, как только он перестает говорить, и я ощущаю холод.
Я стараюсь не морщиться, когда мой взгляд поднимается от его прекрасно начищенных кожаных ботинок. Золотая отделка его мундира ведет от элегантных брюк к безупречно чистому пиджаку того же цвета, украшенному двумя рядами блестящих золотых пуговиц по обе стороны груди. Он стоит неестественно прямо, не мигая, глядя мне в глаза, а капли дождя падают ему на лицо. Вблизи он кажется еще более могущественным, необычным и гораздо более опасным, чем я себе представляла.
– Я… – теперь, когда передо мной настоящий бард, я, кажется, потеряла разум. Я с трудом сглатываю и делаю еще одну попытку. – С-сэр… – Он сэр? Сэр бард? Или мне сказать господин? В спешке я даже не подумала, как правильно обращаться к барду. Унижение захлестывает меня.
Бард издает звук, похожий наполовину на стон, наполовину на вздох раздражения. Он отводит меня в сторону, легко, словно отдергивает занавеску – словно я невидимка, – и отпускает мое запястье, сосредоточив свое внимание на кобыле.
– А что я тебе говорил насчет того, чтобы не подпускать к себе посторонних? – он гладит ее по шее. – Ты слишком доверчива, – в его суровом голосе слышится мягкость.
Я ощущаю, как мое лицо заливается краской от нахлынувших на меня смешанных чувств – сначала стыда за собственную неуклюжесть, потом возмущения тем, что он ценит животное выше человека, стоящего рядом, и, наконец, ярости на себя, ведь мне не удается найти слов, чтобы сказать то, зачем я пришла.
Бард откидывает плащ и тянется к седлу, чтобы забраться в него. Он даже не смотрит в мою сторону.
Все мои эмоции сливаются в одну решимость. Единственная возможность быстро ускользает.
– Подождите, – слово срывается с моих губ, грубое и неуклюжее, – я … я не вор, – прежде чем успеваю передумать, я в отчаянии хватаюсь за край его плаща, когда он садится верхом.
Капюшон падает на плечи, открывая его взгляд, удивленный и оскорбленный одновременно. Мое бешено колотящееся сердце не успокаивается от того, что бард на самом деле довольно красив. Его густые, черные как вороново крыло волосы, аккуратно зачесанные назад, бросаются в глаза. У него бледная кожа и мягкие черты лица, подчеркнутые высокими угловатыми скулами и квадратной челюстью.
Его рот дергается, и я думаю о словах, хранящихся в его горле, о том, что они похожи на змеиный яд – каждое из них обладает силой исцелять или убивать.
В животе у меня что-то тошнотворно сжимается, но я продолжаю:
– Простите, но я должна попросить вас об одолжении.
– Одолжение? – он говорит с нарочитой медлительностью, как будто не уверен, что я понимаю, о чем прошу.
«Помогите мне», – хочу я сказать. Но по выражению его лица становится до боли ясно: я – ничто. Как глупо было думать, что возвышающийся передо мной бард снизойдет, чтобы помочь такой жалкой крестьянке, как я. Что ему будет не все равно.
Я думаю о дедушке Куинне, которого затащили в тень ратуши, о жале лезвия, когда оно прижалось к его языку. Если я больна – будь я проклята, – я должна это исправить. Пока еще кто-нибудь не пострадал. Это правильный поступок.
– Думаю я… Думаю, что я проклята болезнью, – шепчу я, – я смиренно прошу вашего благословения на исцеление.
Выражение лица барда остается неизменным, когда его взгляд опускается туда, где мой кулак все еще сжимает подол его пальто. Я быстро отпускаю его.
К моему удивлению, он спешивается с раздраженным вздохом. Отвернувшись от лошади, он тянется ко мне и берет мою ладонь в свои руки, затянутые в перчатки. Он поворачивает мое запястье, оттягивает рукав и начинает изучать мою кожу. Ищет пятно? Я удивляюсь. Зубами он срывает свою перчатку и засовывает ее в карман пальто. Его пальцы нежно прижимаются к моей коже. Его тепло удивляет меня. Я судорожно сглатываю.
– И почему же конкретно, – тихо спрашивает он, впиваясь взглядом в мою ладонь, – ты думаешь, что проклята Смертью Индиго? Ты делилась запрещенными историями? Или у тебя есть чернила?
– Нет, сэр, – мое сердце колотится быстрее, чем я думала. Интересно, чувствует ли он пульс на моем запястье? – Но мой брат… – я резко останавливаюсь, когда из-за угла раздается голос.
– Равод! – Я могу только наблюдать, разинув рот, как из-за угла появляются два барда и направляются к своему спутнику. Бард отпускает мою руку и делает шаг назад. Мне требуется несколько долгих секунд, чтобы понять, Равод – это имя красивого темноволосого барда. – Я должен был догадаться, что вы отправились на поиски какой-нибудь девицы, с которой можно было бы поболтать.
Говоривший снимает капюшон и оказывается чуть старше Равода, с копной ярко-рыжих волос и щетиной на белых щеках. У него обветренный вид, как у некоторых пастухов, которые ходят по земле со своими стадами – этот бард, вероятно, видел всю Монтану. Это он обращался к толпе.
Третий бард не снимает капюшона. Но когда он приближается, я задыхаюсь.
Этот бард вовсе не он, а она. Молодая женщина, возможно, всего на несколько лет старше меня, с темной кожей и волосами. Невероятно бледные, янтарные глаза светятся под тенью капюшона.
Я никогда раньше не слышала о женщинах-бардах, не говоря уже о том, чтобы встретить одну из них. Говорят, что женщины редко обладают даром, и еще реже способны контролировать его. Она должна быть особенно могущественной. Но прежде чем я успеваю понять, что это значит – благоговейный трепет и смятение перед этим, – ее рука предупреждающе тянется к поясу, где поблескивает нож.
Равод наклоняется ко мне.
– Не приходи к нам больше, – шепчет он.
Мои мысли путаются от его близости. Он гораздо привлекательнее любого юноши в Астре. «Включая Мадса», – виновато думаю я. Он смотрит мне прямо в глаза, и я улавливаю слабый запах кедра на его униформе.
– Но…
– Я сказал, иди, – шипит он, прежде чем одним быстрым движением снова вскочить на лошадь. Лошадь встает на дыбы, и я в растерянности отшатываюсь, понимая, что лучше не испытывать судьбу. Три барда обмениваются несколькими словами, а потом поворачиваются ко мне спиной и галопом скачут прочь. Я оглядываюсь вокруг, моргая, ошеломленная и переполненная эмоциями. Они ушли. Место, где стоял Равод, опустело, как будто его никогда и не было.
Даже дождь прекратился. Благословение, дарованное бардами, ушло вместе с ними, оставив меня одну без ответов, без малейшего доказательства, что мои усилия не были напрасны, что барды вообще появлялись в Астре, за исключением мокрой одежды, прилипшей к коже.
Глава 4
Ма сидит за прялкой, спиной ко мне, ее руки ловко перебирают волокна пряжи, с которой она работает, пока я готовлю ужин. В любую другую ночь это создавало бы уют. Звуки вращающегося колеса, равномерный стук ножа о разделочную доску и ветер, бьющийся о стены дома, сливались обычно в естественный ритм. Но в этот вечер прялка скрипит слишком громко. А молчание Ма кричит еще громче.
Она знает, куда я ходила сегодня? Сообщил ли ей кто-нибудь из жителей деревни? Может, это лишь мое воображение?
Может, это все дождь. Теперь, когда он закончился, мы не знаем, когда он пойдет снова, да и пойдет ли вообще. Многие в городе, вероятно, задаются тем же вопросом.
С годами я поняла, что молчание мамы говорит на своем собственном языке. Я вздрагиваю, надеясь, что семья дедушки Куинна научится понимать это со временем. Но сегодня тело моей матери пытается выразить что-то, что я не могу расшифровать. Тяжесть в ее плечах и волнение в том, как она постукивает по педали. Сегодня вечером ее длинные пальцы соскользнули трижды. Они никогда не соскальзывали прежде.
Я беспокоюсь, не чувствует ли она тоже, что со мной что-то происходит.
Время проходит в напряженном, прерывистом молчании: скрип колеса, шуршание салата и ветер на деревянных стенах нашего дома. Тишина заставляет мои мысли возвращаться к бардам. К Высшему совету. Равод – его темные волосы, мягкость, с которой он говорил со своей лошадью, и то, как резко он изменился, заставив меня уйти. Смятение переполняет меня, разбавленное лишь гневом – барды призваны защищать нас. Он должен был помочь мне.
Сколько бы раз я ни напоминала себе не думать, я продолжаю гадать, ждет ли меня ответ, где-нибудь далеко отсюда. Может, мне не суждено остаться в этом доме. Нет, если из-за меня болезнь может вернуться в нашу деревню. Или если я собираюсь закончить, как дедушка Куинн.
Я оглядываюсь, и сгорбленная спина мамы напоминает мне, что она не сможет управлять фермой самостоятельно. Нам достаточно тяжело и вдвоем.
Возвращайся к работе, Шай. Я беру нарезанную морковь и несу ее к большому черному котлу, кипящему на огне. Отработанным движением я кидаю ее внутрь и стараюсь не забрызгать себя кипящим бульоном. По крайней мере, я могу приготовить приличное рагу.
Занимаясь готовкой, я посматриваю на Ма, ее внимание полностью сосредоточено на прядении. От этого зрелища мое сердце еще сильнее сжимается. Я пробую тушеное мясо, чтобы проверить, готово ли оно. Мягкое и водянистое, как обычно.
Я опускаюсь на корточки, чтобы заглянуть в один из нижних шкафов, и прячу лицо, смахивая слезы, пока ищу соляной мешок, который почти пуст. Большего мы себе позволить не можем. Если мы истратим все, на следующую зиму нам придется обходиться без вяленого мяса; не будет соли, чтобы сохранить его.
Знакомая рука ложится на мое плечо. Легкое пожатие. Я люблю тебя.
Я оборачиваюсь и смотрю на Ма, которая кладет щепотку соли на ладонь, крошечная, знакомая улыбка дергает уголок ее рта.
Иногда я забываю, что мама понимает меня так же, как я ее. Она слышит то, что я не говорю. То, что я хочу сказать.
Она обнимает меня, и я издаю рыдание – короткое и приглушенное, когда я прижимаюсь к ее груди. Крепко обняв меня, она отстраняется. Свободной рукой она убирает прядь песочно-каштановых волос с моего лба, ее пальцы любовно задерживаются на моих веснушках. Она думает, что они прекрасны, но мы не согласны в этом вопросе.
– Знаю, знаю, – я не могу удержаться от улыбки, повторяя то, что она всегда говорила мне, когда я была маленькой девочкой. – Это поцелуи фей.
Ма жестом приглашает меня следовать за ней к деревянному стулу у камина. Она садится, предлагая мне сделать то же самое.
Когда я была намного младше, мы обычно сидели вот так после обеда. Папа курил трубку, а Киран играл с игрушечными бардами, которых лепил из глины. Мама заплетала мне волосы. Как и старые сказки на ночь, это было время тепла и безопасности. Традиция исчезла после смерти папы и Кирана, но время от времени Ма возобновляет ее только для нас двоих – когда знает, что мне это нужно больше всего.
Дрожь в ее пальцах исчезает, когда она нежно расчесывает мои волосы. Они не особенно красивы, как густые волны Фионы, но достаточно длинные, чтобы сформировать из них прическу, что, я думаю, нравится Ма. Когда я была маленькой, она вплетала мне в косу полевые цветы.
Огонь согревает нас, ее руки собирают мои волосы, и приходят образы – не сны, конечно, но что-то большее, чем воспоминания. Почему-то голоднее и страшнее, прорываясь сквозь меня, как буря тьмы – стук копыт, табун лошадей на пыльной дороге. Маленький мальчик плачет. Синие вены.
Я сижу на коленях у мамы, зажмурив глаза, пока огонь не догорает до угольков и тушеное мясо не перестает дымиться. Тихое сопение позади меня сообщает, что она заснула. Я сажусь и поглаживаю замысловатую косу, которую она заплела, стараясь не разбудить ее.
Откинувшись в кресле, она выглядит умиротворенной, чего не бывает днем. Гусиные лапки у глаз и тонкие морщинки на лбу смягчены, что делает ее более похожей на женщину из моего детства. Я стягиваю одеяло со спинки стула и накрываю ее, прижимаясь поцелуем к серебряной пряди волос на ее виске. Она тихонько похрапывает, но не шевелится.
Как ни странно, этот храп – единственное, что я слышала от нее за последние годы, и я жду, не услышу ли его снова. Но Ма поворачивает голову, и ее дыхание успокаивается.
Я чувствую укол грусти в груди. Она заслуживает лучшего, чем это. Она заслуживает знать, что со мной происходит, но не может.
Однако я не единственная в доме храню секреты.
Однажды ночью, когда я не могла уснуть после смерти Кирана, я наблюдала из-под одеяла, как мама осторожно вытащила маленький предмет, спрятанный под кроватью, и убаюкала его, прежде чем спрятать снова. Слабая тень от ее свечи легла на мою кровать, когда она оглядела меня и нежно поцеловала мои волосы, прежде чем снова лечь и заснуть.
Я тихонько подхожу к деревянной раме ее кровати и опускаю руку, нащупывая пальцами маленькую дырочку в матрасе. Я достаю матерчатый мешочек размером с мою ладонь. На нем странные символы, искусно вышитые на ткани, но в остальном он очень простой. Я вытряхиваю содержимое, и маленький, но тяжелый каменный талисман соскальзывает в мою руку.
Тайное сокровище моей матери: маленький золотой бычок, центральная фигура в истории Гондала. Я не помню того дня, но однажды утром Киран пришел с ним домой, заявив, что его подарил ему проезжавший через город торговец. Ма хотела выбросить его – годом раньше барды начали совершать рейды, охотясь за запрещенными предметами вроде этих, чтобы уничтожить их. Когда она сказала нам, что сожгла его, Киран был безутешен. Но однажды ночью он пробрался ко мне в постель и раскрыл ладонь, чтобы показать вола. Странный материал не воспламенится, сказал он. Вместо этого золото засияло еще ярче.
Теперь Ма прячет фигурку, храня ее, несмотря на риск.
Я осторожно переворачиваю фигурку в руке, ощущая ее вес. При ближайшем рассмотрении я вижу крошечные зеленовато-золотые прожилки в камне, мерцающие даже в полутьме. Такого камня в Монтане не найти. Киран сказал, что это сделано в Гондале. С таким же успехом он мог бы сказать, что она упала с неба. Гондал – это ложь, не более чем красивая история.
Я закрываю глаза, и передо мной вспыхивает образ Кирана, лежащего в постели. Он на ранней стадии болезни, его каштановые волосы прилипли ко лбу от пота. Крупные вены на шее только начинают темнеть. Он хватает ртом воздух после каждого приступа кашля, каждый следующий более жестокий, чем предыдущий.
– Не беспокойся обо мне, Шай. Я силен, как бык, – сказал он мне, прежде чем меня унесли из комнаты, чтобы я никогда больше его не видела.
Долгое время я могу только стоять на месте, зажмурив глаза, пока жгучая боль в груди не утихает. Сколько бы времени ни прошло, потеря Кирана отдается жестокой болью в моем сердце.
Я осторожно кладу быка обратно в тайник, закрываю за собой входную дверь и спускаюсь по деревянному крыльцу на дорогу. Я стираю пыль с железной маски смерти, которая висит над нашей дверью, – на всякий случай.
После короткого дождя в воздухе пахнет свежестью. В темноте легче представить себе Астру такой, какой она была когда-то, – тени скрывают сухие трещины в земле, бесплодные поля и животных, чьи кости торчат под острыми углами. Луна ярко светит над головой, освещая небо, покрытое мерцающими звездами. Раскинувшаяся чернота напоминает мне рассказы о Гондале, окаймленном с одной стороны огромным пространством сверкающей голубой воды, о котором говорят, что оно бесконечно, прекрасно и смертоносно. Это вызывает во мне страх, но также и другое чувство, которое я жажду понять.
Сухая трава хрустит под тонкой подошвой моих ботинок. Когда я прохожу мимо сарая, меня преследует шорох овец во сне.
На опушке сосновой рощи я взбираюсь на массивный валун, к которому мы с Мадсом приходили считать звезды. Деревья в этом месте давно мертвы, оставив после себя только искореженные скелеты своих прежних «я», – поэтому здесь достаточно места, чтобы охватить взглядом небо. Тощие почерневшие ветви деревьев – еще одно напоминание, что земля вокруг умирает, что мы можем стать следующими, если не будем осторожны. Я подтягиваю колени к подбородку и смотрю на долину.
В лунном свете она кажется больше; сфера слабо мерцающих огоньков над ней. Внизу, на западе, долина окаймлена клочками синеватой травы. Вся она окружена заснеженными горами, по другую сторону которых лежит Астра, раскинувшаяся на равнине, по другую сторону перевала. Лунный свет достаточно ярок, чтобы ясно видеть мой дом дальше по склону холма и дорогу, ведущую к центру Астры. С другой стороны, за высохшим прудом и редеющим лесом, где папа обычно охотился, простирается пастбище.
Мои пальцы тянутся к иголкам, спрятанным в кармане. Я стараюсь не думать о потертости ткани или нитки, когда вытаскиваю свою последнюю работу, и вскоре моя игла мчится по ткани, подстраиваясь под скорость моих мыслей. Непрошеные образы проскальзывают в сознании каждый раз, когда я думаю, что прогнала их прочь. Пальцы движутся сами по себе, тюльпаны, которые я вышиваю, превращаются во взрывающиеся солнца, за ними встают зубчатые горные вершины, затем золотые фигуры, начертанные на уздечках лощадей бардов, и еще больше форм, напоминающих клыки. Я вздрагиваю, вспоминая что-то на краю сна, который я видела, но не могу полностью вспомнить что.
Шорох в кронах деревьев.
Я задыхаюсь и чуть не роняю нитку. Я вглядываюсь в темноту. Слева от меня настороженно стоят деревья. Я ищу движение – волк в высокой траве, клыки на моей вышивке оживают.
– Веснушка? Что ты делаешь здесь так поздно?
Значит, не волк. На какое-то безумное мгновение я представляю себе стройную фигуру Равода, грациозно появляющуюся из-за деревьев. Мое дыхание прерывается, я вспоминаю свет, мерцающий в его черных волосах, идеальный изгиб его плеч и то, как его глаза встретились с моими.
Но только один человек в мире осмеливается называть меня Веснушкой.
– Мадс?
Мадс ступает в пятно лунного света. Его волосы, которые кажутся почти серебряными, беспорядочно падают на его лицо. На лбу бисеринки пота, рубашка расстегнута на шее. Годы, которые он провел, измельчая древесину на мельнице его отца, наделили его мускулистым телосложением, широкими плечами и большими руками. В нем нет ничего от грации Равода – его походка скорее неуклюжая. По словам Фионы, он не самый красивый мальчик в Астре, но у него приятная улыбка. Думаю, я согласна с ее оценкой.
Мне трудно четко определить, что я чувствую к Мадсу. Я действительно не уверена, люблю ли его или хочу любить, потому что считаю, что должна. Я не могу позволить себе роскошь выбирать партнера, как это делает Фиона. Мадс – единственный парень в Астре, достаточно сумасшедший, чтобы подойти ко мне.
Хотя у него и в самом деле очень приятная улыбка.
Я смущенно кусаю губы. Пялиться на мальчиков – это больше подходит Фионе.
– Я слышал, что случилось на рынке, – говорит он.
– Дедушка Куинн, – бормочу я.
– Нет. Я слышал, что с тобой случилось, – говорит он, наклоняясь вперед.
Я вздрагиваю, вспоминая, как чьи-то руки толкали меня на землю. Мадс продолжает:
– Я проходил мимо твоего дома, чтобы проверить тебя. Когда тебя там не оказалось, у меня было такое чувство, что ты могла прийти сюда.
– Я не хотела будить маму, – говорю я, быстро пряча свое рукоделие обратно в карман. Мадс никогда не понимал моего увлечения вышиванием или образами, которые я сплетала с помощью иголки и нитки. «Слишком странно для меня», – говорил он.
Мадс всегда был рядом, сколько я себя помню. Когда мы были младше, мы часто играли вместе с Кираном. После смерти моего брата он был одним из немногих детей, кто мог приблизиться ко мне, не считая Фионы. Другие мальчишки в деревне высмеивали его за это – всюду, куда бы я ни шла, они рисовали в пыли знак болезни, тот самый, что висит над нашей дверью, – но Мадсу было все равно. Хотя он никогда не мог заставить других принять меня, даже несмотря на общение со мной, его очень любили. Мадс никогда ни о ком не говорит плохо, к моему большому разочарованию.
– В этом районе видели волков. Что бы ты сделала, если бы повстречала их?
– Шумела бы, бросала камни и защищала место, где стояла, – с готовностью отвечаю я. – Как ты меня учил.
Он смеется.
– Что ж, я рад, что могу быть тебе полезен. Здесь свободно?
Я подвигаюсь, чтобы освободить место рядом с собой. Он легко взбирается на валун и садится, оставляя между нами расстояние в ладонь. Близко, но уважительно. Его вежливость может вывести из себя. Когда я думаю о Фионе и ее свите поклонников, мне становится интересно, испытывает ли Мадс ко мне какие-то чувства. Но почему он держится на расстоянии? Потому что я не такая красивая, как она? Может быть, он просто добрый?
Когда я смотрю на его лицо, его улыбка нежна и немного застенчива. У меня перехватывает дыхание. Мы с Мадсом уже сто лет не сидели так близко. И никогда так поздно ночью. Когда мы так одиноки.
Между нами повисает тяжелое молчание, когда большая ладонь Мадса накрывает мою.
Он прочищает горло.
– Твои волосы красиво выглядят.
Свободной рукой я касаюсь замысловатой косы, которую заплела Ма.
– Спасибо.
Мадс быстро отводит взгляд, пожевывая губу. Глубоко вздохнув, он снова поворачивается ко мне, в его лице что-то изменилось, но я не могу определить, что именно.
– Я беспокоился о тебе, – тихо говорит он, наклоняясь ближе. От его близости по моей коже пробегает теплая дрожь. – Веснушка, – говорит он, глядя мне в глаза, – что-то происходит. Я же вижу. Что случилось?
Я отрицательно качаю головой.
– Ничего, – это неправда, но я не знаю, как все объяснить. Не пока я ощущаю жар его ладони, лежащей поверх моей. Давление и страх этого дня, еще живущие в моей груди, – из-за всего этого мне трудно подобрать слова. Он хмурит брови. Его это не убедило.
– Ты ведь знаешь, что можешь поговорить со мной, правда? – говорит он. – Если тебя что-то беспокоит.
– Я знаю, Мадс, – мне удается улыбнуться ему.
– Послушай, – он берет мою руку. – Засуха закончилась. Мы заслужили благословение от бардов. Будущее не так мрачно, как кажется.
Он делает паузу, и я пытаюсь впитать его надежду. Ощущение безопасности от ощущения его руки, сжимающей мою. В его глазах появляется легкость, которой не коснулись ни отчаяние, ни болезнь, ни смерть. Я жажду увидеть в них свое отражение – но не могу, как ни стараюсь.
– Имей хоть немного веры, Веснушка, – безумная улыбка, кончики его мозолистых пальцев дотрагиваются до моего подбородка, когда он наклоняется ближе.
Его теплое дыхание касается моих губ, и мое сердце бьется так же быстро, как и бегут мысли. Кончик его носа соприкасается с моим. Его губы находят мою щеку. Это не так уж неприятно.
Возможно, этого недостаточно. Я поворачиваюсь к нему, и наши губы встречаются. На мгновение мне кажется, что валун начал быстро вращаться, и мои руки тянутся к его шее. Я не уверена, чувствую ли я это потому, что целуюсь с Мадсом, или потому, что меня вообще целуют. Я почти уверена, что делаю все неправильно. Я осторожно открываю рот.
Мадс резко вздыхает, и морщинка на его лбу снова появляется, когда он отодвигается назад. Ночной воздух внезапно становится немного холоднее, выветривая тепло его губ, и мои глаза широко открываются от удивления.
– Что? – я хмурюсь, но в глубине души чувствую страх, не понял ли он вдруг, что я не стою того, чтобы обращать на меня внимание, что все правы и он должен держаться от меня подальше.
Я этого не хочу. Мне нравится, когда он рядом. Он важен для меня, даже если я не совсем уверена в своих чувствах к нему.
Мои руки опускаются, мысли дико мечутся. Я прижимаю колени к груди, словно создавая барьер между нами.
Мадс качает головой.
– Я хочу сделать все правильно. Не торопиться. С доверием. Ты слишком важна для меня.
Я делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. Я расстроена не из-за Мадса. Не совсем.
– Все в порядке, – отвечаю я, избавляя его, как я надеюсь, от необходимости поддержать меня улыбкой, – ты тоже важен для меня.
– Тогда что же происходит на самом деле?
Сегодня я уже солгала Фионе. И маме тоже. Возможно, действительно пришло время довериться кому-то. А кто может быть лучше Мадса?
– Я… – я с трудом сглатываю. – Может, и так… – Его глаза темнеют от беспокойства. – Сегодня я попросила бардов об одолжении. Вылечить меня. – Заканчиваю я быстро.
– Ты серьезно?
Когда я молчу, он хмурится еще сильнее. Я только однажды призналась Мадсу в своих страхах – в ту ночь, когда он впервые поцеловал меня. Он уверял меня, что я все выдумываю, что болезнь никогда больше не коснется ни меня, ни моей семьи. Что он никогда не позволит этому случиться.
– О чем ты только думала? Ты не можешь просто так…
– Я знаю, – перебиваю я. Разочарование в Мадсе и в себе наполняет меня, оставляя во рту едкий привкус. Я делаю глубокий вдох, но даже это внезапно кажется утомительным. – Я знаю, – повторяю я, на этот раз тише. – Это было глупо.
– Это на тебя не похоже, – замечает Мадс с явным неодобрением в голосе. – Что на тебя нашло, Шай?
Мадс никогда не называет меня по имени, если только он не расстроен. Разочарование превращается в жаркий огонь в груди.
– Я не знаю, Маддокс, – я вырываю у него свою руку и слезаю с валуна. – Я лишь хотела найти ответы на некоторые вопросы сама.
– Какие ответы? С тобой все в порядке. Ты боишься болезни только потому, что потеряла Кирана. Но с тех пор смерть здесь не появлялась. Прошли годы. Ты в порядке.
Мадс с жалостью смотрит на меня сверху вниз.
– Почему бы не доверять тому, что ты уже знаешь?
– Потому что я ничего не знаю, – горячо отвечаю я.
– Твоя жизнь прекрасна. У тебя есть дом, ты можешь жить в нем, одежда на твоем теле и еда на столе. Твоя мама любит тебя, – говорит Мадс раздражающе спокойно, спускаясь вниз и становясь рядом со мной. Он кладет руки мне на плечи. Его теплые ладони – единственное, что удерживает меня от падения на землю.
– Я люблю тебя. Разве этого недостаточно?
Шок заглушает мой гнев и разочарование.
– Ты любишь меня?
Его улыбка отвечает на мой вопрос.
Но все, что я могу сделать, это стоять, крепко сжав кулаки. Он не понимает горя от потери кого-то из-за болезни, он не знает, как это – жить, когда одно событие запятнало всю твою семью. Страх и неуверенность от осознания того, что с тобой что-то глубоко не так, и невозможность поговорить с кем-то. Он не знает, каково это – жить с кем-то, кто настолько сломлен печалью, что даже не хочет говорить. Это моя реальность, и он не может себе представить, почему я хочу что-то сделать, чтобы исправить это.
Он любит меня.
Но он меня не знает.
Мадс, должно быть, замечает нерешительность в моих глазах, потому что делает резкий шаг в сторону, его взгляд устремлен на что угодно, но не на меня.
– Уже поздно, и нам обоим нужно отдохнуть. Позволь мне проводить тебя домой.
– Я не хочу домой, Мадс, – звучит печально, как бедная замена «я тоже люблю тебя». Слеза катится по щеке, и я стираю ее тыльной стороной руки. – Даже думать о возвращении не могу.
– Ты не можешь оставаться здесь одна всю ночь.
– Ты можешь остаться со мной? – я с надеждой смотрю на него. Он, наверное, единственный человек, которого я могу вынести в данный момент.
Кончики ушей Мадса краснеют, и он издает неловкий, застенчивый смешок.
– Не могу, – говорит он хриплым голосом. – Мне нужно домой. Завтра важная работа.
У меня вырывается вздох. Я стараюсь не задохнуться от боли.
– Делай то, что должен. Я останусь здесь еще немного. – Его брови встревоженно поднимаются. – Обещаю, скоро вернусь домой.
– Будь осторожна, Веснушка, – он нежно целует меня в лоб, а потом поворачивается и спускается с холма в долину. Я смотрю, пока не теряю его из виду в темноте.
Глава 5
Я больше не могу сидеть спокойно, но и домой тоже не хочу идти. Изнеможение пронизывает меня до костей. Но я слишком боюсь того, что случится, когда я усну.
Я иду вверх по склону в противоположном, куда ушел Мадс, направлении. Рациональная часть меня говорит бежать за ним и дать ему тот ответ, который он хочет. Но что-то более сильное тянет вперед – ночное небо, темнота, выжженная сообщениями звезд, которые я не могу расшифровать.
Не знаю, как долго буду идти. Луна стоит высоко над головой, когда я выхожу на небольшую поляну. Она находится гораздо глубже в лесу, чем я предполагала. Мои ноги болят после подъема в гору, и я почти падаю на землю, поросшую редким мхом.
Рука тянется в карман, пальцы пробегают по нитке. Я чувствую ее, этой ниткой я вышила желтые лепестки маленького тюльпана, похожие на множество солнц. Это успокаивает меня.
Я смотрю на небо, желая, чтобы оно было зеркалом или даже дверью в будущее, описанное Мадсом. Но когда я закрываю и открываю глаза, все, что возможно различить, – море черноты, на горизонте которого медленно сгорают ответы, искрящиеся в его глубине.
* * *
Мой сон глубокий, без сновидений и тяжелый, словно зимний плащ, который накинули на меня. Я открываю глаза и щурюсь от лучей утреннего солнца, пробивающихся сквозь корявые, голые ветви деревьев над головой. Я не осознаю, что заснула, пока не чувствую, как у меня сводит шею, когда я пытаюсь поднять голову.
«Пора домой, а то мама решит, что я сбежала», – думаю я, стряхивая с юбки листья. Я лишь надеюсь, что она еще не проснулась и не заметила моего отсутствия. Если потороплюсь, то, возможно, успею даже позавтракать, прежде чем выпущу овец на пастбище.
Я поворачиваюсь к дому, но вдруг мое внимание привлекает вспышка цвета. Несколько желтых тюльпанов решительно поднимаются из засушливой земли. Сердце громко стучит в ушах, когда я достаю из кармана свое рукоделие. Точная копия вышивки, вплоть до деталей. Один цветок плохо сформирован, лепестки вырываются из стебля, как будто взрывы.
У меня трясутся губы, я дрожу. Внутренности словно закованы в холодные кандалы.
Чтобы проверить свою догадку – и отчаянно надеясь, что ошибаюсь, – я выдергиваю ткань из обруча для вышивания и сжимаю ее. Я разрываю вышивку снова и снова, пока клочки не начинают сыпаться сквозь мои дрожащие пальцы.
Цветы на моих глазах опускают головки, а потом засыхают, рассыпаясь в пыль, и от ярко-желтых лепестков остается только воспоминание.
Неожиданно по долине разносится крик – крик животного, знакомый, хотя я и не могу его узнать. Волк?
Звук затихает, но мне становится не по себе. Я отрываюсь от того, что сделала, мои шаги переходят в бег, и я мчусь по неровной тропинке, ведущей домой. Ботинки несколько раз соскальзывают. Я спешу, съезжая вниз по рыхлой земле, падая и скользя. Платье и руки становятся грязными, под ногти набивается грязь. Каждый раз я быстро вскакиваю, стараясь бежать с большей осторожностью. Земля под ногами не твердая, она крошится и покрыта изломами, словно ее недавно перекопали, и я вспоминаю, как барды принесли с собой мимолетное заклинание дождя. Могло ли это привести к разрушению склона?
Я тороплюсь дальше, минуя валун, на котором сидела вчера, и направляюсь через долину к дороге. Что-то не так. Мне нужно вернуться домой. К маме.
Я резко останавливаюсь, когда в поле зрения появляется дом, биение сердца и сбитое дыхание нестройно отдаются в груди.
Дверь приоткрыта, в пыли перед ней виднеется пятно чего-то темного, похожего на чернила.
Дверь медленно покачивается на петлях.
Каждый шаг к дому кажется медленным и тяжелым, но наконец я оказываюсь перед дверью, вглядываясь в темноту внутри.
Я судорожно сглатываю, прежде чем войти.
– Ма? – кричу я, ожидая, пока глаза привыкнут к тусклому свету. Я знаю, что она не ответит, но все еще ожидаю увидеть ее у плиты, готовящей завтрак. Вместо этого меня сбивает с ног сильный незнакомый запах. Я инстинктивно прикрываю нос и рот, переступая через порог.
Я едва узнаю наш дом.
Мебель, которая не сломана, перевернута. На полу валяются кастрюли и разбитые тарелки. Пряжа и шерсть. Обломки маминого ткацкого станка и прялки. Все забрызгано темно-красным.
Только это не чернила. Это кровь.
Я стою среди обломков, потрясенная настолько, что не могу пошевелиться. Когда я наконец пытаюсь сдвинуться с места, мои ноги дрожат. Я делаю всего пару шагов в глубь дома, когда вижу ее.
Несколько мгновений я ожидаю, что проснусь в лесной роще или в своей постели.
Это не может быть правдой.
Но чем дольше я смотрю, тем больше осознаю происшедшее.
Ма.
Она не двинется.
Кровь не исчезнет.
Жизнь не будет идти, как шла.
Я не проснусь, потому что не сплю, это реально, и…
Я отрываю взгляд, все мое тело дрожит. Прислоняюсь к стене, чтобы удержаться на ногах. Если я упаду на колени, то вряд ли когда-нибудь смогу подняться. Взглядом обвожу комнату, пытаясь найти что-нибудь, на чем можно сосредоточиться.
И тут в глубине комнаты вижу, что тюфяк маминой кровати, где был устроен ее тайник, разорван. Кажется, будто он взорвался.
Я шагаю вперед, спотыкаясь об опрокинутые стулья и обломки прялки. Пальцами случайно задеваю брызги крови на стене.
Сухой всхлип вырывается из моей груди, когда я добираюсь до кровати.
Последнее, что помню, – как запихиваю фигурку быка в мешок и прячу обратно в тайник. Затем выхожу из дома, протерев нашу метку болезни. И закрываю дверь.
Вроде все так и было.
Наконец, я падаю, даже не чувствуя удара, который приходится на коленные чашечки, рукой я отчаянно ищу мешок внутри тайника. Ничего. Куда бы я ни дотянулась, как бы ни выворачивала руку, внутри матраса только грубая солома.
Нет.
На меня накатывает волна тошноты.
Мешок и каменный бык исчезли.
Отступив назад, я осматриваю пол вокруг тайника, стараясь не дать панике поглотить меня.
Кто-то нашел каменного быка.
Вот почему это произошло.
Мысли расплываются.
Неужели я оставила его там, где его можно было увидеть?
Я отчаянно пытаюсь, но не могу вспомнить.
Это твоя вина, Шай.
Болезнь. Проклятие. Моя просьба к бардам.
Я бросаюсь к входной двери, и меня рвет в траву, все тело ломит, холодный пот прошибает меня. Не могу дышать. Не понимаю, что течет по щекам – слезы или пот. Я едва могу повернуть голову и посмотреть на наш дом – сердце сжимается. Все разрушено.
Разум отказывается сосредоточиться на том единственном, что, я знаю, правда.
Ма. Распростертая на полу, вся в крови, с кинжалом, торчащим из груди. Что ты наделала, Шай?
Глава 6
Где-то на краю моего поля зрения вспыхивают звезды, кажется, они пронзительно кричат в небе. Мои мысли – хаотичный водоворот темных туч, волчий вой и холодный ветер. Я дрожу так сильно, что даже не замечаю, как падаю на колени во дворе. Грубая серость рассвета смешивает все вокруг, превращая в туман. Не могу дышать. Не могу дышать. Сейчас умру. Умру прямо здесь.
– Шай! Что случилось?
До меня доносится далекий мужской голос, слышится рычание собак. И что-то ужасное – пронзительный, резкий звон, становящийся все громче и громче.
Я хватаюсь за голову и покачиваюсь на мертвой траве.
Ма. Сочащаяся кровь. Ее остекленевшие глаза. Ее одеревеневшие руки.
Звон продолжается.
Не могу пошевелиться. Не могу дышать.
Чья-то рука обхватывает мое предплечье и тянет вперед, в реальность. Я борюсь, пока голос не прорывается сквозь звон.
– Ты в безопасности. Все нормально. Я рядом, я здесь.
Внезапно звон прекращается. У меня болит горло. Я с ужасом осознаю, что кричала. Это был ужасный, отдающийся эхом звук.
Лицо констебля Данна резко фокусируется передо мной. Его широкий лоб блестит от пота, мелкими белыми бусинками переливаясь в утреннем свете.
– Хорошо. Мне нужно, чтобы ты сделала глубокий вдох. Ты можешь это сделать? – его голос слегка отдается эхом, но звучит совсем рядом. Я киваю.
Мое дыхание сбивается, когда я втягиваю воздух в легкие.
На ощупь она холодная и жесткая…
Ма.
Меня снова и снова трясет.
Констебль Данн вздыхает и проводит рукой по лицу.
– Ты останешься здесь, поняла? Я сейчас вернусь.
Данн медленно поднимается на ноги.
Остаться здесь? А куда же мне идти? Я почти смеюсь, но слишком ослабела. Я приваливаюсь к стене дома.
Тяжелые ботинки Данна переступают порог, собаки не отстают. Мои руки немеют, когда я вспоминаю, кто находится внутри.
Моя мать, убитая и окровавленная, лежит на полу. Тусклый свет отражается от рукояти богато украшенного кинжала, торчащего из ее груди.
Я сжимаю челюсти, чтобы не затрястись снова. Крепко зажмуриваюсь.
Когда открываю глаза, из темноты дома появляется констебль Данн. Он держит золотой кинжал, переворачивая окровавленное оружие, изучая его. Свет ослепительно вспыхивает на гравировке рукояти. Я щурюсь, рассматривая странные символы, выгравированные сбоку. Это что, буквы? Взгляд Данна также задерживается на символах, а потом он вытирает кровь и надежно закрепляет кинжал на поясе. Собаки собираются вокруг, рыча и принюхиваясь.
Данн подходит ко мне, его лицо пепельно-серое.
– Какая трагедия, – бормочет он.
Трагедия. Слово эхом отдается во мне. Я боюсь, что меня снова стошнит.
– Кто мог это сделать? – я едва могу разобрать собственные слова.
Данн прочищает горло, присаживаясь рядом.
– Похоже, это дело рук бандитов. Кто бы это ни был, они ушли, – говорит он, – и, судя по всему, очень спешили. Я был недалеко от вас у фермы Рида, когда мы услышали крики. Я ехал так быстро, как только мог, – он ругается, – я просто не так быстр, как раньше, Шай. Прости меня.
Он достает из кармана платок и протягивает мне.
Я беру его и прижимаю к щекам, ожидая, что польются новые слезы, но их нет. Я слишком потрясена, чтобы плакать. Как будто упала с огромной высоты, так что воздуха в легких совсем не осталось.
Платок становится грязным, и я вспоминаю, как скользила и падала, спускаясь с холма. Должно быть, констеблю я показалась диким зверем, вышедшим из леса.
– А что теперь будет? – спрашиваю я. От этих слов у меня перехватывает горло. Я ошеломленно моргаю, глядя на него. Солнце пронзает горизонт, слишком ярко.
Собаки бегают кругами, обнюхивают траву и лают как сумасшедшие. Я не могу думать ясно, совсем не могу думать. Мне и так приходится постоянно напоминать себе не забывать дышать.
– Теперь… – констебль Данн сжимает челюсти, когда он оглядывается на дом. – Я заберу тебя в Астру. Ты ведь дружишь с мисс Фионой из лавки, верно? Я объясню ситуацию ее отцу. Ты сможешь остаться с ними, пока все не уладится, – он ждет моего согласия.
– Вы хотите, чтобы я ушла, – ошарашенно спрашиваю я, – когда где-то здесь уб… – я не могу этого сказать. Страх обвивается вокруг сердца. Убийца. Запретное слово. Я отрицательно качаю головой. Я слишком много должна сделать. Починить сломанные вещи в доме. Очистить кровь. Приготовить траурные ленты. Похоронить маму.
Но, посмотрев на лицо Данна, я не решаюсь продолжить.
– Я должен быть с тобой откровенен, Шай. Оставлять тебя здесь не очень хорошо ни для меня, ни для тебя.
Я пристально смотрю на него.
– Не очень хорошо? – что может быть хуже того, что уже произошло?
– Я имею в виду слухи, которые ходят по деревне, – уклончиво отвечает он, искоса поглядывая на меня, – ну, то, что они говорят… о тебе. Тебе и твоей семье.
Что мы уроды. Что мы прокляты. Что я проклята…
Внезапно я понимаю, хотя темнота, заключенная в этом, настолько ужасна, что я едва не падаю в обморок.
– Вы думаете, что это я… – у меня не хватает слов, и я машу рукой в сторону двери, – что это сделала я?
– Конечно, нет, Шай, – говорит он, и я прерывисто дышу, – но существуют определенные процедуры, – он засовывает большие пальцы за пояс, – мы не можем контролировать то, что думают другие. Эти правила созданы, чтобы защитить тебя. Конечно, тебя можно понять, – он протягивает руку, – мы устроим тебя поудобнее. И я сообщу о смерти. Мы разберемся с этим, Шай. Справедливость восторжествует.
Он хочет взять меня за руку.
– Нет, – я отшатываюсь, подальше от него, – нет, я не могу, я не уйду. Овцы… ферма…
– Шай, – говорит он сердито. Я никогда раньше не спорила с констеблем, и резкость в его тоне пугает меня. Я замираю, глядя на него, чувствуя себя загнанным в ловушку диким зверем. Все, чего я хочу, – запереться в своем доме. Вернуться туда, где безопасно.
Только там небезопасно.
Тело мамы, лежащее по полу.
Он видит мою нерешительность и резко надвигается на меня, хватая за руку. Собаки поднимают лай, и в хаосе шума я впадаю в панику.
– Нет! Стоп! – Не знаю, что на меня нашло, но я не позволю, чтобы меня увели в Астру. По лицу текут неудержимые слезы. – Вы не можете забрать меня отсюда! Вы не можете заставить меня бросить ее!
Я смутно осознаю, что он заломил мне руки за спину и держит так, хотя я продолжаю сопротивляться. Даже когда я разражаюсь рыданиями.
– Не делай этого, Шай. Не спорь со мной, – он говорит тихо, у самого моего уха. Я слышу в его голосе шепот угрозы, смешанной с добротой. – Я делаю это для тебя, – говорит он, – для Астры, для справедливости, – он тянет меня прочь.
Я пытаюсь вырваться в последний раз, вопль вырывается из горла, когда я наваливаюсь всем весом своего тела на его руки.
– Ма! – я кричу, но уже слишком поздно. Он хватает меня за талию и тащит прочь от дома.
Все, что мне остается, – следить за тем, чтобы не упасть, пока мы, шатаясь, спускаемся по склону, а я теряю из виду дом и ферму.
Все, что я когда-то любила, пропало.
* * *
Дни сливаются в тумане. Меня поселили в доме Фионы, ее семья встретила меня с распростертыми объятиями и сочувственными словами, но я едва слышу их. Слова – это слишком тяжело. Мама Фионы заставляет меня заниматься починкой, штопкой и другими бессмысленными делами – но не существует лечебной мази от темной, гноящейся боли, которая живет в моей душе. Время идет либо слишком медленно, либо слишком быстро, в зависимости от того, как много я думаю о смерти мамы. В голове снова возникают образы – ее тело на полу, кровь на стенах. Разговор с бардом на рынке – с Раводом, который на мгновение показался мне добрым. Это ли подвергло нас опасности в первую очередь? Мой разговор с Мадсом, наш поцелуй. Я заснула, пока мама была дома одна. Я могла бы что-нибудь сделать. Могла бы остановить их. И надд всеми воспоминаниями – образ гондальского быка.
Неужели я его потеряла?
Констебль знал бы, если смерть моей матери была бы официальным наказанием за хранение контрабанды – если только кто-то еще не захотел избавить город от моей проклятой семьи, взяв на себя эту работу. Каждый раз, когда я прихожу к этому выводу, меня охватывает паника. Я здесь не в безопасности. Это мог быть кто угодно. Нас учат доносить друг на друга, отворачиваться от тех, кого мы любим.
Но хуже всего – ужас, бесконечные догадки, чувство вины, недоумение – боль в груди. Я физически ощущаю, что мое сердце разбито.
Возможно, так оно и есть.
Я вкладываю всю свою энергию, помогая семье Фионы в магазине, чтобы не зацикливаться на своем горе, но жалость на их лицах слишком очевидна, чтобы выносить все это. И как бы я ни старалась, с наступлением темноты сны всегда находят меня, дикие и полные ужаса.
Единственное занятие, которое меня успокаивает, – рукоделие – воплощение странных и навязчивых образов моих снов в вышивках. Но даже это кажется чем-то греховным, как будто частью проклятия. Я боюсь того, что это может значить.
Вот почему, когда я слышу, как Фиона просыпается – мне стелят спальный мешок у камина в ее спальне, – я прячу шитье под подушку, чтобы она не видела.
Она садится на кровати и улыбается. На это больно смотреть – нарисованная, вынужденная улыбка.
– Ты можешь сегодня хоть немного позавтракать?
Я заставляю себя улыбнуться в ответ.
– Конечно, – ее семья полностью игнорирует меня, весело болтая за столом, за исключением Фионы и ее отца, который коротко кивает в мою сторону, когда я сажусь.
Немного неприятно слышать такой шум во время еды. За эти годы я так привыкла есть в уютном молчании с мамой. Иногда я говорила, как прошел мой день, или рассказывала ей об овцах, но только чтобы мы снова погрузились в привычную тишину. В семье Фионы все наоборот – шутки, споры, истории и сплетни сопровождают еду. Это напоминает мне о времени, которое было так давно, что теперь это лишь фрагмент воспоминаний, хранящийся в самых дальних уголках сознания. До смерти Кирана, когда папа был рядом, а мама не молчала. Воспоминание о семье, которую я когда-то знала.
С каждым утром я становлюсь все более далекой от этого. Интересно, буду ли я когда-нибудь чувствовать себя нормальной, как они. Мне все больше и больше кажется, что я никогда не была нормальной и никогда не буду.
Хорошо, что Фиона и ее семья позволили мне остаться, я благодарна им. Но я постоянно напоминаю себе, что мне здесь не место. Доброта Фионы этого не изменит. Пока я живу здесь, я стараюсь быть полезной. Вот и все. Остальное зависит от меня.
Большая часть моей работы по дому не позволяет мне находиться в передней части магазина, где Фиона работает продавцом, поэтому я почти не вижу ее в течение дня. Ее отец любит держать ее у прилавка, потому что она красивая и дружелюбная. Он думает, что это делает людей более сговорчивыми и они покупают больше. Возможно, он прав. Фиона умеет обращаться с людьми. Многие из клиентов – красивые парни из деревни, которые останавливаются здесь только для того, чтобы поговорить с ней.
Хотя мои мысли охвачены ужасом темноты и сомнений, один вопрос прожигает насквозь – где Мадс? Почему он не пришел?
Я ненавижу, что не знаю ответа. Ненавижу, что продолжаю гадать – это все, что я делаю. Я люблю Фиону, ее нежную мягкость, ее солнечную улыбку, ее бесконечную уверенность – но именно Мадс всегда помогал мне чувствовать себя уверенно, ощущать стабильность.
Но Мадса нигде не видно. Он не заходил в магазин, хотя должен знать, где я сейчас живу. Должно быть, кто-то рассказал ему, что случилось. В таком месте, как Астра, секреты имеют обыкновение быстро всплывать наружу.
Почему-то не могу поверить, что остальной мир не изменился навсегда, как изменилась я. Что смерть моей матери не расколола небеса, не заставила птиц плавать, а рыб летать.
Я прерывисто вздыхаю, неся тяжелый мешок с мукой в заднюю часть лавки. Меня в основном отправляют на склад, где я провожу инвентаризацию и взвешиваю товары, чтобы их можно было перенести в магазин и продать. В тех редких случаях, когда мне разрешают войти в магазин, я расставляю товары по полкам. Мне не положено ни с кем разговаривать, хотя не похоже, чтобы кто-то особенно хотел завязать разговор с местным изгоем, но я следую четким указаниям держаться подальше от посторонних глаз и избегать неприятностей.
Моя единственная надежда – Данн найдет убийц Ма и накажет их. Я цепляюсь за эту мысль, когда все вокруг кажется мне особенно мрачным. По крайней мере, я добьюсь справедливости. Ма добьется справедливости.
– Шай, – приветствует меня Хьюго, отец Фионы, входя в кладовую, – когда ты закончишь взвешивать рис, ты можешь пойти в лавку и положить его на полку.
Я киваю, наблюдая, как он и его старший сын Томас раскладывают сегодняшнюю доставку и уходят, не сказав больше ни слова. С каждым днем поставки становятся все меньше, хотя и раньше они были не очень большими. Самой трудной работой до сих пор было держать полки наполненными.
Я высыпаю последнюю порцию риса из пакета в контейнер поменьше. Когда его распродадут и съедят, в городе больше не останется риса. После, и это не займет много времени, у нас закончится зерно.
Астра медленно умирает с голоду. Я выкидываю эту мысль из головы и беру контейнеры с рисом.
Утреннее солнце, льющееся из больших витринных окон, заливает магазин. Я моргаю, давая глазам время привыкнуть. Сегодня магазин кажется больше, так как товары распродаются, а заменить их становится нечем. Все большие участки пыльного коричневого пола и полок обнажаются, когда клиенты приходят и уходят, понемногу забирая все. Хьюго прикладывает доблестные усилия, чтобы сохранить приличный вид магазина, он тщательно вычищен и опрятен, но интересно, что произойдет, когда на полках не останется ничего.
Мои мысли обрываются, когда я вижу отца Мадса на другом конце магазина. И сердце начинает бешено колотиться. Он укладывает свои скудные покупки в рюкзак и не замечает моего приближения.
– Простите, сэр, – осмеливаюсь я похлопать его по плечу. Он оборачивается и, кажется, не рад меня видеть. Проклятая девчонка, с которой его сын проводит слишком много времени, – мне было интересно, где именно…
– Маддокс ушел к бардам.
У меня вырывается слабый вздох.
– Но зачем?
Отец почесывает бороду и вздыхает.
– Думаю, из-за тебя.
– Из-за меня? – прежде чем я успеваю произнести хоть слово или спросить, когда он вернется, отец Мадса резко поворачивается и уходит.
Я стою, не в силах двинуться от шока, пока клиент грубо не отталкивает меня с дороги. Я отхожу в сторону и кладу рис на полоку.
– Что она здесь делает? – я слышу, как женщина шипит через прилавок Фионе, расплачиваясь за маленький пакетик степной муки. – Разве эта благотворительность не продолжается уже достаточно долго?
– Шай теперь наша семья. Это и ее дом тоже.
Женщина расплачивается с Фионой, раздраженно фыркая, и уходит. Когда Фиона ловит мой взгляд, я опускаю глаза. Стыд обжигает мне лицо. Потому что это правда – ее семья относилась ко мне, как к родной, пусть даже остальная Астра хотела бы, чтобы меня тоже нашли мертвой.
Но Мадс пошел к бардам ради меня. У меня кружится голова даже от малейшего проблеска надежды. Возможно, существует какой-то шанс добиться справедливости. Если я подожду еще немного, все будет хорошо.
Это, конечно, благородный поступок. Вероятно, я все это время видела его в неверном свете.
Я могу влюбиться в человека, который ищет справедливости ради меня.
Внезапно все ужасные чувства, которые душили меня, начинают понемногу отступать, уступая место чему-то другому: легкому трепету в груди. Шепоту веры.
– Шай, иди посмотри на это! – лицо Фионы светлеет, когда она машет мне рукой из-за прилавка. В руке у нее изящный серебряный гребень для волос, инкрустированный цветным стеклом. Он похож на бабочку, пойманную в полете, и отражает свет, когда Фиона наклоняет его в руке. Шепот веры наполняет меня простой радостью от осознания его красоты. – Мисс Инес только что обменяла его на мешок степной муки. Сказала, что гребень хранился в ее семье в течение шести поколений.
– Должно быть, она уже обменяла свои манеры, – бормочу я, и Фиона хихикает. Кончики моих пальцев скользят по гребню. Изящный узор далеко не так хорош, но он немного напоминает мне узор на уздечке, которую я видела на лошади Равода. Я не могу удержаться от того, чтобы представить, как гребень будет выглядеть в моих волосах.
– Папа не любит, когда я меняю продукты на что-то чисто декоративное, – говорит Фиона, – но я не могла устоять. Это слишком красиво.
– Но это явно дорого. Стоит гораздо больше, чем мешок муки.
Фиона закатывает глаза и подражает глубокому деловому голосу Хьюго, что всегда заставляет меня смеяться.
– Людям нужны практичные вещи, – говорит она. Затем, посерьезнев, добавляет: – Мы не можем его перепродать. Любой посмотрит на это и скажет, что серебра недостаточно, чтобы сделать из него что-нибудь полезное. И все равно, насколько это красиво.
– Ты должна сохранить его, – говорю я.
Фиона тихо улыбается, любуясь крошечным гребнем.
– Может быть, сейчас, – говорит она, – даже если нет повода носить его, это приятное напоминание. Мы должны держаться за красивые вещи, пока они у нас есть.
Ее слова заставляют меня вспомнить о маме. Ее улыбке. Ее нежных руках. Ее теплых объятиях. Прекрасные вещи, которые я не смогла удержать.
Что бы сделала мама, если бы была здесь?
Я беру у Фионы гребень и втыкаю ей в волосы. Он ловит свет среди золотых волос Фионы, как будто всегда был там.
Мне удается улыбнуться.
– Идеально.
* * *
В конце дня перед закрытием магазина Фиона подметает пол. Я потягиваюсь, тело болит от того, что приходится стоять часами, – эта работа отличается от фермерства, она по-своему утомительная. Я сдерживаю зевок, Фиона заканчивает вытирать пыль с прилавка и подходит к полкам. Я уже представляю, как свернусь калачиком на кровати, закрою глаза и отгорожусь от остального мира, когда дверь магазина открывается.
Все во мне опускается.
– Констебль Данн, всегда рада вас видеть! – даже я слышу напряжение в голосе Фионы, когда она украдкой смотрит на меня. Это то, о чем я думаю?
Данн снимает широкополую шляпу.
– Добрый вечер, Фиона, – он даже не потрудился повернуться ко мне. – Шай.
Это не сулит ничего хорошего. Я откладываю в сторону метлу и подхожу к нему.
– Есть новости? – спрашиваю я. – Вы нашли убийцу?
Он теребит шляпу, и я считаю секунды, пока он наконец не поднимает взгляд на меня.
– Это опасное слово, Шай. Мы не знаем, что произошло той ночью. Мы не можем делать поспешных выводов.
– Поспешные выводы? Я видела кинжал! Весь пол был в крови!
– Послушай, Шай…
– Я не знаю, что вы нашли или не нашли, но вам нужно продолжать поиски. – Мой мозг начинает лихорадочно работать. Фиона подходит ко мне и обнимает за плечи. – А как насчет следов на дороге? Или на кинжале? Конечно, они должны быть…
– Шай, – его голос спокоен, но тверд, – все кончено.
Фиона сжимает мое плечо, но я вырываюсь, мои глаза блестят от ярости.
– Я не понимаю. Вы обещали мне, констебль. В тот день. Вы меня уверяли, – это были лживые слова, – я думала, вы человек слова. Или это неправда?
Фиона задыхается.
– Будь осторожна, малышка, – произносит Данн сквозь зубы. – Возможно, наша доброта заставила тебя забыть о том, где твое место. Тебе нужно оставить все, что произошло, позади. – Данн надевает шляпу. Я сжимаю ручку метлы, чтобы за что-нибудь держаться. Костяшки пальцев белеют. – Я знаю, это трудно. И это не то, что ты хочешь услышать. Но больше ничего сделать нельзя, – он поворачивается, чтобы уйти.
– Значит, слово «справедливость» в этом городе означает «сдаться»? – кричу я ему в спину. – Значит, теперь мне остается потерять надежду? Притворяться, что мамы и Кирана никогда не было? Забыть?
– Прошло почти две недели, а новых зацепок нет. Больше я ничего не могу сделать, – говорит Данн, – пора начинать двигаться вперед. У тебя еще много всего впереди. Это то, чего хотела бы твоя мама.
Я чуть не сломала метлу, так сильно вцепилась в нее.
– Как вы смеете предполагать, чего бы она хотела, – шиплю я тихо.
– Оставь его в покое, – говорит Фиона, следя, как дверь широко распахивается и снова закрывается. Когда становится ясно, что он ушел, она теребит меня за плечо, чтобы снять напряжение.
– Шай, ты не можешь бросаться такими обвинениями.
Я бросаю метлу на пол и кладу голову на руки, навалившись на стойку. В голове стучит, и я никак не могу выкинуть из головы слова Данна, которые привели меня в бешенство.
Я провожу руками по волосам, и мне кажется, что стены магазина нависают надо мной.
– А почему бы и нет? – хотя мои глаза открыты, я вижу лишь темноту. – Мне больше нечего терять.
Как только я это говорю, мне хочется взять свои слова обратно. Увидев вспышку боли на лице Фионы, я почти готова извиниться.
Но все дело в словах. Как только ты их произнесешь, пути назад уже не будет. Остаток вечера мы не разговариваем.
Глава 7
Мои сны полны кошмаров. Шепот в темноте и глаза, нацеленные на меня, словно у хищника, готового напасть. Мое тело становится тяжелым и вялым, я не могу ни бежать, ни сражаться. Я могу только слабо сопротивляться, но чем больше я пытаюсь, тем ближе подкрадывается тьма, ее когти все глубже погружаются в мою кожу, пока я не падаю в чернильную черноту.
Я приподнимаюсь на локтях. Бешено колотящееся сердце замедляется, когда я успокаиваюсь. Я лежу в постели у камина в комнате Фионы.
Пламя догорело, оставив тлеющие угли; должно быть, уже далеко за полночь.
Сев поудобнее, я протираю глаза. Лоб покрыт холодным потом, а руки болят: я сжимаю кулаки во сне.
– Это то, чего хотела бы твоя мама, – безжалостно повторяет эхо, но я знаю, это неправда.
Не раздумывая, я сбрасываю с ног старое одеяло и поднимаюсь, хватая одежду и обувь. Я жду, пока не окажусь по другую сторону двери, прежде чем надеть все и тихо спуститься по лестнице.
Мне нужно вернуться домой, я должна увидеть все своими глазами. Может быть, я найду какую-нибудь зацепку, которую упустил Данн.
Я спускаюсь в магазин, направляясь к двери. Я вернусь до рассвета. Они даже не узнают, что я уходила.
– Шай, – я замираю, когда слышу за спиной удивленный голос Фионы, – куда это ты собралась?
Я поворачиваюсь к Фионе и даже в тусклом свете вижу, что ее лицо заметно омрачено беспокойством. Не знаю, что ей сказать. Дни, проведенные в магазине, кажутся мне непроглядным туманом. Я словно брожу с завязанными глазами в шторм.
Фиона была единственным человеком, который удерживал мою голову над безжалостными волнами горя, угрожающими уничтожить меня. С моей стороны слишком эгоистично заставлять ее волноваться.
– Я… – я поднимаю голову, чтобы встретиться с ней взглядом, когда она подходит ближе, – я хотела увидеть свой дом.
Рыдание вырывается из моего горла, и Фиона обнимает меня, пока я даю волю слезам.
– Шай, – говорит она, нежно поглаживая мои растрепанные волосы, – тебе там нечего искать, кроме еще большего горя. Не наказывай себя так.
В темноте магазина она долго держит меня, прежде чем отпустить. Я вытираю глаза тыльной стороной ладони.
– Я чувствую себя такой бесполезной. Я этого не вынесу, – говорю я наконец, – в этом нет никакого смысла.
– Это понятно, – голос Фионы успокаивает. – Все это нелегко и несправедливо. Но ничто не может изменить произошедшего. Все, что ты можешь сделать, двигаться вперед.
Я чувствую укол негодования от ее слов. Кто-то входит в мой дом, убивает мою мать и исчезает, а я должна забыть об этом и жить дальше?
– Я не могу, – качаю я головой, – это еще не все. Есть человек, у которого была причина убить маму.
– Даже если это было бы правдой, разве это не еще одна причина не ввязываться? Ты должна быть благодарна, что осталась жива.
Я смотрю на нее, и меня охватывает холод.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Ничего, – быстро отвечает она, – я рада, что ты в безопасности, вот и все, и хочу, чтобы так и оставалось.
– Ты думаешь, что проклятие на нашей семье реально, не так ли? – мой голос повышается.
– Шай, успокойся. Я ничего такого не говорю…
– Не говоришь? А что, если это случилось бы с твоей матерью? – я никогда раньше не повышала голос на Фиону. Разочарование и чувство вины скручиваются внутри, терзая сердце.
В глазах Фионы мелькает какое-то незнакомое выражение.
– Не надо, – ее голос становится ровным, – не надо так говорить. Это опасно.
– Думаешь, я этого не знаю? Мою мать убили! – мои кулаки сжимаются по бокам, ногти впиваются в ладони.
Она задыхается. «Убийство». Это запретное слово. Я думала об этом – много раз за последние недели. Но никогда, никогда не произносила это вслух. Как только слово вылетает у меня изо рта, я жалею, что не могу забрать его обратно. Оно висит в воздухе между нами, уродливое и невидимое, и я вздрагиваю, внезапно чувствуя тошноту. Может, она права.
Может, я представляю опасность для всех – включая ее.
– Я больше не могу, – говорит Фиона в оглушительной тишине, – не могу ничего не делать, если ты собираешься подвергнуть риску меня и мою семью.
Я замираю. Лишенная дара речи.
– Прости, я не хотела…
– Нет, Шай. Ты хотела, – шипит Фиона, – ты ведешь себя как капризный ребенок. Так ты благодаришь нас за все, что мы для тебя сделали? – ее глаза сверкают холодным огнем, когда она смотрит на меня. Я никогда не видела Фиону такой. Я не представляю, как реагировать.
– Я не пытаюсь никому навредить. Я просто…
– Может, и не намеренно, – Фиона обрывает меня, – но это твоя вечная проблема, Шай. Ты никогда ничего не продумываешь. Ты слишком настойчива. Твой гнев сжигает тебя заживо. Ты подожжешь всю деревню. И я не могу стоять и смотреть, как это происходит.
Мое дыхание вырывается сквозь зубы.
– Если ты хочешь спрятаться, прекрасно. Но не жалуйтесь, что я хочу поступить правильно. Есть вещи поважнее, чем покорно подчиняться правилам.
– Важнее, чем твоя жизнь? Твоя безопасность? Твое счастье? – ее голос срывается. Она выглядит так, будто вот-вот заплачет, и в ее дрожащем голосе звучит невысказанный вопрос: «Важнее меня?»
– Правда, – тихо говорю я. – Правда гораздо важнее.
Я поворачиваюсь и бросаюсь в темноту, оставляя ее позади.
* * *
Воздух сегодня свежий и холодный. Я вяло обнимаю себя за плечи, но мне не согреться. Холод лишь на мгновение заставляет меня забыть о ссоре с Фионой.
Астра выглядит призрачно в бледном свете полной Луны, жители мирно спят за затемненными окнами своих домов.
Гнев потрескивает в груди, когда слова Фионы снова всплывают в памяти. Я проклята, и она каким-то образом знает об этом. Я представляю для нее опасность. Она не хочет, чтобы я была рядом. Никто не хочет.
Когда я наконец взбираюсь на холм и мой дом появляется в поле зрения, низкий серый силуэт в темноте, смесь эмоций переполняет меня, тошнота и страх затмевают привычные чувства безопасности и дома. И сильнее всего ранит пронзительная боль – я скучаю по маме. Я так скучаю по ней, что боюсь, как бы это чувство не прорвалось сквозь стенки грудной клетки и не вырвалось в ночь, как дикий зверь.
Громкий шорох раздается позади меня, и я задыхаюсь, боясь, что каким-то образом, только подумав, вызвала дикого зверя. Я поворачиваюсь.
– Здесь кто-то есть? – говорю я, готовясь закричать, представляя убийцу Ма, выпрыгивающего на меня из темноты.
Я отхожу от края дороги, направляясь к лесу. Снова хруст веток.
Я замираю, мое тело напряжено. Если кто-то здесь, чтобы закончить работу, я, по крайней мере, хочу увидеть его лицо, прежде чем умру. Хочу знать.
– Черт… Черт возьми! – Мадс спотыкается. Ветки и листья украшают его волосы, а щека исцарапана.
Мой гнев и страх быстро сменяются облегчением. Мадс отряхивается. Кончики его ушей ярко-красные.
– Веснушка, – он смущенно морщится, – прости, что меня так долго не было, я…
Я бросаюсь вперед и обнимаю его, как будто от этого зависит моя жизнь. Его удивление тает, и он притягивает меня ближе, нежно целуя в макушку.
– Ты вернулся, – говорю я, не веря своим глазам. Я изучаю его лицо, пытаясь понять, не изменился ли он, не принес ли новостей от бардов, которые готовы помочь мне. Эта мысль вновь пробуждает надежду в моей груди. – Твой отец сказал, куда ты уехал, но я не была уверена, что смогу в это поверить. Ты их нашел? Ты добрался до Высшего совета? Что случилось? И что ты здесь делаешь посреди ночи?
– По одному вопросу зараз, – говорит он, и у него вырывается тихий смешок. Он прочищает горло. – Да, я ходил к бардам – они остановились недалеко отсюда.
В темноте он выглядит странно – как знакомый мне Мадс, но с каким-то таинственным блеском в глазах. Он, кажется, нервничает, его взгляд бегает по сторонам, как будто кто-то может наблюдать из-за деревьев. И все же он, кажется, тоже рад меня видеть. Улыбка пытается пробиться в уголке его рта.
– И что же? Что ты узнал? Знают ли они правду? Они знают, кто убийца?
– У… бийца? – он запинается и выглядит искренне смущенным.
– Конечно! А кто же еще? Они ведь должны были помочь, верно? Они знают все. Наверняка у них есть сведения о том, что произошло? Ты знаешь, кто убил мою мать?
Я уже второй раз за ночь произношу запретное слово «убийство», и Мадс выглядит так, будто я его ударила. Я делаю шаг назад, надеясь, что пространство между нами немного ободрит его.
– Мне очень жаль, Мадс. Я слишком тороплюсь. Пожалуйста, не волнуйся. Я хочу знать все.
– Ну… – начинает он. И вдруг меня охватывает паника. Может, он не узнал правды и не хочет разочаровывать меня. Или он знает, но боится, что правда сломает меня. Но я должна знать.
