Читать онлайн Магия мозга и лабиринты жизни бесплатно
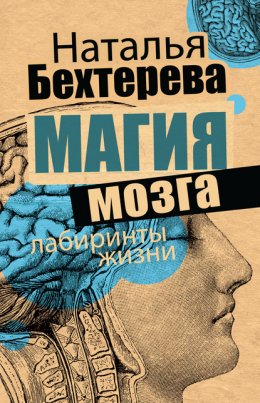
От автора
В этом издании сохранено все то, что было в предыдущем. Однако времени прошло порядочно, мы много работали, и мне показалось жаль не рассказать хотя бы о главном из того, чем же мы жили, о чем думали все эти очень трудные для нашей науки годы.
Наша, сейчас бурно развивающаяся во всем мире ветвь проблемы «Мозг человека» строится на том, что мы умеем находить в мозгу именно то, что делает человека человеком, что помогает ему держаться на плаву при трудноизлечимых болезнях, пытаемся на основе научного знания выбирать идейно, методически и аппаратно лучшие дороги к здоровью. Десятилетия изучения здорового и больного мозга человека позволили нам ступить на новую, еще не затоптанную землю – исследование топографической мозговой организации и механизмов творчества. Мы увидели, как творчество, которое, как известно, более или менее масштабно преобразует мир, прежде всего преобразует свой собственный мозг. И возможность рассказать об этом сделала для меня идею переиздания книги «Магия мозга и лабиринты жизни», скажем так, менее еретической. Из того, что мы делали раньше, о чем писали, родилось новое знание, озарившее сегодняшний наш трудный день и проявившее значение труда дня вчерашнего.
Наш сегодняшний день состоялся не только благодаря нашему труду в сложнейших условиях, но и благодаря редкой удаче. Моя встреча с Раисой Максимовной Горбачевой помогла нам достойно войти в технологическую эру науки о мозге человека (подробности см. в главе «Почему ПЭТ?»). К сожалению, во многом в эти годы мы все же больше работали «не потому что», а «несмотря на»: несмотря на «смешную» зарплату, непреодолимые сложности каждого шага к новейшему оборудованию, отъезд многих наших одаренных учеников (а это не так-то просто – воспитать ученика) «на постоянное место жительства» туда, где в одночасье подняли цену русским ученым. Возвращения одного ученика я буду ждать до последнего своего дня. В связи с долгожданным общим подъемом страны и несмотря на нежданные новые сложности, я верю сейчас, что наше время пришло. Это – новый виток спирали, на котором необходим и востребуется интеллектуальный потенциал общества, самая мощная сила, которая только одна и способна обеспечить на многие годы устойчивость подъема страны, сделать его необратимым. Научный потенциал страны – и только он – определит ее независимость от траты запасов недр, хотя, конечно, ни нашей, ни любой другой стране дополнительное богатство не в тягость. Особенно если его вкладывать в дающие отдачу ценности. Подъем страны уже отразился в успехах спорта, а победные успехи в спорте, консолидируя страну, возрождают чувство своей страны. И этой новой нашей стране сегодня мы нужны. Интеллектуальный потенциал нашей страны не единожды истреблялся сознательно. У иностранных журналистов в тяжелые 90-е годы замелькали вопросы: «Понимаете ли вы, что ущерб, нанесенный интеллектуальному потенциалу вашей страны, невосполним?»
Интеллектуальный потенциал проверяется на сверхзадачах – если мозг общества находит для них сверхвозможности, за такое общество можно не тревожиться. Нет слов, трагические полосы в нашей жизни не шли на пользу; но от того, что было, к сожалению, не уйти. Это – наша история. А сверхвозможности есть, они работают. И разговор об утрате потенциала беспредметен.
Интеллектуальный потенциал и, в частности, интеллектуально-научный потенциал – мощнейшая движущая сила общества. Этот же потенциал одновременно и залог долголетия людей этого общества. Особенно зримо здесь работает высшая форма этого потенциала – творчество, научное творчество в частности.
В этой книге – уже не только то, чем мы жили, чем живем, но и наше будущее. Она – мой маленький вклад в научный потенциал страны. А потому спасибо безвременно ушедшему от нас, всегда создававшему мне комфортные условия издателю прошлого выпуска книги Льву Ивановичу Захарову и сегодняшним издателям, почти доказавшим мне целесообразность новой жизни этой книги.
Предисловие к изданию 1999 года
Вперемежку с научными статьями и книгами я писала изредка и нечто более популярное. В 1990 году это была сравнительно оптимистичная «Рег aspera…». Годы, когда писался этот первый текст, были временем надежд – больших и малых – в самых разных областях. В том числе и в науке. На этом радужном фоне в упрощенном (но не вульгаризированном) виде были представлены наши основные новости в области изучения здорового и больного мозга. В этой же книге как о прошлом, которое не должно повториться, рассказывалось о сложностях и трагедиях, пережитых нашим обществом и нашей наукой в годы советской власти, так и о людях, работающих в науке сейчас.
Однако жизнь развернулась достаточно неожиданно, и мы в короткий срок оказались в нестабильном обществе, где науке, особенно фундаментальной, приходится все сложнее. Поэтому в книге 1994 года («О мозге человека») я рассматривала вновь и научные проблемы, и прогресс в них, и некоторые общественные проблемы, естественно – с позиций физиолога, изучающего законы деятельности мозга. В природе не так уж много общих законов, и многое, открытое в микромире, применимо к макромиру, а знание особенностей деятельности мозга позволяет рассматривать особенности развития общества, в частности его переходные фазы.
Кроме того, весь период изучения живого мозга человека я стремилась, что называется, «не прикасаться» к так называемым странным явлениям, более или менее редким или практически уникальным, боясь осложнить и так нелегкую нашу работу. К 1994 году по основным позициям физиология человека не только у нас, но и за рубежом, можно считать, прочно встала на ноги. Но к этому времени и моя собственная жизнь резко изменилась, и я сочла своим долгом рассказать о том странном и далеко не всегда объяснимом, что я видела в жизни. Дальнейшее развитие науки, ее методологии и технологии, возможно, внесут какую-то ясность в понимание этих явлений. Но вряд ли их пониманию будет способствовать замалчивание в научной и научно-популярной литературе. Для себя главу о странных явлениях я рассматриваю так: вопрос поставлен. Задача следующих поколений ученых – изучать эти явления и постараться подобрать ключи к ним («Сезам, отворись!»).
Мне казалось, что эта книга будет последней в моей жизни. Но после нее, в 1997 году, была написана маленькая, но емкая книжка сугубо научного содержания, послужившая основой моей вступительной лекции на XXXIII Международном конгрессе физиологических наук, проходившем в Санкт-Петербурге. А дальше произошло следующее.
Холлы трудно осваиваемой географии здания Российской академии наук. Перерыв в заседании. Вполне обычная суета: кто-то ведет предвыборную кампанию, кто-то решает с начальством РАН финансовые, издательские и другие вопросы – начальство, выпив президентского чая, вышло в народ (к академикам).
В данный момент мне ничего не нужно – никого не ищу, ни с кем не общаюсь. Меня находит приятный человек средних лет: «Наталья Петровна, надпишите книгу – читаю, нравится». С некоторым отчаянием думаю: как же его зовут? Фамилию помню, но ведь мы сейчас от «товарища» отстали, а к «господину» не пристали. Да и не уверена, академик он или член-корреспондент… И тут приходит спасение: книга-то не моя, зачем я буду надписывать чью-то? Серое, невзрачное издание, без фамилии на обложке. Название, правда, знакомое, но я не издавала книг под таким названием. И все-таки, как оказалось, – почти моя. Изрезанная, плохо изданная, с первоначальным условным названием рукописи книги 1994 года «Через тернии – к звездам». Не подписываю эту свою-чужую сиротку. Смотрю, кто издал…
Говорю с редактором ледяным тоном: «Буду подавать в суд!» Дальше – еще тривиальнее: «Вы не имели права!» Ответ отрезвляет: «Не имел. Подавайте. Конечно, выиграете, но денег у нас все равно нет…»
Судиться – как-то еще не вошло это в нашу научную практику – не стала, а надо бы. Потом серая брошюрка появилась и в Санкт-Петербурге… Забыть, заснуть, ничего не видеть, не слышать и больше не писать! Но пожалел меня директор издательства «Нотабене» Лев Иванович Захаров: «Давайте переиздадим книгу. Может быть, добавите что-нибудь – ведь прошло четыре года… Вы по-прежнему верите, что у России – звездное будущее, не так ли?» Тираж издания 1994 года был маленьким, нестандартную «О мозге человека» просят – и, кому удается, покупают пиратский вариант.
И вот перед вами новое издание книги. Не судите строго: что-то, я надеюсь, стало лучше, глубже, что-то я добавила, но, наверное, что-то и испортила. А привлекшую наибольшее внимание в издании 1994 года главу изъять не могла. Так, как там написано, было… Так было? Это, конечно, еще не наука. Но и не лженаука. Так – бывает…
Введение
– Бабуль, а бабуль! А дальше? Ты же обещала… Ну пожалуйста…
– Наташенька, я тебе уже рассказала все самое хорошее из моего детства. Нас было сначала двое – я и брат, затем появилась маленькая сестричка. Мы жили в красивой квартире, в прихожей нас встречали три чуда: голова зубра, статуя Фрины во весь рост и огромная лягушка. Лягушку ты знаешь, она со мной и сейчас. Была немка-бонна, которая все время добивалась от нас с Андреем аристократического или как минимум приятного поведения («…Aber zierlich manierlich, Kinder»), отчего мы или действительно чинно садились за книжки, или через черный ход неслись по подвалам – три стоящих рядом дома имели общий подвал – и…
– Бабуль, бабуль, я знаю, вы там ловили котят, отмывали их в ванной, и некоторые серые превращались в рыжих или белых. Это я все знаю. Вы ездили на юг – на Кавказ, в Крым, там все было очень красиво, я ведь была в Крыму. Я не о том. Что было дальше? Ты начинаешь и вдруг говоришь, что не стоит. Стоит, бабуль, стоит, уж я-то знаю!
– Плохо было дальше, Наташенька, так плохо, что мы очень долго не знали, как плохо на самом деле, не знали, что может быть еще хуже. А на самом деле действительно было еще много хуже, чем нам казалось.
– Хуже – что? Хуже чего?
– Ну, если совсем коротко…
– Ой, не надо коротко, расскажи длинно-длинно, как было.
– Знаешь, Натуль, я очень не люблю, когда что-то – даже не очень важное – происходит с электричеством. Для меня это всегда большая неприятность, чем то, что реально произошло. А когда-нибудь я расскажу тебе еще, как случилось, что мне всегда так трудно собраться в лес за грибами. Хотя, когда я уже в лесу, все неприятное уходит – конечно, если не встречу змей. Я их недолюбливаю, мне всегда кажется, что есть что-то общее между змеями и характером некоторых людей.
…А сейчас – об электричестве. Был 37-й год, сентябрь. Мы жили в старом доме, хотя внешне он смотрелся вполне респектабельно. Он и теперь такой же: хочешь – сходи посмотри, это дом 12 по Греческому проспекту. Так вот. Вдруг у нас начали гореть провода. Проводка была наружная, и в темноте все провода начинали светиться красноватым светом. Не очень ярко – ну, как самая слабая лампочка в фонарике. Надо менять провода. Но сразу этого не сделаешь: нужно их найти, купить, посмотреть, что еще не в порядке. Словом, это продолжалось, наверное, с неделю. На ночь папа отключал электричество совсем, боясь, что ночью может случиться пожар.
Приснился мне в эти дни сон. Первый из четырех за всю жизнь, очень ярких и как будто «не снов». Стоит папа в конце коридора, почему-то очень плохо одетый, в чем-то старом, летнем, как будто в парусиновых туфлях. А папа даже дома одевался хорошо, хотя и иначе, чем на работу. И вдруг пол начинает подниматься, именно с того конца, где стоял папа. По полу вниз покатились статуэтки – папа любил их, поэтому их много было дома, но, конечно, не в коридоре. А под полом – огонь, причем языки пламени – по бокам коридора. Папе трудно устоять на ногах, он падает – и я с криком просыпаюсь… А на следующую ночь я проснулась оттого, что в квартире горел свет, ходили какие-то люди, и папа говорил им: «Вот еще мои дневники, здесь за много лет», – и отдавал им маленькие книжечки. Рядом стояли важные дворники. Те самые, дети которых недели за две показывали нам руками знак решетки – растопыренные пальцы обеих рук, наложенные друг на друга перед лицом. Знали… А мы не верили им…
Папа подошел к нам, успокоил, сказал, чтобы мы не волновались, что он скоро вернется, что все это – какая-то ошибка.
Не могу сказать, что я чувствовала в этот миг, даже не скажу, что это был испуг, – папа был так спокоен… А утром я спросила маму, почему она дома, а увидев на столе папины ключи – где папа. Я решительно ничего не помнила…
– Как, бабуль, совсем ничего? Ведь твоего любимого папу арестовали?!
– Мама попыталась сказать, что папа в командировке, потом заплакала: «Его арестовали…»
И тут я вспомнила все – сначала как сон, затем как явь… И с этой секунды стала ждать возвращения папы. Я ждала его и тогда, когда попала в детский дом – а это было через полгода, – и каждую, каждую ночь засыпала с мыслью: это произойдет завтра, придут за мной и братом Андреем веселые папа с мамой, и все снова будет хорошо. Лучше, чем было. Папа раньше часто получал премии, это всегда праздновалось дома. В эти дни мне тоже ужасно хотелось праздника, мне хотелось, чтобы все было по-прежнему и даже лучше. А папа, оказывается, уже больше месяца как был расстрелян… Маму в общем вагоне увезли в лагерь; потом она рассказывала, что больше года все время плакала, плакала: дома остались мы – трое детей. Мама была уверена, что всех взяли наши родственники, и очень волновалась за мою маленькую сестричку Эвридику (Эвочку): в семье, где, как она предполагала, живет Эвочка, был туберкулез, причем двое там уже умерли – тогда туберкулез лечили еще очень плохо…
Натуль моя молчит, думает.
– Ну вот, какую грустную историю я тебе рассказала. Лучше бы и не надо? И уж конечно, на сегодня хватит.
– А дальше? Ведь ты жива осталась.
– А дальше – когда-нибудь, ладно?
– Не когда-нибудь, я знаю: «когда-нибудь» – это почти никогда. Давай завтра, а?
– Посмотрим, Натуль. Если удастся и захочется, то завтра.
Прошло много-много дней и недель. И это я виновата, что так.
Она ждала, а я думала, что интерес пропал. Приходила ко мне. С мамой. И садилась у телевизора. Только поехав с ней вместе в Америку, я поняла, какое глубокое, думающее и чувствующее создание со мной рядом.
– Я все думала, думала.
– О чем?
Внучка Внучка Наташа
– Обо всем и о себе. Я хочу остаться здесь учиться, я хочу знать язык, посмотреть, как живут люди иначе.
– Натуль, но ведь надо сдать вступительные экзамены в школе – а ты у меня далеко не отличница, – пройти тестирование в Линкольн-центре. А?
Молчание. Затем тихонечко:
– Попробую.
И длинные-длинные переговоры с папой и мамой по телефону. К ее чести, она передала мне телефонную трубку тогда, когда родители были уже доведены до кондиции: «Пусть попробует». Против всех ожиданий, Наташа поступила в школу. Наши друзья американцы взяли ее жить в свою семью (!), а наш с ней разговор продолжился уже через полгода, когда я вновь приехала в Нью-Йорк.
– Я поняла, что привыкаю к детскому дому, когда стали постепенно меняться мои мысли при засыпании. Нет, я, конечно, ждала папу и маму, они должны были вернуться, но, может быть, не так скоро, как я верила вначале.
Эти три с небольшим года до 22 июня 1941 года все больше наполнялись разговорами о войне с фашистами; мы занимались ПВО (противовоздушной обороной) и, как оказалось, к войне были абсолютно не готовы. Всему приходилось учиться заново, и это нередко очень дорого нам обходилось. Поездив с детским домом вокруг Ленинграда, попадая под обстрелы и бомбежки, мы вернулись в город, где и просуществовали первый год блокады…
– Ты спишь, Натуль? Ну ладно, остальное – потом. Давай так: я напишу о самом главном в моей жизни, а ты меня «доспросишь» о том, что я пропустила, идет?!
Эта книга посвящается тебе как человеку нашего будущего. Ведь ты меня спросила: «Как ты жила?» А ты же знаешь: моя жизнь – это наука, к которой я сначала привыкала, а потом занималась ею со страстью, и семья, и события повседневной жизни. И конечно, я не могла не думать о том, что происходит в обществе. На самом деле принципиально важных законов не так много, и они, скорее всего, едины для мироздания и деятельности мозга. Вот я и пришла к сопоставлению явлений, событий общественного и организменного порядка. Для этого надо было все время углубляться в изучение механизмов работы мозга человека, знать и стараться понять на этой основе, что именно в обществе происходит по той же схеме. Этой книге предшествовал не только большой научный, но и богатый жизненный опыт. А толчком к ее написанию стали наше время перемен, переоценки ценностей, уговоры моей внучки Натули и просьбы друзей написать о себе. Я попыталась, и оказалось, что эти два опыта стали, по существу, одним, они слились. Это в первую очередь объясняется тем, что происходящее в живом мозге человека, естественно, теснейшим образом связано с жизнью – и личной, и общества.
В процессе многолетних исследований, длительного «разговора» с живым человеческим мозгом удалось сформулировать целый ряд принципов и выяснить многие механизмы его деятельности. Мозг человека обладает удивительными механизмами самосохранения (1) и самозащиты (2). Надежность мозга (3) имеет многоплановый материальный базис, по крайней мере часть которого нами раскрыта дополнительно к уже известному. Оказалось возможным обозначить принципы, лежащие в основе этой надежности.
Любая деятельность мозга реализуется системным механизмом, который, однако, принципиально различен в обеспечении стереотипной («автоматизированной») и нестереотипной, особенно творческой, деятельности (4). Условием адаптации организма к среде при повреждениях мозга и организма является формирование устойчивого патологического состояния, поддерживаемого соответствующей матрицей долгосрочной памяти (5). Выход из устойчивого патологического состояния может идти не плавно, а через фазы дестабилизации, причем последние должны находиться под строгим лечебным контролем.
Раскрывать и формулировать эти принципы и механизмы мне, конечно, помогали факты о работе мозга, полученные в уникальных условиях прямого с ним контакта, затем – непрямого, с помощью совершенной современной технологии. Оказалось, однако, возможным рассмотреть по крайней мере некоторые концепции и на основе так называемых житейских ситуаций, а также социальные ситуации на основе концепций.
Многое из того, что мы уже знаем о механизмах и принципах работы мозга, может и, по-видимому, должно учитываться при обсуждении общественных, социальных ситуаций. Так, больное общество может «выздороветь», не всегда двигаясь по гладкому пути, возможны и фазы дестабилизации. Однако именно эти фазы нуждаются в наибольшем контроле для того, чтобы общественная динамика развивалась в желаемом направлении. Нестабильное состояние равно трудно и больному человеку, и человеку в больном обществе.
Теоретическая наука о фундаментальных законах работы мозга оказалась на редкость практичной. На ее основе были осуществлены подлинные прорывы в лечении болезней нервной системы. Об этом тоже говорится в книге. Рассказывается о научной атмосфере как среде, в которой происходит цепная реакция научных и научно-практических решений, об оптимальной стратегии и тактике развития науки о мозге человека. И о некоторых людях, без которых все, о чем написано в этой и других моих (и наших) книгах, могло бы и не состояться.
Per aspera… (Через тернии…)
«Продажная девка империализма»! Интересно, что можно было бы обозначить так сегодня? Даже политические провалы носят менее броские имена, например Уотергейт… Люди, что ли, стали менее изобретательны в ярлыках?
«Продажная девка империализма» – такой ярлык оправдывал, в частности, отсутствие в программах по биологии разделов по генетике. Но – и в этом парадоксальность жизни – литература (да и история!) свидетельствует, что «продажные девки» имели иногда очень верных рыцарей. А за «продажную девку империализма» шли на костер – в его современном варианте – расстрел, лагерь, дальнее голодное выселение.
Все это происходило не в Средние века и не где-то далеко, а здесь, в нашей стране, в те несколько десятилетий, которые отсчитывают с 30-х годов. Хотя на примере истории своей семьи могу сказать, что вторая половина 20-х – более точный временной параметр.
Конечно, среди рыцарей были и джордано бруно, и галилеи, но и те и другие творили истинную судьбу науки. И чтим мы сейчас совсем не тех, кто торжествовал директивную победу над «служанкой» того же «империализма». А тех, кто отдал силы, здоровье и саму жизнь ради одной из наиболее практичных наук – генетики. Как богаты были бы сейчас наши нивы и пастбища, если бы не было в нашей истории такого затяжного торжества невежества и профанов, если бы биологию вдохновлял и дальше Вавилов, а не душил Лысенко!
И еще. Не привозили и не покупали бы мы сейчас «персоналок» (персональных компьютеров), если бы другой придворный острослов и иже с ним не остановили на годы технологию и методологию вычислительной техники, утверждая, что кибернетика – лженаука.
Академик Николай Иванович Вавилов
Про «великого» ученого-мичуринца Лысенко нам уже в 30-е годы рассказывали в школе. Не про Вавилова, а про Лысенко. Как алхимики прошлого, он обещал сделать страну богатой быстро и просто.
Жизнью поплатился Николай Иванович Вавилов за истинность научного пути. Как всякий ученый, он, вероятно, не только открывал что-то, но и ошибался. Один раз – как ученый и гражданин – ошибся серьезно: поддержал энтузиаста «из народа» (а мы-то все откуда?), недооценил потенцию зла, не остановил Трофима Лысенко. Впрочем, не он один.
В школе учили биологию по Лысенко. В газетах читали о процессах над «врагами народа». Однако газеты писали не обо всех, многие гибли безвестно. Сейчас, когда реабилитировали лидеров всех этих выдуманных блоков, так хочется, чтобы хоть кто-то сказал: «Да, вы, лидеры, не были иностранными шпионами, вы не рыли тоннель от Бомбея до Лондона (фильм «Покаяние» Тенгиза Абуладзе), да, вы не были виновны в расстрелах, да, ваше оправдание – залог глубины погребения репрессий. Но почему же вы не увидели рядом с собой величайшего злодея, далеко позади оставившего все, что знал мир? Да, вы не виновны во всей зловещей галиматье, для которой так подошла фигура Вышинского. Но как же вы отдали наших отцов и матерей на смерть от пуль, голода и лагерей? Зачем погиб мой дед Владимир Михайлович Бехтерев? Почему расстреляли в 49 лет моего талантливого и доброго отца? Как вы могли позволить себе не видеть, кто рядом с вами, и особенно тогда, когда пули начали буквально косить всю самую яркую часть интеллигенции, когда голод по приказу задушил бессчетное количество влюбленных в землю крестьян?..»
Ошибочно представлять себе время давней инквизиции лишь как сплошное аутодафе. Были и веселые кабачки, где праздновали дни рождения, свадьбы, где просто пропивали заработанные или полученные за донос деньги. Точно так же ошибочно представлять себе и 30-е годы нашей страны лишь как годы с комендантским часом. Зимой и летом на залитом огнями Невском гуляла нарядная публика, из окон весной гремела разудалая музыка – «Эх, Андрюша!..» Петр Первый смотрел с киноафиш скошенной улыбкой актера Н. К. Симонова; в который раз выигрывал ледовое побоище Александр Невский – и говорил с экрана то, что нам хотелось слышать. Мы все пели мажорные песни о мудром, родном и любимом вожде и о стране, где дышится вольнее, чем где-либо на планете.
Страшно и странно вспоминать, что мы, обездоленные дети расстрелянных и угнанных в лагерь родителей, часто чувствовали себя счастливыми и вместе со всей «необъятной родиной своей» кричали «спасибо, родной…» – убийце! Мы были невольными участниками пира во время чумы!
Нас было десять девушек-подростков из 60–65 воспитанников детского дома, и были мы все очень разные – с разной историей до детского дома, с разной индивидуальностью. Мне ближе всех казались две сдержанные, умные латышки – Эрика Кальнин и Клара Вишневская. С Эрикой мы и учились в одном классе общеобразовательной школы, ходили вместе в школу и из школы, дружили, на даче мы чаще гуляли втроем. Прошли десятилетия – и из далекой сельской местности меня разыскала Эрика. В ее недлинных письмах я нашла больше о ней самой, чем знала, встречаясь с ней каждый день, – нам при поступлении в детский дом запрещалось говорить о прошлом своей семьи, а значит, обо всем, что было. Мы как будто бы постоянно играли во всем известную игру: «Да и нет не говорите, черное с белым не берите…»
В конце концов что-то узнавалось, разыгрывались трагедии, но все потом как бы возвращалось «на круги своя», никакой «реструктуризации» (модный сейчас термин) не происходило, хотя в острые моменты жертвы таких «открытий» были по-взрослому несчастными, по-детски остро воспринимая неразрешимые несправедливости: любимые папа и мама – враги народа! Не может этого быть, это ошибка. Да, другие – может быть. Но не мои, это ошибка, ошибка, все обязательно выяснится, вот увидите. Но, как известно, не увидели…
Сначала очень ждали родителей. Вот разберутся в ошибке – и папа вернется, все будет по-старому. Потом – все меньше и меньше. Но ни на минуту в голове моей не мелькнула мысль, что мой папа, моя мама – враги. Что бы ни говорили вокруг. Мама из самых лучших чувств вначале написала мне, что в лагере ей придется быть пять лет. Считая годы, я была уверена, что в институт я буду ходить уже из дома. Через несколько лет появилась новая цифра – восемь лет. И я в одночасье поняла, что свою судьбу надо строить самой: я одна. Папа? Я ждала его до конца 50-х. В середине 50-х получила какую-то серенькую справку о полной реабилитации, о том, что он умер в лагере в 1943 году. А вскоре «добрые» дяди из КГБ сказали мне, что он расстрелян. Внешне да и, пожалуй, внутренне я отнеслась к этому спокойнее, чем можно было ожидать, – я просто не поверила.
Папа – Петр Владимирович Бехтерев
К этой мысли поначалу почему-то надо было привыкать. Даже думалось: лучше сразу, чем пять страшных лет лагерей особого режима и все-таки расстрел, – ведь в год Сталинградской битвы лагеря «очищали». А когда постепенно поверила, да еще прочла личное дело, думаю, что неожиданный для обвиняемого – еще чувствующего, не омертвевшего от холода, голода и унижений человека – расстрел ужасен… Помните: «Но Боже правый! Ложась безвинным под топор, врага веселый встретить взор и смерти кинуться в объятья…»? И следующую строчку из Пушкина. Спустя столетие все повторилось – недаром так много людей борется за запрещение смертной казни. Но, кажется, мы не так сейчас богаты, чтобы весь сегодняшний разгулявшийся криминал, в том числе криминал как результат «свободы», безработицы и нищенской зарплаты, взять на пожизненное иждивение. Трудно сейчас развернуть наше общество в сторону созидания. Оказалось, что слишком много есть способов отнять у бедняков последнее – без существенной затраты труда. А созидание – это всегда труд, в зависимости от технического уровня общества и таланта людей – больший или меньший личный труд.
…Те страшные и противоречивые годы растили поколения, жившие по лозунгам и принимавшие ярлыки, навешиваемые на целые области науки. Но в 40–50-е годы находились все-таки еще ученые, для которых научная истина была неизмеримо дороже чечевичной похлебки. В те же 40-е народ, воспитанный на победных маршах, нашел в себе силы вышвырнуть фашистскую нечисть с нашей земли. И это вопреки тому, что практически обезглавлена была не только армия, но и военная промышленность, что многие из тех, кто на века прославил доблесть русского оружия во Второй мировой войне, вышли на поле боя непосредственно из мест заточения. Народ остановил врага уже у Волги, хотя постоянно слышал, что мы не отдадим и пяди своей земли. В конце концов, действительно не отдали. Но страшной ценой – ценой миллионов человеческих жизней, не говоря уже о культурных ценностях!
Оттепель 50-х коснулась науки, в которой я уже жила, – физиологии. В целом ей хоть и досталось на так называемой Объединенной сессии АН СССР и АМН СССР, все же сравнительно с биологией и особенно генетикой (вспомним предшествующую сессию ВАСХНИЛ) много, много меньше. Как ни парадоксально, наши беды шли от насильственного повсеместного внедрения идей и обмолвок действительно великого ученого – И. П. Павлова. Беды генетики обернулись закрытием целой области науки – во славу современной алхимии.
Мы буквально купались в этой оттепели, ошибочно приняв ее за море – море новых, невиданных свобод, а самое главное – свобод, установленных навечно! Чего, как известно, не бывает. Свобода более хрупка, чем диктатура, ей нужна поддержка всех и каждого.
Годы жизни в науке кое-чему научили меня, и прежде всего тому, что хорошо знали ученые и раньше. Научили уходить в работу от мелких сложностей жизни, садиться за письменный стол, чтобы отдохнуть, перейдя в другое измерение, недоступное житейскому. И ни судьбы 30–40-х годов, ни собственный жизненный опыт не подсказали мне, что жизнь общества и возможности фронта – именно фронта – науки крепко-накрепко связаны. Что вся наука может вновь стать столь же уязвимой, как человек, как маленькая и большая группы людей.
Павловцы уже начали вновь творчески развивать наследие великого отечественного гения. Мы, «остальные», опомнившись от «опрощения», уже стали кое-где работать вровень с мировой наукой, обогащаясь ею и обогащая ее. Мировая наука начала выделять из нашей среды тех, кто не оказывался лишь директивным гастролером на ее арене, завязывались долгосрочные контакты. Мы стали получать информацию «из первых рук».
Что-то в нас все же было такое, что заставляло все время, часто почти автоматически, отслеживать возможные девиации от того, что считалось материализмом, а по существу – познаваемым не вообще, а именно сегодня. Но сознание того, что это «что-то» было, пришло позже, да и то далеко не ко всем.
А в целом наше мироощущение с середины 50-х и в 60-х соответствовало лозунгу «Все страшное – позади». Мы шли вперед без оглядки на национальные и глобальные проблемы. Это было почти «хорошим тоном», почти признаком настоящего ученого.
Поневоле, однако, в этой отрешенности от общей судьбы поверишь в «сглаз». Безоглядно увлекшись молодой тогда физиологией мозга человека, 2 марта 1967 года – хорошо помню это число – я определила себя как человека счастливого. Несмотря ни на что и применительно к марту 1967 года. Сглазила? А что это такое? По-моему, при целенаправленном сужении сознания это – недооценка динамики множества внешних (а в другом случае – и внутренних) факторов. Хотя это, конечно, неполное определение.
Между тем оттепель прошла. В. И. Гребенюк, председатель комиссии Ленинградского обкома партии по разбору написанной на меня анонимки, в ответ на мое естественное удивление тому, что происходит, стал угрожать стереть меня в порошок, превратить в лагерную пыль. За что? За непонимание ситуации, за свою линию, просто за непокорность… Вот так, в моем же служебном кабинете, в 1967 году мне были уже адресно воспроизведены известные слова Лаврентия Берии…
Анонимку, при всех стараниях комиссии, подтвердить не удалось ни по одной позиции, хотя «дело» длилось пару месяцев. Никто не извинился передо мной – это уже вновь было не принято.
Только тот, кто пережил такого безымянного врага, в состоянии полностью оценить значение запрета разбора анонимок, восстановление петровского завета: «Подметные письма, не вскрывая, жечь!»
На заседании Международного симпозиума «Глубокие структуры мозга в норме и патологии». Ленинград, 1966 год. Председатели – Н. П. Бехтерева (СССР) и Грей (Англия)
Несмотря на полное торжество правды, что-то очень важное тогда сломалось во мне. Живу, работаю и помню, что это все было, было. Было в году 1967-м, в период правления такого внешне добродушного, бровастого звездоносца… Теперь мой мозг, моя память знают, что предсмертное завещание Юлиуса Фучика: «Люди! Будьте бдительны!» – относится не только к фашизму. Оно – к проблеме ядерной угрозы. Оно – к антидемократии. И оно же – ко всем нам как предупреждение.
Отвечаю за сделанное. А после 1967 года, несмотря на требование разума, может быть, чуть-чуть меньше, – за несделанное. Оберегала все эти годы свою науку (а значит, и себя, своих сотрудников и учеников) от всего, что может скомпрометировать ее. Нейрофизиология мышления, корреляты эмоций – все это изнутри мозга. Не оставлявшее многие годы чувство края пропасти. А поэтому – подальше от экстрасенсов, от вещих снов, от парапсихологии, в том числе от гипноза и внушения. Нет подходов, неясно, невоспроизводимо, не существует. Пожалуй, такая позиция не подходит к гипнозу и внушению. Феномен произвольно воспроизводим, а поэтому можно в нем разбираться. Но это – только сейчас… Неясно лишь, куда девать эпизодически проявляющиеся у самых разных людей так называемые паранормальные способности: опережающие сны, предвидение будущего, диалоги с молчащим собеседником – в мешок и в воду?
Надеюсь, что в конце концов найдутся подходы и к «странным» проявлениям мозга. По ходу исследований, может быть, окажется возможной полная расшифровка мыслительного кода. Ведь в том, что под идеальным – мышлением – лежит (подлежит) вполне материальное, нет сомнений. Однако для того, чтобы мы, не боясь ярлыков, заглядывали в научные пропасти, а не только ходили по их краю, необходимо, чтобы общество было по-настоящему свободным, свободным от ненужных, неоправданных запретов, а жизнь в этом обществе – свободной от ужаса ядерной катастрофы и нарушения прав человека. Все это абсолютно необходимые условия для реализации бесконечных возможностей человеческого мозга, в том числе в познании самого себя.
Так как же, несмотря на все…
Это, наверное, лучшее свойство живых существ – ненаследование условных рефлексов, потеря опыта родителей при рождении нового человека. Я никогда ни от кого не слышала такой оценки этого положения. Обычно факт просто констатируется или говорится о том, что передается известное предрасположение (и я, и дед грешны!), или факт оспаривается. Но, Боже мой, как я счастлива, что 30-е и 40-е годы мой сын и его товарищи знают лишь по рассказам! Когда мы приобретаем знания, опыт, всегда жаль, что их не передать. Что ж! Пишите книги, пойте песни, растите учеников – передавайте накопленное из уст в уста. Любые искажения при такой передаче все равно лучше наследования опыта.
Природа много мудрее нас. Представьте себе победителей и побежденных. Агрессия и страх, в постоянном взаимном усилении по мере смены поколений, давно бы стерли с лица нашей планеты все, что можно уничтожить, убили бы в зародыше любую мысль. А если бы мы передали нашим детям страх ночного стука в дверь и беседы с другом?.. К счастью, просто страх не передается следующему поколению, хотя, как хорошо известно, есть целые генерации более или менее смелые. А в течение жизни, и тоже, конечно, к счастью, страх (даже если это не страх, а ужас) бывает чаще всего не глобальным, а парциальным. Страх чего-то, страх многого. И только иногда – страх всего, всепоглощающий страх неминуемой гибели.
О чем здесь идет речь? Кое-что можно перевести на язык физиологии. Всепоглощающий генерализованный страх ведет к тому, что мозговой базис, на котором должна была бы осуществляться наша интеллектуальная деятельность, изменяется везде – или почти везде. Зоны мозга, группы нервных клеток не могут включаться в мыслительную деятельность. Человек лишается творческой мысли – этого прекраснейшего из своих достояний.
А если рассмотреть вопрос в другом аспекте, в аспекте того, как же возрождается мысль? Как творит – пером или кистью, сидя за мольбертом или за компьютером – человек, переживший кровь войны и трагедию самых разных форм насилия?
Человек, лично переживший трагедию страха (ужаса), или ломается как личность – полностью или частично – в связи с фиксацией в долгосрочной памяти страха и соответствующего состояния мозга, или выходит из этого состояния – иногда благодаря лечению, а в планетарном масштабе чаще всего путем использования своих собственных защитных механизмов. Эти механизмы у многих включаются сразу или как бы ждут малейшего благоприятного изменения режима работы мозга, чтобы начать делать свое благое дело.
Переживания ужаса от предыдущих поколений последующим не передаются. Об этом говорят физиологи. Но как только копнешь в глубину, ну, например, в биохимическую расшифровку физиологических явлений, так возникают сомнения. Может быть, все-таки что-то, физиологически неуловимое, проходит через барьер поколений? Конечно, лучше бы насилие, агрессию и прочие беды запрятать подальше. Так спокойнее, надежнее. Мне могут возразить: страх передается и через литературу, историю, средства изобразительного искусства. Да, в массовых масштабах они могут даже сформировать невроз фобического типа или депрессию. Особенно в этом плане активна идея всеобщей ядерной катастрофы. А в обычных масштабах «собака Баскервилей» детства легко забывается, и только очень впечатлительные (эмоционально не сбалансированные) дети долго боятся темноты и одиночества – условий, когда обычные источники мозгового тонуса уменьшаются и темные силы отрицательных эмоций свободнее гуляют по незащищенному мозгу.
И все-таки о чем все это? Это своеобразная антитеза мажорной трагичности предыдущей главы книги. Да, мы не только выживаем, даже тогда, когда очень трудно, но после этого творим, и на нас не лежит наследственный груз страха и печали. Печаль о происшедшем и прошедшем трогает нас через разум, а эмоции в этом случае развиваются в связи с опосредованным воздействием извне, а не изнутри организма. Но как хорошо бы завоевать миру сейчас, немедленно жизнь без социально детерминированных страхов, горестей, трагедий, реализовать прекрасную утопию! Все равно ведь останутся – для оттенения радостей – болезни, смерти, неразделенная любовь, справедливая и несправедливая двойка и многое другое, от чего уж никак не укрыться человеку.
Творчество является одним из высших, если не самым высшим, свойств мозга. Увидеть мысленно то, чего не было, услышать музыку, которой нет… Одним из высших – но и уязвимых… Что же еще, кроме механизмов мозговой самозащиты, кроме того, что каждый новый живой человеческий росток потенциально может быть бесстрашным, сохраняет творческий потенциал человечества?
Родители! Если уж вы, во имя мимолетной встречи или «эпохальной» любви, произвели на свет новое существо, помните, что ваши обязательства перед ним ничуть не меньше, чем перед обществом в целом. Ибо «общество в целом» всегда складывается из отдельных людей, из нас, тех, кто рядом с нами, и тех, которые придут нам на смену. Через всю жизнь проносит человек свое детство, и хорошо, если оно дает ему силу. Детям очень нужны любовь и радость. Ведь радость противостоит страху и унынию. Развеселите огорченного малыша, окружите его любовью.
Что значит окружить любовью? Все прощать, зализывать все ранки? Считать, что все, кто не согласен с моим детенышем (а детство может длиться долго, очень долго), – все плохие, все виноваты? Он один всегда прав? Конечно, нет. Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью[1].
Расскажу две истории. Было у родителей трое детей. Они были не близнецы, а соответственно: старший, средний и младший. Младший был много младше, и потому, когда он увидел свет, произошла четкая дифференцировка родительских отношений. «Он – маленький, понимаете, дети, маленький!!» Сгладилась до того бывшая заметной разница в отношениях к двум старшим. Оказались в семье двое детей и… маленький. Налетел социальный ураган, разнес по свету всех – и старших, и маленького, четырехлетку. Отец не вернулся, его вскоре не стало. А мать через страшные и долгие семь лет вновь взяла к себе маленького. И все пошло по новому кругу. Теперь уже просто из-за болезненной любви матери, которая стремилась к маленькому все эти годы и обняла наконец, укрыла, как она думала, совсем по Сольвейг, «от бед и от несчастий» (Г. Ибсен. «Пер Гюнт»).
Картина художника Д. Д. Жилинского «1937 год»
Я знаю почти конец этой истории. Маленький был красив и одарен, но ничего не должен жизни – так его воспитала мать с ее святой, всепоглощающей любовью. Жизнь, как он себе это представлял, ему была должна все. Плохо только, что жизнь-то об этом ничего не знала, а потому долгов своих отдавать никому не собиралась. Сошел маленький раньше старших с круга, да и болеть стал. Увяла прежде времени красота, ушла уверенность, стерлась и разница в возрасте – не календарная, биологическая – между старшими и младшим.
А что дало силу старшим? Мать была моложе, когда они появились на свет, много внимания она уделяла своей личной жизни, ситуация была сбалансированной, и поэтому старший особенно хорошо знал: он должен, должен, должен! Должен – встать, одеться, умыться, учиться – и сейчас, и потом. Должен – через военные пересадки – а как их много, они такие трудные, каждый раз кажется, что уж это конец, – через багажные полки вагонов (кстати, прекрасно!), через крыши вагонов (страшновато!) ехать в лагерь к матери – и чтобы повидаться, и чтобы поддержать, – и должен заботиться о маленьком. Разве не любила старших детей мать? Конечно, любила. Но любила человеческой любовью, которая и дает силы для будущей жизни, и готовит к ней. А маленький купался в биологической любви, не признающей ни долга, ни обязанностей, да так и не адаптировался к жизни.
Итак, любите не человечество, а человека, ребенка, собаку, кошку – но, пожалуйста, умейте любить. Помните, что любовь – это долг, это труд, с видением и предвидением пополам. Моя прабабка не могла учить всех своих троих детей (выше речь шла не о ней). «Будем учить Володьку». Дальше – и ранний отъезд юноши в чужой город, и раннее участие в войне… Стал Володька, который все был «должен», Владимиром Михайловичем Бехтеревым… А любила ведь его мать…
Первую историю можно прочесть и иначе. Поздний ребенок… В научно-фантастической литературе уже есть запреты на поздних детей. В жизни все гораздо сложнее. Если в медицинской литературе это проблема здоровья, выносливости позднего ребенка, то в жизни – еще и измененная годами психология родителей. Верю, что очень нужен свод правил, заповедей – как готовить ребенка к жизни, да так составленный, чтобы впечатлял. Выкинув из нашей жизни религию, мы избавились не только от мощнейшей психотерапии, но и от свода нравственных правил… Да еще как умело подаваемых!
За руку с мамой на прогулку. «Вырасту – пойду в техникум». – «Никакой не техникум, а институт, тебе – институт. Видишь, как тебе все легко дается? Вот и пойдешь в институт.
Мама – Зинаида Васильевна Бехтерева
И будешь ученым». И пошла, через детский дом, через блокадную снежную зиму. Шла каждый день: «Вот дойду до моста – и назад, в детский дом» (мост – Троицкий – тогда Кировский), «Дойду до середины – и домой». Ветер, ветер, ах, какой ветер! Пусть бы любой мороз – только бы не ветер! А на мосту всегда ветер. По-моему, он там просто прописан. Дошла до середины пути: «А теперь все равно куда, уж пойду вперед – вперед привычнее» (легче по генотипу, наверное). И так – ежедневно, шесть дней в неделю, до опасной весенней дороги по Ладожскому озеру.
Что же вело меня? Желание получить высшее образование? Да не было у меня в замерзшей голове таких мыслей. Была, действовала и вела сформированная мамой в раннем детстве матрица памяти. Конечно, были еще и другие факторы. В детском доме, чтобы не быть отправленной после семилетки для «исправления сознания», как дочери «врагов народа», на кирпичный завод, надо было стать совсем-совсем первой ученицей – это было так легко! Но «надо», помноженное на легкость учебы, укрепляло матрицу памяти, а не воевало с ней – укрепило ее, сделало каменной оградой. И все-таки определяющим было: «Учить будем Володьку, толк будет»; «В институт пойдешь, запомни – в институт, твоя дорога – наука». И это не был вопрос престижности высшего образования. Мы все трое кончили вузы, но твердила об этом мама мне одной. И гораздо больше, чем у остальных двоих, было у меня поводов «сойти с дорожки». Как хотелось мерзлой первой зимой войны не вылезать из-под одеяла! А я шла: через мост, сквозь ветер… Как физиолог я должна сказать, что делала это в какой-то мере так, как выполняют свою жизненную программу муравьи, пчелы, бобры… Только они – на основе памяти генетической, я – на основе впечатанной на много десятков лет вперед матрицы долгосрочной памяти. Матрицы, в которую мама запрограммировала мою первую жизненную стратегию!
Сколько всего написано о войне! Война, как и все масштабные потрясения, имеет для каждого по крайней мере два лица: общее – для большой группы людей, вплоть до целой страны, и индивидуальное, личное. И общее, и индивидуальное описаны гораздо лучше, чем я когда-либо смогла бы это сделать. Но никто лучше меня не знает моего, личного лица страшной Второй мировой войны, и в моей книге хоть несколько строчек – и об этом.
22 июня 1941 года мы с детским домом были на даче. Еще до объявления войны поползли какие-то слухи о том, что уже идет война, что-то происходит необычное. Но как всегда в эти прошедшие годы: «Не верьте слухам, это враг (какой?) распространяет их». И наверное, только краткость срока до настоящего объявления войны смела эту предысторию в мусорную корзинку времен.
Я гуляла в маленьком лесочке, через который проходила дорожка к центру поселка. Неширокая, совсем не главная. Навстречу мне шла пара – я определила девушку и юношу как удивительно счастливых, влюбленных друг в друга. Девушка была редкостно хороша собой – какая-то очень светлая и яркая: яркие глаза, яркий румянец, яркая улыбка. Мне было 16, я смотрела на нее во все глаза – любовалась ею и, наверное, слегка завидовала. Занятые друг другом, они никого не замечали, как будто и шли куда-то, где им будет так же хорошо или еще лучше.
Прозвучала по неизвестно откуда взявшейся «тарелке»-радио в 12 дня речь Молотова. Я слушала ее – и весь ужас будущего был для меня еще нереален. И вдруг я увидела тех же двух людей, возвращавшихся по той же тропинке. Но уже совсем других. Ясновидением любви девушка прочла очень вероятную судьбу друга – и рыдала, рыдала, все время пытаясь успокоиться, взять себя в руки, – и не могла.
Как в первую встречу, несколько минут назад, я определила для себя их одним словом – «счастье», так во вторую, глядя на них, у меня в мозгу вспыхнуло страшное слово – «потеря» – потеря, потеря… Еще они вдвоем – и уже цепь будущего прервана, может быть, насовсем, того, что было только что, нет, нет, нет совсем. А именно потому, что оно было, так громко стучит у меня в мозгу – потеря…
2 февраля 1999 года смотрела я фильм о Сталинграде. Не первый, конечно, фильм о войне. Но опять ожила старая боль: падает на землю солдат, умирает генерал, и все это потеря – потеря отца, сына, мужа, брата, любимого и любимой – женщины тоже гибли в войну… Потеря как общая и личная, жгучая, неутихающая боль.
Шли тяжелые, свинцовые дни 41-го, 42-го, 43-го. У нас, в Ленинграде, в детском доме, на фронт ушел наш любимый директор Аркадий Исаевич и вскоре погиб. Нам назначили другого – нет у меня ни одного хорошего слова в его адрес. Перед каждой скудной едой – но все-таки едой, которая, мы знали, сейчас дымится на столах, – стоим мы на линейке. Стоим, пока наша еда не замерзнет, – слушаем монолог садиста-директора о том, как надо есть, как надо пережевывать пищу, и снова – как надо есть и т. д. Он уже позавтракал (поужинал, пообедал), причем позавтракал досыта: он всегда требовал, чтобы тарелка была «с верхом», ведь дело у него такое ответственное – руководить всеми нами…
И все говорил, говорил… Он никогда не кричал, он только говорил, но вспомнить страшно, как мы его все ненавидели!
Когда мы проехали на машинах в марте 42-го через Ладогу, на поезде – до Ярославля (поезд ехал больше недели) и наконец приехали к месту назначения – небольшому селу на берегу Волги, нам, как блокадникам, надбавили какие-то копейки на питание. «Патриот»-директор отказался от этой надбавки – «все для фронта» – и по-прежнему держал, как и в Ленинграде, всю свою немалую семью на нашем пайке.
Кажется, до 50-х годов я никак не могла наесться досыта, мне все время хотелось есть. Да и всем блокадникам так. Но в моем уже не чисто физическом, а и психологическом голоде была большая «заслуга» нашего директора со скромной фамилией Иванов.
Ненависти в самую тяжелую зиму 1941/42 года было много во всех – и в нас тоже. Ненависть к врагу, к фашистам – общая со всеми, ненависть к директору – наша. Но по мере того как голод делал свое страшное дело, накал ненависти слабел вместе с нами. И вот такие «доходяги», мы ездили на Неву за водой с саночками, ведрами и кастрюлями.
Сейчас я не могу себе представить, как мы все-таки доставали эту воду, – берега, по которым мы спускались, были покрыты льдом от пролитой до нас и нами воды. В нормальной жизни такое доставание воды могло бы быть одним из самых сложных аттракционов с соответствующей наградой. Нашей наградой была вода. Мы очень хорошо знали, что вернуться без воды нельзя, – и доставали ее, встав цепочкой на ледяном крутом берегу, и везли ее домой – на Стремянную, 6, через весь Литейный, через Владимирский. Даже первые дома Стремянной не позволяли обрадоваться (ну, теперь-то дома!). Пролить драгоценную воду можно было и на последнем метре – улицы нигде не убирались, заледенели, каждый шаг был преодолением. И все-таки преодолевали, изредка хватало воды помыться, хотя как-то раз нас даже в баню сводили. В не очень горячем густом паре раздетые люди смотрелись действительно как привидения. Мы тогда еще не знали о лагерях смерти, но выглядели, наверное, похожими на заключенных из концлагеря.
По сирене спускались в подвал. По мере того как шли блокадные дни, подвал давался все труднее – и потому, что сил было все меньше, и потому, что приходилось совсем рядом откапывать подвалы разрушенных домов… И потому, что в подвале почему-то было страшнее слышать свист падающей бомбы: «Пронесло… на этот раз пронесло».
За хождение по Марсову полю во время артиллерийского обстрела меня оштрафовали на 2 рубля 50 копеек. Узенькую беленькую квитанцию я долго хранила как доказательство моей храбрости. Потом все-таки поняла, что афишировать свою глупость необязательно, – и порвала ее…
Когда я мысленно возвращаюсь в прошлое, в страшную блокадную зиму 1941/42-го, я вижу кроме маленького нашего героизма – ну тушили зажигалки на крышах осенью – еще и действительно яркий героизм защитников нашего города – и не пускающих врага в город, и привозящих бесценный хлеб по льду пополам с водой, и предупреждающих эпидемию, собирая и увозя на пятитонках груды мертвых тел на Пискаревку (тела были уложены как дрова, и чтобы увезти больше, по бокам тела везли стоя). И безусловно – героизм артистов одного-единственного оставшегося с нами театра – Театра музыкальной комедии.
О Театре музыкальной комедии… Полномасштабную хвалу ему я услышала только в совсем недавние годы. Как и многое, что было тогда в Ленинграде, и этот подвиг долго замалчивался или упоминался как-то вскользь.
А теперь представьте себе: в том жутком реальном мире – сотни людей (зал был всегда полон, билеты покупали заранее) в освещенном нарядном зале. Пусть мы в пальто, зато на сцене артисты, хоть синие (или синеватые), но нарядные, и музыка, музыка. Одна из тех двух, которые особенно нужны были тогда людям: для того чтобы выстоять – Ленинградская симфония Шостаковича, «Священная война» (это – позже); для того чтобы выжить – бездумный фейерверк мелодий о вечно новой любви… И через несколько минут после начала мы уже верили в важность того, что происходило на сцене, на целых два-три часа уходили из мира смерти. Я знаю, что хождение по утрам, в темноте – далеко, холодно – было возможным не только в связи с программой, заложенной моей матерью («…в институт»); но и с помощью этих волшебных вечерних передышек. Человеку свойственно искать радость, это – неназванный биологический инстинкт выживания. И те, кто подчинялся ему, находили в темные морозные вечера дорогу к этому ежедневному подвигу голодных, синюшных, но всегда блестящих артистов Театра музыкальной комедии.
* * *
Надо сделать так, чтобы трудности, если их не избежать, закаляли. Директор детского дома Аркадий Исаевич Кельнер (А. И.), погибший в первые дни войны, знал секрет формирования стойкости, закаливания. Красивый, умный человек, с красивой женой, он любил нас, а мы любили его и боялись. Но не так, как боятся холодного исполнителя. Любили за любовь, за умную любовь к обездоленным детям, и боялись требовательности, продиктованной любовью. Уже после его смерти многие из нас подтвердили своей жизнью, что через трудности можно пройти, не только что-то неизбежно теряя, но и что-то приобретая.
Человечество любит (чаще всего вне своей сферы) готовые рецепты. На общие положения как-то не хватает времени. Всякому знакомо: «Ну ладно, понимаю, принимаю, но ты скажи – как? Как печется пирог? Как строится дом? Как воспитывается стойкость?» Попробую, перескочив через общие позиции, понять и рассказать, как воспитывалась стойкость нашим А. И.
Аркадий Исаевич Кельнер и Софья Борисовна. Такими я помню их
Детский дом. Летом на прогулке
Из основных его принципов, пожалуй, надо рассказать о трех, хотя три – это условно, на самом-то деле все было «триедино». Балансирование эмоций – по возможности добавление радости к сложной жизни детского дома. Воспитание гордости и воспитание стойкости, что тоже очень важно для воспитанников детских домов.
Если в семье все хорошо – а у А. И. было все хорошо, – можно, наверное, придя домой, забыть о работе (о нас то есть). Скорее всего, во многих случаях так оно и было. После трудного дня общения с множеством разных характеров забывал он о нас со своей женой Софьей Борисовной, редкой красоты женщиной. Но никогда не забывал о порученном ему деле, не оставлял на произвол судьбы или на произвол детей (вспомните – «Повелитель мух»). В детях, предоставленных самим себе, нередко доминирует злое начало, если не найдется среди них лидер – Тимур (из Гайдара, а не из истории Востока XIV–XV веков). Так вот. Дети работали часа по два после школы в мастерских, которые давали им дополнительные средства, одежду и обувь (хозрасчет и трудовое воспитание!). Делали уроки. А затем готовили постановки – пьесы и так называемые монтажи: здесь были и музыка, и слово, и пение, и танец, в них интересно было актерам, но не менее интересно и зрителям. Любого «актера» можно было похлопать по плечу, похвалить или, посмотрев «сверху вниз», подправить («Уж я бы на твоем-то месте!..») и т. д. Вчерашний зритель, в свою очередь, завтра становился актером. А актер – зрителем. Почти все вечера, свободные от доморощенного драматического театра (это не в укор художественному руководителю, он был у нас), зимой мы гонялись по льду ярко освещенных тогда катков, многими видами спорта занимались летом (ГТО-1, ГТО-2, «Ворошиловский стрелок», плавание, гребля).
Что все это давало нам? Массу положительных эмоций. А они, как известно и из жизни и из нейрофизиологии, – враги отрицательным. Массу прекрасного движения, а уж движение – гораздо более сильный враг тем же отрицательным чувствам. Таким образом, конечно, совсем об этом не думая в нейрофизиологических терминах, А. И. укреплял «во вверенном ему учреждении» эмоциональный баланс и укреплял его у всех и каждого с помощью внутрисистемной (эмоции versus эмоции) и межсистемной (движение versus эмоции) защиты.
Как было бы хорошо, если бы родители, в дополнение к родительской любви, следовали этим простым и прекрасным способам формирования эмоционального баланса!
А гордость? Если гордость не перерастает в гордыню, чванство, она – большая сила. Именно гордость как форма выражения чувства собственного достоинства может помочь «не дрогнуть перед казнью», да и во всех других, более житейских, сложных и простых ситуациях: выполнить свой долг, даже если это очень нелегко. Можно ли воспитать гордость – или с ней родятся? И можно ли восстановить (воспитать) гордость у детей с израненной душой, прошедших через ужасы насилия? А. И. умел.
Мы как-то получили для работы в мастерских оранжевые фланелевые платьица. И на следующий день отправились в них в школу – все, у кого они были, и я в том числе. С тех самых пор оранжевый цвет во всех вариантах (кроме природного – апельсины) вызывает у меня довольно-таки мерзкое чувство. Как будто я снова стою в этой (будь она неладна!) оранжевой фланели перед кричащим – да, да, может быть, даже орущим – директором. В чем была наша вина? Оказывается, она была неподъемно большой: мы сами, добровольно и по глупости, превратились в приютских сироток, которых все порядочные люди (учителя, родители «домашних» детей) должны были жалеть. «Ты-то, ты-то, гордость школы, лучшая ученица, как у тебя не хватило ума понять, что ты делаешь?!! Самой себе наклеить ярлык приютской…» И много всего другого, в том числе и о том, что он делает, чтобы такой ярлык просто не смотрелся на нас. И тут я огляделась. Туфли нам шили наши мальчики. Лакированные, в белую крапинку. Не очень, правда, прочные, не «Скороход», но и по виду не «Скороход» – глаз от них не отрывали «домахи» (домашние). А платье… Ни у одной из нас, несмотря на все извечные стремления подружек, не было «парного платья» (формы тогда не существовало). Когда мы подросли, пальто нам шили на заказ в Гостином. Наверное, недорогие, но по нашим меркам и даже как бы «взрослые». Мы ими очень гордились.
Я об одежде… да, об одежде. Но, скажет моралист, разве в ней дело? «По одежке встречают…» и т. д. Все остальное было тоже. Лучшие спортсмены, лучшие ученики, лучшие актеры, лучшие, лучшие, лучшие… Но лучшие – это гордость единиц. А. И. думал обо всех нас, и поэтому я привела такой житейский пример, непригодный для родителей. Хотя почему? В обобщенном виде это выглядело так: всегда подтянутые, всегда аккуратные и во всем очень разные дети одной большой семьи. А почему это не годится для семьи маленькой? Кстати, помните, в войну были введены погоны?..
Я – типичная «домаха» (до детского дома)
Я была типичная «домаха», когда попала в детский дом. Да еще после всего, что произошло со мной, очень трудно адаптировалась. Естественно, меня за это дети поначалу не слишком жаловали – или не жаловали совсем. Идеальный вариант, о котором по поводу баланса эмоций я писала выше, работал не без сбоев. Доставалось и физически. Вызвал меня как-то к себе директор и сказал: «Я помогу тебе, если ты выдашь (ах, какая умница!) зачинщиков. Они у меня…» Выдашь. Слово-то какое! Просидела я без обеда и ужина у него на кожаном диване порядочно часов. Хорошо хоть, что он заходил редко. А наутро на линейке А. И. рассказал о моем вынужденном и безрезультатном голодании. Да в каких красках! Конечно, я этого не заслужила, и говорил-то он явно не для меня. Но знал, что сильнее книжных приемов на детей действует то, что видно, слышно, что рядом. Вскоре после этого и без формальной связи с этим событием мы начали повально проводить опыты на стойкость – близко к варианту Муция Сцеволы[2]. К счастью, количественно на много порядков полегче – не всю руку и даже не весь палец! Круглое пятнышко на тыльной стороне левой руки видно у меня до сих пор. Всех я «перетерпела», но хорошо, что терпеливых все-таки было не очень много – кисть руки работает, ни нервы, ни сухожилия не повреждены.
Среди имен, отличивших русский народ, в страшный день 7 ноября 1941 года нечистая совесть не помешала Сталину назвать имя В. М. Бехтерева. Среди тех, кто был примером современникам. Среди тех, перед памятью которых не должны были дрогнуть тогдашние защитники Родины. К стойкости они призывались именем памяти славных предков.
В тех науках, где для открытий недостаточно школьного и вузовского объема знаний, где, как правило, важнее всего накопление личного опыта, собственные цели, если это не были цели чисто служебной лестницы, поначалу завышенные, нередко потом сжимались под давлением реальности до выполнения чисто конкретных задач. И если не двигали вперед человека матрица памяти, талант и честолюбие (помните: «Князь Андрей был честолюбив…» – Л. Н. Толстой), не поддерживала врожденная и приобретенная стойкость… ну, дальше продолжать не надо.
Наконец-то появилось у меня в тексте слово «талант», творческие способности ученого! Что он делает со своим хозяином и с обществом (если реализуется)? Не буду распространяться об обществе. По-разному в разные эпохи, в разных условиях, но талант ученого, за редким исключением, вносит в историю свою страничку, прочтение которой обществом иногда, к сожалению, запаздывает на поколения и эпохи. А с обладателем таланта? Конечно, проявиться художественной склонности легче, чем научной. Маленький ребенок начинает рисовать на песке, на клочке бумаги, напевать, все это многократно прослежено и известно до тривиальности. Талант как бы говорит сам за себя, проявляется, требует выхода.
Академик Владимир Михайлович Бехтерев
Принципиально то же происходит с любой формой одаренности, сколь рано или поздно бы она ни проявлялась. Настоящую, естественную одаренность, а не ее воспитанный, скажем так, суррогат, или вариант, проявленный воспитанием, очень трудно «затормозить», спрятать. Она (он – если талант), опять повторяю, требует самовыражения, как бы живет своей жизнью, одновременно зависимой и не зависимой от носителя этой одаренности. Причем требует не только выхода, но и постоянного труда. Воспитанный баланс эмоций, разумная гордость и стойкость – важнейшие условия для полной реализации таланта. Я все это подчеркиваю потому, что большой талант, большая одаренность, как известно, могут приводить к «самосожжению», «самопожиранию», «самоистреблению». И особенно это характерно для вершинной одаренности – гениальности, хотя это и не абсолютная закономерность.
Я только что говорила о реализации личности вне зависимости от социальных условий, более общих, чем семья в обществе, детский дом в обществе, личность в обществе. Упоминаю здесь об этом не для того, чтобы развить эту тему, а для того, чтобы отмежеваться от нее. И совершенно не потому, что не считаю ее важной. Она – наиважнейшая, определяющая, причем в своих экстремальных вариантах она оказывается доминирующей, и внесение каких-либо коррективов на любом другом уровне становится просто невозможным. Дело в том, что много лучше меня это обычно делают писатели и некоторые историки, и дай Бог им в этом удачи! Каждому свое. А вот небольшие экскурсы в условия противостояния личности разным сложностям жизни мне бы хотелось сейчас подытожить как физиологу, изучающему мозг человека.
Нейрофизиолог, в связи с недостатком наших возможностей и сегодняшних знаний, пока не может показать матрицу долгосрочной памяти, закладываемую в детстве и затем определяющую всю жизнь человека. Мы можем сколько угодно рассуждать на эту тему, говорить о весьма вероятных событиях, происходящих с нуклеиновыми кислотами, циклическими нуклеотидами, белками, мембраной нервных клеток, об изменениях в синапсах и глиозных клетках. Все это, скорее, будет «правдой», не знаю – «только ли правдой», может быть, есть что-то и «кроме правды», но наверняка это не «вся правда». Формула английской судебной присяги показалась мне здесь удобной для определения сегодняшнего уровня знаний о долгосрочной памяти. В существовании ее, однако, в отличие от многих других, сегодня еще неясных, феноменов, никто не сомневается. Мы помним. Мы живем не только во власти сегодняшних событий, но и под более или менее удобной (удачной) шапкой памяти. Без особой необходимости человек обычно не воюет с памятью детства, хотя активность ее во взрослой жизни может выражаться и в форме реализации, и в форме противостояния. Итак, нейрофизиология здесь пока владеет лишь более или менее правдоподобными гипотезами. То, что поступки обусловлены памятью, доказывает прежде всего жизнь.
Воспитание эмоционального баланса теоретически может уже сейчас исследоваться нейрофизиологическими методами. Постановка такого рода задачи возможна и целенаправленно, в интересах лечения больных. В нашей практике этого не проводилось, скажем так: в связи с принципиальной ясностью ответа и с тем, что это могло бы повлечь за собой нежелательное продление срока лечения. Но а priori можно с большой вероятностью сказать, что в этом случае удастся наблюдать выравнивание интенсивности реципрокных сдвигов сверхмедленных физиологических процессов или даже усиление защитных – «сверхзащиту».
Принципиально то же самое важно и для воспитания стойкости. Однако в этом случае еще важнее ограничение физиологических сдвигов в мозгу таким образом, чтобы оставался простор для разума, мышления. Надо сказать, что такого рода решение нейрофизиологического аспекта вопроса придет, вероятно, в голову многим из тех, кто знаком с основными положениями нейрофизиологии эмоций и мышления. Стоило мне начать говорить на эту тему, у моего сына, много лет рядом со мной не только работающего, но и думающего, был сразу готов ответ: стойкость – это обеспечение эмоций «малой кровью» – малой территорией… Этому тоже, по-видимому, можно научиться, это тоже, по-видимому, можно воспитать и увидеть.
Приложите все, о чем я говорила, к нам, детям 20–30-х годов, и вы поймете, что именно некоторым из нас помогло не только выжить, но и выстоять. И все же жизнь и творчество, если оно было возможным, шли как бы в коридоре ограничений – общественных, философских и других. И не так уж много оказалось среди нас по-настоящему дерзавших. Тех, кому в жизни было суждено сделать прорыв в неизвестное.
УПС
Я постараюсь написать как можно проще об очень сложных проблемах – проблемах деятельности мозга человека, важных для понимания действий индивидуума и общества. Потому адресуюсь в данном случае ко всем, кто по разным причинам интересуется тем, как работает мозг человека. И прежде всего к молодежи, выбирающей свою единственную дорогу в жизни. Единственную, как выбрала когда-то я. Около пятидесяти лет я работаю в области физиологии мозга человека, и близко к сорока из них – прицельно в области изучения того, как, по каким законам работает здоровый и больной мозг, как мозг обеспечивает различные процессы жизнедеятельности организма, специально человеческие функции – мышление, эмоции. Годы осмысливания того, что делалось и сделано, позволяют мне, несмотря на всю сложность мозга, без избыточной вульгаризации все-таки упростить изложение сведений, обычно более или менее понятных лишь специалистам. И наконец, поскольку я коснусь здесь некоторых вопросов, которые «всем известны», но не нашли еще подтверждения в науке или не расшифрованы ею, мне придется говорить о том, что не имеет пока своего научного языка.
Нецелесообразно здесь подробно излагать историю исследований мозга. Это уже сделано многими. В первую очередь я хотела бы назвать американского ученого Мери Брезье, которая разобралась сначала в исследованиях, проведенных в XIX веке, а затем отправилась к истокам событий, к более раннему периоду[3]. В свет вышла еще одна ее книга, она о развитии науки XIX–XX веков. Кое-что по истории изучения мозга человека есть и в моих книгах, по крайней мере, упоминаются важнейшие вехи, относящиеся к проблеме «Мозг и мышление». Здесь, просто для того, чтобы не соотносить все, что мы знаем о мозге сейчас, только с нашими исследованиями, кое о чем надо бы сказать – ведь не на чистом же месте мы начинали. Хотя во многом и на чистом. Однако целесообразнее, наверное, приводить данные о важнейших исследованиях в этой проблеме по ходу изложения соответствующих наших материалов.
Абсолютную необходимость изучения именно механизмов мозга, не только того, как построен, но и того, как устроен мозг, я поняла после десятилетней работы над проблемой. Тогда, когда остро понадобилось точно знать, к каким функциям имеют отношение анатомически совершенно определенные структуры мозга человека, и когда оказалось, что этого не только никто не знает, но и ни у кого нет серьезного беспокойства по поводу этого незнания. Примерно так: есть такой орган – мозг, кое-что мы о нем знаем, но многого не знаем. Ну что ж делать, на нет и суда нет. Во всяком случае, именно в эти годы мы все больше узнавали о космосе и он казался все ближе. А живой мозг человека оставался, как это ни парадоксально, все таким же далеким…
* * *
Больную Г. удалось надолго освободить от тяжелейшего недуга – паркинсонизма. Да еще как освободить! У больной не только стали легко двигаться прежде скованные руки и ноги, исчезло изнурительное дрожание рук и ног, но (хотите – верьте, хотите – нет) она помолодела, похорошела. После выписки из клиники она вышла замуж. Сначала мы просто радовались. И все-таки через два десятилетия болезнь вернулась… Тогда у нас возникли вопросы.
Вопрос 1. Почему эффект от точечных разрушений (микролизисов) оказался лучше, чем от тех массивных, по объему, может быть, почти в сотни раз больших, чем здесь, применяемых при так называемых одномоментных стереотаксических операциях (расчетном воздействии на глубокие структуры мозга)?
