Читать онлайн Помор бесплатно
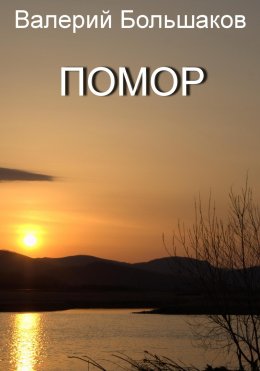
Пролог
Россия, Шенкурский уезд Архангельской губернии.
Май 1867 года.
…Олёна преставилась на Рождество, и Фёдор Чуга овдовел.
Долго чахла Олёнка, с самого лета маялась непонятной хворью, всё мужа жалеючи – как же ему одному‑то, без неё? А к зиме слегла, да и не поднялась больше. Померла.
Уж как изводился Чуга – и к травницам обращался, и доктора из самого Архангельска заманивал, да всё без толку. Пользовали женку травами да медами, заговорами врачевали, мощи прикладывали, лекарь городской средство выписывал патентованное, а Господь всё одно прибрал душу Олёнкину, чистую и безгрешную.
Фёдор всё пытался свыкнуться с потерей своей, да не выходило у него. Вот же ж вчера только тепла была, дышала, молитву шептала, глядела на мужа скорбно, чисто ангелица, прости, Господи… А нынче нет её! Не стало. Вот уж и поминки справили, и день девятый минул, и сороковой отошёл…
Мела, мела зима лютая, завевала порошу. Жарко была печь натоплена, а на сердце – стужа.
…Похоронили Олёну на приходском кладбище, под сенью многовековых сосен и елей. В малолетстве Чуга пугался бывать здесь, за низким замшелым срубом бревенчатой ограды, где вера истинная будто и не обарывала идолища поганые.
У самого входа на кладбище простенькая часовенка стояла – три почерневшие иконки на полочке – вот и всё убранство. А сразу за резной калиткой густой зелёный полумрак нависал, из кружев густого подлеска срубцы выглядывали – низкие, в землю вросшие «избушки» в два‑три венца, кровлей в два ската крытые, – с коньками фигурными, с причалинами резными по торцам – всё как у живых людей, да только под срубцами мёртвые спали в гробах своих. И столбцы, столбцы вокруг – надмогильные знаки. Вехи в сажень,1 то круглые, то граненые, под остроугольными кровельками. Так и веяло от них капищем языческим да жутью всякой.
Отца‑то Фёдор схоронил далеко от этих мест, на пустынном берегу студёного моря, среди безлесных песчаных дюн. Огромный массивный крест в три роста человеческих отмечал могилу Труфана Чуги, сурового помора, не ведавшего страху, а вокруг – пустыня холодная, полуночная, где одни лишь волны рокочут без умолку да ветер свищет по голым пескам…
– Олёна… – выдавил Фёдор, но голос человеческий угас в зелёных кладбищенских потёмках, будто и не было последнего зова.
Вздохнув тяжко, Чуга погладил нежно крышу тесовую на Олёнином срубце, да и побрёл себе вон.
Смутно было на душе. Тоска неуёмная не покидала помора, скрываясь в закутках памяти: только припомнишь милое лицо, голосок любимый – и как иглою тебя всего пронижет, и больно до слёз. И вроде как иссохла влага горючая ещё в детские годы, а вот поди ж ты… Жжёт.
Чуга грузно сбежал к мелкой, каменистой Ваенге. На мосту он обернулся, перекрестился на церковь и пошагал на берег левый, где издревле стояла Харитоновка.
Деревня была велика – пятнадцать дворов – и жила не бедно. Все дома могучи, как терема, с крытыми дворами да со светёлками, с бревенчатыми взвозами до ворот вторых этажей,2 куда телеги въезжали пароконные или воловьи упряжки. Избою назвать такой‑то домище просто язык не поворачивался.
Все дома на «весёлое» место глядели – к реке были обращены. На косогоре мельница крылья раскинула, а журавли колодезные будто за нею тянулись, повыше задирая тощие шеи.
Палисадников с садочками и близко не видать – север. Огороды одни, а за ними лес дремучий вставал. На лужках коровки бродили пёстрые, колокольцами позванивали. Знатная порода, холмогорская. Хоть и мелкая скотинка, а молочка вдоволь даёт.
От пронырливых коровок и огороды, и всю деревню изгородями окружили из наискось поставленных жердей – не проберутся бурёнки.
«Терем» самого Фёдора с краю стоял – огромный домина, «кошелем» выстроен. Могучий сруб отливал свежей желтизной – и пяти лет не минуло с новоселья. Век простоит.
По гулким ступеням крыльца помор поднялся наверх. Миновал сени, перешагнул порог большой горницы, тихой и светлой. Ни одна из широких цельных плах, которые складывали пол, не скрипнула под ногой Чуги, человека рослого, сложения богатырского и весу немалого. Добротная построечка. Для Олёны срублена, для сынков и дочек. Наследника у Фёдора так и не появилось, а нынче и рожать‑то некому. И что ему делать теперь, когда в доме стыла тишина? Мёртвая тишина…
Чуга поклонился иконам в «красном углу», отливавшим тусклым золотом надраенных окладов, бездумно похлопал крепко сбитую печь. Еще недавно Олёнка в ней пироги пекла, хлеб ставила, камни калила, чтобы согреть пойло для скотины…
Фёдор бесцельно послонялся, кружа по горнице. То стены, гладко обтёсанные, рукою тронет, то на широкую лавку присядет, то вышитое полотенце зачем‑то пощупает, то в зеркальце глянет – на скуластое лицо с широковатым носом и плотно сжатыми губами, на зоркие серые глаза, таящие пустоту, на хмурый лоб и чёлку соломенного цвета. Добрый молодец…
Выйдя на балкон, Чуга долго смотрел на тот берег сверкающей на солнце Ваенги, на горку, где крепко сидела деревянная приходская церковь Св. Николая – мощный четверик, а на нём восьмерик3 с высоким шатром, утянутым вверх и увенчанным изящной главкой, крытой узорным лемехом.
«Совсем обветшала церквушка, – подумал Фёдор, – стара больно. И крест покосился…»
Храм примыкал к ограде кладбища, словно охраняя покой умерших, и горе снова угнездилось в сердце помора. Чуга вернулся в горницу и сел за стол, уложив на белую скатерть свои сильные руки. Ладони – сплошная мозоль…
Эти руки и дом ладили, и дикий лес сводили, выгадывая место под полюшко, и паруса ставили, и зверя добывали… И оглаживали прелести красавицы‑жены.
Фёдор со стоном вцепился в волосы, затряс головой, отгоняя пленительные видения. Да и разве одно тело женино было ему любо? Грудей он нащупался вдоволь, но только в Олёне нашёл заботу и ласку, ощутил покой и то, невыразимое словами, что не от красы плотской нарождается, но западает в душу и греет пуще всякого очага.
Чуга стиснул кулаки. Силы в нём немерено. Дух, правда, ослаб, но минут тяжкие дни – и он укрепится. Но что делать‑то? Как ему дальше жить? Для чего и для кого силушку прикладывать?
Фёдор усмехнулся неласково. Для кого… А ты помни, да живи! Вот тебе и весь сказ.
С крыльца донеслись тяжёлые шаги, звякнул засов на отворяемой двери, но помор даже головы не поднял, будто и не в его дом пожаловал гость – коренастый, основательный мужичина виду значительного, хоть и с порчинкой – чёрные волосы блестят от бриллиантина, усики нафабрены в две запятые. Купец Окладников, дальняя родня Чуги.
– Здорово, Фёдор, – сказал купчина внушительно, подсаживаясь к столу.
Хозяин помалкивал сперва, а после буркнул:
– Принёс?
– А то! – бодро откликнулся Окладников.
Он выложил на стол брякнувший сверток, развернул плотную ткань.
– Глянь‑кось. «Смит‑вессон» прозываются.
Фёдор без интереса поднял глаза, осматривая пару револьверов 44‑го калибра с рукоятками, отделанными ореховым деревом. Потом взял один, взвесил в руке приятственную тяжесть, проверил баланс.
– Новьё?
– А то! – солидно отозвался Окладников.
– Врёшь, поди…
– Как можно? Пистоль‑то американский, а производства нашенского, все хвалят.4 Вот и патроны, – купец выложил кожаный мешочек. – Говорят, в Америке этой все с ими ходят да палят друг в дружку беспрестанно, кажный божий день…
– Ну‑к, што ж, вот и я оружный буду.
– Оберегайся только, а то и до беды недолго… Пульнёшь, да не в того! Знаешь, чай, где в ём дуло?
– Да уж дал Бог памяти…
Чуга откинул барабан «смит‑вессона» и зарядил пустые каморы пятью патронами. Шестую оставил пустовать – в неё‑то и упёрся боёк. Так спокойнее будет, а то мало ли…
– Не передумал ли землю родную покидать? – стал уважливо допытываться Окладников. – Всё ж таки дедовские места, и Олёна…
Тут он смолк, ругая себя за лишнее, но Фёдор не осерчал, головою только мотнул.
– Нету боле Олёны, – глухо проговорил Чуга, – а то, что схоронено, – не она вовсе, а прах её, тлен, червям пожива. В раю моя девонька. А небеса – они везде, равно для всех. Олёнка с облацех повсюду меня углядит – и в Расее, и в Америке.
– Ох и далёко ж ты собрался… – завздыхал купец. – Шибко далёко… Што и говорить, беда у тебя, да ведь избывная. Молодой ты ещё, голову на плечах имеешь и не лодырь, вечно в деле. На печи лёжа, кроме пролежней, мало что нажить можно, а уж ты‑то, ежели с морем игру затеешь, умеючи да опасливо, внакладе не будешь. Нам, поморам, в плаваньях не учиться стать!
– В толк не возьму, – проворчал Фёдор, подозрительно взглядывая на Окладникова, – к чему ты клонишь… А, Еремей Панфилыч? Али опять на палубу зовёшь?
– Опять, Фёдор Труфанович! А ты думал? Коли всё ладно будет, я тебе и пароход доверю. Ей‑бо, пра!
Нахмурился Чуга и покачал головой.
– Невмоготу мне здесь, – сказал он, – давит всё… На чужбине мне полегче будет, хоть речи родной не услышу. Про дом‑то мы как, сговорились?
– А то! Половину себе забираю, половину сестрёнице твоей. Честное купеческое!
– Ин ладно, бери…
Поднявшись, Фёдор задвигался по горнице, кидая пожитки в кожаный мешок. Куртку уложил овчинную и носки тёплые, Олёной вязанные, пару рубах байковых, шапку меховую – вдруг зима американская сурова? Поглубже запихал револьверы с патронами. Сам‑то Чуга собран был с утра самого – сапоги яловые, с блеском, в них портки заправлены, сверху жилет‑безрукавка накинут, а под ним рубаха простая, с напуском, у ворота Олёной вышитая. Первый парень на деревне…
Натянув картуз, Фёдор вздохнул шумно и присел, держа мешок между колен.
– Посидим на дорожку…
Еремей Панфилыч пригорюнился сидючи. Всё ж справного морехода теряет. Молодые‑то, что в форменках щеголяют, по механизмам смыслят кой‑чего, в башках у них знания набито, как селёдки в бочках. А моря не знают.
– Ну бывай здоров, пойду.
Фёдор Чуга забросил мешок за спину, схватясь за лямку, и покинул свой дом. Навсегда.
Глава 1
СЕВЕР
Архангельск встретил Фёдора нудной моросью, но к полудню развиднелось. Хмурное небо прояснилось, и только дали расплывались в дымке.
Город будто заснул – прохожие выглядели вялыми, движения особого не заметишь. Лошади, и те не катили бодро коляски, а влачили их по улицам, клоня понуро гривастые шеи. Да и чему удивляться? Ровно пять лет тому назад «высочайшим повелением» архангельский порт упразднили. Ни к чему‑де нам гавань на севере, коли к петербургским причалам суда не заманишь. В общем, прижали поморов окончательно.
А началось всё ещё при Петре, великом разорителе Поморья. Император ничего лучшего не придумал, чем отобрать у Архангельска морскую торговлю, переведя её на Санкт‑Петербург. Окладников, когда поддавал хорошенько, ёдко прохаживался насчёт монаршей дурости. «Што есть море Балтийское? – вопрошал купец и сам же ответ давал: – Лужа. Пруд мелкий. Захочет немец запереть нас, не дать ходу кораблям – и перекроет проливы. И всё! Запрудит – ни войти ни выйти. А Чёрное чем лучше? Всей разницы, што там вся власть у турка – чуть што не по нему, он – раз! – и свои проливы на чепь! Не‑е, одно лишь море Студёное – наше, вот уж где морская дорога истинно Божья. Плыви куда хошь…»
А кто запретил поморам кочи строить, повелев бриги да шняки иноземные на воду спускать? Он же, Пётр Алексеевич. Шибко не любил император родную землю, всё в Европу окошки тужился распахивать, а думать не поспевал.
Как Баренц‑то на бриге во льды затесался, не знал царь разве? Льдины тот бриг как скорлупку раздавили, в щепочки, а вот лодье поморской или кочу никакие торосы не страшны. Днище‑то у них кругляшом сделано – сойдутся ежели льдины, то выдавят коч наверх, не сомнут, оцарапают разве чуток, а после снова опустят в разводье. Как же можно было лучший корабль для вод северных худым посчитать?
И после всех этих горестей и бедствий, отпущенных поморам по «высочайшему повелению», сами же архангелогородцы памятник Петру затеяли ставить!5
Фёдор покривился – ниже пасть в угодничестве своём да верноподданичестве не смогли, видать. Уж лучше Ивану Грозному чего воздвигли бы, основателю Архангельска. Суров был Иоанн Васильевич, зато дело знал туго – ведал, где Руси ворота морские отворять… Не то что нынешний царь‑император. Это ж додуматься надо было – Аляску по дешёвке продать!6 Хватило ж ума…
Выйдя к порту, Чуга только головой покачал – пустота на рейде. Одни карбасы рыбацкие качаются у причалов, ловя ленивую двинскую волну, да белый пароход с высокой чёрной трубой колёсами вертит, копотные клубы дыма распуская над зелёной водой.
Не судьба, вздохнул Фёдор. Видать, придётся ему с этим пароходом до Вологды плыть, а после к Питеру подаваться али в Либаву7 – оттуда только и доберёшься до страны Америки.
Приглядевшись, помор рассмотрел у дальнего причала большую шхуну – пока к самой пристани не выйдешь, не увидишь парусника, амбаром скрыт соляным.
Чуга решительно двинулся туда и на полдороге различил флаг американский, полоскавшийся под слабым южным ветерком‑обедником. Повеселев, Фёдор прибавил шагу.
Корабль был старой постройки, но добротным – двухмачтовая гафельная шхуна.8 Ржавый низ, чёрные борта, невысокая надстройка белым крашена. Названа шхуна по‑английски, «Одинокой звездой».9 На палубу вёл широкий трап со сбитыми поперечинами; череда краснорожих подвыпивших грузчиков‑амбалов таскала тюки с паклей, загружая трюм. Рядом, на литом кнехте, восседал толстяк‑здоровяк с обширной плешью и попыхивал трубкой. Облачённый в безразмерный свитер, плоховато скрывавший объёмистое чрево, он сидел, широко расставив ноги в парусиновых брюках и уперев руки в колени. Лицо его было цвета седельной кожи, под сенью лохматых, выгоревших на солнце бровей прятались хитрые голубенькие глазки, а сломанный нос озвучивал каждый вдох и выдох, издавая громкое сипение.
– По‑русски говоришь али как? – спросил его Фёдор.
Голубые бусинки блеснули разумением, но толстяк‑здоровяк не вымолвил и полслова. Чуга поднапрягся, складывая знакомые английские слова, осевшие в памяти за время плаваний. Тогда‑то он сносно говорил на «инглише», но времени сколько минуло… Фёдор осведомился:
– В Америку ходить?
Толстяк прогнусавил:
– Ходить.
– Кто шкипер?
– Я.
– До Нью‑Йорка не подбросишь?
Шкипер вынул трубку и гулко расхохотался, обдавая помора запахом крепкого табака и виски. Утерев выступившие слёзы, он сказал:
– Пассажиры у меня уже есть, а тебя, так и быть, подброшу, если матросом пойдёшь.
– Один только этот рейс? – уточнил Фёдор.
– Конечно! – вылупил шкипер глазки. – А ты что подумал?
– Подумал, – проворчал Чуга. – Вдруг ты мой… меня «зашанхаить»10 решил. На год‑другой.
Толстяк‑здоровяк с укором посмотрел на помора.
– Плавал хоть?
– Было дело. На аглицком клипере «Тайпин» в Китай хаживал за чаем. С корветом «Гридень» ходил во Владивосток.
– Вот это я понимаю! – воскликнул шкипер. – Кончаем погрузку и выходим. Идём в Лондон, оттуда в Нью‑Йорк. Плачу двадцать пять долларов в месяц, расчёт в порту прибытия. По рукам?
– По рукам!
Скрепив сделку извечно мужским жестом, толстяк‑здоровяк крикнул:
– Сай! – Повернувшись к Фёдору, он объяснил: – Это помощник мой, Сайлас Монаган. Проходимец, каких мало, но штурман отменный.
– Тебя‑то как звать‑величать?
– Я – Вэнкаутер Фокс, капитан и владелец этой лоханки, – важно сказал толстяк‑здоровяк. – Ещё вопросы есть?
– Будут, – пообещал Чуга. – Потом.
– О’кей, парень, – ухмыльнулся шкипер. – Ты мне нравишься! Сайлас! Якорь тебе в глотку…
– Тут я, Вэн, – перегнулся через перила длинный как жердь Монаган, узкоплечий и тонкошеий. Острое лицо и хрящеватый нос помощника лишь подчеркивали общую худобу. Близко посаженные зелёные глаза Сайласа светились недобрым огоньком.
Оглядев Фёдора, он сказал:
– Не понимаю, мастер, зачем нам ещё один матрос? Деньги девать больше некуда?
– Поговори мне ещё… – проворчал Фокс. Повернувшись к Фёдору, капитан резко спросил: – Пьёшь?
– Что? – спокойно поинтересовался помор.
– Водку! Виски! Джин!
– В рот не беру.
– Слыхал, Сайлас? Где Айкен?
– Отсыпается…
– Скажи Мануэлю, пускай выволакивает этого пьянчугу и скатывает на причал. Пинков надаю лично!
Монаган хмуро кивнул и пропал из поля зрения.
– Мануэль Бака – это наш боцман, – сказал Вэнкаутер. – В паре штатов его разыскивают за убийства, так что лучше с ним не задирайся, понял? А то знаю я вас, русских…
Вскоре показалась удалая тройка – уже знакомый Чуге Сайлас и плотный человек с чёрными усами, смуглый и темноглазый, видать тот самый Мануэль Бака, вели, вернее сказать, тащили третьего – нескладного и лохматого, с большими ногами и руками, в рваной матросской робе.
По трапу ведомый спустился сам, пару раз споткнувшись, но каким‑то чудом удержав равновесие. Пошатываясь, он устремил мутный взор на шкипера и промычал:
– З‑звали?
– Погуляй, Айкен, – ласково сказал шкипер и сунул ему целковый, – погуляй.
Обрадованный неожиданной добротой, матрос тут же устремился в город, на поиски ближайшего трактира.
– Занимаешь его место, – распорядился Фокс, – и ждёшь отплытия.
– Да, сэр, – пробасил Фёдор, ступая на трап.
На палубе его ждал Бака. Боцман щеголял в просторной тужурке и коротких, широких штанах. Волосатые ноги его были обуты в самодельные туфли, плетённые из кожаных ремешков, – очень удобные в штормящем море, когда волны, бывает, и палубу окатывают. Такая обувка не скользит.
– Пошли, – буркнул Мануэль, теребя сразу оба символа боцманской власти – посеребренную дудку, свешивавшуюся с немытой шеи на цепочке, и плётку‑линёк с железками‑утяжелениями для пущей убойности.
– Пошли, – согласился Чуга.
Боцман отвёл новичка в сырой, вонючий кубрик и молча удалился, многозначительно вертя линьком.
В кубрике было грязно и душно, на нижней койке сидели два матроса и резались в карты. Ещё двое дремали на верхних местах. Лежбище для пятого обнаружилось возле пыльного иллюминатора – продавленная плетёная койка, которую по утрам полагалось сворачивать и подвешивать к переборке. Конечно, не кровать с балдахином, но на «Гридне» Фёдор и вовсе в гамаке‑«авоське» спал.
Грязь и вонь отозвались в Чуге воспоминанием об Олёне. Для неё чистота и порядок были символами веры, она постоянно мыла, чистила, скребла, стирала, тёрла, подметала…
Не здороваясь, Фёдор с трудом раздраил иллюминатор.
– Ты чего делаешь? – раздражённо повернулись картёжники.
– Проветриваю помещение, – коротко ответствовал помор и осмотрелся. – Развели срач…
– Ты кто такой, а? – С верхней полки спрыгнул мускулистый детина с волосами, выгоревшими добела. – Или жить устал?
Детина лениво почесал мощную шею, и в руке его возник, будто из воздуха, длинный и тонкий кинжал – «арканзасская зубочистка».
Такие, случается, носят в потайных ножнах на спине, подвешивая шнурком к шее.
– Как звать? – спросил Чуга хладнокровно.
– Коттон Тэй, – осклабился детина, поигрывая кинжалом.
– А я – Фёдор. По‑вашему если – Теодор. Так вот, Котт, или как там тебя… Сейчас ты спрятать… спрячешь свою ковырялку – и бегом за шваброй.
– А если не сбегаю? – промурлыкал Коттон.
Помор не стал тратить слова на объяснения – молниеносным движением перехватив руку с кинжалом, он заломил её, отбирая «зубочистку», и так крутанул Тэя, что того пронесло по всему кубрику и крепко приложило к трапу.
Не глядя на распластанного детину, Чуга показал пальцем на другого «отдыхающего», с интересом следившего за развитием событий с верхней койки.
– Ведро принести с водой, – велел помор. – Ополоснуть не забудь. Вам тоже зря не сидеть, – перевёл он взгляд на картежников. – Искать тряпки.
Матрос, занимавший место наверху, задумчиво почесал широкую грудину, размалёванную русалками, достал из‑под матраца свинчатку и мягко спрыгнул на заплёванный пол. Оба картежника одинаково ощерились, вооружаясь кастетами.
…В следующую секунду шкипер со своим помощником наблюдали забавную сцену – сначала четверо матросов, с придушенными воплями, были по очереди вышвырнуты на палубу, а потом по ступенькам поднялся Чуга – могучий, равнодушный, холодный – и спокойно повторил приказ:
– Швабра. Ведро. Тряпки.
Капитан тихонько захихикал, качая головой, и сказал в сторону Мануэля, словно размышляя:
– Может, мне и боцмана послать следом за Айкеном? Этого русского хватит, чтобы заменить обоих!
Сайлас Монаган кисло улыбнулся, а боцман сжал рукою свою дудку, словно опасаясь, что её вот‑вот отнимут. Костяшки его пальцев побелели.
Половины часа хватило, чтобы навести порядок в кубрике, – пол сиял белым деревом, иллюминатор, протёртый до невидимости, пускал «солнечные зайчики» на чистые одеяла, а медный штормовой фонарь под потолком горел надраенным металлом ярче, чем в те редкие моменты, когда его зажигали.
Матросы и сами поразились перемене. Они стояли в проходе, неуверенно переминаясь, поглядывая то друг на друга, то на помора.
– Вот так живут люди, – веско сказал Чуга. – Запомнить? И чтоб больше не путать кубрик со свинарником.
Он оглядел их всех – здоровенного Коттона Тэя; худого, но жилистого Эфроима Таггарта; кряжистого и кривоногого, схожего с крабом Табата Стовела; долговязого Хэта Монагана – то ли брата, то ли свата Сайласа. Нормальные, в общем‑то, парни. Не без мути в головах, конечно, так ведь все такие. Цельные да ладные натуры, где вы? Ау!
– И последнее, – сказал Фёдор, усаживаясь на тяжёлую табуретку, принайтованную11 к полу. – В мешке у меня тёплая одежда, денег там нет. Замечу, что лазал кто, – руки повыдёргиваю.
Матросы ему поверили.
Двумя часами позже Чугу привлёк шум на пристани. Холодное безразличие, поселившееся в нём с похорон Олёны, мешало позывам божьего мира найти отклик в душе, но остатки былого любопытства живы были – надо ж кругом‑то посматривать, для здоровья полезно. Помор поднялся на палубу. Трюм был полон, грузчики, получив свои медяки, удалились шумной ватагой. Прибыли пассажиры.
На причале стояла пролётка, двое – белый мужчина в мягкой фланелевой рубашке, в потёртых «ливайсах»,12 которые неплохо сочетались с ношеным сюртуком, и настоящий негр в коротких, не по росту, штанах и кургузой курточке – выгружали кожаные саквояжи и шляпные коробки, а по трапу поднималась молодая девушка в модном платье из джерси. Оно весьма выгодно облегало девичью грудь, подчёркивало крутизну бёдер и узину талии. Девушка шла уверенно, без ойканья, изящно придерживая подол. Когда она повернула голову в капоре и посмотрела в сторону Фёдора, Чуга увидел прелестное личико девочки‑ангелочка, обрамлённое локонами приятного каштанового оттенка.
Встретившись с твёрдым взглядом помора, голубые глаза пассажирки расширились, словно дивясь увиденному. Пухленькие губки девушки приоткрылись – вот‑вот с них сорвётся слово, но нет, длинные трепещущие ресницы опустились, пригашивая синие огонёчки.
– Пожалуйте, мисс Дитишэм, – суетился шкипер, – каюта готова, всё в лучшем виде, так сказать, а наш кок обещал нынче угостить настоящей русской ухой – из стерляди!
– Должно быть, это вкусно, – рассеянно произнесла мисс, с любопытством оглядываясь вокруг – и словно не замечая бросаемых на неё жадных взглядов. – Зеб, – обратилась она к негру, – занеси вещи в каюту, я потом их разберу.
– Да, мэ‑эм, – сказал тот на южный манер – с мягким выговором, и осклабился, сверкая идеальными зубами.
Белый мужчина, до сей поры не издавший ни звука, отпустил извозчика и поднял на борт последний, весьма укладистый баул.
– Познакомьтесь, господа, – сказала мисс Дитишэм, представляя его, – это Флэган Бойд. Он сопровождает меня повсюду, оберегая от всяческих напастей.
Флэган молча поклонился. Полы его сюртука слегка откинулись, демонстрируя ремень с двумя кобурами, из которых торчали рукоятки револьверов с костяными щёчками. Воронёная сталь блестела потёртостями, из чего Фёдор заключил – револьверы Бойд носил явно не для красоты.
После обеда стало теплее, свинцовое небо посветлело. Затрепетали листья берез, лёгкой рябью покрылась двинская вода – словно мурашки прошли по реке.
– Отдать носовой! – гаркнул повеселевший шкипер. – Отдать кормовой!
Чуга, находившийся ближе всех к полубаку,13 сноровисто ухватился за лохматый канат и перекинул его на пристань.
Рывками, с громким шуршанием, фок‑мачта оделась парусами. Набиравший силу ветер с юга выдул полотнище фока‑гафеля, белённое солнцем, и разгладил все складки. С протяжным скрипом описал дугу гик, переброшенный на правый борт, – шхуну заметно повлекло вперед, заплескала вода, рассекаемая форштевнем.
Архангельск отдалился, приблизилось двинское устье, рассечённое на рукава песчаными островами, намытыми рекой. Шхуна втянулась в одно из русел.
Постепенно рукав делался полноводнее, берега словно отходили в стороны. Вот и последний островок, покрытый высокой травой, остался за кормой. Низкий берег, окрашенный солнцем в лиловые тона, медленно тонул в белёсом тихом море. У горизонта волны загорелись, зарозовели, отражая огненно‑багровое небо. И в небе, и на море застыли сиреневые облака.
Задул шелоник,14 шкипером Вэнкаутером зовомый зюйд‑вестом. Ветер нагнал тучи, солнце едва просвечивало сквозь них и казалось бледным мохнатым шаром. Потемнело. Море заугрюмело. С грязного, низкого неба просеялась холодная морось.
Вэнкаутер приказал поднять все паруса, и «Одинокая звезда» побежала шибче.
«По пятнадцати вёрст15 парусит, – подумал Фёдор. – Хорошо поспевает».
Капризная погода снова переменилась. Шелоник дул по‑прежнему и угнал тучи за предел небес. Тепла не прибавилось, зато перестало моросить.
Чуга стоял у борта, держась за ванты, и провожал глазами родные края. «Вот тебе и весь сказ…» – мелькнуло у него. Может, и не придётся более глазами шарить по скучным песчаным берегам Двины, заваленным плавником, по беспорядочно скученным избушкам, чернеющим на золотом песке.
Не доведется видеть, как рдеет по болотистым местам морошка, как бурые мишки топчутся по ягоде, объедаясь на зиму. Как стелется вокруг ровная тундра, бугристая да ямистая, а белые совы сидят на кочках, похожие на пятна не сошедшего снега…
Может статься, что никогда более не услыхать ему благовеста, доносящегося с островерхих деревянных церквей, прилепившихся на угорьях…
Никогда?.. Ну зарекаться – тоже не дело. Кто ж судьбу свою ведает? Судьба непостоянна и переменчива, как женщина. Ни с того ни с сего так взбрыкнуть может, что только диву даёшься.
Тут на палубу вышла мисс Дитишэм. Оставаясь в прежнем платье, она сменила капор на шляпку. Не успела девушка сделать и пары шагов, как резкий порыв ветра сорвал с её головки кокетливый головной убор.
– Ах!
Фёдор мгновенным движением поймал шляпу и с поклоном передал пассажирке.
– Благодарю вас, – чопорно сказала девушка, надевая потерю и подвязывая ленту под остреньким подбородочком. – Вы норвежец?
– Русский, мэм.
– О! – Бровки мисс Дитишэм взметнулись, изображая удивление. Она продолжила на родной речи помора: – А как вас зовут?
– Фёдором кличут. А фамилие моё – Чуга.
– А я – Марион.
«Марьяна», – перевел для себя Фёдор, а вслух сделал комплимент:
– Хорошо вы по‑нашему говорите.
– А я всегда стараюсь выучиться языку той страны, где обитаю, пусть даже временно. Когда мы жили во Франции, я брала уроки французского, а потом мы переехали в Россию… Мой отец работает в американском посольстве. – Марион запнулась и договорила тише: – Работал…
Поймав вопросительный взгляд Фёдора, девушка объяснила:
– Отец… Он умер в начале весны.
Чуга покивал хмуро и вдруг, неожиданно для себя, сделал признание:
– А я жену схоронил, Олёнку…
– Ой…
Поглядев на помрачневшего Чугу, Марион осторожно спросила:
– Вы так назвали её… ласково. Любили, да?
– Любил.
Они замолчали, но общее горе словно сблизило их, размывая обычное отчуждение между случайными попутчиками.
– Мне было пятнадцать лет, – негромко заговорила мисс Дитишэм, – когда мы покинули Штаты. Тогда шла война, северяне наступали, а нас они объявили врагами. Мой отец был плантатором, у него работало много чёрных невольников, но мы никогда их не обижали, во всей округе царил мир и покой. Я помню нашу усадьбу – белую‑белую, с колоннами, и парк, и как съезжались гости – мужчины в чёрном, а дамы в длинных платьях… Как звучала музыка, и все танцевали, и смеялись, и звенели бокалами… А потом пришли «мешочники»‑северяне. Пролилась кровь. Усадьбу нашу сожгли, а маму мы похоронили на семейном кладбище…
– Чай, отец ваш за южан воевал?
– Отец вообще не воевал! – резко ответила Марион. – Даже оружия в руки не брал. «За кого мне идти в бой? – говорил он. – За этого выскочку Девиса? Не желаю. Переметнуться к „Честному Эйбу“?16 Нет уж, увольте. Я не рвусь в герои, но и предателем стать не спешу!» Мы с папой и верным Зебони бежали в Новый Орлеан, оттуда добрались до Нью‑Йорка. Там живёт мой дед, он из тех, кого называют «старыми деньгами». Дед всю жизнь работал, он честным путем нажил своё состояние. А теперь пришли иные времена, времена новых богатеев – Моргана, Гулда, Вандербильта. Это люди жестокие и бесчестные. Их бог – это доллар, нажива – их цель, а в купле‑продаже кроется смысл жизни.
Отец просто не смог бы устроиться в Нью‑Йорке, этом «Вавилоне‑на‑Гудзоне». Он был истинным джентльменом с Юга, и волчьи нравы Уолл‑стрит были писаны не для него. Отцу повезло – его старый знакомый, Кассиус Клей, был назначен послом в Россию. Он взял нас с собой… Отец работал в посольстве, а я «украшала приёмную», как шутил дядя Кассиус. И вот я совсем одна…
– Теперь что ж, изо всей родни один дед остался?
– Дед и тётя Элспет, его вторая жена. Ещё у меня есть дядя Джубал, но он живёт далеко на Западе, в Калифорнии. У него там ранчо.
Фёдор Чуга кивал, хотя многие слова слышал впервые. Вроде и по‑русски с ним говорили, а вот поди ж ты… И где там Север, где Юг в этой Америке? Чего южане с северянами не поделили?17 А Запад тут при чём?
Помор покосился на девушку. Хороша… И молода совсем. Годков осьмнадцать ей. Или все двадцать. Глядел он на неё с удовольствием, но ретивое да игривое не шло на ум – душа будто смёрзлась и оттаивала медленно, по капле. Хорошеньких девиц Чуга завсегда примечал, да и он им гож был, однако, как женился, ни с кем не путался – Олёны было довольно. Мыслимо ли это – ещё за кем‑то ухлёстывать, когда душа полна до краю? Идёшь, бывало, по лесу, вспомнишь Олёнку – и улыбаешься… Никогда прежде не верил Фёдор, что женщина способна так круто жизнь его поменять, а вот поди ж ты… Главное, смысл появился. Раньше‑то, когда Чуга в море уходил или зверя промышлял, то цель в уме держал простую – лишний целковый заиметь к вящей пользе, чтобы, значит, на хозяйство пустить. А после женитьбы он понял своё предназначение, знал, ради кого пушнину добывает, ради кого старается. Это было так здорово – жить с толком! И вот снова ни пользы, ни смысла… Ну цель‑то у него есть, хоть и смутная, а там, глядишь, и смысл обрести удастся…
– А вы почему молчите? – обратилась к помору Марион. – Вы тоже что‑нибудь расскажите!
– Да чего там рассказывать…
Фёдор поправил ладанку с прядью Олёнкиных волос, висевшую на шее вместе с нательным крестиком, и девушке открылся страшный шрам на груди помора – четыре розовых узловатых полоски тянулись от могучей шеи наискосок, прячась под рубашкой.
– Это кто вам оставил? – округлила глаза мисс Дитишэм. – Медведь?
– Тигр, – неохотно сказал Чуга.
– Тигр?! – восхитилась Марион и велела: – Рассказывайте!
– Ну‑к что ж… Лет пять тому ходил я, вольноопределяющийся Чуга, на корвете «Гридень». Плыли мы аж до самого Владивостоку – это крепость новая, напротив Японии, в Уссурийском крае.
– Далеко как!
– Да уж… Раньше там военный пост стоял, нынче – порт, а всё одно пусто и дико кругом. Царь наш лет семь как оттяпал тот край у китайского богдыхана. Вот и старался застолбить да удержать те земли. Там бухта есть замечательная, прозвали её уподобительно – Золотым Рогом. Со всех сторон она сопками огорожена, а на берегу палатки, казармы бревенчатые, склады всякие, баня, флигель офицерский. Вот и вся крепость. Ещё домов с полсотни наберётся, казенных да частных, десятка два глинобитных мазанок и фанз – всё это на версту растянулось вдоль берега, а в бухте наши корветы стоят, джонки китайские, шхунки японские…
– А кто там живёт, во Владивостоке?
– Военные наши стоят, Четвертого Восточносибирского линейного батальону. Переселенцев мало, манзы, в основном, проживают. Туземцы попадаются, гольды и тазы.
– Я не поняла… Манзы – это кто?
– Китайцы это. Так их там прозывают – манзы. Хилые все и будто пришибленные. Все с косичками ходят, в синих халатах драных, любят трубки курить. У меня там знакомец имелся, Ю Фонтай, так он говаривал: «Циво манза нузи? Мало‑мало кулить. Шибко холосо!» Они там – всё: и огородники, и лавочники, и прислуга, – во Владивостоке по‑вашему говаривали: «бои». – Фёдор усмехнулся. – Меня дюже уважали, окрестили «тигрой‑капитаном». Ну настоящий‑то капитан ростом не вышел. В шинели ходил, очки носил. Вылитый доктор.
– Да, вас с врачом не спутаешь! – рассмеялась Марион. – А почему «тигра»? Из‑за шрама?
– Да нет… Видать, свиреп был. Уговоры‑то бесполезны, людишки крепкой воле подчиняются. Ежели к ним с добром, так они тебе на голову сядут, и… Хм. М‑да. Послушаются окрика – хорошо, строптивы будут – силком заставляешь. Люди, они и есть люди… А тигров там – страсть! И каких! Те, што в Инднях проживают, не чета уссурийским. Здоровущи, мохнаты! Попадись такому лев в лапы – одна грива от «царя зверей» останется… Тигры в первый же год всех псов владивостокских поели, любят они собачатину. А я один раз кабана с полосатым не поделил, вот он меня и цапанул малость…
– Страшно было? – округлила глаза девушка.
– Знамо дело, страшно. Тигр одним шибом лапищи голову лошади снимает, как же тут не забояться?
– А туземцы на вас нападали?
– Да нет, мирные они. Вот хунхузы – те да.
– А хунхузы – это кто?
– А это китайские разбойники. По‑нашему если, «краснобородые». Не знаю уж, кто так назвал. Через границу к нам шастали, грабили, убивали, девок наших уводили… Олёнка моя оттудова, из Владивостока, дочерь унтер‑офицера Гурьева. Как‑то раз большая банда хунхузов налетела, еле отбились. Отца‑то Олёнкиного подранили тогда шибко, так он и не оклемался, помер. А дочку его хунхузы с собой забрали, я их у самой границы догнал, на речке Суйфун. Там всех и положил, желтопузых да краснобородых… Гурьев не отошёл ещё, когда мы с Олёной возвернулись, радовался… От боли стонет, а рот в улыбке кривит. Я как раз в обратный путь собирался, корвет наш к отплытию готовился, и упросил меня унтер дочку его с собой забрать, до дому вернуть…
Чуга вздохнул понезаметней, к морю оборотясь, и краем глаза уловил Флэгана Бойда, маячившего по левому борту. «Стережёт Марьяну…» – усмехнулся Фёдор. И в то же мгновение спину его обжёг хлёсткий удар боцманского линька.
– Почему не на вахте, флотяга? – зарычал Мануэль, отводя руку с плетью. – Кто позволил с пассажирами разговоры разговаривать?!
Второй удар боцман нанести не смог – Чуга врезал ему под дых с полуоборота и, продолжая движение, локтём той же правой дал в челюсть. Баку отнесло к надстройке.
– Ещё раз меня тронешь, – предупредил помор, – так я твою дудку тебе в гузно затолкаю и дудеть заставлю!
Мануэль не внял. Отбросив линёк, он выхватил нож‑наваху. Фёдор, однако, лишь казался добродушным увальнем, этаким русским медведем, однако мало кто знает, как резв и быстр бывает топтыгин – и коня обгонит, ежели нужда возникнет.
Метнувшись к боцману, Чуга перехватил руку с ножом и крепко приложил её к дощатой переборке. Тут же отобрал наваху и пригвоздил ею грязную скрюченную ладонь Баки к доскам.
Боцман завизжал по‑поросячьи, запрокинув голову и елозя свободной рукой по облупленной краске.
– В чём дело? – послышался сердитый окрик Монагана.
Помощник капитана выбрался из низкой двери, ведущей в надстройку. С кормы подошёл и сам Вэнкаутер. Увидев пришпиленного боцмана, он расплылся в ухмылке злобной радости, чем немало подивил Чугу, и спокойно удалился.
– В чём дело, я спрашиваю? – повысил голос Сайлас.
– Всё в порядке, сэр, – неожиданно заговорил Флэган Бойд. – Просто мекс напал на Теодора, а тот дал сдачи.
Гневно зыркнув на Чугу, Монаган с трудом выдернул нож, просекший руку Мануэлю, и подхватил сомлевшего боцмана.
Помощник капитана поволок Баку прочь, придушенно уговаривая «пострадавшего». Мануэль стонал и шипел, обещая Чугу изувечить, а Монаган бубнил, чтобы «никаких мокрых дел до Лондона». При чём тут Лондон, спрашивается?..
Фёдор проводил глазами странную парочку, чувствуя, что ему полегчало, – как громоотвод улавливает молнии небесные, так и наваха «разрядила» Чугу, сбросила накопленную ярость.
– Вы такой жестокий! – сказала Марион.
Помор глянул на девушку. Юная лицемерка выговаривала ему с осуждением, однако в глазах её сияли ужас и восторг.
– А иначе никак, – проворчал Фёдор.
– Я навидалась русских мужиков, но вы совсем иной…
– Я – помор, а не холоп! – отрезал Чуга. – В предках у меня сплошь вольные новгородцы да пираты‑ушкуйники. Мы ни перед кем спин не гнули, а кланялись Богу одному. Мужики!.. – хмыкнул он. – Пока тех мужиков баре делили, поморы весь Север держали. А Сибирь кто воевал? Ермак, из ушкуйников. Он у нас был, как этот… слово такое мудрёное есть, на «К»…
– Конкистадор? – подсказала мисс Дитишэм.
– Во‑во! Он самый и есть.
Тут Марион несколько смешалась. Фёдор был не её круга человек, но своеволие, доминировавшее в характере девушки, не позволяло победить кастовой спеси. И с Чугой было так интересно… Вот только как ей продолжить разговор?
Украдкой глянув на потомка новгородцев, Марион заметила ещё один шрам у него на щеке – тонкий вертикальный порез, как кто полоснул лезвием по лицу.
– А это у вас откуда? – указала она пальчиком.
Фёдор задумчиво погладил старую рану. Говорить ему не хотелось, и так разоткровенничался не по делу. Но не молчать же…
– Зулус пометил, – сказал он. – Хватил ножом так, што чуть лицо не развалил. Хорошо хоть глаз цел…
– Расскажите! – взмолилась Марион.
– Да чего там… Когда наш «Гридень» в обрат двинулся, надо было почту закинуть в Кейптаун. А туда, помню, много переселенцев понаехало. Делали они себе фургоны, сбивались в караваны, да и отправлялись землю добывать, именуясь – я запомнил – «фоортреккеры». По‑нашему, наверное, «первопроходцы». А местные белые звались бурами. Ну вот. Стоим мы в кейптаунском порту, Столовой горой любуемся, на буров поглядываем, и вдруг – на тебе! Олёнка пропала. Я сутки по всему городу мотался, пока не вызнал – первопроходцы её прихватили, понравилась она какому‑то фоортреккеру недоделанному. Я хватаю штуцер, хватаю коня – и за ними. И живо уразумел, пошто переселенцы по одному не ездят. Угодил я в засаду к зулусам. Выскочило их человек десять, чёрные все, голые, копьями потрясают, по щитам колотят и всё норовят живьём взять. Ну, когда я пятого пристрелил, они передумали и достали луки…
– Вы их победили, – уверенно сказала девушка.
– Да‑к што в том сложного‑то? Они на меня со стрелами, а я по ним из ружья! Нет, разок попали – стрелой руку мне продырявили… И коня закололи. Ну я руку кое‑как перемотал и дальше пешком двинул. Да‑а… Дикая страна – Африка. Иду я, значит, по той саванне, головой верчу туда‑сюда. Гляну налево – три львицы на скале развалились, лежат, морды в крови – видать, откушали. Гляну направо – слоны бредут и эти, шеистые такие… жирафы. Шёл я, шёл, пока не увидел пыль впереди. Догнал‑таки караван. Повстречал я того паскудника, что Олёнку увёл, поговорил с ним за жизнь, пока тот не помер. Тут все прочие на меня кинулись. Ну, думаю, всё, отжил своё Фёдор Чуга. Нет, зулусы «помогли»! Как навалятся на караван, как дадут нам, белым, жару! Што ты… Пыль кругом, крики, ружья палят, стрелы свистят… Весь день бились, до самого вечеру. Фургоны в круг выставили, залегли, кто где мог, и пошла веселуха. Вот там‑то я и сцепился с этим зулусом. Шибко прыгучий был – с дерева на верх фургона сиганул, а оттуда на меня. Распорол мне всю харю… извиняйте. Чуть зрения не лишил, зараза чёрная. А у меня, как назло, патроны кончились, один нож в руке. Ну справился же как‑то… Фоортреккеров тогда сильно поубавилось, почти всех извели зулусы. Кто выжил, конями отдарились, и мы с Алёнкой вернулись до своих… А привёз я её до дому и понял, что жить не могу без дочери унтер‑офицера Гурьева. Обвенчались мы с нею и прожили аж четыре года, душа в душу, слова худого друг дружке не сказавши… И вот опять я в море. Один.
Марион вздохнула сочувственно, а Чуга вытащил из кармашка большие серебряные часы, глянул, сколько времени натикало, и откланялся – подходил его черёд вахту стоять.
Глава 2
«БОЛЬШОЙ ДЫМ»
Плавание шло спокойно, скучно даже. Шхуна обогнула угрюмые скалистые берега Мурмана, слева по борту потянулась суровая земля фьордов. Порою ветер отчаянно свежел, и холодная свинцовая зыбь вскипала барашками, предвещая бурю, однако мрачные знамения так и не исполнились. А после, когда «Одинокая звезда» спустилась ближе к южным широтам, команда и вовсе забыла о знобком дыхании студёных морей – близились английские берега.
Фёдора океан успокаивал, приводя в равновесие «зыбкого сердца весы». Все предки, считай, с морем дружны были – варяги, новгородцы, ушкуйники‑безобразники, передавшие Чуге свой буйный нрав. Ещё дед Фёдора успел‑таки волны на подлинной лодье побороздить – крепкой, ладной посудинке о трёх мачтах, пока вовсе поморов не прижали. А море осталось – холодное, суровое, жестокое. И в лад ему крепчал дух гордых наследников Господина Великого Новгорода. Одни, как Ломоносов, свою тропу в науках торили, другие, как купцы Строгановы, великого богатства и чести добивались, в графы выходили, а третьи, как Чуга, на чужбину подавались, счастья искать…
Отстояв своё у штурвала, помор примостился на полубаке, удобно устроившись на бухте манильского троса. Натянутый стаксель19 прикрывал его, как зонтиком, а вытянутый вперёд бушприт словно грозил горизонту, повторяя мерные качания шхуны, чей нос валко проседал, вспенивая расходившиеся буруны, и вздыбливался снова.
Океан расходился во все стороны, покатые валы плавно вздымались и опадали – Атлантика словно дышала, свободно и шумно, разнося извечные запахи соли и йода. Пугливую душу страшил распахивавшийся простор, а вот помора наполнял трудно передаваемым ощущением бескрайности зримого мира. Где ещё на белом свете сыщешь такую же неохватность пространства и огромное, необозримое небо над головой? Разве что в степи, но там иное. Когда травы колышутся вокруг, клонясь широкими разливами под вольным ветром, то, будь ты конный али пеший, всё одно в уме держишь понятие – земля под ногами. Суша. Твердь.
А в море, хошь не хошь, смиряешься с мыслью о том, что под тонкой скорлупкой днища корабля – бездна, тёмная, солёная пучина, невесть каких гадов и чудищ скрывающая…
Под фока‑гик, поскрипывавший на ветру, поднырнул Флэган, удерживая рукой свою шляпу, и дружески, по‑свойски улыбнулся помору.
– Привет, – сказал он, усаживаясь рядом на выщербленную ступеньку трапа.
– Здорово, – буркнул Фёдор, не привыкший к бесцеремонности американцев. Хрен поймёшь, что у них шло от ощущения внутренней свободы, а что от агрессивного желания выставить свою независимость напоказ. Гражданин США словно бросал вызов всему свету: «А ну‑ка, отними у меня волю! Попробуй только!»
Усмехнувшись, Чуга метнул взгляд на трепыхавшийся флаг, полосатый как матрас, краплённый тридцатью шестью звёздочками.20 Уж больно много воли взяли…
– Слышь? – сказал он. – Объясни мне одну вещь…
– Хоть две! – ухмыльнулся Бойд.
– Что это такое – Запад ваш? Марьяна его по‑разному кличет – то Дальним, то Диким…
– Марьяна? – хохотнул Флэган. – Ну ты даёшь! – Сбив на затылок свою широкополую шляпу, он вздохнул и проговорил с мечтательностью в голосе: – Запад, амиго,21 есть земля обетованная… Нью‑Йорк – это Восток, там всё чинно‑благородно, мелкие людишки, мелкие страстишки. Даже банды нью‑йоркские – мелочь пузатая, распоясавшаяся шпана. Надо отъехать за тысячу миль на закат, хотя бы до Миссисипи – это большая река, вроде вашей Волги, – потом пересечь прерии, а когда увидишь Скалистые горы, сразу поймёшь, что попал на Запад – на Запад с большой буквы!
Помолчав с минуту, Бойд снова вздохнул.
– Эх, Теодор, – сказал он с тоскою. – Знал бы ты, как там здорово! На Западе жгучие пустыни и глубочайшие ущелья, высокие горы и тёмные леса. Там в любую секунду можно схлопотать пулю или стрелу… Бывало, я подыхал от жажды, полз, подстреленный скотокрадом, и проклинал свою дурь, заманившую меня в сторону от больших городов. И что? Я гулял по Парижу и Петербургу, каждый день принимал ванну, пил шампанское и заедал устрицами… Но знаешь, чего мне тогда хотелось больше всего? Телятины с бобами! Да чтобы их приготовили на костре из веточек пахучего креозотового кустарничка, и чтобы рядом булькал кофейник, а вокруг ночь, далеко‑далеко койот воет, рядышком лошади травку щиплют…
Чуга покачал головой.
– Не поверю, что людей тянет туда запах кофе, – проворчал он.
Флэган хмыкнул.
– Ясное дело! Люди, они и есть люди, на Запад их манит золото. Только оно там разное…
– Как это?
– А ты когда‑нибудь добывал золотишко?
– Приходилось. Мыл в Сибири.
– О, Сибирь! Стало быть, имеешь понятие, как блестит рыжий металл. Вот и бежит народ на этот блеск! Кто‑то богатеет, деньгами швыряется, а девять из десяти остаются ни с чем. Горбатятся, жилы рвут, поживой для стервятников делаются… А есть и другое золото на Западе, оно из земли растёт.
– Врёшь небось, – нахмурился Фёдор.
Бойд захихикал.
– Не‑е! Трава это, понял? Уж такая расчудесная, что скот на ней весь год кормится. Засыхает та муравка на корню, и коровы её из‑под снега добывают. Так и хрумкают всю зиму, пока зелёная не взойдёт. Богатые ранчеро держат по пять, по шесть, даже по десять тысяч голов скота. Во как!
Чуга подумал.
– Я бы лучше так, – сказал он рассудительно, – на ранчо. И штоб коровки…
– Ха! Я бы тоже.
Помолчав немного, Фёдор осторожно спросил:
– А ты хорошо стреляешь?
Флэган внимательно посмотрел на него.
– Плохие стрелки долго не живут, – сказал он, криво усмехаясь. – Хотя куда мне до Клэя Эллисона или Дикого Билла Хикока!22 Эти одной пулей делают на голове пробор, а двумя другими подравнивают волосы за ушами. Да и чёрт с ними, я за славой ганфайтера23 не гонюсь – уж больно худая она и беспокойная. Ведь каждый сопляк, скопивший на «кольт», но не наживший мозгов, мечтает сразиться с тобой, лишь бы доказать, какой он крутой! А чего ты спрашиваешь?
– Да говорят, у вас в Америке все палят с утра до вечера, только успевай перезаряжать…
Бойд весело рассмеялся.
– Правда‑правда! Любим мы это дело!
– Научи этому делу и меня. С винтовкой‑то я справлюсь, однако с пистолем не «дружу», особливо в вашей манере – навскидку. Научишь?
Флэган построжел.
– А чего ж, – пожал он плечами, – можно. На‑ка, примерь!
Расстегнув пряжку оружейного пояса с патронташем и кобурами из чёрной кожи, Бойд протянул его Фёдору. Достав из кобуры «ремингтон‑нэви» 36‑го калибра,24 он опорожнил барабан, высыпав патроны на ладонь, и сунул револьвер обратно.
– Надевай!
Опоясавшись, Чуга глянул на «учителя». Тот покачал головой.
– Не пойдёт. У тебя кобура висит слишком низко – на всю длину руки. Лучше так, – поправил Бойд пояс на Фёдоре, – чуть ниже бедренного сустава. Понял? Чтобы рукоятка примерно здесь была – посередине между локтем и запястьем свободно опущенной руки. Видишь?
– И чего теперь?
– А теперь выхватывай!
Помор опустил ладонь на рукоятку и вынул оружие из кобуры.
– Не годится! – замотал головой Флэган. – Пока ты так будешь револьвер тащить, тебя всего свинцом нашпигуют. Я ж говорю – выхватывай! В поединке выигрывает тот, кто быстрее. Вернее… Хм. Тут сложно. Скорость, конечно, важна, но что с неё проку, если ты выстрелил первым – и промахнулся? Или чуток задел пулей противника? А тот, хоть и не так быстр, как ты, но стреляет наверняка? И конец тебе…
Критически оглядев Фёдора, он велел:
– Ну‑ка, выпрямись! Стой свободно, как тебе удобно, понял? Конечно, если пригнёшься, попасть в тебя будет сложнее, так ведь и ты будешь весь как скованный, чуть что – пошатнёшься, оступишься… Расслабься! Пусть рука скользит к рукоятке, будто сама по себе. Большой палец опускай на курок… взводи его… указательный мя‑ягко, не‑ежно ложится на спусковой крючок… Как выхватишь, руку не вытягивай, как аристократ на дуэли. Упрись локтем в бедро, но не целься – просто направь дуло в корпус противнику, как будто пальцем показываешь, и стреляй!
Фёдор выхватил, как учили. Сухо щёлкнул боёк.
– Во! Совсем другое дело! А прицел можно менять, слегка сдвигая левую ногу… Ты, главное, не пугай стволом и не играйся. А то есть такие – воображают из себя невесть что, пыжатся, бахвалятся, крутят револьвер на пальце… Так и доиграться можно, ведь у спускового крючка нет, считай, свободного хода. Крутанет такой стрелок свою пушку – и себе же в животе дырку провертит… Ну что? Занимайся!
И Чуга взялся заучивать свой первый урок.
Ранним утром «Одинокая звезда» отшвартовалась у лондонской пристани. Таможенники в синих мундирах покрутились и отбыли, а докеры в изгвазданных робах принялись за разгрузку.
Марион, под охраной Флэгана, отправилась в город. Корабельный кок – Лысый Хиггинс – примерял старенький цилиндр. Тоже, видать, намылился гульнуть. Один Мануэль не покидал каюты, накачиваясь ирландским виски.
Заняв бритву у хозяйственного Зебони, Чуга сбрил бородку и усы, а после приложил к саднившей коже горячее полотенце, смоченное в кипятке. Хорошо!
Он глянул на себя в облупленное зеркальце. Безбородое лицо выглядело непривычно – лишившись кудреватой растительности, оно стало твёрже и как‑то мужественней, что ли.
Усмехнувшись, Фёдор обошёл надстройку и выплеснул в Темзу мыльную воду из тазика. Сощурившись, он огляделся.
Лондон его не впечатлил. Это был самый большой город на белом свете, но уж больно мрачно выглядела столица Британской империи – тёмной, серой, закопченной. Из сотен труб непрестанно валил дым, мешаясь с извечным туманом, оседая копотью, сеясь с грязным моросящим дождиком. По реке сплавлялись баржи, шлёпали колёсами пароходы, медленно, словно заторможенно проплывали редкие парусники – замызганные посудины, побеждённые углём и сталью.
И шумы над Темзой расходились машинные – свистел пар, лязгали цеплявшиеся шестерни, громыхали цепи и сочленения. Неожиданно Чуге послышался торопливый говорок Сайласа Монагана:
– Да всё нормально, Хэт! Просто Мануэль, свинья такая, запил, а мне нужен верный человек!
– Отметелить кого?
– Нет. Ты про князя слыхал?
– Какого ещё князя? – не дошло до Хэта.
– Ну князя! Как тебе ещё объяснить? На нашей лоханке ихнее сиятельство25 собралось махнуть в Америку! Понял?
– А чего на нашей? Садился бы на пароход…
– Так он же не просто так, а с инкогнитом!
– С кем, с кем?
– При чём тут «с кем»? – раздражённо проговорил Монаган, теряя терпение. – Это так говорят, когда кто‑то путешествует тайно, чтобы его не увидел никто. Понял?
– А‑а…
– Он уже заплатил мастеру26 сто долларов. Представляешь, что у него в багаже?!
– А‑а! – простодушно обрадовался Хэт. – Донести помочь? Так это я завсегда!
– Тогда приоденься. Князь всё‑таки…
– А… то дело, ну… – Монаган‑матрос постучал каблуком по палубе. – Что, отменяется?
– Тише ты! – цыкнул Монаган – помощник капитана. – Всё остаётся в силе. Как в море выйдем, тогда… Ну всё! Давай переодевайся по‑быстрому…
Фёдор послушал торопливый топоток Сайласа и увесистые шаги Хэта, основательного парня «от сохи».
Интересно, подумал Чуга, что эти прощелыги затеяли? Сам он не испытывал особого страху. Весь тот сброд, с которым Фёдор делил кубрик, представлялся ему мелкой шпаной, по‑настоящему опасные люди не топтали палубу «Одинокой звезды».
– Тео! – послышался сиплый голос Вэнкаутера. – Ты где?
– Тут я, сэр, – откликнулся помор.
Шкипер обрядился в клетчатый костюм из джерси, со складками, не разгладившимися от долгого лежания в сундуке.27 Было заметно, что Фокс изрядно выпил, оттого походка его стала шаткой, лицо обрюзгло, обвисло, отекло, а в покрасневших глазах задержалось тоскующее выражение брошенной собаки.
– Побрился? – буркнул капитан. – Эт пра‑льно… Поехали со мной, поможешь. Не доверяю я Саю…
Нахлобучив картуз, Чуга сказал:
– Я готов.
– Пошли… – сделал широкий жест Вэнкаутер.
Они спустились на причал, где уже стоял кэб – элегантный двухколёсный «хэнсом», запряжённый гнедой лошадью. Кэбмен в сером плаще и котелке расположился за коляской, натягивая вожжи поверх открытой кабинки. Ещё один кэб уже отъехал и разворачивался. Фёдор узнал пассажиров – это были Сайлас и Хэт.
– Залезай, – сказал шкипер и прикрикнул: – Чаринг‑Кросс!
– Да, сэр, – ответил «кэбби», понукая лошадь.
Поплутав по лабиринту тесных улочек, мастерских, складов, повозка миновала довольно опрятную улицу, обставленную фахверковыми домами в елизаветинском стиле, и выкатилась на людный Стрэнд.28
Здесь было шумно. Цокот копыт по брусчатке и грохот железных ободьев заглушали говор нарядной толпы, кроме разве что осипших голосов пирожников, расхваливавших свой товар. Удерживая корзину на голове и вовсю трезвоня колокольчиком, торгаши разносили пирожки с мясом, ревенем, вишнею, яблоками, пышки, булочки из Челси – с корицей, лимонной цедрой и смородиной. Мальчишки, встречая пирожников, мяукали и гавкали, но те лишь добродушно отмахивались, предлагая сыграть в орлянку. Покупатель подбрасывал пенни29 – и тут уж кому как повезёт. Выигрывал торговец – забирал пенс себе. Проигрывал – отдавал пирожок бесплатно.
Тут же в толпе бродили лоточники, чьи куртки и брюки были припорошены мукой, – эти продавали чёрствый хлеб. Публика, что побогаче, могла зайти в булочную, чтобы купить свежий, а вот работяги с Ист‑Сайда брали вчерашний – всё ж подешевле.
У дверей театров дежурили продавцы бутербродов с ветчиной. Готовые накормить желающих за полпенса, они носились с большими плоскими корзинами, полными сэндвичей, или катили перед собой тележки со снедью.
«Чего это я всё принюхиваюсь?» – нахмурился Чуга и вспомнил, что не успел позавтракать. Ну пенс на пирог с рыбой сыщется в его карманах…
– Будешь? – спросил Вэнкаутер, доставая из кармана плоскую фляжечку. – Ржаное!
Фёдор помотал головой.
– Ну как знаешь… – и шкипер хорошо приложился, выдохнул, занюхал рукавом, крякнул. – Ты, парень, как – женат?
– Был, – коротко ответил Чуга.
Облизнувшись и пряча фляжечку, Фокс кивнул.
– Вот и я попался в Евины сети… – сказал он. – Пенни её зовут. Пеннивелл Монаган.
Помор вопросительно глянул на капитана. Тот угрюмо кивнул.
– Сестрица она нашему Сайласу. Стерва, каких свет не видывал! Сколько раз я её бросал, а всё без толку. Тянет! Пять раз от неё уходил – и возвращался обратно… А жадна до чего! Чего скопил, этой… этой… отнёс, а ей всё мало! Стал контрабандой промышлять, в такое дерьмо вляпался, что… – Шкипер махнул рукой. – А по весне перегорел будто. Всё мне обрыдло, и подался я до Европы, лишь бы сучку эту не видеть подольше. Раньше‑то скучал, томился по ней, а как предложили мне фрахт до Архангельска, так я обрадовался даже. Вот жизнь…
Вперив мутный взгляд в лошадиный зад, Вэнкаутер смолк. Фёдор не знал, стоило ли ему высказываться, но шкипер сам положил конец его недолгим раздумьям.
– Приехали, – промычал он. – Вылазь.
Кэб остановился на углу Чаринг‑Кросс‑роуд, где стоял мрачного вида отель. Этажей в нём было много, а с виду тюрьма тюрьмой. «Хэнсом» помощника капитана уже стоял у парадного.
– Здесь, что ли? – удивился Хэт.
– А где? – несколько агрессивно спросил Сайлас. Приметив Чугу, он скривился.
– Ну‑у, князь всё‑таки… – растерянно пробормотал матрос. – Я думал, он в замке будет каком или во дворце…
– Раз уж решил за океан податься, – назидательно сказал помощник капитана, – стало быть, продал он свой замок! Понял?
– А‑а…
– Пошли, – буркнул Фокс.
Минуя дремлющего швейцара, моряки поднялись на третий этаж, попав в коридор, куда выходили двери номеров. Шипящие газовые факелы, поднятые бронзовыми конечностями статуй, плоховато освещали ковровую дорожку под ногами, атласные обои на стенах и двери из тёмного дерева. В конце коридора, под аркой фигурного окна, чах фикус в кадке.
– Тридцать восьмой апартамент, – объявил Вэнкаутер, пошатнувшись, и решительно постучал в дверь.
– Да‑да! – откликнулся молодой голос. – Войдите!
Сайлас моментально сорвал с головы мятую фуражку и первым переступил порог.
– Князь… э‑э… как вас там? – осведомился он.
Навстречу вошедшим шагнул парень лет двадцати пяти. На нём были клетчатые брюки в обтяжку, как у Фокса, и твидовый пиджак. Рыжеватые волосы и конопушки придавали нечто мальчишеское его породистому, холёному лицу, и тут не помогали ни пушистые бакенбарды, ни щёточка усов – солидности князю они не придавали, а пронзительные голубые глаза глядели живо и с юмором. Тонкие губы вроде бы и стремились поправить положение, сжимаясь в полоску, но ненадолго – приятная улыбка тотчас же размыкала их.
– Я… – вякнул Монаган, но шкипер властно отодвинул его.
– Меня зовут Вэнкаутер Фокс, – величественно отрекомендовался он, – я капитан шхуны «Одинокая звезда».
– Туренин,30 – представился князь, – Павел Андреевич. Это я с вами тогда договаривался?
Фокс кивнул так резко, что еле удержал равновесие.
– Когда отправляемся, капитан? – чопорно спросил Туренин.
– Как только изволите прибыть на борт, так сразу.
– Я готов!
Сай Монаган оглянулся в растерянности.
– А где же ваши вещи? – пролепетал он.
– Всё своё ношу с собой! – рассмеялся Павел, подхватывая кожаный саквояж.
Лицо Хэта вытянулось.
– И всё? Вы же этот… ну как граф!
Туренин вздёрнул голову.
– Рюриковичи мы, – надменно проговорил он. – Мои предки верой и правдой служили царям‑государям, но нынче от былого блеска остался лишь гордый герб. Имение пришлось продать, чтобы расплатиться с долгами, а я, как видите, собрался в поход за славой и богатством!
«Нормальный вроде парень, – подумал Чуга. – Не корчит из себя барина…»
Вэнкаутер отвесил шутовской поклон, и вся компания покинула княжеские апартаменты.
Когда многочисленная «свита» Туренина вернулась, Марион уже была на борту, красуясь в новой шляпке с Хай‑стрит.
– Представляете?! – кинулась она к Фёдору. – Мы встретили карету с самой королевой Викторией!
– Да неужто? – улыбнулся Чуга.
– Да‑да! – возбуждённо тараторила девушка. – А потом мы обедали в ресторане «Гэлант Эндивор», что на Кингз‑роуд в Челси. Подавали индюшку с орехами, и там ещё был очень вкусный сыр – «стильтон» называется…
Тут она заметила незнакомца и чопорно поклонилась.
– Позвольте вам представить Паула Андрэ… – развязно проговорил Сайлас и ухмыльнулся: – Как там дальше, князь?
– Павла Андреевича Туренина, – ровным голосом проговорил его сиятельство.
– Во‑во!
– Очень приятно, Павел Андреич, – церемонно сказала девушка, подавая руку. – Мисс Марион Дитишэм.
Князь непринуждённо коснулся губами изящных пальчиков.
– Просто Павел, – проговорил он со скользящей улыбкой, – этого достаточно.
– Ну довольно по палубе шаркать, – грубо сказал Сайлас. – Отчаливать пора! Хэт! Эфроим! Тэбби! – Глянув на Чугу, он рявкнул: – А ты чего стоишь?! Марш на корму!
Фёдор молча двинулся, куда сказано. Из каюты, где почивал Мануэль, накатывали сопение, стоны и причмокивания. Пьянь отсыпалась…
…К вечеру того же дня шхуна обогнула мыс Норт‑Форленд и проследовала в Дуврский пролив, который французы упорно именовали Па‑де‑Кале.
Глава 3
БУНТ
Ирландия, дивный зелёный остров, осталась далеко за кормой. Вокруг простёрся океан, без конца и без края, Большая Солёная вода, как индейцы говаривали. Только раз далеко на севере зачернел пароходный дым, но за ночь всё рассеялось, и снова одни лишь обливные валы заполонили весь видимый мир, от горизонта до горизонта. Они катились, как в давние первобытные времена, волнуясь над солёной пучиной. Синее небо, зелёное море и чёрная шхуна. Картинка!
Скучать Фёдору не доводилось – то с парусами возня, то за штурвалом топчешься, а выдастся свободный часок – с револьвером «играешься». Обычно Чуга удалялся, куда было можно на корабле, скажем на бак. Там, прикрытый парусами, он повторял и повторял свои штудии, учился мгновенно выхватывать револьвер. Мушка мешала, цеплялась – Фёдор её спилил напрочь. Бывало, по три часа упражнялся, хватаясь за рукоятку до самого обеда, и потом ещё, пока рука совсем не переставала слушаться упрямого хозяина. И начинало получаться. Однажды, когда Бойд застал его врасплох, Чуга просто в изумление пришёл – «смит‑вессон» сам будто прыгнул ему в руку! Одно, неуловимое глазом, слитное движение – и дуло холодно глянуло на Флэгана.
– Ничего себе… – пробормотал Бойд и внимательно посмотрел на Чугу. – А ты делаешь успехи.
– Как учили, – хмыкнул Фёдор, бросая револьвер обратно в кобуру.
На седьмой день пути Лысый Хиггинс превзошёл себя – наловив свежей рыбы, он сварил потрясающую уху. Наваристую, густую, пахучую – объелись все. Еле достояв вахту, Чуга спустился в кубрик и прилёг. После сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать…
Часика два он покемарил. Разбудил его резкий звук выстрела, а затем поднялась суматошная, беспорядочная пальба, перебиваемая дикими криками и чернейшими ругательствами.
Сунув руку под тощую подушку, Фёдор сжал рукоятку «смит‑вессона» и мягко вскочил. С тем чтобы кидаться на палубу, он решил повременить. Сперва устроим «проверку на вшивость»…
Сдёрнув матрас с верхней койки, Чуга скрутил его валиком и прикрыл своим одеялом. Сунув револьвер за пояс, Фёдор отступил в закуток, куда сваливали рваные снасти. Расчёт его оправдался – от входа донеслись тихие шаги по трапу. Показался Мануэль. Ощерив щербатые зубы, Бака вскинул «кольт» и выпустил три пули, изорвав скатанный матрас. На четвёртый раз боёк клацнул впустую, озвучивая грустный факт – боцман извёл все патроны.
– Не повезло, – хладнокровно заметил Фёдор, выступая из закутка.
Бака выпучил глаза, хватаясь за второй револьвер, торчавший у него из низко подвешенной кобуры, полоской кожи привязанной к бедру. Грохнул выстрел из «смит‑вессона», и Мануэля отбросило к трапу. Мыча, боцман сполз на пол, слепо шаря руками по груди, по грязной рубахе, мокнущей кровью.
– Т‑ты… – прохрипел он, падая на колени. – Ты…
– Я, – не стал скрывать Чуга.
Надувая розовые пузыри, Бака рухнул лицом на пол. Фёдор поспешил наверх, не обуваясь, и выскользнул на палубу. Он опоздал на долю секунды – в пяти шагах от него прижимался к фок‑мачте Флэган Бойд. Тоже босой, без шляпы, но с двумя револьверами в руках, он высматривал кого‑то на корме. Вдруг за его спиной шевельнулся брезент, накрывавший носовой трюм, и показался Коттон Тэй. Стоя на коленях, он хищно улыбнулся – и открыл огонь с двух рук, стреляя Флэгану в спину. Бойда бросило на мачту, его тело сильно вздрагивало при каждом попадании.
И лишь теперь Чуга вскинул револьвер, стреляя с бедра, как его учил Флэган, метя Коттону в живот и грудь. 44‑й калибр швырнул Тэя к правому борту, да с такой силой, что убийца не удержался на палубе – ударившись о планшир, он перекинулся за борт, нелепо задирая тощие ноги.
Из‑под фока‑гика вынырнул Хэт, увидал дуло «смит‑вессона» – рука помора была недвижима, как длань памятника, – и тут же отбросил оружие, словно оно жгло ему пальцы.
– Я – пас! – прохрипел он.
Чуга бросился к Флэгану.
– Бойд! Как ты?
Затуманенные глаза ганфайтера прояснились.
– А‑а, Тео… – Губы Флэгана дрогнули. – Боюсь, уже никак… Возьми мой пояс… Дарю… – Веки у Бойда опустились, словно тот отходил, но вот открылись снова. Взгляд, затуманенный страданием, прояснился. – Жалко‑то как…
Вздрогнув, вскинувшись в последний раз, он медленно вытянулся на палубе.
Зарычав от бешенства, Фёдор взял в левую дареный «ремингтон».
– Сидеть и не рыпаться! – сказал он Хэту ледяным тоном, и тот мелко закивал головой.
Чуга оглянулся. На носу никого. В проходе между надстройкой и левым бортом видны были чьи‑то ноги. Бунт на корабле? Не о том ли Хэт Сайласа пытал? Надо полагать, Монаган всё и затеял…
Скользнув по стенке, Чуга выглянул. У левого борта лежал, раскинув руки и ноги, Табат Стовел. Труп Табата.
Посмотрев вверх, Фёдор не стал раздумывать – заткнув револьверы за пояс, он полез на верх пристройки, цепляясь за фока‑гик и подтягиваясь. Став на карачки, подобрался к самому краю и увидал Эфроима Таггарта.
Матрос подпрыгивал на полусогнутых, будто учёную обезьяну изображал. В руке его плясал «кольт».
Неожиданно он выстрелил. Вслед за этим послышался насмешливый крик Туренина:
– Не попал! Что, трусишка, руки дрожат?
– Выходи! – заорал Эфроим. – Иначе я за себя не отвечаю!
Вместо ответа грохнул выстрел. Пуля 45‑го калибра легко продырявила деревянную переборку и засела у Таггарта в плече, разворачивая стрелка. Бранясь, Эфроим нажал на курок – и тут на него пала тень. Резко вскинув голову, он увидел Чугу.
– Привет, – сказал Фёдор и выстрелил.
Пуля вошла Таггарту точно в ключичную ямку, разворачивая грудину. Готов.
Помор соскочил на палубу и крикнул:
– Павел, не стреляй! Марьяна, ты как?
– Жива! – донёсся вздрагивающий голос девушки. – Где Флэган?
– Убит.
Из дверей показался Туренин. Левая нога его была в крови, князь прихрамывал, но улыбался. В руке он сжимал новенький «адамс».31
– Привет! – сказал Павел.
– Здоров, – буркнул Чуга. – Обходишь справа, я слева. Наступаем на шканцы!32
– Есть! – осклабился его сиятельство.
На шканцах Фёдору предстала заключительная картина трагедии, разыгравшейся в открытом море. Раненый Вэнкаутер лежал на палубе, опираясь на локоть и прислонясь к кормовой надстройке. Он тяжело и хрипло дышал, не сводя пристального взгляда с Сайласа Монагана. В сторонке, высоко задрав руки, стоял Лысый Хиггинс, бледный и потный.
– Ты мне надоел, Вэн, – торжествующе цедил Сайлас, ещё не ведая, что скоротечный бой на палубе окончился не в его пользу. – Короче, подписываешь бумаги и передаёшь шхуну мне. Лоханку потеряешь, зато живой останешься!
Сделав знак князю, Чуга сказал негромко:
– Погоди подписывать…
Монаган развернулся, как ужаленный, и выстрелил. Левую руку Фёдора будто кто раскалённым шкворнем проткнул. Грохнул «смит‑вессон», трижды расходуя патроны. Сайласа отбросило, он с размаху треснулся головой о гик, но ему уже не было больно. Князь медленно опустил свой «адамс».
– Спас‑сибо… – выдавил Фокс.
– Не за что, – без улыбки сказал помор.
Чуга помаленьку отходил. Скоротечный бой вспыхнул и угас, разбередив хоть и буйную, но свыкшуюся с законом натуру Фёдора. Бунт на корабле всегда карался по всей строгости, а тут он сам подавил мятеж. Липкая боязнь заскреблась в душе – кабы чего не вышло… Одно дело – драка в портовой таверне и совсем другое – застрелить боцмана со штурманом на пару.
– Марион! – крикнул Туренин. – Можете выходить! Всё кончено!
Девушка вышла в сопровождении Зебони – мисс Дитишэм была бледна, а негр посерел от страха. Поднятые руки кока пали, шлёпая по ляжкам.
– Слава те, Господи! – выдохнул Хиггинс.
– Флэгана жалко… – всхлипнула Марион.
– Миста‑ар Бойд хороший человек был. – Зеб сокрушённо покивал курчавой головой.
– Тео, – разлепил губы Вэнкаутер, – принимай командование. Я не жилец…
– Марьяна, – сказал Фёдор, – сможете за раненым поухаживать?
– Конечно! – воскликнула девушка. – Зеб, быстренько принеси жёлтый баул!
Слуга умчался, а Чуга усмехнулся, глядя на Туренина.
– Теперь вы с Зебом, да кок, да Хэт, – сказал он, – вся команда этого корабля.
– Мы справимся, капитан! – осклабился князь.
Ничего не изменилось в мире. По‑прежнему катились океанские валы и светило солнце. Как день, как неделю назад, качалась на волнах шхуна, упрямо стремясь к западу.
Равнодушные небеса не заметили убавления душ человеческих, а мёртвые тела вряд ли достигнут дна – погружаясь в мрачные глубины, они насытят сонмы тварей морских и растворятся в вековечном круговороте живой и косной материи.
Да и людям недолго помнить о чужих смертях – минуют считаные дни, и тошные воспоминания сотрутся, оставив в сознании малозначимый след.
Чуга стоял за штурвалом. Хиггинс варил обед вполовину меньше прежнего. Хэт старательно драил палубу. Флэгана Бойда похоронили по морскому обычаю – зашили мёртвое тело в холстину и предали его океану, а Павел почитал из Библии.
– Слишком быстро всё произошло, – призналась Марион. – И слишком много всего нехорошего сразу.
– Так оно и бывает, – нахмурился Чуга, которому выпало взять на себя ответственность за корабль, за его пассажиров и нести её.
Слава богу, что гафельная шхуна не требовала большой команды. Не нужно лазать по мачтам, ставя или убирая паруса, всё делается с палубы. И всё же пятерых маловато. Особенно если учесть, что большая часть из них – «сухопутные крысы», которым не скомандуешь: «Поворот оверштаг!» – и всё на этом. Нет, надо будет долго и нудно объяснять, что именно делать, куда бежать, за какие снасти тянуть. Однако и выбора не было. Помнится, он недовольничал, когда капитан «Гридня» стал учить вольноопределяющегося Чугу основам штурманского дела. Зато как это дело пригодилось ему теперь!
Ночь прошла спокойно. Ветер дул по‑прежнему, не меняя направления, «Одинокая звезда» шла ходко, и всего делов оставалось – выдерживать курс. Растолковав Зебу с Павлом, как обращаться со штурвалом да как сверяться с компасом, Фёдор залёг часика на два. Но князь не разбудил его ни через три, ни через четыре часа.
Проснувшись почти в два ночи, Чуга забеспокоился. Однако, судя по звёздам, шхуна держала курс. Покачав головой, помор приблизился к мостику ощупью – бортовой фонарь погас. Внезапно расслышав два голоса, он замер.
– …Никогда не любил охотиться, – негромко говорил Туренин. – Не то чтобы я был жалостлив к тварям Божьим, как эти слезливые дамочки из общества защиты животных, отнюдь нет. Если приходит нужда, я завалю оленя или, там, горного барана. Просто я никогда не понимал этого странного «джентльменского» увлечения, вроде охоты на лис, когда целой толпой и сворой собак гоняют по лесу обезумевшую зверюгу. А у нас, в России, волка травят всем скопом… Безо всякой нужды, просто так, потехи ради. В Индии мне пришлось убить великолепнейшего тигра, отпробывавшего человечины и взявшего дурную привычку завтракать жителями одной затерянной деревни. Полосатый хищник обнаглел до того, что свил логово в заброшенном храме рядом с селением. Там я его и пристрелил, прямо у подножия статуи многорукого Шивы, словно в жертву принёс… А в Восточную Африку меня занесла мода – в высшем свете сочли хорошим тоном охоту на слонов…
– Жалко слоников, – подала голос Марион. – Зачем их убивать? Они же безобидные!
– Хм… Безобидные… Вы просто не видели, что бывает с человеком, которого догонит разъярённый слон, – тело превращается в лепёшку!
– А вот не надо было к слоникам приставать! – запальчиво парировала девушка.
Князь весело рассмеялся.
– И то верно! Ну слоников ваших я не трогал – зачем? Убивать ради мяса? Кто ж такую прорву съест? Легче подстрелить антилопу. А заваливать слона ради его бивней – настоящее варварство. Носорогам в этом отношении тоже не повезло – их уничтожают из глупости. Престарелые арабы верят, что порошок из рога этих гигантов вернёт им мужскую силу. С тем же успехом они могли бы перемалывать рога козлов или баранов!
Марион засмеялась.
– Да! А в Африке я, в основном, по сторонам смотрел и совершенно случайно убил льва. В саванне растёт высокая‑превысокая слоновья трава, она скроет человека любого роста. И вот я пробираюсь по тропе, а на меня из зарослей выскакивает огромный лев! Я и выстрелил…
Фёдор усмехнулся. Ну хоть не хвастает своими охотничьими подвигами.
– Павел! – громко позвал он. – Ты почему меня не разбудил?
Лица его сиятельства и мисс Дитишэм были подсвечены слабым сиянием фонаря, поэтому Чуга затруднился бы сказать, что они выражали.
– Да вот, засиделись что‑то, – смутился Туренин, – заболтались…
– Марш спать, – проворчал помор. – Оба…
– Слушаюсь, капитан! – дурашливо ответила Марион.
Проводив глазами полуночников, Чуга вздохнул. Сам себе он показался вдруг древним стариком, забывшим пору молодости…
…За ночь шхуна сбилась с курса, да и ветер стал отходить.
– К повороту оверштаг! – трубно взревел Фёдор, заняв место рулевого.
– Да, са‑а!.. – рявкнул Зебони, по‑южному выговаривая «сэр».
Чёрный слуга и князь, упорно зубрившие корабельные словечки, вытянулись во фрунт. Рядом, оставив на время черпак, встал по стойке «смирно» Хиггинс. Чуть сзади пристроился Хэт.
– Поворот! – гаркнул Чуга, уваливая шхуну. – Стаксель‑шкот травить! Грота‑гика‑шкот выбрать! Фока‑гика‑шкот выбрать!
Зеб с его сиятельством бросились в разные стороны, мигом забыв моряцкие штудии, тут же вернулись, едва не столкнувшись с коком, покрутились, переспрашивая друг друга, пока, наконец, не ухватились за нужные снасти.
Фёдор положил руль на ветер – «Одинокая звезда» ощутимо заворачивала к северо‑западу.
– Фока‑гика‑шкот потравить! Грота‑гика‑шкот потравить! Правый стаксель‑шкот выбрать!
Верхние паруса – топсели, – обычно венчавшие обе мачты шхуны, Чуга побоялся устанавливать. Не дай бог, запутается его команда!
– Фока‑гика‑шкот выбрать! Грота‑гика‑шкот выбрать! Шкоты закрепить!
«Одинокая звезда» уверенно шла на запад, чуток забирая севернее, нацеливаясь на далёкий ещё Нью‑Йорк. Князь Туренин, словно оправдывая название шхуны, неприкаянно торчал на баке. «Чего‑то он так увял?» – подумал Фёдор, наблюдая за Павлом, непривычно молчаливым и как‑то разом поскучневшим. Буркнув: «Так держать!» – помор доверил штурвал Монагану и протопал в капитанскую каюту. Марион уже была здесь и живо обернулась навстречу, улыбаясь Фёдору.
– Как он? – спросил Чуга.
Между девичьих бровок возникла морщинка.
– Вэн потерял много крови, – негромко проговорила мисс Дитишэм, – но раны не воспалены…
– Если до сих пор не сдох, – поставил свой диагноз Фокс, – то, может, ещё и выкарабкаюсь…
– Молчите! – строго сказала девушка. – Вам нельзя разговаривать!
– Слушаюсь…
Капитан будто усох и постарел – бледный, небритый, с чёрными, запекшимися губами, он представлял собой душераздирающее зрелище.
– Всё ладно будет, – подобающе выразился Фёдор.
– Всё будет о’кей! – подхватила Марион.
Выйдя на палубу, Чуга оглядел океанские просторы. Атлантика добродушно качала шхуну, не мешая той стремиться на запад. Фёдор покачал головой. Море‑океан отделило его от России, от Севера родимого. Время минет, и сотрётся в памяти оставленный дом, шумливая Ваенга, могилка Олёнкина… Чуга вздохнул.
– О чём вздыхаете? – незаметно подойдя, ласково спросила мисс Дитишэм.
Помор обернулся.
– Да так… – отделался он никчёмными словами.
Марион встала рядом с ним, подставляя хорошенькое личико солёному ветру, и глянула искоса.
– У меня такое впечатление, – сказала она, надувая губки, – что вы меня избегаете.
– Разве?
– Да‑да! Не глядите даже в мою сторону!
– Просто не хочется быть третьим лишним.
– Вы дурак! – выпалила мисс Дитишэм.
Это было сказано от души, безо всякого жеманничанья, и Федор не выдержал, рассмеялся. Тут же и Марион прыснула в кулачок.
– Простите, – пробормотала она, – вырвалось. С князем мы друзья, а вы… Мне с вами ничего не страшно. Так спокойно становится… и я сразу начинаю чувствовать себя женщиной!
Девушка мило покраснела, и губы Фёдора наметили улыбку. Марьяна…
Она совсем молоденькая – и совершенно не испорченная. Девушка нравилась ему именно своей детской непосредственностью, радостной открытостью миру, мечтательностью и предчувствием счастья. Хотя, что там скрывать, Марион было чем пленять, к тому же природа одарила её особым женским обаянием, которое волновало каждого мужчину, просто смотревшего на неё. Такая вскружит голову любому… да только не ему. Слишком уж он здравомыслящ и трезв, порывам нет места в его душе.
«Или ты уже успел состариться в свои тридцать два?» – подумал помор. «Федюнька», – ласково называла его Олёна. А кто он на самом деле? Суровый Фёдор Труфанович? Мрачный Чуга? Способна ли Марьяна тронуть его заскорузлую, ороговевшую натуру?
Помор покачал головой в лад своим грустным мыслям. Когда расстаёшься с любимым человеком, ставшим близким тебе и родным, в душе остаётся рана. Сколько ей суждено заживать? Когда она перестанет саднить?
Чуга поднял голову к небу, и солнечное тепло согрело его лицо, словно кто погладил ласково. Фёдор улыбнулся. Пожалуй, человек, не любивший по‑настоящему, мог подумать, будто он зарок давал какой – верность хранить той, что была ему всех дороже. Да нет… Себя‑то, живого, зачем хоронить? Олёна всегда ему счастья желала, а бобылю какая радость жить? Не в этом дело…
Не готов он пока к новой амурной круговерти. Болит сердце‑то. Щемит. Коли одна всего тебя занимает, куда ж другую‑то вместить? А просто так побаловаться, плоть свою потешить… Почто так‑то Марьянку обижать? Эта барышня заслуживает большего. То‑то и оно…
– А чего это князь наш такой смурной ходит? – перевёл Чуга разговор.
– Влюбился князь, – гордо сказала девушка.
– В кого? – нарочито удивился Фёдор.
– В меня, в кого же ещё? – фыркнула Марион, вздёргивая носик. – А я ему возьми да и расскажи, по какой надобности в Нью‑Йорк следую.
– Это по какой же?
– Замуж выхожу! – важно ответила мисс Дитишэм.
– Ах, вот оно что… Не повезло, выходит, князю. А кому повезло?
– Его зовут Роуэлл Дэгонет. Он молод и состоятелен, из хорошей семьи… Правда, он далеко‑далеко не такой мужественный, как вы, но что уж тут поделаешь. Отец всегда хотел, чтобы мы с Роуэллом были вместе. И дедушка…
– А вы?
Марион вздохнула.
– Не знаю… – пригорюнилась она. – Роуэлл хороший, добрый, но… Не знаю.
– Смотрите мне, – шутливо пригрозил Чуга, – чтоб счастливы были!
– Буду, – робко улыбнулась мисс Дитишэм. – Наверное…
Глава 4
ВОСТОК
Подходила к концу вторая неделя плавания, когда показалась земля. Попотел Чуга изрядно, курс исчисляя, зато вышел куда хотел. Корабельные дымы подтверждали близость нью‑йоркского порта – севернее поспешал пароход «Россия», а южнее коптил небо крейсер «Нью‑Арк».
Фёдор глядел на тёмную, неровную полосочку на горизонте с глухим волнением. Америка…
Чего ему ждать от американской земли? Может, зря он одолевал океан и ему тут ничего не «светит»? Тысячи и тысячи таких, как он, решительных, сильных людей подавались за море в поисках лучшей доли, но многие ли из них нашли своё счастье? Надо быть отчаянным и безрассудным человеком, или решительным, уверенным в себе, или, как он с Турениным, потерять всё, что имел, дабы порвать с привычным окружением, бросить постылую родину – и начать всё с самого начала, пойти ва‑банк!
Кому‑то повезёт, кто‑то выберется из нищеты, разбогатеет, выйдет в люди. А сколько безвестных могил останется от тех, кто хоть на миг ослаб духом и сдался? Не смог переиграть судьбу?
Человек всегда надеется на лучшее, поскольку не помнит, что смертен. Если же утратишь надежду, бессильно опустишь руки, то это всё равно, что умереть. Тот, кто надеется, не расстаётся с волей к жизни. Он идёт вперёд, падает, поднимается, битый, стреляный, обобранный, – и с упорством продолжает путь. А на американской почве «голубые цветы надежды» прорастают лучше всего – это свободная страна, во множестве мест ещё ничейная, нехоженая даже, и ты можешь застолбить свой удел. Стать кем‑то.
«Стану!» – твёрдо решил Фёдор. Глядишь, и затянется рана в душе, уйдёт горе, и лишь одна светлая печаль сопутствовать будет помору Чуге.
Америка…
И вот берег приблизился вплотную, разошёлся устьем залива, взгромоздился сонмищем крыш на Манхэттене, над которыми, будто маяк, парила церковь Святой Троицы, самое высокое здание Нью‑Йорка.33
– Убрать стаксель! Травить грота‑гика‑шкот! Подать носовой! Убрать кормовой! Убрать грот!
«Одинокая звезда» мягко привалила к пирсу, замерев, как усталый конь, добредший таки до стойла. Город, как рекомая избушка на курьих ножках, был повёрнут к порту задом – за пристанью поднимались скучные узкие дома в пять‑шесть этажей, по фасадам которых спускались ажурные лестницы.
Расквитавшись с иммиграционными и таможенными чиновниками, экипаж шхуны сошёл на берег. Хэт Монаган потоптался, поклонился неуклюже всей честной компании, да и пошёл себе. Лысый Хиггинс помог Вэнкаутеру спуститься по трапу.
– Теодор! – окликнул Фокс помора. – Погодь…
Чуга, поправив лямку заплечного мешка, обернулся к шкиперу.
– Спасибо, – серьёзно сказал тот, – спас мою собственность и мою жизнь. Я уж думал, немила она мне, ан нет – охота ещё небо покоптить, хе‑хе…
Опираясь на палку, Вэнкаутер порылся в кармане и выудил оттуда пять золотых монет.
– Держи, ты их заработал. Тут сотня долларов.34 Душонку свою я ценю дороже, хе‑хе, но больше с собой нет.
Фёдор отказываться не стал, ссыпал золото в карман и пожал шкиперу руку.
– Ну прощевай, Вэн. Может, свидимся ещё.
– Удачи, Тео.
Чуга догнал Павла и нетерпеливо подпрыгивавшую Марион.
– Ну что? – сказал он. – Прощаемся?
– Ну уж нет! – воспротивилась девушка. – Мы все едем к нам на Пятую авеню! Дедушка будет страшно рад!
– Боюсь, сударыня, – тонко улыбнулся князь, – что он откажет от дома двум босякам, вроде нас с Фёдором. Наши наряды далеки от тех, которые приличествуют великосветским гостиным.
Видя, как огорчилась Марион, помор мягко добавил:
– Уж позвольте сперва обновку справить.
– Но вы придёте? – Мисс Дитишэм с тревогой и настойчивостью заглянула Чуге в глаза.
– Обязательно, – пообещал тот.
– Ну‑у да, в общем, – промямлил Туренин.
– Я буду ждать! Попробуйте только не прийти!
Раз десять повторив свой адрес, перемежая кокетливые мольбы со смешными угрозами, Марион поймала брауновскую бричку, такую же привычную для Нью‑Йорка, как кэб для Лондона, и была такова.
– И что теперь делать прикажешь? – Князь с укором посмотрел на Фёдора. – Друг мой, я дал барышне слово, но у меня в кармане ровным счётом десять соверенов!35
– Пустое! – отмахнулся помор. – Зато у меня ровно сто долларов. На палубу и твоя кровь капала, так что…
– Это исключено! – твёрдо заявил Туренин. – Я хоть и нищий, но дворянин. Деньги твои, Фёдор, и только твои! – Тут он замялся. – Но… если ты займёшь мне пару «золотых орлов»,36 то…
– Замётано!
Углядев подальности подозрительные фигуры – припортовая босота! – Чуга счёл за лучшее достать из мешка верный «смит‑вессон» и сунуть его за пояс.
– Пошли отсюда.
Выйдя на Бродвей, Фёдор увидел совсем другой Нью‑Йорк – нарядный, чопорный, спешащий делать деньги. По улице в разных направлениях носились двухместные «браун‑купе», покачивались на рессорах ландо и фиакры, давились в тесноте пассажиры трясущегося омнибуса. Гвалт стоял изрядный, перестук колёс и цокот копыт добавляли шума в общую копилку.
В то же самое время наивеличайший город Америки производил впечатление очень большой деревни. Лондон или Санкт‑Петербург были городами устоявшимися, сложившимися, а вот «Большое яблоко»37 пребывал в вечном движении. Сотни тысяч людей со всего света прибывали сюда, чтобы рассеяться по великой земле вплоть до Калифорнии – или осесть на берегах Гудзона. Больше всего в нью‑йоркском порту сходило ирландцев, евреев, немцев и шведов – и сразу начинались междоусобицы. Ирландцы не выносили негров и постоянно схватывались с ними, местные старожилы терпеть не могли ирландцев, так что драки и поножовщина были обычным делом, особенно в Сохо, что за Кэнел‑стрит.
– И где у них тут одёжей торгуют? – вопросил Чуга, вертя головой.
– В дорогие магазины готового платья, вроде бродвейского «Стюарта», заглядывать не советую, – ответствовал князь. – Нашего «золотого запаса» может не хватить.
– С жиру беситься не будем, – поддержал его Фёдор. – Нам бы чего подешевше, но чтоб пристойно.
– Сам я тут не бывал… – проговорил Павел, оглядываясь. – Но при мне упоминали универмаг Хогвоута…38 Кстати, там мистер Отис устроил свой лифт.
– Универмаг? – нахмурился Чуга. – Это ещё что за диво?
– Универсальный магазин, где торгуют всем сразу – и одеждой, и обувью, и посудой, и чем угодно.
– А лифт?
– Этого дива я и сам ни разу не видел! Съездим?
– А чего ж… Поехали!
Князь вскинул руку, останавливая брауновский экипаж.
– До Стринг‑стрит, к «Хогвоуту»!
– Да, сэр, – кивнул возница, легонько стегая коня подвласой масти – вороного с бурыми подпалинами.
Словно пересиливая себя, Туренин рассказывал с наигранным азартом:
– Когда тут жили одни индейцы из племени гуронов, остров назывался Манна‑хатта. Одни холмы вокруг лежали да лес стеной. А между холмов, с одного конца острова до другого, тянулась лощина. Вот по ней‑то гуроны и проложили тропу, назвав её Виквасгек. Теперь её перекрестили в Бродвей…
– Всё‑то ты знаешь… – проворчал Фёдор.
– Ну всё – это явный перебор! – усмехнулся Павел. – Но кое о чём понятие имею.
Откинувшись на мягкую подушку, он покосился на помора. Фёдор совершенно не походил на русских мужиков, хитроватых и боязливых, обожавших прибедняться. Тем и в голову не пришло бы равнять себя с князьями али с графьями. Нет, Чуга держится с достоинством истинных новгородцев, которые, бывало, тузили на вече неугодивших им правителей.
Наоборот, это «его сиятельство» постоянно следит за собой, чтобы не ляпнуть ненароком покровительственно‑барское: «Эй, любезный!» Интересно, какого Фёдор о нём мнения, задумался князь. Вряд ли лестного… Чуга имеет все основания считать своего нечаянного знакомца легковесным барином, этаким пустышкой‑аристократишкой, растратившим достояние предков и ныне оставшимся на бобах. Туренин незаметно вздохнул.
Он очень болезненно переживал «благородную бедность», завидуя сноровистым, сметливым купчикам. К великому сожалению, его родители были далеки от хозяйственных дел. Милые, славные люди, они вращались в мире поэтов и художников, разговаривали на нескольких языках, в подлиннике читая Плутарха или цитируя Шекспира. Отец бежал от мирских забот, а княгинюшка по‑прежнему писала меню на карточках самого толстого бристольского картона с золотым обрезом, когда устраивала званые обеды. Оба скончались в нищете, под крышей нетопленого особняка, заложенного и перезаложенного. И дом, и поместье, экипажи и арабские скакуны – всё ушло с молотка.
Павел Андреевич Туренин, потомок Рюрика в двадцать каком‑то колене, достойный член Английского клуба, сохранял невозмутимость в чисто британской манере, встречая и провожая невзгоды с лёгкой ироничной улыбкой. А ведь порой не улыбаться тянуло, а корчиться от унижения, выть от позора и боли. Но не показывать же окружающим, как ему худо…
И вот новый удар судьбы‑негодяйки. Милая, нежная Марион выходит замуж, и не он её счастливый избранник. «Ничего, – усмехнулся князь, – и это стерпим…»
…Когда «купе Брауна» проехало перекрёсток с Пятой авеню, Павел кивнул в её сторону:
– Здешняя Оксфорд‑стрит и Невский проспект. Тут живут самые богатые люди Нью‑Йорка, почитающие себя знатью. Эсторы, Рашуорты, Торли… Из них только Дэгонеты ведут свой род от английских помещиков, а остальные – обычные мещане. Впрочем, Америка – слишком молодая страна, чтобы требовать от её жителей древних корней. Скажем, ван дер Лайдены являются прямыми потомками голландского губернатора Нового Амстердама, как тогда назывался Нью‑Йорк, а времени‑то прошло – каких‑то двести лет!39 А до той поры индейцы не знали бремени белого человека. Хотя как сказать… Де Сото открыл Миссисипи ещё в начале XVI века, а Коронадо тогда же вышел к Скалистым горам… Ну каких‑то двести пятьдесят!
Так, в приятных и познавательных разговорах, они доехали до универмага «Хогвоут», здоровенного пятиэтажного здания из чугуна и камня. Отпустив извозчика, друзья огляделись и сразу заметили всадника в широкополой шляпе, в джинсах и выгоревшей красной рубашке, с чёрно‑белой жилеткой из коровьей кожи. Вытащив одну ногу из стремени, он перекинул её через луку седла и дивился огромным витринам магазина.
– Во понастроили! – весело обратился он к Чуге и Туренину. – Не то что у нас… Восток, одно слово!
Из нагрудного кармана рубашки у него свисали верёвочки кисета. Скрутив цигарку, всадник чиркнул спичкой о джинсы и закурил.
– А здесь чего, вообще? – кивнул он на универмаг.
– Магазин, – ответил Фёдор.
– Во! – удивился конник.
– Откуда, ковбой? – поинтересовался Павел.
– Из Техасу мы, – живо ответил всадник. – Я – Ларедо Шейн, а он, – ковбой похлопал гнедого по шее, – Принц!
Конь мотнул головой, словно подтверждая: да, я королевской крови.
– Сам‑то я, как с гор спустился, так на Запад и подался, – охотливо продолжал Ларедо. – Всю жизнь, считай, коровам хвосты крутил. Вот и надумал глянуть, как оно тут, на Востоке, в Нью‑Йорке ихнем.
– И как тебе град сей? – тонко улыбнулся князь.
– Уж шибко большой! – признался ковбой. – Я в каньонах не блуждал никогда и в пустыне дорогу сыщу – пройду как по ниточке, от источника к источнику, а здесь потерялся!
– Кричи: «Ау!» – рассмеялся Туренин.
Ларедо ухмыльнулся, и белые, незагорелые чёрточки у его глаз ужались в морщинки.
– Бывай! – сказал Чуга.
За дверями «Хогвоута» было людно, но друзья первым делом вошли в кабину лифта – опробовать любопытное изобретение. Лифт загудел и тронулся. До пятого этажа он поднимался минуту.
– Здорово! – хмыкнул Фёдор. – Ежели наперегонки – запыхаешься, пока добежишь. А тут стой себе да в зеркало глядись!
– Здорово, – согласился князь. – Ну пошли мерить!
Оба решили себе голову не морочить зря – каждый купил по чёрному сюртуку в рубчик, брюки из дангери40 того же цвета, входившего в моду, да по паре ботинок. Чуге было непривычно носки натягивать заместо портянок, но делать нечего – обвыкай, пилигрим!41
Белая рубашка приятно облегала тело, а вот узкий галстук‑шнурок был, на взгляд Фёдора, лишним.
– Осталось купить шляпы, – сказал Туренин.
Чуга подумал, припомнил Бойда – тот с утра первым делом надевал шляпу, а уже потом штаны – и согласился. Но когда Павел подвёл его к прилавку, и услужливый продавец выложил стетсоновскую модель «Хозяин равнин»,42 помор заворчал:
– Десять долларов за шляпу? Куда это годится?
– Друг мой, – покачал головой князь, – не стоит гоняться за дешевизной – это самая низкая цена, и шляпа того стоит. Солнце на Западе печёт так, что не обрадуешься!
– Чистейший фетр! – заверил Чугу продавец. – На него пошёл мех бобра, а потому шляпа не пропускает воду. Из неё можно поить коня!
– Давайте, – вздохнул Фёдор.
Обрядившись, они вышли на Бродвей, похожие как бобы в стручке, только помор нёс в руке свой вещевой мешок, а руку князя оттягивал саквояж.
На улице друзья встретили давешнего ковбоя. Вот только Ларедо уже не верхом сидел, а плёлся на своих двоих, звякая шпорами и перекашиваясь под весом тяжёлого седла.
– А Принц где? – удивился Чуга.
– Проиграл, – мрачно сообщил техасец.
– Так лучше бы седло на кон ставить, – сказал Туренин.
– Ага, ещё чего, – по‑прежнему мрачно проговорил Ларедо. – Коняка‑то мне в десятку обошёлся, а за седло я все двадцать выложил! Пойду, – вздохнул он, – отыграюсь, может…
– Удачи! – пожелал ему князь.
На Пятую авеню их доставила конка. В отличие от омнибуса, конка ехала по рельсам, оттого не чувствовалось тряски. Ещё б диванчики мягкие – и хоть спи.
Дом, принадлежащий Селертону Уортхоллу, дедушке мисс Дитишэм, отыскался в промежутке между Тридцатой и Сорок шестой стрит. Это был солидный особняк из камня коричневого оттенка, возле которого скучала парочка неприметных личностей в сером. Дом был выдержан в стиле 30‑х годов – повсюду ковры, панели красного и палисандрового дерева, камины с полукруглыми арками под полками из чёрного мрамора, везде картины Хантингтона, Вербекховена, Кабанеля,43 помпезная мебель буль, ажурная чиппендейл, простоватая истлейк.44
Ливрейные лакеи с поклоном приняли шляпы Чуги и Туренина и торжественно сложили в холле их ручную кладь.
– Теодор!
С радостным криком по лестнице сбежала Марион. Она была неотразима в чёрном бархатном платье с венецианскими кружевами.
Застеснявшись своего порыва, девушка остановилась в двух шагах от друзей, стараясь придать лицу чопорное выражение, но природная живость взяла своё – барышня рассмеялась и бросилась тормошить обоих.
– Вас не узнать! – тараторила она. – Выглядите как денди с Олд‑Бонд‑стрит!45 Пойдёмте, пойдёмте, вы поспели как раз к обеду!
– Так вроде ужинать пора, – подивился Фёдор.
– А здесь так принято! – прозвенел девичий голосок.
Посмеиваясь, Чуга направился следом за Марион. Павел ступал рядом, придав лицу скучающее выражение: дескать, и не такое видали.
Наверху, из комнаты напротив, доносился женский смех – дамы в шёлковых платьях с кружевами вокруг высоких вырезов и узкими сборчатыми рукавами завивали волосы щипцами, нагревая те на газовых горелках.
– Пойдёмте, пойдёмте! – звенела мисс Дитишэм, хватая Фёдора за руку. – Я познакомлю вас с дедушкой!
– Нравится вам здесь? – поинтересовался Чуга, приноравливаясь к семенящей походке Марион.
– Очень! – призналась девушка. – Наверное, я рождена для светской жизни! По понедельникам я буду посещать концерты, по средам – бывать в опере. Зимою, с декабря, начнутся балы, а вечерами – званые обеды. Я буду ужинать у Дельмонико,46 ходить в театр Уоллока и в Музыкальную академию, наносить визиты и принимать гостей…
– Соскучитесь! – убеждённо сказал Фёдор. – Вы – птичка вольная, клетка не по вам, пущай даже и позолоченная.
– Ох, не знаю…
Марион провела друзей через анфиладу комнат в обширную гостиную. Хрустальные люстры отражались в натёртом паркете, литые карселевские лампы47 с круглыми гравированными абажурами, прикрытыми зелёными бумажными заслонками, чередовались с пальмами в кадках. В одном углу стоял рояль «Стейнвей» с большой корзиной роз от Гендерсона,48 в другом обитые парчою кресла были расставлены вокруг затянутых плюшем столиков, добавляя приватности. А посередине располагался огромный овальный стол в окружении бархатных стульев с высокими резными спинками. Стол был уставлен канделябрами и целыми ворохами столового серебра. Чуга подумал с тоскою, что обязательно опозорится за обедом.
– Позвольте вам представить Теодора Чугу, – торжественно провозгласила Марион. – А это Павел Туренин, русский князь!
Лишь теперь Фёдор разглядел сухопарого, моложавого старика в длинном чёрном сюртуке с бабочкой, совершенно седого, с пышными усами и бакенбардами а‑ля Александр II, а рядом с ним раздобревшую даму в тёмно‑лиловом атласном платье, с голубыми страусиными перьями на маленькой шляпке.
– Селертон Уортхолл! Элспет Кармайкл!
Дед Марьяны кивнул довольно дружелюбно, а вот «тётя Элспет» оставалась холодна.
В гостиной между тем становилось людно.
– Это моя кузина, – шептала мисс Дитишэм, представляя Фёдору гостей, – Эмма Рикрофт. А вот кузен Седрик. Друг семьи – Брайен Леффертс. Полковник Дермот Листердейл. Доктор Руфус ван Олдин…
– Ваше сиятельство, а встречались ли вы с императором? – бархатным голосом спросила мисс Рикрофт.
– Безусловно, мэм, – церемонно ответил Туренин.
– И всё же вы выбрали свободу? – томно осведомилась Эмма.
– Считайте это прихотью чудаковатого русского, мэм!
– А вы тоже кназ? – вцепилась кузина Марьяны в Чугу.
Уловив смешливую улыбку мисс Дитишэм, Фёдор вывернулся:
– Я тоже направляюсь на Запад, мэм.
Потребовалось вмешательство Марион, чтобы вывести его с «линии огня».
В это время гомон, доносившийся из комнат, усилился, перебиваемый восклицаниями, и в гостиную вошли трое. Впереди шагал коренастый и плотный мужчина лет тридцати пяти, с лицом холёным и властным. Одет он был очень богато, всякая вещь на нём словно кричала: «Я дорого стою!»
Маленькие глаза коренастого, чуть навыкате, смотрели остро, как бы оценивающе, а тонкие губы кривились в снисходительной, слегка презрительной усмешке.
– Это сам Мэтьюрин Гонт, – шепнул князь, – здешний миллионщик, воротила с Уолл‑стрит. Холодный и безжалостный, как спрут.
– Не совсем так, – проговорила мисс Марьяна. – Похоже, что Гонт получает искреннее удовольствие, когда разоряет своих жертв, а щупальца он запустил повсюду – в золотые рудники, в угольные шахты, в железные дороги…
Фёдор, впрочем, не слушал своих друзей. Его вниманием завладели двое, пристроившиеся к богачу. Пожилой человек своею окладистой бородой и ухватками напоминал купца какой‑то там гильдии. Под ручку с ним ступала высокая, стройная девушка в платье цвета сёмги, отделанном по подолу чёрными плиссированными рюшами. Её золотистые волосы были заплетены в толстую косу и украшены ниточкой жемчуга.
Завидя эту молодую особу, Чуга испытал «сердечный укол» – уж больно лепа была девица. «Больно лепа…»
Воистину, великий, могучий русский язык бледнеет перед женской прелестью! Какими словами передать чудную гармонию плотского и духовного в фигуре младой красавицы, когда жадный глаз ухватывает пленительный очерк груди, узину талии, крутой изгиб бёдер и лишь потом замечает некий внутренний свет, словно отводящий похотливые взгляды? Как описать обаяние незнакомки, очарование её улыбки или выражение карих очей, то насмешливое, то с затаённым искусом?..
– Кто эта барышня? – выговорил помор.
Мисс Дитишэм внимательно посмотрела на него и ответила:
– Её зовут Наталья Саввишна Коломина. Она из Форт‑Росса,49 что в Калифорнии. С нею дядя, Пётр Степанович Костромитинов, русский вице‑консул в Сан‑Франциско.50 – Помолчав, Марион добавила не без коварства: – Наталья помолвлена с мистером Гонтом.
– Да неужто? – буркнул Фёдор, чуя сильнейшее раздражение.
– Ага! – мило улыбнулась мисс Дитишэм.
Гости разбрелись по гостиной. Мужчины кучковались вокруг Гонта, словно придворные близ монарха, женщины разбрелись по парам. Мисс Коломина скучала в одиночестве.
Чуга приблизился к ней и слегка поклонился.
– Меня зовут Чуга, – сказал он на родном языке, – Фёдор Чуга.
– Вы русский? – воскликнула девушка.
– Из поморов мы.
– Очень приятно, Фёдор! А я – Наталья. Давно вы в Америке?
– Первый день, – признался Чуга.
– О‑о! Это очень большая страна! – оживилась Наталья. – Россия, конечно, побольше, но я не выезжала дальше Новоархангельска.51 Папенька с маменькой мои из Москвы будут, а сама я родилась в Форт‑Россе. Там, вообще, много наших…
– Никогда не был в Калифорнии, – улыбнулся Фёдор. – Расскажите, как там.
– Там здорово! – с чувством сказала Коломина. – Форт‑Росс… он у залива Румянцева, а ещё там рядом река Славянка.52 Ранча Петра Степановича – как раз на её южном берегу…
– Как‑как? «Ранча»?
– Ну да! Мексиканцы‑то всё по‑своему лопочут, на «о» – ранчо, а мы по‑нашенски. Ранча у Петра Степановича большая, её даже по‑другому зовут – село Костромитиновское. Там у него и усадьба, и кажимы для бакеров…53 Всё есть! Ранча Абросима Хлебникова почти рядом с заливом, мы её зовём «Хлебниковскими равнинами». А хозяйство Черных дальше всего от крепости, прозывается оно на всякий манер – и «Новая ранча», и «Равнина Черных», а сам Егор Леонтьич говорит по‑простому: «Ранча Черных». Ещё там бостонец54 один есть, Купер его фамилия, тоже скот разводит. Он держит ранчу верстах в тридцати от нас, вверх по Славянке. И мексиканцы с коровами дело имеют – тот же дон Гомес… Но наших всё равно больше – Круковых, Кусковых, Шелиховых, Ротчевых. Коломиных…
Наталья пригорюнилась.
– Папенька мой в прошлом годе пропал, – вздохнула она. – Как отъехал на промысел, так и всё… Он чагу заготавливал – это мамонтовые деревья такие,55 вышины громаднейшей и во много обхватов. Они всё по ущельям растут, а мы из них черепицу делаем чажную. Ох… Передал только с Харитоном Медведниковым писульку свою, что отъезжает срочно в Аризону, большой заказ, дескать, и всё на этом. Говорят, индейцы на его обоз напали, команчи дикие. Наши‑то следопыты в тех местах побывали, останки отцова товарища нашли и фургоны пожжённые, а вот самого папеньки никто не видал. Вот и маюсь я, не знаючи, то ли жив он, то ли сиротою зваться пора…
– Ежели тела отца вашего не сыскали, – с силою сказал Чуга, – стало быть, рано отпевать его. Всяко быват…
– Вот и я так думаю! – горячо сказала Коломина. – Надеюсь всё, жду…
Девушка смолкла, погружённая в мысли невесёлые, и Фёдор тоже разговора не вёл, уважая чужую печаль, пока Наталья не вздохнула, отчего высокая грудь её поднялась ещё выше.
– А Пётр Степанович всё замуж меня выдать норовит, – пожаловалась она, – и маменька про то же талдычит. Только не хочу я, без отцова‑то благословения…
Чуга и виду не показал, что рад.
– Выходит, не мил вам жених?
Наталья заколебалась.
– Про Мэта всяческие гадости говорят, – сказала она, – и в жестокости винят, и за бессердечие пеняют, а того не ведают, что доброта в нём тоже скрыта. Вон Мэт старикам своим особняк купил в Гарлеме, с садиком и слуг нанял. Родители его ни в чём нужды не знают, а он их почти каждый день навещает. Братца меньшого Мэт в аглицкий Оксфорд пристроил и платит за всё, а сестричке своей учителей из самой Италии выписал, чтобы они с ней музыкой занимались и голосок её пестовали…
Фёдор в это самое время перехватил ревнивый взгляд Гонта и подумал, что благие побуждения так глубоко запрятаны в потёмках души миллионщика, что хрен найдёшь. Мэтьюрин вооружился моноклем, отчего бледное лицо его перекосилось, принимая брезгливо‑надменное выражение.
Тут Чуга не удержался – склонившись, он сказал Наталье наполовину шутливо, наполовину всерьёз:
– Ох и много бы я дал, чтобы отбить вас у этого лощёного хлыща! Право, погодили бы вы с замужеством, пока я обернусь да разбогатею! Вот не знал ранее, куда в этой Америке деваться, а нынче ведаю – в Калифорнию мне дорога, не иначе.
Девушка вспыхнула и тихонько рассмеялась (лицо у Гонта пошло красными пятнами).
– А я не тороплюсь под венец, – сказала она с милой улыбкой. – Мы с дядей пробудем в Нью‑Йорке недельки две, а после вернёмся в Сан‑Франциско. Оттуда уже на ранчу. Мэт в наших местах недавно осел, а уже самым большим хозяйством обзавёлся – у него десять тысяч голов скота и сорок бакеров. Люди они все несносные, грубые, драчливые, только одного своего хозяина и слушаются – Мэт лучше их всех с револьвером обращается, да и подраться не дурак. Говорит, что ранча для него – место отдыха от трудов праведных…
– Ежели в гости загляну, не прогоните?
– От дома не откажем!
Фёдор по‑светски откланялся, подмечая, какое зло берёт Мэтьюрина Гонта. Марьяну, как видно, тоже увлекло незримое соперничество. Встрепенувшись, она созвала гостей:
– К столу!
Фёдора и Павла усадили по правую руку от хозяина. Гости беседовали на темы, далёкие от интересов помора, – они снисходительно поругивали условия в Интерлакене и Гриндельвальде,56 восхищались пением Итало Кампанини и Аделины Патти, а вот Чуга прилагал немалые усилия, справляясь со столовым серебром эпохи Георга II, да так, чтобы при этом не кокнуть фамильный сервиз севрского фарфора.
Подавали устричный суп, молодую индюшку с кукурузными блинчиками, жареную утку в смородиновом желе, а Зеб угодливо подливал красного «Шато‑о‑брион».
Туренин легко и непринуждённо справлялся с многочисленными приборами, и Чуга внимательно следил за князем – в какую руку тот берёт большую вилку, какой держит маленькую, как орудует ножом.
– Скажите, кназ, – заговорила настойчивая Эмма Рикрофт, обращаясь к Чуге, – на Запад вы направляетесь поохотиться? А на какую дичь? На бизонов, может?
– Нет, мэм, – усмехнулся Фёдор, поднимая бокал. – Я намерен завести ранчу.
– О‑о!
– Ваше здоровье!
Позднее, когда молодой Роуэлл Дэгонет сел за рояль, и по гостиной понеслись звуки модного вальса,57 пары закружились в танце. Чуга заметил, что мисс Коломина держится в сторонке, и предложил ей руку.
– Вы танцуете? – удивилась девушка.
– Пляшу, – усмехнулся помор.
– Ох, извините! – смутилась дама. – Говорю что попало!
– Пустое, – сказал кавалер, кладя руку на гибкую девичью талию.
Двигался Чуга легко, на всякий случай твердя про себя: «Раз‑два‑три… Раз‑два‑три…» – и даже тётя Элспет вынуждена была признать их с Натальей красивой парой.
– Вы хорошо танцуете, – проговорила Коломина.
– Есть кого кружить, – улыбнулся Фёдор.
Его так и тянуло облизать внезапно пересохшие губы. Сердце билось гулко, гоняя горячую кровь, а девушка – вот она, совсем рядом, мучительно близкая – и недоступная. Весь мир вращался очень далеко, вне кольца объятий, наплывая и скользя мимо неразличимыми цветными пятнами.
Музыка смолкла, и Чуга первый раз в жизни поцеловал девушке руку, благодаря за кружение вальса. Наталья казалась немного растерянной и смущённой, она смотрела на него, будто ожидая невысказанных слов.
Неуклюже поклонившись, Фёдор удалился в курительную комнату, где витал запах дорогих сигар. Смутно было у него на душе. Совсем недавно он посмеивался над амурными страданиями Павла, и вот Бог наказал его, самого заведя в медовую ловушку. Хм. Наказание? Или знамение? Провозвестие счастья?
– Что ты себе позволяешь? – донёсся из коридора резкий голос Гонта, вздрагивавший от ярости. – Как смеешь кокетничать с этим русским нищебродом?! Я ещё даже не взял тебя в жёны, а ты уже хвостом закрутила? Развратничаешь с первым попавшимся босяком?! Шлюха!
Сочный звук пощёчины был ему ответом.
– Ах ты… – задохнулся от злости Мэтьюрин. – Т‑тварь!
Чуга выскользнул в коридор как раз вовремя, чтобы перехватить руку Гонта, занесённую для удара. Наталья стояла рядом, вытянувшись стрункой, бледная и прекрасная в гневе. Из гостиной выглядывали Роуэлл и Павел.
Развернув Мэта, помор увидал вблизи обрюзгшее лицо миллионщика, выпученные глаза, распущенный рот с капельками слюны на губах. Монокль болтался на шнурке, словно отсчитывая удары сердца, уязвлённого ревностью.
Содрогаясь от наслаждения, Фёдор ударил Гонта кулаком под дыхало. Хотел было заехать коленом, дабы расквасить нос противнику‑сопернику, однако тот увернулся. Чуть не упав, Мэт отшагнул, восстанавливая дыхание, и бросился в атаку.
Крепкие, покатые плечи борца выдавали в нём давнее знакомство с боксом, и, как вскоре убедился Чуга, далеко не шапочное – Гонт двигался резво, ни одной лишней секунды не задерживаясь на одном месте. Его цепкие, лютые глаза смотрели зорко, с гнусным нетерпением живодёра – ах, скорей бы вцепиться в податливую плоть и терзать, бить, рвать!
От мощного хука правой Фёдор ушёл – и тут же заработал сокрушительный удар в скулу. Помора отнесло и основательно приложило к стенке, отделанной панелями из палисандра.
Привлечённые шумом драки, гости выбежали в коридор. Дамы заохали, запричитали. Костромитинов и полковник Листердейл бросились было разнимать поединщиков, но тут Роуэлл Дэгонет проявил характер – выхватив револьвер, он крикнул:
– Не трогать!
Князь Туренин красноречиво вытащил «адамс», одним видом своим удерживая толпу. Чуга оттолкнулся от стены, кидаясь к Гонту. Мэтьюрин ждал его, качаясь в классической стойке, подняв перед собой кулаки.
Фёдору боксировать не приходилось, зато опыта уличных драк ему было не занимать. Гонконг, Иокогама, Одесса, Марсель – всюду, где помору доводилось сходить на берег, случались встречи с местной шпаной, охочей до мордобития. Не всегда Чуге удавалось победы одерживать, зато опыт появлялся и дух крепчал.
Едва не заработав сокрушительный апперкот, Фёдор принялся дубасить Гонта, не позволяя тому и на секундочку опомниться. Уйдя в глухую защиту, Мэт отшагнул и набросился по новой, почём зря молотя кулаками.
Пропустив пару ударов в грудь, Чуга врезал Гонту по печени, но кулак прошёл вскользь, зато от сильного тычка Мэта у помора помутилось в голове. Миллионщик тут же воспользовался секундным преимуществом и саданул от души, прямым в подбородок. Фёдор свалился, слепо выставляя руки, и уже в падении ощутил вспышки боли – Гонт бил его ногами. Перебарывая дурноту, Чуга сделал подсечку, и Мэт приземлился на копчик. Передышка, пусть даже в четыре удара сердца, сделала своё дело – муть, колыхавшаяся под черепом, растаяла, вернулись все запахи и звуки. Миллионщик поднимался с колен.
Подтянув ноги, Фёдор присел на корточки – и резко вскочил, направляя удар и вкладывая в него вес тела. Кулак достиг цели – Гонта, едва успевшего встать, отбросило на стену, аж гул пошёл. Чуга тут же подскочил и, пока Мэт не опамятовался, провёл удар, целясь в голову, но не попал – противник резко пригнулся, огревая помора по рёбрам.
Напор у Гонта явно ослаб – сбил миллионщик «дыхалку». Фёдор извернулся, хватая Мэта за отвороты сюртука, и показал ему «ливерпульский поцелуй» – ударил головой в лицо. Хрюкнув, нелепо взмахнув руками, Гонт ударился о стену и свалился на пол.
– Хватит, Фёдор, – сказала Наталья дрожащим голосом, и Чуга кивнул, отступая.
Гонт поворочался и сел, пуская носом кровавые пузыри. Кое‑кто из гостей бросился ему на помощь, и тут уж Дэгонет с Турениным помех не создавали.
Опираясь на руки полковника Листердейла и пожилого, но крепкого ван Олдина, миллионщик поднялся с пола, глядя на помора, словно в прорезь прицела.
– Ты покойник! – сипло проговорил он и двинулся прочь, шатаясь, отмахиваясь от слуг.
Вскорости гулко хлопнула дверь, а немного погодя с улицы донёсся цокот копыт отъезжающего фиакра.
– Думается мне, – мрачно предрёк Костромитинов, посматривая на племянницу, – миссис Гонт тебе не бывать…
– И слава Богу! – всплеснула руками Коломина. – Господи, сколько я всего наслушалась про Гонта, а не верила, оправдывала даже. Дядечка, ты даже не представляешь, какое это облегчение – знать, что тебе не грозит брак с таким человеком! Спасибо Фёдору – избавил!
Чуга криво усмехнулся.
– Каяться не стану, – сказал он, – но, ежели што не так, простите великодушно.
Гости, оживлённо обсуждая «скандал в благородном семействе», потянулись к столу. Вперёд шагнула Марион, под ручку с Роуэллом.
– Вам надо срочно покинуть город! – молвила она с тревогой, переводя взгляд с Фёдора на Павла. – Гонт – страшный человек, он ни перед чем не остановится!
Туренин кивнул.
– Это точно, – сказал он серьёзно. – Если его люди найдут нас, вдвоём не отмахаемся.
– Ты прав, – неохотно признал Чуга. Обратив взгляд на Коломину, он развёл руками: – До свиданья, сударыня Наталья Саввишна! Даст Бог, свидимся.
– Обязательно, – ласково сказала девушка.
Пожав руки Костромитинову и Дэгонету, Фёдор с Павлом откланялись.
Особняк на Пятой авеню помор покидал с тяжёлым чувством. Впервые за долгое время на душе у него теплом повеяло, чувство живое затеплилось – и на тебе! Расставайся, беги… А что делать? Задержаться? Авось минуют его напасти? А толку‑то? Что ты Наталье предложить можешь, окромя любви да ласки? Поговорку – что, дескать, с милым и в шалаше рай, дурачки придумали. Чай, не ночевали они в том шалаше, когда дождь стеной! А зимой как? У костра греться? Да что ж это за милёнок такой, если избраннице даже крова предложить не может? Куда такой годится? Вот пущай сам в своём шалаше и живёт! А ему сам Бог велел в богатеи выйти…
– Стало быть, на Запад? – перебил его мысли скучный голос Туренина.
– Угу, – буркнул Чуга.
– Ранчу заводить?
– Угу.
– А меня… этим… бакером возьмёшь?
– Знаешь хоть, где у коровы рога, а где хвост?
– Знаю, – с вымученной жизнерадостностью ответил Павел, – читал! Едем?
– Да куда от тебя денешься, всё равно ж не отвяжешься…
В сгущавшихся сумерках показался силуэт лошади с коляской.
– Извозчик!
Очень скоро «купе Брауна» унесло друзей прочь, и они не успели разглядеть, как из‑под тёмной арки подъезда вывернула пролётка, занятая двумя мужчинами в неприметной одежде и одинаковых шляпах‑котелках. Не догоняя, но и не отставая, пролётка покатилась за экипажем, увозившим Фёдора и Павла.
Глава 5
ОКОЛЬНЫЙ ПУТЬ
Поздно вечером Чуга с Турениным переправились через Гудзон на пароме и вышли к вокзалу. Поезд до Канзас‑Сити58 как раз разводил пары, потихоньку готовясь к отправлению. Состав был длиннее, чем обычно, – целых восемь вагонов, не считая тормозного, – почтовый, багажный, два грузовых и три пассажирских разной классности.
Друзья купили билеты во втором классе. Больше всего вагон напоминал немного увеличенный дилижанс – тут стояли деревянные сиденья, обтянутые иссиня‑чёрным тиком, а стены были отделаны синим плюшем, с узкими зеркалами между окон.
Войдя, Фёдор сразу услышал смех Ларедо – проигравшийся ковбой был уже без седла.
– По пути, значит? – осклабился Шейн.
– Вроде того, – проворчал Чуга, аккуратно укладывая шляпу‑стетсон на багажную сетку.
– Всё спустил? – ухмыльнулся Туренин.
– Даже шпоры! – захохотал ковбой.
Мало‑помалу пассажиры занимали места. Показалась хрупкая, миловидная женщина в сером дорожном платье. Глаза её подозрительно шарили вокруг, то и дело ширясь от испуга, а руки крепко сжимали сумочку.
Вошёл дородный, сопящий фермер с окладистой бородой, щеголявший в синих домотканых штанах с нашитыми сзади и на внутренних сторонах икр кусками жёлтой оленьей кожи. Из голенища высокого сапога у него торчала роговая рукоять охотничьего ножа, на поясе висела кобура, едва вмещавшая настоящую пушку – здоровенный «милс» 75‑го калибра, – а толстые и короткие пальцы постоянно оттягивали новенькие подтяжки и щёлкали ими.
Появился офицер‑кавалерист в синей форме и скрипучих сапогах. Он учтиво поклонился испуганной женщине с сумочкой. Последним сел крупный мужчина лет тридцати. Чернявый, с аккуратной бородкой и усами, с лицом загорелым и обветренным, он смахивал на мексиканца, а одежда его – серый костюм из тонкого твида и чёрная плантаторская шляпа – указывала на состоятельность. Голубино‑сизый жилет чернявого пересекала массивная золотая цепочка часов, на которой висели брелки – самородок и лосиный зуб, оправленный в золото. Багаж пассажиру соответствовал – это были два мешка, рюкзак и деревянный ящик, обитый железными полосками.
«Деньги везёт, наверное», – подумал Чуга, поудобнее приваливаясь к собственному мешку, и задремал. Свисток паровоза перебил ему сон, но из дрёмы так и не вывел. Поезд тронулся, вагон покатился, перестукивая, и помор заснул ещё крепче.
Проснулся он утром, лёжа на диванчике, вытянув ноги в проход. Солнце ярко светило, дым паровоза за окном летел себе мимо, рассеиваясь в чистом воздухе. Уползали назад перелески да речушки, пшеничные поля да одинокие фермы. Крякнув, Фёдор сел и протёр глаза. Ларедо задумчиво глядел на проплывавшие пейзажи. Павел сидел напротив и улыбался.
– Как спалось? – спросил князь.
– Вашими молитвами, – буркнул Чуга, чувствуя, как ломит во всём теле. Приучила его Олёна к перинам пуховым да к соломенным тюфякам, вот и изнежился…
Шейн, оглядываясь на чернявого, склонился, заговорщицки подмигнув.
– А ящичек‑то тяжёленький, – проговорил он. – Деньгу, надо полагать, везёт, и немалую. Может, мы его… того? А?
– Рискни, – зевнул Фёдор, не принимая Ларедо всерьёз. – А меня уволь…
– Ну как хотите, – разочарованно протянул Шейн, откидываясь на спинку.
Между тем паровоз издал гудок, приближаясь к станции, маленькому домику красного цвета. Сразу за путями тянулась пара улочек городишки, приткнувшегося к железной дороге.
Вагоны подтянулись к перрону – платформе футов шестьдесят длиною,59 грубо сколоченной из досок, – и замерли. Протяжно закричал кондуктор:
– Стоянка двадцать минут!
Чуга нашарил взглядом Шейна и сказал:
– Лопать пойдёшь?
– Не‑а… Вы уж сами как‑нибудь.
– Что, всё до цента спустил?
– Ну‑у… Где‑то так.
– Ладно. Мы сбегаем перекусить и тебе чего‑нибудь притащим.
– Уговорили! – ответил Ларедо с ухмылкой.
Постоялому двору с парусиновыми перегородками, где по двое спали на одной кровати, название «Гранд‑отель» не шло, но кормили тут прилично. Над дверями пристройки, выходившей к перрону, красовалась вывеска «Кухня Беккет», сулившая обед за пятьдесят центов.
Столовая занимала узкую и длинную комнату с белёными глинобитными стенами. Внутри располагались пять или шесть столиков, застеленных несвежими скатёрками в красно‑белую клетку, и один длинный стол со скамейками по сторонам.
Дородная повариха живо обслужила проголодавшихся пассажиров.
– На первое – телятина с картофелем, – проговорил Павел, подозрительно принюхиваясь, – на второе – картофель с телятиной. Не «Дельмонико», конечно, но есть можно…
– Лопай пошустрее, – присоветовал ему Чуга.
Толстуха с красным, распаренным лицом, поставила перед ними полный кофейник и тарелку с горячим хлебом, нарезанным ломтями.
– Благодарствуем, – сказал помор, выкладывая доллар.
– Кушайте‑кушайте! – басисто проворковала миссис Беккет, смахивая монету в карман на застиранном переднике.
– В следующий раз, – проворчал Фёдор, – платишь ты.
– До следующего раза, – тонко улыбнулся князь, – ещё дожить надо…
Схарчив полную тарелку картофельного пюре с ломтем ветчины и кукурузным початком, Чуга налил себе кофе, до которого не был большой охотник. Но напиток оказался чёрным, как смертный грех, и крепким – такой быстро выгонит сонную муть из головы.
В комнату, брезгливо задирая платье над грязными опилками, покрывавшими пол, вошла молодая женщина – пассажирка из вагона первого класса. Каштановые волосы оттеняли её очень светлую кожу, пронзительные зелёные глаза и яркие губы дополняли портрет.
Усевшись за отдельный столик, женщина заказала кофе. Скользя скучающим взором по лицам пассажиров, она остановила его на Фёдоре. Помор прищурился.
Неожиданное внимание красотки заставило его насторожиться. С чего бы вдруг леди интересоваться простым переселенцем? Либо это выдавало её порочный нрав, либо существовали некие тайные причины для подобного интереса. Переведя взгляд на Туренина, Чуга удивился – князь был напряжён.
– Ты чего?
– Я мог ошибиться, – медленно проговорил Павел, – но, по‑моему, я видел Хэта Монагана.
– Ага…
Пассажиры, наскоро перекусив, покидали заведение. Фёдор встал из‑за стола, и тут же поднялась красотка. Быстренько промокнув губки платочком, она приблизилась к помору, шурша юбками, и томно сказала, беря его под правую руку:
– Вы не проводите даму?
– Отчего ж? – буркнул Чуга. – Доведу как‑нибудь…
– Фёдор! – предостерегающе крикнул Туренин. – Это Пенни Монаган!
