Читать онлайн У нас всегда будет Париж бесплатно
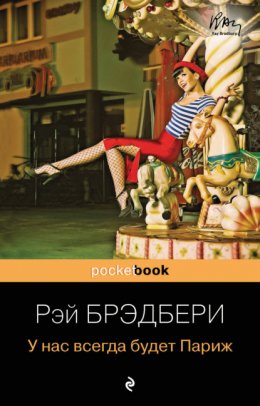
Вступительное слово: подмечай и пиши
В рассказах этого сборника я предстаю перед вами в двух ипостасях – как наблюдатель и как литератор.
Эти оба начала уживаются во мне под единым девизом, что вот уже семьдесят лет висит над моей пишущей машинкой: Не раздумывай – действуй.
Я не обдумывал ни один из этих рассказов: они – вспышки, всплески. Временами замыслы безудержно выплескиваются, а иной раз минутный порыв нужно холить и лелеять, чтобы дать ему окрепнуть.
Мой любимый рассказ – «Массинелло Пьетро», ибо давным-давно, когда мне только минуло двадцать и я обитал в жилом доме в центре Лос-Анджелеса, мы подружились с Массинелло Пьетро, которого я пытался ограждать от полиции и помог ему, когда его отдали под суд. Короткий рассказ, на который меня вдохновила эта дружба, во многом основан на реальных событиях, и мне лишь оставалось его записать.
Прочие рассказы один за другим являлись ко мне в течение моей жизни – с самой юности до зрелости и к старости. Каждый из них вызван страстью. Каждый написан, потому что иначе быть не могло. Для меня писать рассказы – все равно что дышать. Я наблюдаю. У меня возникает идея, я влюбляюсь в нее и стараюсь не думать о ней. Затем я пишу. Даю рассказу как можно скорее излиться на бумагу.
Перед вами сочинения двух соавторов, живущих в моей оболочке. Некоторые изумят вас. И это хорошо. Многие из них изумили меня самого, когда они явились ко мне и попросили о своем рождении. Надеюсь, они вам понравятся. Не следует ломать над ними голову. Просто попытайтесь полюбить их, как люблю их я.
Добро пожаловать!
Рэй БрэдбериАвгуст 2008
Массинелло Пьетро
Он покормил канареек и гусей, собак и кошек. Потом завел заржавленный патефон и принялся подпевать шепелявым голосом «Сказкам венского леса»:
- Жизнь то в горку, то под горку,
- Только не хнычь и не жалуйся!
Пока он пританцовывал, услышал, как перед его магазинчиком остановилась машина. Увидел человека в серой шляпе – тот разглядывал вывеску, на которой крупными неровными синими буквами было выведено:
КОРМУШКА. ВСЕ ДАРОМ!
ВСЕМ – ЛЮБОВЬ И МИЛОСЕРДИЕ!
Человек переступил порог и остановился в дверях.
– Мистер Массинелло Пьетро?
Пьетро энергично закивал и ухмыльнулся: – Входите. Пришли меня арестовать? Бросить в застенок?
Человек прочел по своим записям:
– Более известный как Альфред Флонн?
Его взор скользнул по серебряным колокольцам на рукавах Пьетро.
– Он самый! – у Пьетро вспыхнули глаза.
Человеку стало не по себе. Он окинул взором помещение, битком набитое шуршащими птичьими клетками и ящиками. С заднего крыльца в комнату ввалились гуси, смерили визитера сердитым взглядом и ушли восвояси. Четверка попугаев лениво покосилась на него с высокой жердочки. Тихо ворковала пара индийских неразлучников. У ног Пьетро резвились три таксы, которые не могли дождаться, когда же он опустит хотя бы одну руку, чтобы их приласкать. На одном его плече устроилась майна с клювом бананового цвета, на другом – зебровая амадина.
– Присаживайтесь! – произнес Пьетро нараспев. – Решил музыку послушать. Вот с чего надо начинать свой день!
Он быстро покрутил ручку портативного патефона и вновь установил иглу на грампластинку.
– Я понимаю, понимаю! – человек усмехнулся, пытаясь проявить терпимость. – Меня зовут Тиффани, я из окружной прокуратуры. Мы получили кучу жалоб.
Он обвел рукой по загроможденному магазинчику.
– Антисанитария. Все эти утки, барсуки, белые мыши. Не тот район, нецелевое использование помещений. Придется вам переезжать.
– Мне это твердили аж целых шесть человек, – Пьетро гордо пересчитал их на пальцах. – Двое судей, трое полисменов и окружной прокурор собственной персоной!
– Вас предупредили за месяц. У вас было тридцать дней, чтобы покончить с этим бедламом либо отправиться за решетку, – сказал Тиффани. – Мы проявили к вам снисхождение.
– Это я проявил снисхождение, – сказал Пьетро. – Дожидался, пока наш мир наберется ума-разума. Ждал, когда же положат конец войнам. Надеялся, что политики станут порядочными людьми. Мечтал – ля-ля-ля – о том, чтобы торговцы недвижимостью превратились в честных граждан. А пока я жду – я танцую. – И продемонстрировал.
– Вы только оглянитесь вокруг! – запротестовал Тиффани.
– Восхитительно, не правда ли? Вот уголок, посвященный Деве Марии, – показал Пьетро. – А тут в рамке письмо лично от секретаря архиепископа, где говорится про добрые дела, которые я совершил для бедных! Когда-то я был богат. Владел недвижимостью – отелем. Некто отобрал у меня все, и жену в придачу. Двадцать лет назад. И как, вы думаете, я поступил? Я вложил то немногое, что у меня оставалось, в собак, гусей, мышей, попугаев, которые никогда не изменяют и остаются друзьями навсегда. Я купил патефон, который никогда не печалится и без умолку распевает песни!
– Речь не об этом, – возразил Тиффани не без содрогания. – Соседи утверждают, что в четыре часа утра, гм, вы со своим патефоном…
– Музыка лучше, чем мыльная вода!
Тиффани зажмурился и толкнул заученную наизусть речь:
– Если до заката солнца вы не избавитесь от этих кроликов, обезьяны, попугайчиков и прочей живности – то вам светит небо в клеточку.
Настороженно улыбаясь, мистер Пьетро отвечал на каждое слово кивком.
– Что я такого сделал? Кого-то убил? Ребенка ударил? Часы украл? Лишил заложенного имущества? Разбомбил город? Палил из ружья? Лгал? Надувал клиентов? Отрекся от Господа Бога? Брал взятки? Торговал наркотиками? Продавал невинных девушек?
– Нет, конечно.
– Тогда скажите, в чем я провинился? Четко и ясно. Мои собаки – исчадия ада? Птицы поют чудовищными голосами? Мой патефон… я полагаю, он тоже кошмарен? Хорошо, заточите меня в темницу и выбросьте ключ. Вам все равно нас не разлучить.
Мелодия переросла в мощное крещендо. И он запел под эту музыку:
- Тиффани, услышьте мой призыв!
- Будем же друзьями, не хмурьтесь!
Собаки стали подпрыгивать и тявкать.
Мистер Тиффани укатил на своей машине. Пьетро почувствовал боль в груди.
По-прежнему ухмыляясь, он прервал свой танец. Пока он стоял скрюченный, схватившись за грудь, стайка гусей ворвалась внутрь и стала ласково поклевывать его туфли.
На обед Пьетро открыл литровую банку домашнего венгерского гуляша и подкрепился. Замер, коснулся было груди, но знакомая боль прошла. После еды он вышел на задний двор посмотреть, что творится за высокой деревянной оградой.
Так и есть, вот она, тут как тут! Миссис Гутьерес, откормленная и оглушительная, как музыкальный автомат, когда общается с соседями по ту сторону пустыря.
– Красавица! – обратился к ней мистер Массинелло Пьетро. – Вечером меня упекут в каталажку! Вы развязали войну и победили. Я вручаю вам саблю, сердце и душу!
Миссис Гутьерес монументальной поступью пересекла грунтовый двор.
– Чего-чего? – вопросила она, будто не заметила его или не расслышала.
– Вы довели до сведения полиции, полиция довела до моего сведения, чем ужасно меня позабавила! – Он взмахнул рукой, и его пальцы затрепетали в воздухе. – Надеюсь, вас это осчастливит!
– Ни в какую полицию я не заявляла! – вознегодовала она.
– Ах, миссис Гутьерес, я сложу песнь в вашу честь!
– Это кто-то другой донес! – твердила она.
– И когда сегодня меня повезут в тюрьму, я преподнесу вам подарок. – Он отвесил поклон.
– Говорю же, я тут ни при чем! – вопила она. – Да отсохнет твой слащавый язык!
– Я восхищаюсь вами, – искренне сказал он. – Вашей активной гражданской позицией – долой всю нечисть, шум и хлам!
– Ах ты! – верещала она. – Чтоб тебя! – У нее иссяк словарный запас.
– Этот танец я посвящаю вам! – пропел он и, вальсируя, скрылся в доме.
Под вечер он повязал свою красную шелковую бандану и надел внушительные золотые серьги, алый кушак и голубой жилет с золотистой оторочкой, обулся в башмаки с пряжками и натянул штаны в обтяжку до колен.
– Все на последнюю прогулку! – обратился он к собачкам, и они вышли.
Под мышкой Пьетро нес патефон, пошатываясь от его веса, ибо он испытывал расстройство желудка и недомогание во всем теле. Ему трудно было поднимать тяжести. Собаки семенили по обе стороны от него, попугаи у него на плече пронзительно кричали. Солнце заходило, воздух был прохладен и недвижен. Он разглядывал все вокруг, словно видел в первый раз. Всем говорил «добрый вечер», махал рукой, приветствовал.
У стойки с гамбургерами он водрузил на табурет заведенный патефон, игла выцарапывала из пластинки песню. Посетители оборачивались посмотреть, как он самозабвенно погружается в пение и, сияющий от смеха, всплывает на поверхность. Он щелкал пальцами, приседал, сладко насвистывал с закрытыми глазами, а симфонический оркестр уносился ввысь вместе со Штраусом. Он выстроил собак рядком, пока отплясывал. Заставил попугаев выделывать на полу кульбиты и хватал на лету блестящие кувыркающиеся монетки, бросаемые изумленной, но отзывчивой публикой.
– Убирайся к черту! – велел продавец гамбургеров. – Здесь тебе не опера!
– Премного благодарен вам, люди добрые! Собаки, музыка, попугаи и Пьетро исчезли в темноте под малиновое позвякивание колокольчиков.
На перекрестке он пел, обращаясь к небу, молодым звездам и октябрьской луне. Подул ночной ветер. Из темноты на него глядели смеющиеся лики. И снова Пьетро гримасничал, ухмылялся, свиристел и крутился юлой.
- На милостыню бедным!
- Ах, как скромно, ах, как мило!
И узрел лица всех, кто на него смотрел. Увидел безмолвные дома и обитавших в них молчунов. Он пел и вопрошал, почему он – последний в мире певец? Почему никто не отплясывает, не разевает рот, не подмигивает, не выставляется напоказ, не важничает? Почему в мире воцарилась немота, онемели жилища и лица? Почему одни просто смотрят на других, а не глядят на тех, кто отплясывает? Почему они все – зрители и лишь он один – исполнитель? Что они позабыли из того, что он всегда помнил? Их дома невелики и нелюдимы, безгласны и безмолвны. Совсем другое дело – дом Пьетро, «Кормушка», магазинчик, переполненный пронзительными птичьими посвистами, гомоном, воркотней и шуршанием перьев, ворчанием пушистых и мохнатых созданий да отзвуком смеженных во тьме зверушечьих век! Его обиталище озаряли свечи и лики возносящихся… летающих… святых… поблескивали медальоны. Патефон крутился и в полночь, и в два, три, четыре часа утра, а он знай себе горланил, душа нараспашку, отрешенный от мира сего, вслепую. Ничего, кроме звучания. И вот он снова среди домов, запирающихся в девять, где ложатся спать в десять, пробуждаются поутру после нудных часов спанья. Не хватает лишь траурных венков на крыльце.
Иногда, когда он пробегал мимо, людям на мгновение что-то вспоминалось. Иногда они могли смущенно промурлыкать пару нот или отбить такт ногами, но чуть ли не единственным их порывом при звуках музыки было нащупать в карманах монетку.
«Когда-то, – думал Пьетро, – у меня была куча монеток, горы долларов, много земли и домов. И все это кануло, и я столько проплакал, что обратился в изваяние. И долго не мог пошевельнуться. Они меня уничтожили, все растащили, разграбили! Тогда я решил, что больше никому не позволю себя уничтожить. Но каким образом? Имею ли я то, что у меня можно безболезненно забрать? И сколько бы ты ни отдавал, у тебя не убудет?
И, конечно, ответ – талант.
Мой талант! – думал Пьетро. Чем больше отдаешь, тем больше его и тем он лучше. Талантливые должны заботиться о мире».
Он оглянулся вокруг. Мир полон подобных ему изваяний. Большинство утратили способность двигаться. Даже не знают, как снова привести себя в движение – хоть в каком-то направлении – вперед, назад, вверх, вниз, ибо жизнь грызла их и калечила, терзала и увечила, оглоушивала до глухоты мраморных истуканов. Если они не способны двигаться, значит, кто-то другой должен делать это за них. Ты, Пьетро, должен двигаться, думал он. К тому же в движении нельзя оглянуться на то, чем ты был и что с тобой стряслось, или на идола, в которого ты превратился. Так что пошевеливайся, задай себе такую нагрузку, чтобы с лихвой хватило и на тех крепконогих, которые разучились бегать. Бегай с хлебом и цветами среди монументов себе, любимому. Вдруг кто-нибудь удосужится нагнуться и прикоснуться к цветам, положить ломоть хлеба в пересохший рот. А если закричишь и запоешь, то вдруг и к ним вернется дар речи, и кто-то допоет песню с тобою в унисон. «Эй!» – кричишь ты, «Ля-ля!» – поешь ты, пританцовывая. И однажды, спустя долгое время, вдруг от пляски ступни их ног захрустят, разомнутся и станут отбивать твою чечетку у себя дома, наедине с самими собой, отражаясь в зеркале своей души. Ибо, помни, некогда их, как и тебя, высекли из камня и льда – хоть выставляй в витрине рыбного ресторана. Но ты запел и накричал на свое нутро, и у тебя сначала вздрогнуло одно веко! Потом другое! Ты сделал вдох и исторг оглушительный крик Жизни! Зашевелились пальцы, зашаркали ступни, и ты с головой окунулся во вспышку жизни!
А ты прерывал с тех пор свой бег?
Ни разу.
Вот он забежал в чье-то жилье и оставил белые бутыли молока у незнакомых дверей. Снаружи, рядом со слепым нищим на оживленной улице, он так бережно положил в приподнятую кружку свернутую долларовую купюру, что даже пальцы-щупальца старика ничего не ощутили. Пьетро бежал дальше и думал: вино в кубке, а он и не догадывается… ха!.. ничего, потом он его отведает! На бегу в компании своих собачек и птиц, хлопающих крыльями по его плечам, под перезвон колокольчиков на рубашке он положил цветы возле дверей пожилой вдовы Вилланзул, а на улице притормозил у пышущего жаром окошка пекарни.
Хозяйка, завидев его, помахала рукой и вышла на порог с горячим пончиком.
– Дружище, – сказала она, – мне бы твою прыть!
– Мадам, – признался он, поедая пончик и кивая в знак благодарности, – только усилием воли я могу заставить себя петь! – Он поцеловал ей ручку. – Прощайте. – Пританцовывая, он заломил шляпу набекрень – и тут он споткнулся.
– Вам бы не мешало остаться на день-два в больнице.
– Нет, я в сознании, к тому же вы не можете держать меня в больнице без моего согласия, – возразил Пьетро. – Мне нужно домой. Меня люди ждут.
– Хорошо, – сказал интерн.
Пьетро достал из кармана газетные вырезки.
– Вот, полюбуйтесь. Это я в суде со своими зверушками. А мои собачки здесь? – вскрикнул он, беспокойно озираясь по сторонам.
– Да.
Собачки шебаршили и скулили под кушеткой. Попугаи поклевывали интерна каждый раз, как только его рука зависала над грудной клеткой Пьетро.
Интерн пробежался по вырезкам.
– Вот здорово!
– Я пел песни для судьи. Мне не смогли заткнуть рот! – сказал Пьетро с закрытыми глазами, наслаждаясь поездкой, гомоном и суетой. Его голова слегка тряслась. Пот катил по лицу, смывая грим. Черная краска извилисто струилась с бровей и висков, обнажая седину. Румяна утекли со щек ручейками, оставив после себя бледность. Интерн вытер ватой розовую краску.
– Вот мы и на месте! – объявил водитель.
– Который час?
Как только «Скорая» остановилась и распахнулись задние дверцы, Пьетро взял интерна за запястье посмотреть, сколько времени на золотых часах.
– Пять тридцать! Времени не осталось. Они скоро будут здесь!
– Вам нельзя волноваться. Вы в порядке? Интерн поддерживал его на скользкой мостовой перед «Кормушкой».
– В порядке, – отозвался Пьетро, подмигивая.
Он щипнул интерна за руку.
– Спасибо.
После отъезда «Скорой» он отворил дверь «Кормушки», и на него пахнуло теплыми испарениями животных. Его окружили другие, мохнатые собаки, и каждая норовила его лизнуть. Пожаловали гуси, переваливаясь с боку на бок, и принялись пребольно клевать его в лодыжки, пока он не заплясал от боли. После чего гуси удалились, трубя, словно клаксоны.
Он взглянул на опустевшую улицу. Вот уже – с минуты на минуту. Он снял с жердочки неразлучников.
Выйдя на задний двор, он позвал через забор:
– Миссис Гутьерес!
Когда она замаячила в лунном свете, он передал в ее тучные руки неразлучников.
– Это вам, миссис Гутьерес!
– Что такое? – она покосилась на существа, оказавшиеся у нее в руках, поворачивая их к себе. – Что такое?
– Обращайтесь с ними бережно! – напутствовал он. – Кормите, и они будут распевать для вас песни!
– На что они мне? – недоумевала она, глядя то в небо, то на него, то на птиц. – Помилосердствуйте! – Она была обезоружена.
Он похлопал ее по плечу.
– Вы будете с ними ласковы. Не сомневаюсь.
Задняя дверь «Кормушки» захлопнулась.
За час после этого он отдал одного гуся мистеру Гомесу, второго – Фелипе Диасу, третьего – миссис Флорианне. Попугая пристроил у бакалейщика мистера Брауна, а собак по одной и в превеликой печали раздал проходящим мимо детям.
В семь тридцать квартал, не останавливаясь, дважды объехала машина. Наконец мистер Тиффани подошел к двери и заглянул внутрь.
– Что ж, я смотрю, вы потихоньку от них избавляетесь. Половину сбагрили. Похвально. Раз вы сотрудничаете с нами, даю вам еще час.
– Нет, – сказал мистер Пьетро, уставившись на опустевшие ящики. – Больше я никого не отдам.
– Но послушайте! – сказал Тиффани. – Не садиться же вам в тюрьму из-за тех, что остались. Мои ребята их вынесут, если хотите…
– Сажайте, я готов! – сказал Пьетро.
Он нагнулся, поднял патефон, взял его под мышку. Посмотрелся в растресканное зеркало. Он заново выкрасил волосы черной краской. Седина исчезла. Раскаленное бесформенное зеркало размазывалось по пространству. Он «поплыл», ступни его едва касались пола. Его лихорадило, язык отяжелел. Он услышал свой голос:
– Идем!
Тиффани стоял, растопырив руки, словно собирался не дать Пьетро уйти. Пошатываясь, Пьетро присел на корточки. Последняя юркая коричневая такса свилась колечком у него в руках, словно крошечная шина, облизывая его розовым язычком.
– Вы не можете взять с собой собаку, – сказал Тиффани, не веря своим глазам.
– Только до участка. Прокатиться? – попросил Пьетро.
Он выдохся. Переутомление поселилось в каждом его пальце, в руках и ногах, разлилось по всему телу и проникло в голову.
– Ладно, – согласился Тиффани. – До чего же вы все усложняете.
Пьетро вышел из магазинчика, держа под мышкой собаку и патефон. Тиффани взял у Пьетро ключ.
– Животных уберем позже, – сказал он.
– Спасибо, что не делаете это в моем присутствии, – сказал Пьетро.
– Ах, ради всего святого, – сказал Тиф фани. Все высыпали на улицу поглазеть. Пьетро потряс перед ними таксой, словно победитель, выбрасывающий вверх сжатый кулак в знак победы.
– Прощайте, прощайте! Я не знаю, куда меня ведут, но я на правильном пути! Я очень болен, но я вернусь! А теперь я ухожу!
Он рассмеялся и помахал рукой.
Они сели в полицейскую машину. С одного боку он усадил собачку. Патефон положил на колени. Покрутил ручку, завел. Патефон заиграл «Сказки венского леса», а машина уносила его прочь.
Вокруг «Кормушки» тишина царила и в час ночи, и в два, и в три. А в четыре утра безмолвие стало таким кричащим, что все открыли глаза, сели в своих кроватях и стали вслушиваться.
Свидание
Рэй Брэдбери
20 октября 1984 года
9:45–10:07
(По прочтении о гибели молодого актера и пересадке его сердца другому человеку прошлой ночью.)
Она позвонила и попросила о встрече.
Поначалу молодой человек отнекивался, мол, нет, не стоит, он все понимает и сочувствует, но никак не сможет.
Но услышав на том конце провода ее безмолвие, даже не беззвучие, а неизъяснимое горе, он, выдержав долгую паузу, произнес: да, хорошо, приходите, но ненадолго. Не знаю, как я справлюсь с такой престранной ситуацией.
И она не знала. Собираясь пойти на квартиру к молодому человеку, она спрашивала себя, что будет ему говорить и как она себя поведет, а что скажет он. Она ужасно боялась, что ее реакция будет слишком бурной и ему придется ее прогнать и хлопнуть вслед дверью.
Ведь она совершенно не знала молодого человека. Он был ей абсолютно незнаком и неизвестен. Они никогда раньше не встречались, и она разыскала его имя только вчера, после отчаянных поисков через друзей в местной больнице. И теперь, пока не поздно, она должна была навестить совершенно чужого человека по самому что ни на есть необычайному поводу в своей жизни и раз уж на то пошло – то и в жизни всех матерей с тех пор, как возник цивилизованный мир.
– Пожалуйста, подождите меня.
Она протянула таксисту двадцатку в залог того, что он останется здесь на случай, если ей придется поспешно уйти, и что тот постоит у подъезда, пока она сделает глубокий вдох, отворит дверь, войдет и поднимется на лифте на третий этаж.
Перед его дверью она зажмурилась и, сделав еще один глубокий вдох, постучала. Ответа не последовало. Внезапно охваченная ужасом, она заколотила в дверь. На сей раз дверь наконец открылась.
На нее смотрел смущенный молодой человек лет двадцати – двадцати четырех:
– Миссис Хедли?
Она услышала, как произносит:
– Вы совсем на него не похожи, – осеклась, залилась краской и чуть было не повернулась, чтобы уйти. – Я хотела сказать…
– Вы ведь и не надеялись на это?
Он распахнул дверь настежь и отошел в сторону. На столике посреди квартиры их дожидался кофе.
– Вовсе нет. Как глупо с моей стороны. Сама не понимаю, что говорю.
– Садитесь, пожалуйста. Я – Уильям Робинсон. Для вас Билл, полагаю. Черный или белый?
– Черный.
Она смотрела, как он наливает ей кофе.
– Как вы меня отыскали? – полюбопытствовал он, передавая ей чашечку.
Она приняла ее дрожащими пальцами.
– У меня есть знакомые в больнице. Они навели справки.
– Им не следовало этого делать.
– Знаю, но я настояла. Видите ли, я собираюсь во Францию на год, может, дольше. Это последний шанс увидеться с моим… ну, я хочу сказать…
Она впала в молчание и уставилась в чашечку.
– Значит, они сообразили, что к чему, хотя документы должны были держаться в тайне? – поинтересовался он.
– Да, – ответила она. – Все совпало. В ночь, когда погиб мой сын, вас привезли в больницу делать пересадку сердца. Так что это могли быть только вы. Таких операций ни в ту ночь, ни на той неделе больше не было. Я знала, что, когда вы выписались, мой сын… вернее, его сердце, – ей было трудно это выговорить, – выписалось вместе с вами.
Она опустила чашку.
– Я не вполне отдаю себе отчет, что я тут делаю, – призналась она.
– О, отдаете, вполне, – возразил он.
– Нет, в самом деле. Все так неестественно, печально и ужасно одновременно. Не знаю, дар Божий. Имеет ли все это какой-то смысл?
– Для меня – да. Я выжил благодаря этому дару.
Теперь пришла его очередь молчать, налить себе кофе, помешать и выпить.
– Куда вы собираетесь, – спросил молодой человек, – пойти потом?
– Пойти? – переспросила она неопределенно.
– То есть…
Молодой человек содрогнулся от собственной скованности. Слова попросту не приходили на ум.
– Ну, у вас есть еще визиты? Есть другие…
– Понимаю, – кивнула она несколько раз, стряхнула с себя оцепенение, посмотрела на свои руки, лежавшие на коленях, и наконец пожала плечами:
– Да, есть и другие. Мой сын… его зрение досталось кому-то в Орегоне. Кто-то есть в Тусоне…
– Не нужно продолжать, – попросил молодой человек. – Я не должен был спрашивать.
– Нет, нет! Все так странно, абсурдно. Все так ново. Всего лишь несколько лет назад ничего подобного случиться не могло. Теперь для нас наступили новые времена. Не знаю, смеяться или плакать. Иногда я начинаю с одного и заканчиваю другим. Просыпаюсь в смятении. Я часто думаю: а он испытывает смятение? Но что может быть глупее этого. Его же нигде нет.
– Где-то он все же есть, – возразил молодой человек. – Он здесь. И я живу благодаря тому, что в эту самую минуту он – здесь.
Глаза женщины вспыхнули, но не прослезились.
– Да. Я благодарна вам за это.
– Нет, это я благодарен ему за то, что он подарил мне жизнь.
Женщина неожиданно вскочила, словно ее привело в движение мощное чувство, о котором она даже не подозревала. Она озиралась по сторонам в поисках совершенно явственной двери, но казалось, что она ее не видит.
– Куда вы?
– Я… – проговорила она.
– Вы же только что пришли!
– Как глупо! – вскричала она. – Постыдно. Какая же я обуза вам и самой себе! Ухожу, пока все это не превратилось в безумный фарс…
– Не уходите, – велел молодой человек.
Покорная его воле, она уже собиралась садиться.
– Ваш кофе…
Она осталась стоять, но дрожащими пальцами взяла свою чашечку. Некоторое время, пока она утоляла свою неуемную жажду, допивая кофе, мелкая дрожь чашки была единственным доносившимся звуком. Затем она опустила осушенную чашку и промолвила:
– А теперь мне нужно уходить. Мне нездоровится. Кажется, я сейчас грохнусь в обморок. Мне так неловко, что я к вам заявилась. Благослови вас Господь, молодой человек, и долгих вам лет жизни.
Она направилась к двери, но он преградил ей путь.
– Делайте то, за чем пришли, – сказал он.
– Что? Что?
– Сами знаете что. Очень хорошо знаете. Я не против. Ну же.
– Я…
– Ну же, – тихо сказал он и зажмурился, держа руки по швам в ожидании.
Она уставилась на его лицо, потом на его грудь, в которой под рубашкой, казалось, происходило легчайшее шевеление.
– Ну же, – тихо повторил он. Она почти пришла в движение.
– Ну же, – повторил он в последний раз. Она шагнула к нему навстречу, тихонько повернула голову и, опуская правое ухо все ниже и ниже, дюйм за дюймом, прижала его к груди молодого человека.
Она могла бы вскрикнуть, но не вскрикнула. Она могла бы что-нибудь воскликнуть, но не воскликнула. Ее глаза тоже были зажмурены, она прислушивалась. Ее губы шевелились и что-то твердили, может, имя – почти в унисон с пульсом, доносившимся из-под рубашки, из плоти, из груди этого терпеливого молодого человека.
Там билось сердце.
Она вслушалась.
Сердце билось верно и размеренно.
Она слушала долго. Ее дыхание замедлилось, бледность стала сходить со щек.
Она слушала.
Сердце билось.
Потом она подняла голову, напоследок взглянув на лицо молодого человека, и молниеносно прикоснулась губами к его щеке, повернулась и стремглав выскользнула из комнаты, не сказав спасибо – этого не требовалось. В дверях она даже не оглянулась, а отворила дверь, вышла и тихонько ее прикрыла.
Молодой человек долго ждал. Его правая рука скользнула по рубашке, по груди, нащупывая то, что под ними. Его веки были все еще смежены, а лицо бесстрастно.
Затем он повернулся и сел, не глядя, куда садится, взял свой кофе и допил его.
Мощный пульс, сильная волна жизни в его груди прокатывалась по его руке в чашку, заставляя ее уверенно и непрерывно пульсировать, когда он хотел пригубить чашку и отпить кофе, словно это было лекарство, дар, который будет вновь и вновь наполнять его чашу столько дней, сколько он ни представить, ни предположить не мог. Он осушил чашку.
Только тогда он открыл глаза и увидел, что комната опустела.
Сумеречные лужайки
Вечерело, но он решил, что дневного света как раз хватит, чтобы быстро сыграть в «девять лунок», прежде чем придется остановиться.
Но сумерки настигли его уже по дороге к полю для гольфа. С океана нагнало густого туману и затмило все освещение.
Он уже собирался разворачиваться, чтобы ехать обратно, как вдруг что-то привлекло его внимание.
Всматриваясь в дальние лужайки, он приметил на сумеречных полях с полдюжины гольфистов.
Они играли не четверками, двое на двое, а передвигались в одиночку, волоча свои клюшки по траве под сенью деревьев.
Как странно, подумал он. И вместо того чтобы уехать, подогнал машину на стоянку за клубным помещением и вышел.
Что-то заставило его подойти и наблюдать за горсткой мужчин на тренировочном поле, посылающих мячи в сумеречную мглу.
Но больше всего его любопытство раздразнили одиночные игроки на фервее[1]: это зрелище определенно навевало какую-то грусть.
Не задумываясь, он подхватил свою сумку и понес клюшки к первой метке, где стояли, словно дожидаясь его, трое пожилых людей.
Стариканы, думал он. Впрочем, не такие уж они старые, просто ему было всего тридцать, а они уже поседели.
Когда он подошел, они смерили взглядами его загорелое лицо и зоркие ясные глаза.
Один из них поздоровался.
– Что здесь происходит? – поинтересовался молодой человек, хотя и сам не мог взять в толк, зачем ему понадобилось вопрошать таким тоном.
Он следил за лужайками и передвижениями одиночных игроков в сумраке.
– Я хотел сказать, – продолжал он, кивая в сторону фервея, – что они идут вперед, но ведь минут через десять им ничего не будет видно.
– Будет, еще как будет видно, – откликнулся один старик. – Вообще-то, мы идем туда же. Нам нравятся вечерние часы. Можно побыть одному и поразмыслить. Вот мы и начинаем в группе, а потом разбредаемся кто куда.
– Здорово, должно быть, – сказал молодой человек.
– Еще бы, – согласился другой. – Но у нас на то свои причины. Присоединяйтесь, если пожелаете, но ярдов через сто вы скорее всего окажетесь в одиночестве.
Молодой человек подумал и кивнул.
– Договорились, – сказал он.
Один за другим они подходили к первой площадке, делали замах клюшкой и наблюдали, как белые мячи растворяются в полумраке.
Они молчаливо зашагали навстречу угасающему свету.
Старик шел рядом с молодым мужчиной, поглядывая на него время от времени. Двое других смотрели только вперед и не разговаривали. Когда они остановились, молодой человек аж ахнул от изумления. Старик спросил:
– Что такое?
– Я его нашел! Как это возможно в такой темени? Я словно догадался, где надо искать! – воскликнул молодой человек.
– Такое случается, – сказал старик. – Это можно приписать судьбе или фортуне либо дзену. Я же просто говорю – это чистой воды потребность. Идем дальше.
Молодой человек взглянул на мяч в траве и молча отступил.
– Пусть сначала другие, – сказал он.
Двое других тоже нашли в траве свои мячи и теперь делали замах. Один из них сделал замах, попал по мячу и удалился в одиночестве. Другой сделал замах, попал по мячу и тоже исчез в сумерках.
Молодой человек смотрел, как они уходят – каждый своей дорогой.
– Я не понимаю, – сказал он. – Я ни разу не играл в такой четверке.
– На самом деле это не четверка, – сказал старик. – Можно сказать, это вариация на тему. Они продолжат, и мы снова встретимся на девятнадцатой лужайке. Ваша очередь.
Молодой человек сделал замах, и мяч улетел в серовато-багровое небо. Он почти слышал, как мяч приземлился в траву в ста ярдах.
– Продолжайте, – сказал старик.
– Нет, – сказал молодой человек. – Если не возражаете, я прогуляюсь с вами.
Старик кивнул, встал в стойку и ударил по мячу, послав его в темноту. Потом они стали молча прогуливаться.
Наконец, молодой человек, глядя перед собой и пытаясь нащупать дорогу в сгущающейся тьме, сказал:
– Я никогда раньше не встречал такой игры. Кто те другие и что они тут делают? Если уж на то пошло, а кто вы будете? И наконец, что здесь делаю я? Я ведь не принадлежу вашему кругу.
– Не вполне, – согласился старик. – Но кто знает, может, когда-нибудь войдете в него.
– Когда-нибудь? – спросил молодой человек. – Если сейчас не принадлежу, то почему потом?
Старик продолжал идти, глядя перед собой, а не на своего спутника.
– Вы очень молоды, – сказал он. – Сколько вам?
– Тридцать, – ответил молодой человек.
– Вы молоды. Вот когда вам стукнет пятьдесят или шестьдесят, тогда, может быть, вы будете готовы играть на сумеречных лужайках.
– Так вы это называете – «сумеречные лужайки»?
– Да, – сказал старик. – Иногда ребята вроде нас выходят играть допоздна, до семи-восьми вечера. Мы испытываем потребность просто ударить по мячу, прогуливаясь, и ударить снова, потом возвращаемся, когда слишком устаем.
– Как вы определяете, что пора играть в «сумеречные лужайки»? – спросил молодой человек.
– Ну, – ответил тихо шагающий старик, – мы – вдовцы. Не в привычном смысле слова. Все знают, что существуют соломенные вдовы гольфа – женщины, которые остаются сидеть дома, пока мужья целыми днями напролет режутся в гольф – по воскресеньям, иногда по субботам, иногда в будние дни. Они настолько поглощены игрой, что не в силах ее прервать. Они превращаются в автоматы для гольфа, а жены не понимают, куда они подевались. В этом случае мы называем себя вдовцами: жены по-прежнему дома, но дома промерзли, никто не разведет огня, еду готовят, но редко, и постели наполовину пусты. Мы вдовцы.
– Вдовцы? – повторил молодой человек. – Я все еще не понимаю. Ведь никто же не умер?
– Не умер, – согласился старик. – Когда говорят «соломенные вдовы гольфа», это значит, что жены брошены дома, а мужья играют в гольф. «Вдовцы» же – это мужчины, которые сами отлучили себя от дома.
Молодой человек, пораздумав, сказал:
– Но дома кто-то же остался? В каждом доме есть женщина?
– Да, – ответил старик, продолжая медленно шагать и всматриваться в сумеречные лужайки. – Неважно, почему мы выходим в сумерках на фервей. Может, дома слишком мало говорят либо слишком много. Избыток задушевных разговоров или нехватка. То слишком много детей или недостаточно, а то и совсем нет. Причин сколько угодно. Слишком много денег или мало. Какова бы ни была причина, наши отшельники в один прекрасный день вдруг обнаруживают, что после заката солнца нет ничего лучше, чем фервей, игра наедине с самим собой, удары по мячу и хождение за ним в свете сумерек.
– Понимаю, – сказал молодой человек.
– Вряд ли.
– Нет, – сказал молодой человек, – я и вправду понимаю. Но едва ли когда-нибудь вернусь сюда в сумерках.
Старик взглянул на него и кивнул.
– Пожалуй что не вернетесь. До поры до времени. Может, лет эдак через двадцать-тридцать. Больно уж у вас отменный загар и быстрая походка. Пышущий здоровьем вид. Отныне вам следует приезжать сюда в полдень и играть в настоящей четверке. Ваше место не на сумеречной лужайке.
– Я никогда не приду сюда вечером, – сказал молодой человек. – Такого со мной никогда не случится.
– Надеюсь, – сказал старик.
– Я позабочусь об этом, – сказал молодой человек. – Думаю, мы прогулялись ровно столько, сколько мне нужно. Пожалуй, последний удар занес мяч слишком далеко в темноту. Мне неохота его искать.
– Хорошо сказано, – сказал старик.
И они пошли обратно, и тьма стала по-настоящему сгущаться, и они не слышали своих шагов в траве.
Позади все еще бродили одиночные игроки: кто-то по лужайкам, кто-то за ними, кто-то на отдаленных площадках.
Когда они достигли клуба, молодой человек посмотрел на старика, который показался ему уж очень престарелым. А старик посмотрел на молодого человека, который показался ему уж очень юным.
– Если вернетесь, – сказал старик, – то есть в сумерках. Если когда-либо почувствуете потребность начать игру вчетвером и разбрестись поодиночке, хочу вас кое о чем предупредить.
– О чем же? – спросил молодой человек.
– Есть одно слово, которое ни в коем случае нельзя произносить в разговорах с людьми, слоняющимися по вечерним травяным прериям.
– А именно? – полюбопытствовал молодой человек.
– Супружество, – прошептал старик.
Он пожал руку молодому человеку, взял сумку с клюшками и пошел восвояси.
Вдалеке на сумеречных лужайках совсем стемнело, и те, кто там все еще играл, стали невидимы.
Молодой человек с загорелым лицом и ясным чистым взглядом повернулся, направился к своей машине и уехал.
Убийство
– Есть люди, которые никогда не пойдут на убийство, – заявил мистер Бентли.
– Кто, например? – спросил мистер Хилл.
– Например, я, – сказал мистер Бентли, – и многие мне подобные.
– Вздор! – сказал мистер Хилл.
– Вздор?
– Вы меня слышали. На убийство способен кто угодно. Даже вы.
– У меня и мотива нет. Я доволен жизнью. Моя жена – порядочная женщина. У меня хватает денег, хорошая работа. С какой стати мне кого-то убивать? – недоумевал мистер Бентли.
– Я бы мог довести вас до убийства, – сказал мистер Хилл.
– Не смогли бы.
– Смог бы. – Мистер Хилл созерцал зеленый летний городок.
– Вы не сможете сделать убийцу из не-убийцы.
– Еще как смогу!
– Нет, не сможете!
– На сколько заключим пари?
– Никогда не заключаю пари – я в это не верю.
– А, черт, тогда джентльменское пари. На доллар, – сказал мистер Хилл. – Доллар против десяти центов. Ну же. Поставьте десять центов, не то вас примут за три разновидности шотландца сразу, и к тому же – вы выказываете очень мало доверия к собственным убеждениям. Неужели доказательство того, что вы не убийца, не стоит и десяти центов?
– Шутить изволите?
– Мы оба и шутим, и не шутим. Я всего лишь хочу доказать, что вы такой же, как все. У вас есть кнопка. Стоит мне найти эту кнопку и нажать на нее, как вы совершите убийство.
Мистер Бентли непринужденно рассмеялся, обрезал кончик сигары, обжал ее мясистыми губами, откинулся на спинку кресла-качалки. Затем он пошарил в расстегнутом жилетном кармашке, нашел десять центов и положил перед собой на перила веранды.
– Ладно, – сказал он и, подумав, извлек еще один десятицентовик. – Вот двадцать центов за то, что я не убийца. Итак, каким образом вы собираетесь доказывать, что я убийца? – Он усмехнулся и с удовольствием зажмурился. – Я собираюсь сидеть здесь еще долгие годы.
– Разумеется, будет ограничение по времени.
– Неужели? – Бентли хохотнул еще громче.
– Да. Считая с этого дня, через месяц вы станете убийцей.
– Через месяц, значит? Ха! – И он засмеялся, потому что сама мысль об этом казалась ему совершенно нелепой.
Придя в себя, он настроился на ироничный лад.
– Сегодня первое августа, не так ли? Значит, первого сентября вы будете должны мне один доллар.
– Нет, это вы будете должны мне двадцать центов.
– До чего же вы упрямы.
– Вы даже не догадываетесь, до чего.
Стоял приятный летний вечер, веял идеальный ветерок, не докучали комары, безукоризненно тлели две сигары, из далекой кухни доносилось позвякивание посуды, которую миссис Бентли окунала в мыльную пену. В городке люди выходили на веранды, обмениваясь приветствиями.
– Это один из самых дурацких разговоров в моей жизни, – сказал мистер Бентли, с удовольствием обоняя воздух и, между прочим, аромат свежескошенной травы. – Мы уже десять минут говорим об убийстве, дискутируем, все ли мы способны убивать, и даже успели заключить пари.
– Именно, – сказал мистер Хилл.
Мистер Бентли смерил взглядом своего постояльца. Мистеру Хиллу было лет пятьдесят пять, хотя он выглядел несколько старше. Холодные голубые глаза, землистое лицо, прорезанное морщинами, словно испекшийся под солнцем абрикос. Он почти облысел, как Цезарь, говорил с надрывом, вцепившись в спинку стула или в чужую руку, сцепляя руки, словно в мольбе, всегда убеждая себя или собеседника в истинности своих восклицаний. За те три месяца, что мистер Хилл переехал в заднюю спальню, они живо обсудили массу всяких тем – весеннюю саранчу, апрельский снег, сезонные ураганы и заморозки, дальние странствия. Обычные разговоры с привкусом табака, уютные, как сытный обед. У мистера Бентли создалось ощущение, будто он вырос с этим незнакомцем – знал его с пеленок, в пору бурного отрочества и вплоть до седовласой старости. Подумать только, до этого у них ни разу не возникало разногласий. Их дружба отличалась тем, что в ней не было недомолвок или двусмысленности, а целью, которую она преследовала, была Истина, или то, что эти двое считали истиной, или, быть может, думал теперь мистер Бентли с сигарой, то, что он считал истиной, и то, что мистер Хилл из вежливости или по умыслу тоже притворно принимал за истину.
– Мой самый легкий заработок за всю жизнь, – сказал мистер Бентли.
– Это еще как сказать. Держите эти монетки при себе. Они вам скоро могут пригодиться.
Мистер Бентли положил деньги в жилетный карман; в голову начали закрадываться сомнения. Может, перемена в ветре изменила температуру его мыслей. В какой-то миг его разум спросил: «Ну, ты способен на убийство, а?»
– По рукам, – сказал мистер Хилл.
Пожатие холодной руки мистера Хилла было крепким.
– Пари.
– Отлично, жирный олух, спокойной ночки, – сказал мистер Хилл и встал.
– Что? – вскричал мистер Бентли, ошеломленный, но еще не оскорбившийся, потому что не поверил своим ушам.
– Спокойно ночи, олух, – повторил мистер Хилл, глядя на него в упор. Его руки были заняты расстегиванием пуговиц на летней рубашке. Обнажилась плоть на его впалом животе. Показался старый шрам, напоминающий входное отверстие пули.
– Как видите, – сказал мистер Хилл, поймав изумленный взгляд толстяка в кресле-качалке, – я уже заключал такое пари.
Дверь тихо затворилась. Мистер Хилл исчез. В десять минут второго ночи в комнате мистера Хилла горел свет. Сидящий в темноте мистер Бентли, лишившись сна, наконец медленно поднялся, бесшумно проник в холл и посмотрел на мистера Хилла. Ибо дверь была распахнута, а мистер Хилл, стоя перед зеркалом, то тут, то там касался, похлопывал и пощипывал себя.
Казалось, он погружен в свои мысли: «Смотри сюда, Бентли, а теперь туда!»
Бентли посмотрел.
На груди и животе Хилла красовались три округлых шрама, длинный косой рубец над сердцем и поменьше на шее, а спину словно дракон свирепо искромсал когтищами, оставив страшные борозды.
Мистер Бентли стоял, разинув рот, с растопыренными руками.
– Входите, – пригласил мистер Хилл.
Бентли не шевелился.
– Долго же вы не ложитесь.
– Вот собой любуюсь. Тщеславие. Честолюбие.
– Шрамы, сколько шрамов!
– Да, есть несколько штук.
– Боже, как много. В жизни таких не видывал. Как вы их заработали?
Раздетый по пояс, Хилл продолжал любоваться собой, ощупывая и поглаживая себя.
– Теперь-то нетрудно догадаться, – подмигнул он, дружелюбно улыбаясь.
– Как вы их заработали?!
– Жену разбудите.
– Отвечайте!
– А ты напряги свое воображение.
Он сделал выдох, вдох и снова выдох.
– Чем могу служить, мистер Бентли?
– Я пришел…
– Громче.
– Я хочу, чтобы вы съехали с квартиры.
– Что за чушь, Бентли.
– Нам нужна эта комната.
– Неужели?
– Теща приезжает.
– Враки.
Бентли кивнул:
– Да, я солгал.
– Так и скажи. Хочу, чтоб ты съехал, и дело с концом.
– Именно.
– Потому что ты меня боишься.
– Нет, не боюсь.
– А если я скажу, что не съеду?
– Нет, ты этого сделать не сможешь.
– Смогу и сделаю.
– Нет, нет!
– Что у нас на завтрак? Опять ветчина и яйца? – Он вытянул шею, чтобы получше разглядеть небольшой шрам.
– Будь добр, скажи, что уедешь, – попросил мистер Бентли.
– Еще чего, – ответил мистер Хилл.
– Сделай одолжение.
– Нечего клянчить, только выставляешь себя в дурацком свете.
– Ладно, если остаешься, давай отменим пари.
– С какой стати?
– С такой.
– Боишься себя?
– Нет!
– Тсс, – он ткнул пальцем в стену. – Жена.
– Давай отменим пари. Вот мои деньги. Ты выиграл! – Он лихорадочно зашарил в кармане и вытащил два десятицентовика. И хлопнул ими по комоду.
– Забирай! Ты выиграл! Я способен убить. Способен. Признаюсь.
Мистер Хилл выждал и, не глядя на монетки, нащупал их на комоде, схватил, звякнул ими и протянул:
– Вот!
– Я не хочу забирать их обратно! – Бентли отшатнулся к двери.
– Бери!
– Ты выиграл!
– Пари есть пари. Это ничего не доказывает.
Он повернулся, подошел к Бентли, бросил монеты в карман его рубашки и похлопал по нему. Бентли отступил на два шага в холл.
– Я не заключаю пари просто так, – сказал Хилл.
Бентли глазел на жуткие шрамы.
– Сколько таких пари ты заключил? – заорал он. – Сколько!
Хилл ухмылялся:
– Значит, яйца с ветчиной?
– Сколько?! Сколько?!
– Увидимся за завтраком, – сказал мистер Хилл.
Он захлопнул дверь. Мистер Бентли стоял, уставившись на нее. Шрамы просвечивали сквозь дверь, словно благодаря проницательности разума и зрения. Шрамы от бритвы. Шрамы от ножа. Застряли, словно сучки, в старой древесине.
За дверью выключили свет.
Он возвышался над телом и слышал пробуждение дома, беготню по лестницам, вопли, сдавленные крики, суматоху. Через минуту его окружат плотным кольцом. Еще через минуту завоет сирена, и замельтешат красные сполохи, захлопают автомобильные дверцы, наручники вопьются в его мясистые запястья, начнутся расспросы, разглядывание его бледного очумелого лица. А пока он просто стоял над телом, пытаясь что-то нащупать. Пистолет упал в высокую ночную ароматную траву. Воздух по-прежнему был наэлектризован, но буря прошла стороной. Зрение стало возвращаться к нему. И вот правая рука сама по себе на ощупь, как слепой крот, порылась без толку в кармане рубашки, пока не нашла то, что хотела. Он ощутил, как всем своим нешуточным весом он присаживается на корточки, едва не опрокидываясь, и склоняется над телом. Его слепая рука вытягивается и закрывает уставленные ввысь глаза мистера Хилла, а на каждое морщинистое остывающее веко накладывает по новенькой блестящей монетке.
У него за спиной грохнула дверь. Хэтти завизжала.
Он обернулся к ней с кривой усмешкой и услышал собственные слова:
– Я только что проиграл пари.
Если надломится ветка…[2]
Стояла холодная ночь. Около двух часов поднялся ветерок.
Листья на всех деревьях затрепетали.
К трем ветер установился и забормотал за окном.
Первой глаза открыла она.
Затем по какой-то неизъяснимой причине он заворочался в полудреме.
– Не спишь? – спросил он.
– Не сплю, – ответила она. – Я слышала какой-то звук. Словно кто-то зовет.
Он приподнял голову.
Издалека донесся едва уловимый стон.
– Слышишь? – спросила она.
– Что?
– Что-то стонет.
– Что-то? – удивился он.
– Кто-то, – сказала она. – Словно привидение.
– Бог ты мой! Ну и ну. Который час?
– Три часа. Жуткая пора.
– Жуткая?
– Помнишь, доктор Мид говорил нам в больнице, что в этот час люди просто сдаются и перестают бороться. Вот тогда-то они и умирают. В три ночи.
– Лучше не думать об этом, – сказал он. Звук снаружи усилился.
– Вот опять, – сказала она. – Точно привидение.
– Господи, – прошептал он. – Какое привидение?
– Младенец, – сказала она. – Плач младенца.
– С каких это пор у младенцев завелись привидения? Разве в последнее время умирали младенцы? – он тихонько засмеялся.
– Нет, – ответила она и покачала головой. – Но, может, это плач не умершего ребенка, а… не знаю. Прислушайся.
Он стал вслушиваться, и плач повторился, очень далеко.
– А что, если… – сказала она.
– Что?
– Что, если это призрак ребенка…
– Говори, – попросил он.
– Который еще не родился.
– Разве такие призраки бывают? Как они могут издавать звуки? Боже, зачем я это говорю? Какие странные слова!
– Это призрак нерожденного ребенка.
– Откуда тогда у него голос? – спросил он.
– Может, ребенок не умирал, а просто хочет жить, – сказала она. – Как далеко, как жалобно. Как бы нам на него откликнуться?
Они стали прислушиваться, и тихий плач продолжался, а за окном подвывал ветер.
Она напрягла слух, и из ее глаз покатились слезы. И то же самое, пока он вслушивался, происходило с ним.
– Это невыносимо! – сказал он. – Мне нужно встать и перекусить.
– Нет, нет, – сказала она и схватила его за руку. – Лежи тихо и слушай. Может, мы поймем, в чем дело.
Он откинулся на спину, держа ее руку, стараясь смежить веки, но тщетно.
Они лежали, а ветер ворчал, листья дрожали за окном.
Издалека, с большого расстояния, непрерывно доносился плач.
– Кто бы это мог быть? – спросила она. – Что бы это могло быть? Никак не перестанет. Наводит тоску. Может, оно просится к нам?
– Просится к нам? – спросил он.
– К нам жить. Оно не мертвое, оно никогда не жило на свете, но хочет жить. Как ты думаешь… – она засомневалась.
– Что?
– Боже, – сказала она. – Как ты думаешь, наш разговор месяц назад…
– Какой разговор? – спросил он.
– О будущем. О том, что у нас не будет семьи. Не будет семьи, детей.
– Не припоминаю, – сказал он.
– А ты припомни, – сказала она, – мы пообещали друг другу, что у нас не будет ни семьи, ни детей. – Она замялась и промолвила: – Ни младенцев.
– Ни детей? Ни младенцев?
– Как ты думаешь… – Она приподняла голову и прислушалась к отдаленным стонам за окном, за деревьями, в открытом поле. – А что, если…
– Что? – спросил он.
– Может, тебе перебраться на мою половину кровати?
– Ты хочешь, чтобы я перебрался к тебе?
– Да, пожалуйста, перебирайся ко мне.
Он повернулся, посмотрел на нее и, наконец, перекатился к ней. Далеко-далеко на городских часах пробило четверть четвертого, половину четвертого, без четверти четыре, потом четыре.
Они лежали и прислушивались.
– Слышишь? – спросила она.
– Слушаю.
– Плач.
– Перестал, – сказал он.
– Именно. Этот призрак, ребенок, младенец, этот плач прекратился, слава богу.
Он взял ее за руку, повернулся к ней и сказал:
– Мы его угомонили.
– Да, угомонили, – сказала она. – Да, боже мой, угомонили!
Ночь притихла. Ветер улегся. Листья на деревьях перестали трепетать.
И они во тьме рука об руку прислушиваются к тишине, прекрасной тишине в ожидании рассвета.
Париж всегда с нами
Душным воскресным июльским вечером я собирался выйти прогуляться по городу от Нотр-Дама до Эйфелевой башни – мое любимое времяпровождение.
Жена легла спать в девять часов и, когда я уже стоял в дверях, дала мне наказ:
– В каком бы ты часу ни пришел, захвати с собой пиццу.
– Одна пицца, заказ принят, – сказал я и вышел в холл.
У гостиницы я пересек реку, прошелся до Нотр-Дама, заглянул в книжный магазин «Шекспир» и лег на обратный курс по бульвару Сен-Мишель, он же Бульмиш, в открытое кафе «Де Маго», где за поколение с лишним до меня Хемингуэй потчевал приятелей анисовой, граппой и Африкой.
Я посидел там, наблюдая за прохожими, потягивая анисовую и пиво, затем направил свои стопы к реке.
Улица, уводящая от «Де Маго», оказалась переулком, изобилующим лавками антикваров и арт-галереями.
Я прогуливался почти в одиночестве и уже приближался к Сене, как тут произошло нечто из ряда вон выходящее, чего никогда со мной не бывало.
Я обнаружил за собой слежку! Причем весьма престранную.
Оглянувшись, я никого не обнаружил. Посмотрел вперед – и в ярдах сорока заметил молодого человека в летнем костюме.
Сперва я не догадался, чем он занимается. Но когда я остановился перед витриной и поднял глаза, то увидел, что он стоит в восьмидесяти-девяноста футах впереди меня и наблюдает за мной.
Перехватив мой взгляд, он стал удаляться по улице, потом опять остановился и уставился на меня.
После нескольких безмолвных обменов взглядами до меня стала доходить суть происходящего. Вместо того чтобы надзирать за мной с тылу, он задавал мне направление и, оглядываясь, убеждался, что я иду следом.
Так продолжалось на протяжении целого квартала, и наконец я оказался на перекрестке, где он меня поджидал.
Он был высок, строен, светловолос, весьма симпатичен, и я почему-то принял его за француза; у него было телосложение теннисиста или пловца.
Я не знал, что и думать о создавшейся ситуации. По нутру ли она мне? Льстит? Или ставит в идиотское положение?
Стоя лицом к лицу на перекрестке, я вдруг сказал ему что-то по-английски, и он покачал головой.
Он ответил что-то по-французски, и тогда я в свою очередь замотал головой. Мы рассмеялись.
– No French? – сказал он.
Я покачал головой.
– No English? – сказал я.
Он покачал головой.
И мы снова рассмеялись оттого, что торчим на перекрестке в Париже за полночь, не можем обменяться парой слов и не понимаем, какого черта мы тут делаем.
Наконец он поднял руку и показал на боковую улицу.
Он произнес чье-то имя, и мне показалось, что так зовут какого-то человека.
– Джим.
Я покачал головой в смущении.
Он повторил, а затем произнес слово полностью.
– Gymnasium – тренажерный зал, – сказал он и снова показал в ту же сторону, сойдя с тротуара на мостовую, и посмотрел – иду ли я за ним.
Я остановился в нерешительности, пока он переходил на противоположную сторону улицы, затем обернулся и вновь посмотрел на меня.
Я сошел на мостовую и пошел следом, думая: «Что я тут потерял?», потом опять: «Какого черта мне тут надо?» Куда идет загадочный молодой человек в духоте полуночного Парижа? Что это за таинственный тренажерный зал? А если я сгину там навсегда? В конце концов, как мне посреди чужого города хватает смелости идти следом за каким-то субъектом?
Я пошел следом.
Он дожидался меня, дойдя до середины следующего квартала.
Он кивнул на ближайшее здание и повторил: «Тренажерный зал» – gymnasium. Я смотрел, как он спускается по ступенькам сбоку здания, и побежал, чтобы не отставать. Мы оказались перед дверью в цокольный этаж, и он кивком пригласил меня войти в темноту.
Мы и впрямь оказались в небольшом спортзале, оснащенном всем, чем полагается, – тренажерами и матами.
Весьма любопытно, подумал я и вошел внутрь, после чего он затворил дверь.
Сверху доносилась отдаленная музыка, слышались голоса, и тут я почувствовал, как расстегивают мою рубашку.
Я стоял в темноте, пот катил по моим рукам, капал с кончика носа. Я слышал, как он раздевается в темноте, пока мы молча и неподвижно стояли посреди ночного Парижа.
И опять мне подумалось: «Какого черта я тут торчу?»
Он сделал шаг вперед и почти коснулся меня, как вдруг раздался звук открывающейся поблизости двери. Взрыв хохота. Опять отворилась и захлопнулась дверь. Шаги. Очень громкие разговоры наверху.
От шума я встрепенулся и задрожал.
Он, должно быть, почувствовал мое состояние и положил одну руку на мое левое плечо, а другую – на правое.
Кажется, мы оба не знали, что делать дальше, но продолжали стоять лицом к лицу посреди темного Парижа, как два актера на сцене, напрочь забывших свои роли.
Сверху доносились смех и музыка. И мне послышался выстрел пробки.
В тусклом свете я заметил, как бусинка пота скатилась с кончика его носа.
Пот стекал по моим рукам и капал с пальцев.
Мы долго простояли, не шелохнувшись, пока наконец он по-французски не пожал плечами, я тоже пожал плечами, и мы снова негромко рассмеялись.
Он подался вперед, взялся одной рукой за мой подбородок и молча поцеловал меня в середину лба. Затем он шагнул назад, дотянулся до моей рубашки и набросил ее мне на плечи.
Мне показалось, он пробормотал: «Bonne chance».
Затем, не говоря ни слова, он двинулся к двери и прижал палец к губам:
– Ш-ш-ш.
Мы выбрались на улицу.
Мы вышли на узкую улицу, ведущую в одном направлении к «Де Маго», а в другом – к реке, Лувру и моей гостинице.
– Бог ты мой, – тихо промолвил я, – мы провели вместе полчаса и даже не познакомились.
Он вопросительно взглянул на меня, и что-то подвигнуло меня поднять руку и ткнуть его пальцем в грудь.
– Ты Джейн, я Тарзан, – сказал я.
Это привело его в неописуемый восторг, и он повторил мои слова:
– Я Джейн, ты Тарзан.
Впервые после нашей встречи мы оба с облегчением вздохнули и рассмеялись.
И опять он нагнулся и запечатлел еще один поцелуй в середину моего лба, потом повернулся и пошел восвояси.
В трех-четырех ярдах от меня, не поворачивая головы, он сказал на ломаном английском:
– Жаль.
– Очень жаль, – ответил я.
– В другой раз? – спросил он.
– В другой, – ответил я.
И он удалился по узкой улочке, более не задавая мне направления.
Я повернул к реке, прогулялся мимо Лувра и пошел в гостиницу.
Было два часа ночи, по-прежнему душно, я стоял в дверях номера и слышал шуршание постельного белья. Жена сказала:
– Забыла тебя спросить, ты достал билеты?
– Да, конечно, – сказал я. – «Конкорд», дневной рейс до Нью-Йорка, в следующий вторник.
Я услышал, как это ее успокоило. Затем она вздохнула и сказала:
– Ах, как я обожаю Париж! Надеюсь, мы вернемся в будущем году.
– В будущем году, – подтвердил я.
Я разделся и присел на край кровати. Из своего дальнего края жена сказала:
– Ты не забыл про пиццу?
– Какую пиццу?
– Как ты мог забыть про пиццу? – полюбопытствовала она.
– Не знаю, – ответствовал я.
Я почувствовал слабый зуд в середине лба и приложил руку к тому месту, куда меня лобызнул напоследок молодой человек, наблюдавший за мной, направляя в нужное русло.
– Ума не приложу, – сказал я, – как я мог запамятовать. Будь я проклят, если знаю.
Мамаша Перкинс остается
Джо Тиллер вошел в квартиру и, снимая шляпу, заметил полноватую женщину зрелых лет, которая разглядывала его и при этом лущила горох.
– Заходите, – обратилась она, глядя в его изумленные глаза. – Энни готовит ужин. Присаживайтесь.
– Но кто… – уставился он на нее.
– Я – Мамаша Перкинс, – хохотнула она, раскачиваясь взад-вперед. Она сидела не в кресле-качалке, но каким-то образом создавалось впечатление, что она раскачивает его. У Тиллера закружилась голова.
– Знакомое имя, но…
– Не бери в голову, сынок. Еще познакомишься со мной. Я приехала к вам погостить на годик или вроде того.
Она добродушно рассмеялась и вылущила горошину.
Тиллер бросился на кухню и призвал жену к ответу.
– Откуда еще черт принес эту слащаво-настырную тетку?!
– Ты же знаешь Мамашу Перкинс из радиопередачи, – улыбнулась жена.
– А тут-то она что делает? – кричал он.
– Ш-ш. Она пришла помочь.
– В чем помочь? – он гневно посмотрел в сторону комнаты.
– Ну, мало ли… – уклончиво сказала жена.
– А куда, черт побери, мы ее денем? Ей же нужно где-то спать?
– Ах да, – ласково сказала его жена Анна. – Ведь здесь же радиоприемник. Ночью она как бы… «возвращается туда».
– Какого черта она пришла сюда, ты что, ей написала? Ты никогда не говорила, что вы знакомы, – бушевал муж.
– Я столько лет слушала ее по радио, – сказала Анна.
– По радио – совсем другое дело.
– Нет. Мне всегда казалось, что я знаю ее лучше, чем… тебя, – сказала жена.
