Читать онлайн Сын ведьмы бесплатно
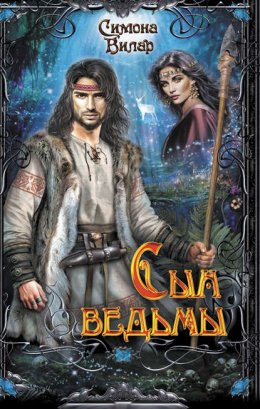
Пролог
990, конец апреля
– Ну что, Добрынюшка? Сказывал, любят и почитают тебя новгородцы?! Говоришь, твое слово в Новгороде все одно как решение самого вече?
Путята не произнес это, а почти прорычал, припав плечом к дверному косяку, – рожа вся в крови и слезах, обычно холеная борода торчит в сторону, словно кто таскал за нее солидного воеводу.
Епископ Иоаким Корсунянин, прибывший на север Руси от самого Греческого моря, даже привстал ошеломленно, а потом слабо опустился обратно в кресло. При свете огня в плошке было видно, как он побледнел. Но сам Добрыня остался спокоен. Смотрел на Путяту немного исподлобья темными жгучими глазами, только соломинка, какую жевал до этого, застыла в углу его пухлых губ.
А Путята не унимался: то вдруг захохотал как безумный, то стал биться виском о косяк и рычать, как зверь. Потом даже заругался грязно, как никогда ранее не позволил бы себе при почтенном Иоакиме и не менее уважаемом им Добрыне – дяде самого князя Владимира. Сейчас же с рыка на бешеный крик переходил и снова вопил.
– Ох, ох, славные новгородцы почитают посадника Добрыню ну чисто батю родного! Ах да и встретят его посланцев хлебом-солью! А вот это на, выкуси! – едва не налетев на Добрыню, ткнул Путята ему в нос скрученный кукиш. – И срать я хотел на твоих новгородцев! Резать их буду, как собак бешеных! Валить всех и вас в том числе…
Иоаким истово перекрестился, а молодой дьяк Сава даже пошел наступать на воеводу:
– Как смеешь ты, нечестивый, такое говорить при его преподобии!..
И отлетел прочь от мощного удара Путяты. И хотя Сава сам был высок и плечист, но рухнул, будто тростник подломленный.
Больше Добрыня вытерпеть не мог. И пусть он подле могучего Путяты смотрелся более мелким и хрупким, но сейчас вмиг скрутил воеводу, зажав его голову под мышкой, и, не давая опомниться, поволок прочь. На сопротивление и глухой рев Путяты внимания не обращал, тащил его, бился с ним о бревенчатые стены перехода, несмотря на отчаянные попытки того вырваться. Наконец он выволок упирающегося воеводу во двор и, заметив у конюшни колоду для водопоя, рывком окунул его голову в воду.
– Ну же, охолонь немного, охолонь, я сказал!
Удерживал какое-то время клокочущего в воде Путяту, вынул, чтобы тот вдохнул, а потом опять с силой навалился, не давая высвободиться. При этом быстро озирался. Видел, как на них ошеломленно и потерянно смотрят дружинники из отряда Путяты, видел и самих дружинников… Выглядели они так, словно из сечи лютой вернулись, а не из посольской поездки в мирный Новгород, куда не так давно он их сам отправил.
– Да что случилось, ради самого неба? Ну, соколики, отвечайте!..
Не столько спрашивал, сколько вопросом удерживал на месте, чтобы не помешали. Но уже понял – беда случилась. И беда негаданная.
Путяту он все же отпустил, когда решил, что с того достаточно. Все еще задыхающийся воевода, осев под бревенчатой стеной, со стоном втягивал воздух. И через миг произнес с дрожью в голосе:
– Страшно там было, Добрынюшка. Я ведь всякого повидал на своем веку, но там… Святым заступником своим клянусь, что такой исполох1 меня обуял…
Немыслимо воеводе говорить подобное при его ратниках. Но те сами отступали, отходили в сторону, отводя взоры. Лишь кто-то сказал:
– Наш воевода не врет, видит бог. Но ты не серчай на него, Добрыня. Путята сына твоего из горящей избы на себе тащил. Эти бешеные на нас всем скопом набрасывались, мы еле успевали отбиваться, а он все одно Коснятина не покинул, спас. Вон там мальчонка твой, бабы его уже приняли.
Добрыне показалось, что он ослышался. Сына? Коснятина? Он шагнул, куда ему указывали. Бревенчатая гостевая изба в Городище стояла за хороминой2, к ней вела ладная, выложенная плахами мостовая, но Добрыня все равно несколько раз споткнулся, пока дошел. А увидев сына, даже не узнал в первый миг. Пять лет назад, когда он по приказу Владимира уезжал в поход на булгар3, Коснятин еще в бесштанниках4 бегал, а сейчас на лавке сидел худой длинноногий подросток, поникший и всхлипывающий, что отрокам уже вроде как и не к лицу. Хотя вон даже Путята ревел…
Добрыня приблизился, погладил сына по светловолосой голове. А тот ткнулся родителю в живот, плечи вздрагивали. Добрыня сказал как можно спокойнее:
– Ну, ну, я тут, я с тобой. Будет реветь, говорю.
Сам же словно опасался спросить о жене. Дурное чуял.
Что дурное произошло, ему позже поведал уже немного пришедший в себя Путята. Они сидели при свете плошки в небольшой коморе, воевода рассказывал, Добрыня слушал – и не верилось. Как же так? Новгород, его Новгород, в котором он без малого двадцать лет был посадником, в котором знал всех и каждого… В котором он, наставник юного Владимира, сам поднялся и столько сделал для блага этого словенского5 града, стал тут уважаемым и даже любимым… И такое предательство теперь!
Отправляя вчера в Новгород воеводу Путяту с его отрядом, Добрыня ни о чем худом и помыслить не мог. Думал, все ладком пойдет, как только Путята сообщит жителям о возвращении почитаемого в граде посадника. Ну а сам Добрыня остался переночевать тут, в Городище, чтобы дать передохнуть епископу Иоакиму Корсунянину. Епископ уже не первой молодости был, а, учитывая, какой путь им пришлось проделать от самого стольного Киева, заезжая в грады и веси, где Иоаким с Добрыней обращали людей к вере христианской, такой отдых для почтенного священнослужителя казался вполне уместным. Почитай, полгода добирались они на север, и везде приветливо их принимали. Да и кто пойдет против родного дяди прославленного князя Владимира? Так что в Новгород Добрыня рассчитывал ввезти епископа под звуки труб, при полном стечении народа словенского. Отправленный же наперед Путята должен был подготовить все к их приезду. И, напутствуя воеводу, Добрыня так и сказал: сердечно встретят его новгородцы, хлеб-соль поднесут, узнав, что он от самого Добрыни прибыл. А что о новой вере христианской будут они сообщать в Новгороде, так кого это там смутить может? Ведь уже не один год обитали христиане во граде, иноземные христианские подворья давно расположились на Торговой стороне Новгорода.
– Нет уже в Новгороде ни единого иноземного подворья, – печально сообщил Добрыне его воевода. – Порушили их, пожгли, а тех иноземцев-христиан, что торговали во граде, порубили всех.
Добрыня слова не мог сказать, так был поражен. Что за нелепость! Ведь новгородцы всегда уважали и ценили тех, кто приезжал к ним по купеческим делам с товарами, кто покупал, торговал и платил пошлину в казну. А тут – вырезали всех… Сдурели, что ли, совсем? Ведь торг для града – это и прибыль, и жизнь, и работа.
– С чего все началось, Путята? Все поведай, не таись.
– Да как тут таиться…
Оказывается, еще до того, как Добрыня был на подъездах к словенской земле, в Новгород пришли из лесов волхвы-кудесники. И сообщили, что в Киеве порушили идолов старых богов, а людям велели креститься. Причем волхвы уверяли, что князь Руси и его дядя Добрыня продались иноземному Богу, да и саму Русь подчинили ромейским царям6. И нет больше воли на Руси, мол, всем теперь тут иноземцы заправлять будут. Отныне у словенского племени одна надежда – отбиться от Добрыни и всех, кто с ним придет. Так провозгласили волхвы, и новгородцы поддержали их на спешно собранном вече. И это же сообщили Путяте, когда он въехал в ворота градских укреплений.
– Неужели новгородцы поверили каким-то диким кудесникам, а не мне, столько лет верой и правдой служившему славному Новгороду!
Добрыня говорил это в сердцах, но лицо его казалось спокойным. Он вообще был не сильно шумливый человек, дядя князя Владимира, посадник новгородский. Однако теперь его обычно ровный голос звучал с надрывом, а темные глаза полыхали жестким, колючим огнем.
Путята же только повторял: всей толпой шли новгородцы за каким-то косматым мужиком, называвшим себя Богаммил, но вроде как еще его Соловьем прозывают, благодаря его речистости да убедительности в словах. Добрыня лишь по колену себя хлопнул. Да Соловейка этот всего лишь бродяга при капищах, даже не служитель ритуалов, а так, бузотер и пьяница. Неужто новгородские купцы позволили ему власть взять?
– Да еще какую! – сокрушался Путята. – Чтобы ты знал, посадник, этот Соловейка теперь главный над всеми волхвами местными. И как выйдет он, как поднимет свой посох – народ и орет, словно каженники7. Ну а тысяцкого Угоняя ты знаешь, Добрыня?
Посадник только едва заметно кивнул.
Вот и узнал, что некогда верный ему Угоняй нынче разъезжает повсюду и заводит народ криками, мол, лучше всем словенам погибнуть и уйти в светлый Ирий8, чем отдать своих богов и чуров на поругание, как киевляне неразумные отдали.
– И что же ты, Путята, с твоими проверенными дружинниками не мог угомонить этих смутьянов? – глухо, но с нажимом спросил посадник, зыркнув при этом на воеводу из-под наползшей на глаза темной пряди.
Волосы у Добрыни были густые и гладкие, темного соболиного оттенка. Что ему за четвертый десяток перевалило, так и не скажешь, седина лишь на висках немного проступает, да и собой он был прямой, жилистый, крепкий. Бороду носил небольшую, но холеную – заботился о внешности посадник, аккуратно подбривал вокруг губ. Отчего было видно, что рот у него полногубый, сильный и жесткий. Под стать жестким интонациям в голосе. И интонации эти булатом звенели, когда спрашивал, как вышло, что Путята с его витязями не смог разобраться со смутьянами да навести лад. Пусть и с небольшим отрядом воевода отправился в Новгород, ну так все равно его люди в ратном деле умельцами отменными слывут. Того же Угоняя тысяцкого наверняка могли потеснить. И пусть Угоняй сам воевода – Добрыня хорошо его знал, ибо вместе с ним некогда усмирял северные племена эстов и чуди, – все одно и Путята не лыком шит, да и выучка у него и его воинов получше будет. А тут… опять же твердит: исполох меня взял, исполох…
– Ты бы и сам там испугался, Добрынюшка, – понуро твердил воевода. – Новгородцы словно ополоумели от ярости. Скалятся, воют как волки, и все – бабы, мужи нарочитые9, купцы нарядные – все как будто с цепи сорвались. Кто с косами явился, кто с каменьями, кто с тесаками булатной ковки… И так лезли на детинец10, где я сперва думал обосноваться, что мы еле ноги оттуда унесли. Я ведь всего с тремя десятками отправился, да и ты уверял, что лиха нам не будет. А они… Словно Мара душами новгородцев владела, словно Чернобог11 заразил их лютью. Отроки безусые и те на моих закованных в булат дружинников кидались, как псы бешеные, грызли им лица, рвали руками, а на себе, казалось, и ран не замечали. А как смеркаться стало, мне даже почудилось, что глаза у новгородцев светятся, как у волков в зимнюю стужу…
– Что ты сказал? – выпрямился до этого понуро сидевший посадник. – Глаза светились?
Он встал, ходил какое-то время от стены к стене. Каморка была небольшая – три шага туда, три обратно. Добрыня метался меж срубными стенами, как зверь в клетке. Дурное ему думалось. Не хотелось в такое верить…
– Что еще скажешь, Путята? – произнес наконец, припав к стене и упершись лицом на скрещенные руки.
– Самой Пресветлой Богородицей клянусь, что не могли мы этих взбесившихся побороть. Ты веришь мне? И хотя многих наседающих мои парни порубили, но и их самих немало полегло. Так что я с оставшимися еле ноги унес. И казалось мне, что даже павшие новгородцы поднимаются и вслед нам смотрят. Очами мерцающими…
– Да не может в Новгороде быть столь сильного чародейства! – ударил кулаком по бревенчатой кладке Добрыня. – Там христиане уже не один год живут, церковь свою возвели. Как раз неподалеку от моего дворища. Я не препятствовал. Сам ведь крещен давно, хотя не больно о том среди мужей наших распространялся.
Путята чуть кивнул. Он помнил, как он сам и многие из дружинников князя Владимира шли в светлых одеждах к святой купели, а Добрыня лишь ворот расстегнул и показал нательный крестик. Тогда многие дивились: ведь когда несколько лет назад князь Владимир в самом Киеве капище главное устраивал12, Добрыня ходил туда и смотрел, как требы приносят, а вот же… Уже тогда христианином был.
Сейчас Путята только шеей повел, словно ему ворот давил. Его борода все еще торчала вбок, и теперь было заметно, что половина ее изрядно вырвана. По привычке Путята хотел огладить ее своими большими ладонями, но словно обжегся и отдернул руки.
– Нет там уже никакой церкви, посадник, – молвил глухо. – Да и дворища твоего теремного уже нет. Я как увидел из детинца, что эти лютующие вслед за Угоняем туда ворвались, сразу отправил своих парней помочь, если что, а как началась там настоящая бойня, то и сам поспешил. Вот Коснятина и успел от них отбить. Смеркалось уже, но мальчишка прямо на меня с криком выбежал. И эти… светлоглазые носятся кругом, воют. А вот жену твою…
– Что с ней? – так и не повернувшись, глухо спросил Добрыня, когда воевода умолк.
Тот несколько раз перекрестился и поведал: видел он голову супружницы посадника на пике, носились с ней восставшие по граду. Косы у боярыни Добрыни были знатные, светлые и длинные, вот по ним и понял, что она это.
Добрыня молчал, все еще стоял у стены, уткнувшись в сложенные руки, только дышал шумно. Но потом вроде притих. И лишь через время проговорил низким голосом:
– Ложись-ка спать, Путята. А как отдохнешь и одумаешься, то поутру буду ждать от тебя уже не столь путаные сведения, а с пояснениями: где ныне восставшие расположились, чем владеют в Новгороде и какова там обстановка.
Сам же Добрыня решил пока походить… Думу думать и решать, как поступить теперь.
Добрыня отсутствовал долго, почитай до самой зорьки. Сторожевые на вышках Городища видели, как его силуэт то появлялся на фоне едва светлеющей ленты Волхова, то снова удалялся во мрак. Порой его замечали в той стороне, где высился на капище огромный идол Перуна, – некогда Добрыня сам же и возводил его, чем умилил местный люд, особо почитавший Громовержца. Но что нынче посаднику у идола этого поганого понадобилось?
– Ворожит ли он у Перуна али как? – гадали сторожевые промеж собой.
Окрещенным не так давно дружинникам было неприятно думать, что их Добрыня связан с ворожбой, с темными силами. Но Добрыня всегда был особый. И немудрено – знали люди, что его матерью была известная чародейка Малфрида. Та, что еще Ольге пресветлой служила, потом и Святославу воинственному. Но после гибели Святослава о ней мало что было известно. Сгинула ведьма невесть куда, ни слуху ни духу о ней. Но когда вошедший в силу Добрыня прославился да стал справляться с любым делом, поговаривали, что без ее ворожбы не обошлось. Владимир его очень ценил и слушал, они вместе вернулись от варягов с сильной дружиной, вместе вновь получили власть в Новгороде. Встретили их тут тогда приветливо: новгородцам не больно любо было подчиняться Ярополку Киевскому, которого не знали и которому платить дань не желали. Им свой князь был нужен, Владимир Святослава сын, а в посадники охотно взяли Добрыню рачительного. Вот и собрал Добрыня под руку Владимира силу немалую из окрестных словенских земель, захватили они сперва вольный Полоцк, какой к Ярополку изначально склонялся, а потом и на Киев пошли, на самого Ярополка. Была им удача великая в том походе, свергли они Ярополка, а Владимир занял престол киевский. Люди же говорили: везет им обоим, потому что в них кровь особенная, чародейская, – и в Добрыне, сыне Малфриды, и во Владимире, внуке чародейки. Поэтому оба они вещими могут быть и вызнавать все наперед. Однако когда о крещении князя Владимира заговорили, упоминать о ведьме стало как-то неловко. Она же колдунья темная, с демонами знается, а оба ее родича к светлому Христу подались. Ведь как учит новая вера – все вершится не чарами, а по промыслу Божьему.
Утро над Волховом вставало хмурое, туманное. Добрыня вернулся к Городищу умытый росой, влажные волосы липли ко лбу, глаза же горели ясно, будто не бродил среди предутренних туманов, а спал сладко. А вот кто и впрямь выспался, так это Путята. Добрыня приказал ему спать – он и уснул. Теперь же, когда собрались все, Путята раскатал по столу карту с планами Новгорода и пояснил: люди Угоняя и Богаммила разметали мост через реку Волхов, по которому обычно была связь между двумя частями Новгорода – Торговой и Детинецкой, сами обосновались на Детинецкой, где кремль и усадьбы бояр располагались и где заставы и частоколы самые надежные. При этом восставшие приготовились к нападению: выкатили к реке два камнемета, какие пороками называют, ну и со всей округи натаскали к ним великое множество камней, чтобы обороняться.
– Тут ясно, – отметил Добрыня. – А вот что на Торговой стороне за Волховом?
Путята сказал, что там вроде как потише будет.
– Тогда туда и направимся, – решил Добрыня. – Соберешь, Путята, своих воинских побратимов из Ростова, они у тебя все достойные. И как проведем службу и попросим Бога, чтобы не оставил своей милостью, так и выступим.
Сам же пока к сыну отправился, беседовал с ним какое-то время. А как вышел, то уже и дружинники собрались, пояса затягивали, шлемы поправляли и пришнуровывали. Выглядели так, как будто на сечу отправляются… На Новгород… От этого горько стало на душе посадника Добрыни.
Сейчас все эти закованные в броню воины сошлись на лугу близ частоколов Городища и сам епископ Иоаким провел службу перед выступлением. По-славянски этот грек из Корсуня13 говорил неплохо, проповедь провел душевно, а когда воины уже на коней садились, остановил на миг Добрыню.
– Ты не сильно на оружие напирай, посадник. Видит бог, тут нужно не грубое вмешательство, а терпеливая проповедь священника.
Добрыня лишь что-то буркнул в усы. Но кое-кого из священников, сопровождавших Иоакима, все же взял, приказав подать им коней. Если в Новгороде то, о чем он догадывается, святая молитва весьма пригодится. Самим Иоакимом он рисковать не мог, оставил ему охрану, да и к каждому священнослужителю уного14 со щитом приставил. Только молодой дьяк Сава ехал без охраны – он, до того как решил сан принять, слыл неплохим рубакой. И несмотря на то что ликом Сава был чисто ангел – белокурый, ясноглазый, улыбчивый, – в случае чего смог бы за себя постоять.
Отряд миновал вброд воды Волхова, протянулся длинной змеей вдоль речного берега. День был все такой же ненастный, тучи ходили низко, казалось, вот-вот хлынет ливень, но Добрыня догадывался, что эти тучи не пошлют дождь. Когда в сумеречном свете впереди показались бревенчатые вышки новгородской Торговой стороны, посадник весь подобрался. Он ехал впереди воинства, прислушивался чутко. Ибо только Добрыня мог различить то, чего другие не улавливали. Но таким он всегда был. И этой ночью, бродя по окрестностям, понял, что недаром на Путяту и его людей исполох нашел. Они толком пояснить не могли, что случилось, а он и сейчас это чуял – глухой монолитный шепот, словно врезáвшийся в голову, словно приказывавший…
Другие, слава богу, этого не замечали. Ну да крещеные не так и поддаются чарам. А вот Добрыня ощущал этот навязчивый приказ все сильнее по мере приближения отряда к высоким городням15 Новгорода. Даже мысли стали путаться, голова кругом шла. Посадник заставил себя сосредоточиться на молитве, твердить ее как некое заклинание.
В какой-то миг Добрыню догнал молодой витязь Воробей, сын новгородского боярина Стояна, окликнул посадника, что-то говорил. Но тот был настолько погружен в молитву, что даже не сразу понял, о чем речь, переспросил.
Воробей же пояснял:
– Погляди, Добрыня, ворота в Словенском конце словно без охраны стоят – ни один страж на вышках не виден. Может, они к восставшим на ту сторону Волхова ушли, а может, и еще что. Вот и думаю, а что, если мне с парой воинов забраться на вышки ворот да попробовать отворить их изнутри?
Воробей говорил дело. Он вырос в Новгороде, а когда Владимир шел на Киев, примкнул к его окружению, служил князю верно, с охотой крещение принял. Сейчас, небось, волнуется, что с его родными в Новгороде могло приключиться. Да и справится парень, ловкий он. И Добрыня дал добро. Только добавил, чтобы помолился, когда под стенами окажется.
Но все оказалось даже проще, чем опасался Добрыня. Воробей с подручниками скоро справились, распахнули створки, как будто и не препятствовал им никто. А им и впрямь не препятствовали. Воробей же говорил потрясенно:
– Не поверишь, посадник, но словно уснули там все.
Чего-то подобного Добрыня ожидал. Когда они въехали, то увидели стоявшие вдоль мощеных улиц бревенчатые срубы, открытые лавки и склады, а из людей – никого. И это на Торговой стороне, где обычно такой галдеж и толчея!
Воробей указал на ближайшую лавку – дверь распахнута, изнутри какой-то гул негромкий доносится. А войдя, увидели и хозяина гончарной мастерской, и жену его, и подручных – все стояли лицом к стене, словно рассматривали что-то на бревенчатой кладке, и бубнили негромко. На вошедших никакого внимания.
– Морок на них навели, – сказал своим опешившим спутникам Добрыня. – И морок сильный. Ну да с Божьей помощью…
Кто бы ни наслал этот морок, но когда Сава и иные священнослужители стали обходить окрестности, кропить все святой водой да читать молитвы, местные скоро очнулись. Выходили из строений на мостовую, показывались у проемов дверей и поглядывали на витязей посадника с угрюмым недоверием.
– Как попали во град? – спросил кто-то из местных. – Кто впустил?
– Да сами вошли, – спокойно отозвался Добрыня. – Пока вы спали.
Новгородцы переглядывались, выглядели растерянными. Нечто подобное Добрыня уже видывал ранее, потому и знал, какое недоумение испытывают люди, выйдя из морока. Ощущение такое, как будто отвлеклись, пропустили что-то, не углядели. Но то, что новгородцам внушили невесть что, сразу стало понятно. Узнав своего посадника, они в первый миг даже начали улыбаться, а потом, словно вспомнив что-то, хмурились, отходили, собираясь группами, и смотрели неприязненно. Кто-то все же осмелился сказать:
– Нам говорили, что ты, Добрыня, задумал погубить Новгород. Беду нам несешь.
– Когда это Новгороду от меня худо было? – только и ответил посадник. А сам прочь пошел.
Люди провожали его взглядами, и лица их становились озадаченными, а потом, подумав немного, смотрели уже иначе. И впрямь, разве худо им было при Добрыне? Вон как он город поднял! Несколько лет назад привез им малолетнего сына князя Святослава в правители, но пока тот в возраст не вошел, сам тут всем распоряжался. Да и как распоряжался! Вече всегда уважительно слушал, с людьми нарочитыми не ругался, много свобод граду дал, охранял от набегов окрестных племен да от находников варягов северных. Мир и лад при нем были, люди торговали, работали, богатели. И уже другая мысль пошла по рядам: чего это они Соловейка и Угоняя послушали? Да и где сейчас те Угоняй и Соловейка со своими волхвами?
Люди на Торговой стороне только сейчас заметили, что в этой части града не видно ни стражей, ни нарочитых людей новгородских. И опять вопросы: когда нас покинули все, что никто и не заметил? Спали все, что ли?
Добрыня на людской гомон мало обращал внимания. Пошел мимо бревенчатых изгородей, миновал торжище широкое. Все ему тут было знакомо, каждая лавка, каждый тын у мастерских, кажется даже, что каждая плаха на мостовых была хожена-перехожена. Новгород раскинулся на влажных болотистых землях вдоль Волхова, без мостовых тут было не обойтись, и их стелили-перестилали, почитай, через каждые два-три года. Да и дома ладили-правили нередко – торговым людям града было выгодно показывать свое богатство-благосостояние, а новгородские плотники слыли великими умельцами по всей Руси. Да и сам Новгород считался одним из наиболее значительных градов на пути из варяг в греки16. Так что толковыми и богатыми слыли новгородцы. И чтобы их так ловко обвели вокруг пальца?..
– Не иначе как заморочили их, – произнес подошедший к посаднику Путята.
– Догадался наконец, – проворчал Добрыня. – А то все про исполох твердил, как баба какая глупая из чащи лесной. Причем и ты под мороком был, клянусь в том крестом, в который верю! А чтобы христианина чарами заморочить… Тут чародейство не абы какое нужно.
И нахмурился Добрыня, догадываясь, кто обладает столь мощной чародейской силой, чтобы на целый город морок наслать. Вон и сейчас он чует…
Пока же посадник повелел священникам кропить все святой водой, псалмы петь, а потом начать разъяснять новгородцам про новую веру. О том, что зла от нее местным не будет, что останется Новгород вольным и великим, только связи с миром расширятся да торг станет более выгодным и разнообразным. Местные это слушали недоверчиво, потом спрашивать начали:
– А как же боги наши прежние, заступники извечные? Их-то куда?
– А что вам до них, если и им до вас никакого дела?
– А новому Богу есть до нас дело?
– Есть, – отвечали им. – Ибо сказал Он, что всякий, кто в Него уверует, спасен будет.
Добрыня в этих разговорах особо не участвовал. Его сейчас интересовало, как с мятежной Детинецкой стороной совладать. Вот и отправился на набережную Волхова, туда, где некогда большой мост перекрывал реку, соединяя обе части Новгорода – Детинецкую и Торговую. Сейчас же от моста только сваи из речного потока выступали. А вот на другом берегу наблюдалось оживление, там никто не дремал. И, заметив Добрыню, сразу зашумели.
Его распознали, даже несмотря на то, что посадник был в воинском облачении – кольчужная сетка до самых губ подбородок скрывала, наносник с обода шлема лицо почти надвое делил. Но накидку его алую тут все хорошо знали, как и горделивую стать посадника. Стали тыкать пальцами:
– Вон он, явился губитель наших богов!
И рев начался, вой, рык лютый. Люди на Детинецкой стороне стояли стеной, потрясая кулаками. Ну и хоть бы ругались как положено, а то словно дикие звери выли. Добрыня видел на лицах своих дружинников озадаченность, молодой Воробей даже закрестился истово. И этот жест еще пуще обозлил людей на Детинецком берегу. Начали камни кидать через Волхов, тесаками потрясали, дубинами. И, опять же, ревели, рычали по-звериному.
Добрыня только наблюдал. Гулкий шепот-призыв в голове еще слышал, но не обращал внимания, настолько решительно настроен был. А вот на беснующихся на том берегу шепоток явно действовал, бесились от него, были словно в раже некоем, в ярости лютой. Добрыня заметил, как знакомый ему тысяцкий Угоняй повелел метнуть на Торговую набережную булыжник из орудия. Причем указывал прямо на посадника в его алом плаще.
Добрыня на всякий случай сделал пару шагов в сторону и следил, как огромный валун тяжело перелетел реку и плюхнулся у самого берега, обдав илистой грязью место, где он только что стоял. Да, научен кое-чему Угоняй, это вам не какой-то Соловейка из волхвов. Соловейку Добрыня тоже приметил и впервые ощутил настоящее волнение. Сейчас этот волхв был не просто подвизавшийся при капищах жрец, то и дело пьяненький, – теперь в нем ощущалась сила. И когда он начал что-то выкрикивать, вскинув руки с зажатым посохом, Добрыня почувствовал, как на него как будто ветром холодным повеяло, да так, что под его напором ему пришлось попятиться. Ого, вот, значит, как! Наделили немалой силой чародейства назвавшегося Богаммилом Соловейку!
Путята увлек посадника от разбитого булыжником берега.
– Ты что, совсем сдурел, Добрыня?! Зачем злишь их? Они ведь бешеные, а ты им нынче хуже онегрызки17 жестокой!
– Больше не буду, друг Путята. А эти пусть еще побесятся немного. Трогать их пока не велю. Нам самим тут управиться надо, чтобы местные в спину не ударили. И службу пусть проведут. Хорошо проведут, во славу Господа нашего, чтобы с песнопением и курением ладана, с молитвой истовой.
И пошел прочь. Ибо сейчас его больше всего интересовало, как новгородцы Торговой стороны отнесутся к речам о христианстве.
Служба христианская жителям Торговой стороны понравилась – собрались, смотрели, слушали. Но потом каждый пошел в свою сторону. Священнослужители же последующие два дня ходили по торжищам и улицам, поучали людей, рассказывали о новой вере, об Иисусе Христе, о его наставлениях быть милосердным, о прощении и усмирении гордыни… На них поглядывали недоуменно. Не все, конечно. Бабы и молодицы, какие слушали пригожего дьяка Саву, даже всхлипывать начинали умильно. Старикам понравилось, что после крещения они попадут в такое небесное царство, какому и Ирий светлый не чета. Но большинство мужиков и отроков лишь пожимали плечами. Как же это – подставить щеку, когда тебя по морде двинут? Это значит слабость проявить. А слабыми быть новгородцам не хотелось.
Добрыня велел сосчитать тех, кто веру принял, – немногим более пары сотен человек выходило. И то ладно.
– Ну что же, не хотят ладком, значит, покажем силу, – решил Добрыня. – Помолимся, а там, благословясь, начнем порядок наводить.
Что там епископ Иоаким говаривал, когда они в Новгород из Городища выезжали? Терпеливая проповедь нужна? Вот они и проповедовали. А теперь пора настоящим делом заняться.
Добрыня выбрал для вылазки раннее время, однако в аккурат после того, как петухи пропели зарю. Люди в этот час обычно сонными и вялыми бывают, однако и темная сила на убыль идет. Вот и надеялись, что, когда Путята с его ростовчанами минуют реку, им не так сложно будет сонную Детинецкую часть града под себя подмять. Добрыня через Волхов наблюдал, приглядывался, прислушивался… И едва не вскрикнул, когда в голове ухнуло, словно его оглушили приказом темной ярости. Даже застонал сквозь зубы. А у срубов и частоколов на той стороне такое началось!..
Более часа витязи Путяты не могли даже протиснуться в проходы между строениями Детинецкой стороны – так на них наседали озверевшие новгородцы. Но и дружинники ростовские не сдавались. Стали стеной щитов, сдерживали бешеный напор, из-за их строя лучники метали стрелы в толпу. Промазать тут было трудно, каждая стрела в этой толчее разила кого-то из вопящих. А когда новгородцы, теряя столько людей, все же отступили, то на них уже и мечники пошли наседать, разили люто. И при этом кричали: «С нами Господь!»
Этот клич с упоминанием нового Бога особо разъярил язычников. Озверевший тысяцкий Угоняй немало дружинников ростовских уложил, пока его самого не снесли стрелой. И раненого, ругающегося, как черт, потащили к Добрыне.
– Вот, посадник, погляди на погубителя супружницы твоей. На кол его велишь посадить или как?
– На кол и немедля, – даже не глянув на отплевывающегося кровью бывшего соратника, сказал Добрыня. – Ну а Соловейку кто видел?
– Да спрятался он за спинами людей. Ишь сыч! Он своих оглашенных на наши мечи посылает, а сам схоронился за частоколами детинца.
– Тогда поджигайте детинец!
На какой-то миг возникла пауза. Наконец кто-то сказал:
– Как же поджигать? От детинца огонь на другие постройки перекинется, на терема, на усадьбы градцев.
– Вот пусть и позаботятся, чтобы добро их не сгорело. А волхва Соловейку постарайтесь добыть. Или пусть сгорит в детинце.
Но хитрый волхв, называвший себя Богаммилым, успел скрыться, когда все вокруг заполыхало. Огонь во граде отвлек новгородцев от противостояния Путяте. Они кинулись к своим домам, голосили отчаянно, причем скоро сами стали взывать с просьбами о пощаде к посаднику, словно и не они же восстали против него.
– Что же ты творишь, Добрыня! Там наше жилье, наши чада, отцы и матери, жены! Прекрати немедля, если хочешь мир с нами наладить.
Ну хоть говорили уже по-человечески, а не выли, как зверье дикое.
Добрыня сперва как будто и не слышал их мольбы. Снял островерхий шлем, прислушался. Огонь гудел, люди кричали, но чтобы в голову какой-то мерзкий шепоток проникал – так в шуме этом и не различить. А может, и сходит морок. Добрыня очень на это надеялся. И приказал своим людям выстроиться цепочкой от самого берега Волхова и передавать кадки и ведра с водой, чтобы помочь градцам побороть быстро расходящийся огонь. Так совместными усилиями и справились.
Ближе к вечеру, когда дымы над градом развеялись, а много дней покрывавшие небо тучи разошлись и янтарные лучи солнца осветили округу, Добрыня повелел гнать новгородцев к водам Волхова.
Выступил перед ними.
– Вот что скажу, люди: крестить вас сейчас будут! Крестить быстро и не спрашивая вашей воли. А как попадете под власть Христа светлого, я прощу вас за все былое, за своеволие и кровь пролитую. Если же кто из вас заупрямится… Что ж, мечи у людей Путяты еще от крови не высохли, вот и велю рубить несогласным буйны головы.
До самой темноты загоняли новгородцев в воды Волхова и при свете множества факелов продолжали насильно крестить их. Добрыня не бросал пустых слов, так что кое-кого из тех, кто вырываться и вопить начал, тут же обезглавили. После этого люди предпочли подчиниться.
Мужчин сгоняли в воду выше свай разрушенного моста, а их жен ниже по течению. Священники творили обряды, а выходящим из холодной по весенней поре реки ошеломленным градцам тут же надевали кресты на шеи – кому деревянные, кому из олова, а кому медные. Благо, что этого добра Добрыня велел заранее заготовить, еще когда к Новгороду шли. Причем новообращенных предупреждали, что кто крестом отмечен, того старые боги уже не примут. И остается им теперь уповать на великого и милосердного Иисуса Христа. Только он им отныне заступником будет.
Верили ли в то люди? Сейчас они больше верили грубой силе. Да и спастись хотели, ибо видели, что тех, кто с крестом, ни Путята, ни Добрыня не велели трогать. А кого из вышедших из Волхова без креста замечали… то и зарубить могли. Уж лучше с крестом.
Три дня продолжалось это крещение. На колу в медленных муках умирал тысяцкий Угоняй, но на него уже не смотрели. Он стал прошлым, а вот то, что Добрыня велел выкатить меды стоялые и пиво хмельное и угощать всех, кто уже крещение принял, людям понравилось. И, как обычно бывает, многие даже повеселели, не вспоминали о прошлом.
Наконец Добрыня решил, что в городе достаточно спокойно, чтобы послать за епископом Иоакимом. Тот явился величественный, но приветливый, говорил с людьми участливо, улыбался мягко. Но опешил, когда только что смиренно принимавшие его новгородцы вдруг кинулись к капищам, где Добрыня как раз велел поджечь деревянные изображения старых божеств, а каменные выкорчевать и кинуть в Волхов. И пусть в последние дни на капище никто не ходил, но теперь люди стали причитать и рыдать, глядя, как их недавних кумиров поглощает пучина.
Добрыня еще со времен крещения в Киеве помнил, как народ бежал следом за уносимым днепровской волной идолом Перуна. Здесь наблюдалось почти то же самое. Эти тоже покричат, попричитают с перепугу, да и успокоятся.
А вот Путята волновался:
– Не поторопились ли мы, посадник? Так можно и озлить людей. Думаю, следовало бы немного повременить и просто стражу выставить у капища, не пускать никого к идолам этим поганым…
– Не могу я тут долго суды судить да ряды рядить! – неожиданно резко отозвался посадник. – Мне поторопиться надо, чтобы потом…
А что за этим «потом», не сказал. Зато выехал к Волхову на своем белом как сметана жеребце, гарцевал на нем и выкрикивал, перекрывая стенания новгородцев:
– Что, безумные, сожалеете о тех, кто себя оборонить не может? Какую пользу вы ожидаете получить от них? Идол он и есть идол бездушный. А Христос с небес все видит. Своими рыданиями вы его и рассердить можете.
Опасались ли новгородцы гнева нового Бога, которому их насильно отдали, или, будучи людьми толковыми и понимающими выгоду, предпочли не перечить грозному посаднику, но постепенно они стали расходиться. А там и на новое гуляние явились – Добрыня ведь не скупился, щедро пировал с теми, кто своеволия не проявлял.
Зато вскоре узнал, что пару его священников эти упертые порезали. Одного насмерть, а вот ловкий дьяк Сава отбиться смог. Ну а потом весть пришла, что нашлись и такие, кто покинул Новгород. Уехали целыми семьями, и новгородские сторожа-объездчики нашли на путях вдоль Волхова брошенные на землю кресты.
Епископ Иоаким к этому отнесся на удивление спокойно.
– Пусть. Мы не можем спасти того, кто не хочет быть спасенным, – сказал он. – Сами же с крещеными лаской и заботой будем сближаться, добро им делать. Людей это успокаивает. А как возведем в городе новый храм Божий, градцы волей-неволей заинтересуются, станут приходить. И вот тогда… Ведь не так важно, как человек приходит к Богу, главное – что приходит.
– Не все так просто, преподобный, – угрюмо заметил Добрыня. – Вера христианская сильна, когда многие в нее верят. А когда люди растеряны, они кому хочешь поклоняться будут. И еще не один год мы будем завоевывать их души да отвлекать от насланных чар.
– О каких это чарах ты говоришь, посадник?
Что мог ответить ему Добрыня? Иоаким – верующий человек, он не может чувствовать то, что чует сын ведьмы. А он чуял зло, чуял морок, который ощущался время от времени, словно капли мелкого дождя, какие то появляются, то исчезают, когда ветром новой веры их сносит. Да и волновало посадника, что волхв Соловейка пропал. Этот может еще немало зла натворить.
Волхва взялся разыскать молодой новгородец Воробей Стоянович. Не мог парень простить, что всю его семью по приказу Богаммила порезали. И не потому, что те Христу были привержены, а потому, что он, Воробей, при князе Владимире состоял и крещение вместе с ним принял.
Теперь же Воробей рыскал по округе, пока в одном из селищ не наткнулся на творившего ворожбу волхва. И встреча их непростой вышла – Воробей, когда приволок связанного Соловейку в Новгород, весь был подран и исцарапан, как будто с рысью дикой схлестнулся.
– Он меня чарами прямо через коряги и терновые заросли таскал, пока я молитвой его колдовство не ослабил, – нервно похихикивая, заявил парень.
Волхва окропили святой водой, молитвы над ним читали, а он выл и катался по земле как бесноватый. И лишь когда в беспамятство впал, Добрыня сошел к нему в поруб18. Отлил бесчувственного водой, рассматривал при свете факела.
Соловейка смотрел на него снизу, слабо постанывая.
– Что скажешь, ведьмин сын? Каково это – своих предавать? – прокряхтел через время.
– Это кого – своих? Тебя, что ли, червь раздавленный?
– Ты кровь свою предал. Силу, что тебе богами была дана.
– Ну, моя-то сила всегда при мне.
– Не скажи. Ты могуч был, ты самого князя Руси под пятой держал. И ты это знаешь. Как и знаешь, что благодаря своей крови чародейской мог бы возвыситься как никто иной.
– Ну и зачем?
Этот его вопрос заставил волхва опешить. Он попытался привстать, но Добрыня пинком свалил его обратно.
– Ты от силы и власти отказываешься? – пораженно вымолвил зло ощерившийся волхв.
– Зачем же отказываться? Все, что хотел, я и так имею.
– Это ты сейчас так думаешь, посадник. Но однажды…
– Да ничего не будет однажды. Все уже свершилось.
– Не скажи, – гаденько засмеялся Соловейка. – Ничего еще не свершилось. Ибо наложено заклятие страшное, от которого морок над всем словенским краем будет силиться, а от него станет нарастать ненависть к тебе и крещенным тобой. Долгие годы ты будешь жить в бесконечной войне со своими же. Ибо люди вновь и вновь станут бороться с тобой и не будет тут покоя и лада. А все по твоей вине… Есть силы, какие и тебе не побороть. Так что ждут тебя ненависть и предательство. Ну а люди рано или поздно отвоюют свое. Им так велено. Они под чарами такой силы, какую и тебе не побороть.
Добрыня ощутил, как его пронзил озноб – даже пот холодный выступил. Ведь чего-то подобного он и побаивался. И как теперь поступить? Вести до седых волос борьбу против своих же замороченных людей, зная, что конца и края этому не будет?
– Мне немало с чем приходилось справляться на своем веку, Соловейка, – произнес посадник как можно спокойнее. – И, как видишь, удача моя всегда при мне. Вот и ты подчинишься мне и все расскажешь. И кто край заморочил, и кто этакую силу тебе, тщедушному, дал. Когда начнут тебя щипцами рвать да огнем жечь, ты заговоришь…
Волхв вдруг зашелся неожиданно громким, злым смехом.
– Давай, посадник, зови своих палачей! И уж я им все скажу. Но и о тебе скажу, и о том, как ты кровно связан с той темной силой, какая нынче властвует тут. Догадываешься, о ком я? Думаю, сам уже все понял. А вот твоим людям неплохо будет узнать, что ты с мороком этим темным связан как по крови своей, так и по умению. Вот только как ты после этого своим христианам в глаза смотреть будешь? Кто после этого тебе поверит? Кто за тобой пойдет?
И тут выдержка впервые изменила Добрыне. У него дернулся рот, темные очи вспыхнули колючим блеском.
– Ну, если так… то и без палачей обойдемся.
Волхв и углядеть не успел, когда Добрыня выхватил из-за голенища сапога нож и резким взмахом перерезал ему горло. Соловейка захрипел, забулькал бьющей из страшной раны кровью, глаза его вытаращились. И так и застыли, слепо глядя, как Добрыня, спокойно вытерев нож о его рубище, начал неспешно выбираться из поруба.
– Пришлось прирезать Соловейку, – только и сказал ожидавшим снаружи стражам. – Закопайте где-нибудь, чтобы никто не знал.
Сам же поднялся на стены городни и долго смотрел на молодой месяц в вышине. На Руси исстари было принято новое дело начинать по растущему месяцу. Вот и ему следует не мешкая взяться за то, что задумал.
На совете людей новгородских Добрыня говорил неторопливо, но непреклонно: он уедет на какое-то время и пусть никто не спрашивает куда. Вместо себя посадником оставит новгородца Воробья – парень толковый, знает все во граде и справится. Воеводой будет Путята, тут и гадать не надо. А епископ пусть начинает собирать мастеровых людей да возводить храм. Новгородцы – строители умелые, подзаработать на возведении храма не откажутся, если им хорошо заплатить.
– Не дело это – покидать нас сейчас, Добрыня, – задумчиво произнес Иоаким. – Тут такое творится, столько сделать нам надо! А ты… Говорю же, не дело ты задумал.
Добрыня вынул из уголка рта соломинку, поглядел исподлобья на епископа.
– Дело, преподобный, как раз дело. И если справлюсь… Если разберусь кое с кем, ты лично мне грехи отпустишь. Как бы тяжелы они ни были.
Глава 1
Хозяин ладьи, шедшей по водам реки Оки, тронул Добрыню за плечо:
– Вон тот дуб на старом капище Перуна, о котором ты упоминал, гусляр.
Он назвал Добрыню гусляром, потому что тот выглядел так же, как эти странствующие музыканты с гуслями через плечо: светлая холщовая одежда, такая же накидка с вышивкой по краю, стянутые тонкой тесьмой вокруг чела волосы. Сейчас никто не признал бы в новгородском посаднике того грозного правителя, который за несколько дней покорил восставший Новгород. Да и имя он себе изменил – сказал, что зовут его Добряном. А своего спутника назвал Нежданом, хотя это был тот самый дьяк Сава, который по наказу Добрыни был вынужден сопровождать его в глухие лесистые земли вятичей19.
Сейчас Сава-Неждан спал между скамьями гребцов, подложив под голову мешок с пожитками. Свое облачение священнослужителя ему пришлось снять и обрядиться в сермяжную рубаху и порты, как и полагалось прислужнику странствующего гусляра. Волосы Савы были подстрижены в кружок, борода укорочена. И когда Добрыня потряс его за плечо, велев собираться, сонное лицо парня выглядело совсем юным и по-детски припухшим со сна.
– Ну что, парень, узнаешь эти места? – негромко спросил Добрыня.
Сава огляделся с явным недоумением, а потом отнюдь не любезно взглянул на посадника.
– Что ты от меня хочешь, Добрын… Добрян? – сразу поправился он. И добавил со вздохом: – Я ведь понятия не имею, кто я родом и из каких краев. Словно мары20 меня зачаровали… Ох, прости, Господи, что скажешь.
И едва не перекрестился, но Добрыня слегка шлепнул переодетого дьяка по руке, заставляя опомниться.
Корабелы, как и уговаривались ранее, подвели ладью к берегу, став неподалеку от заросшего кустами холма, где несколько лет назад располагалось капище Перуна Громовержца. Здесь еще можно было различить песчаную косу, куда некогда причаливали лодки с прибывавшими к священному месту, но сейчас тут вольно разрослись водные травы и камыш, так что мнимому гусляру и его слуге пришлось спрыгивать прямо в воду. Двинулись к берегу, хлюпая среди камыша. Добрыня повыше поднял свои гусельки, Сава же, хмурый и угрюмый, следовал за ним – он все никак не мог смириться, что грозный посадник ни с того ни с сего вдруг пожелал взять себе в провожатые именно его. А ему не хотелось покидать Новгород, где у него так ладно получалось располагать к себе людей, учить их новой истинной вере. Однако сам епископ Иоаким благословил молодого дьяка на задание, да еще и повысил в сане, сделав рукоположенным священником. Дескать, там, куда вы направляетесь, возможно, придется увещевать людей в вере и даже крестить. Посему отныне ты…
Но Добрыня позже сказал:
– И не думай раскрываться, что ты христианин и служитель церкви. Мы ведь к вятичам направляемся, а там народ упорно чтит старых богов и будет за них бороться. Вон князь Владимир уже отправил к ним священников, так те сгинули и ни слуху ни духу о них. Потому молчи, прикидывайся, пока я задуманное дело не слажу. Ну а ты мне в пути помогать будешь… если толк от тебя будет.
Что от Савы требовалось, Добрыня не пояснял. И парень мог только гадать, к чему все эти хитрости с переодеванием, к чему нарочитому и прославленному посаднику эти игры в ряженых. Ну да разве кто может Добрыне перечить?
Они выбрались на кустистый берег, наблюдали, как доставившая их ладья пошла дальше, исчезая в клубящемся над водами Оки белесым туманом. Еще какое-то время был слышен звук уключин, а потом в тишине только разливистые соловьиные трели оглашали округу. Ибо был ясный месяц травень21 – самое соловьиное время.
– Ну и что теперь делать будем, посадник?
– Ты это, Неждан, посадником меня больше не зови, – молвил Добрыня, выжимая воду их кожаных постолов22, намокших в речной воде. – Я – гусляр Добрян и все. Хожу по белу свету, тешу людей музыкой и пением. А ты при мне вроде отрока служивого.
– Да староват я уже в отроках ходить, – хмыкнул Сава.
– Да ну? – изогнул бровь Добрыня. – Может, еще и уточнишь, сколько весен ты прожил на белом свете?
Сава помрачнел и отошел в сторону. Смотрел на раскидистый дуб на холме. Дуб – дерево Перуна Громовержца. К нему ранее привозили дары и взывали к небесному покровителю. Сейчас же вокруг все поросло кустарником и пушистыми сосенками. Заброшенное место, дикое.
– Ты ничего тут не узнаешь? – сунув ногу в обувь и обмотав завязки вкруг голеней, полюбопытствовал Добрыня. – Некогда известное в краю вятичей святилище было. Но потом сами местные его и порушили. Давно это случилось, еще когда князь Святослав ходил на них походом. Дважды он посещал эти земли. Первый раз с местными вятичами вроде как ладком договорился, обещав освободить их от хазарской дани, какую местные годами платили. Самих же вятичей Святослав зарекался не примучивать под свою власть. Но потом передумал: явился и сказал, что отныне они под его рукой будут. Дань небольшую наложил, но все же детей местной знати в Киев велел отвезти. Заложниками, значит. Вот вятичи и разобиделись на него. И порушили тогда это капище Перуна. Ты ведь знаешь, что у каждого племени свое божество за главного и ему более других поклоняются. У вятичей наиболее почитаемым всегда был Сварог, он для них божество неба, огня и ремесел, даже отец всех прочих богов, а заодно и людей – так тут считали. Поэтому вятичи называли себя ни много ни мало сварожьими внуками. А вот Перуна тут хоть и побаивались – ну кому не страшно, когда он по небу скачет и громы-молнии посылает? – но требами скорее откупиться от его гнева хотели, при этом без особой любви к Громовержцу. Это на Руси днепровской Перун у воинов и князей главнейшим божеством и небесным покровителем считался. И когда во время походов Святослав и его дружина обнаружили это капище, то именно тут молились и приносили жертвы, прося благословения и победы в походе. И дал же им победу Громовержец! Подчинились тогда вятичи. Однако капище это решили разрушить. Не люб им стал Перун, помогавший врагам их. Да вот только сказывали мне, что именно тут в последний раз ведьма Малфрида появлялась. Может, и поныне она где-то в этих чащобах обитает?
При последних словах Добрыня покосился на Саву. Парень на его речи никак не реагировал, возился себе в котомке. Достал вареное яичко, стал невозмутимо лущить. Уловив на себе взгляд Добрыни, протянул ему яйцо с хлебом, сказав, что и соль сейчас поищет. Имеется у него в мешочке.
– Да ты, никак, не слушал, что я говорю, – уже очищая яйцо, заметил Добрыня.
– Отчего же не слушал? – повернулся к нему парень.
В свете нарождающегося дня он был диво как пригож: ресницы, как у иной девицы красной, глаза синие и ясные, нос небольшой, правильный, а сильную линию подбородка смягчает легкий пушок бороды. От речной сырости волосы Савы завились мягкими пышными кудрями, гораздо более светлыми, чем брови под ними. И брови эти были сейчас сурово нахмурены.
– Слушал я твои речи о демонах, которым тут поклоняются. Ну да мне, верующему в единого Создателя, зачем все это?
Добрыня подавил вздох. Не такой реакции он ждал от парня. Словно тот имя ведьмы и не расслышал. Пришлось уточнить: мол, имя Малфрида ему ничего не напоминает?
На этот раз Сава долго не отвечал, размышляя. Потом сказал:
– Слыхивал я про эту чародейку. Ее, что ли, разыскивать будем?
Догадался-таки. Но, опять же, не этого Добрыня от него ожидал. И, уже отправив в рот последние крошки, произнес:
– Ты вот не смог ответить, сколько лет прожил. Я знаю, почему тебе это неведомо. Ведь когда воины Владимира нашли тебя в печенежском плену…
– Не надо говорить об этом, – поник Сава.
Добрыня и не стал. Они и так оба знали, как это случилось. Шесть лет назад, когда князь Владимир воевал с печенегами, его дружинники освободили из полона нескольких славянских пленников. Среди них был раненый молодец, странный, не знавший, кто он и откуда. В беспамятстве был, когда попал к русам, но те сперва не очень удивились этому. Ну мало ли, что с парнем произошло? Плен ведь… Это не у бабушки доброй на полатях отлеживаешься. Но позже Добрыня узнал от очевидцев, что пока освобожденный бредил, он то и дело повторял: «Малфрида моя, Малфрида любимая».
А когда очнулся, уже этого не помнил. Вообще ничего не мог вспомнить. Однако те, кто был при нем, уверяли, что парень явно из вятичей: произношение, характерные словечки, принятые у них узоры оберегов на вышивке рубахи – все как у этого племени. В войске Владимира были дружинники, знавшие вятичей, не раз ходившие на это непокорное племя. Вот уж действительно непокорное: некогда дважды ходил на него Святослав, вроде как подчинил Руси, однако, узнав, что князь погиб на Хортице, вятичи сразу отказались дань платить и прогнали прибывших киевских дружинников. А спустя годы и князь Владимир тут воевал. Но с тем же успехом: разобьет вятичей в сече, подчинит их грады, заставив присягнуть нарочитых людей и старшин, но большинство местных власть Киева так и не признает. Уходили целыми родами с Оки, скрывались в чащах. В итоге вышло, что земли, какие ниже Оки лежали, оказались все же под властью Киева, а заокские так и остались сами по себе. Владимир говорил, что еще придет время заняться ими, но пока все не до того было.
Добрыня же считал, что найденный в полоне парень, потерявший память, как раз и мог быть из заокских. А как в полон к печенегам попал? Да как угодно! Земли вятичей со степью граничили, вот и могли степняки совершить набег на них. Но Добрыню заинтересовало не то, что он прошлого своего не знал, а то, что Малфриду поминал.
Сам он познакомился с Савой гораздо позже. Тогда русы уже нарекли забывшего свое прошлое парня Нежданом. Он был силен, ловок, хорош собой, сумел так выслужиться, что попал в ближники к князю Владимиру, стал его верным рындой23. И уже не скажешь, что вятич, – говорит, как все в окружении Владимира, так же верен ему, готов сражаться за своего властителя, не щадя живота. А во время похода князя на Корсунь и принятия воинами и князем христианской веры Неждан одним из первых пошел к купели. Дали ему имя Сава. А позже, когда зашла речь о том, что надо из своих русичей готовить служителей нового Бога, он сразу выявил желание оставить меч и стать священником. Причем весьма старательно учился, постигая науку церковную. Да только сказывали Добрыне, что порой и поныне парень мечется во сне да Малфриду поминает. А какую Малфриду? Чародейка, мать Добрынина, одно время очень славилась на Руси, вот ее именем порой дочерей и называли, пусть на звук оно и непривычное для славян. Однако странное беспамятство Неждана-Савы да его вятичское прошлое навели Добрыню на догадку, что этот парень мог знать чародейку Малфриду. Недаром ее в последний раз видели именно в их лесах. И Добрыня в глубине души надеялся, что, вернувшись в свои земли, Сава начнет понемногу вспоминать прошлое и поможет ему отыскать ведьму. Ибо отыскать ее было необходимо. Иначе… Добрыня знал, как Малфрида ненавидит христиан. И опасался, что именно ее колдовская сила могла натворить бед в новгородском краю. Не об этом ли волхв Соловейка перед смертью намекал? Ведь такая, как эта ведьма темная, не смирится с крещением. Она мстить да вредить станет.
Вот о чем думал Добрыня, когда они с Савой углублялись в лесные чащи вятичей вдоль бокового притока Оки. Давно уже день настал, тепло было, соловьи притихли в зарослях, только речка шелестела камышом неподалеку. А что за речка? Заросли кругом стояли, бурелом. И лишь когда за полдень уже перевалило, Добрыня обратил внимание, что лес как будто посветлел: стало заметно, что валежник тут собирают, пни от срубленных деревьев попадались. А там и дымком потянуло.
– Идем к людям, – сказал он Саве. – А там с Божьей помощью сможем и о чародейке что-нибудь выяснить. Гуслярам ведь многое рассказывают.
Однако, увидев пришлых, местные сперва дичились и не подпускали, полагая, что чужаки могут быть не людьми, а порождением чащи, недобрыми духами. Духов лесные жители опасались, потому и заставили пришлых то за кованое железо браться, то почти с угрозой приказали в баньке попариться.
Добрыня едва не рассмеялся. Проведя полжизни в людных градах, он и забыл, что в чащах по-прежнему верят, будто только в бане чужой человек может смыть с себя всякое дурное чародейство. А эти на полном серьезе держались в стороне, ожидая, когда чужаки попарятся да смоют с себя пот и пыль… ну и мороки всякие зловредные.
Зато потом их ягодным киселем напоили, пригласили на постой. Добрыня к вятичам присматривался. На первый взгляд такие же люди, как и все остальные. И тем не менее видна в вятичах своя порода: все как на подбор рослые, широкие в кости, но сухощавые, жилистые, причем раздобревших на пирогах тут не встретишь. Да и земледелие вятичей было подсечное24, на таком брюхо не отрастишь, потому как хлеба лишь столько, сколько у чащи отвоюешь тяжким трудом. Ходили местные в простой одежде из некрашеного сукна, штаны – лен с пенькой, на ногах – толстые шерстяные онучи, навитые до колен и схваченные вокруг голеней крест-накрест бечевкой, на стопе лапти, из лыка древесного сплетенные. Зато все в украшениях – что мужики, что бабы. Да и украшения славные, мастерски выполненные, есть и серебряные. Ну да оно известно, что местные умельцы свою работу на торги в грады Руси привозили – кольца, наручи узорчатые, амулеты разные, но особенно славились женские подвески семилопастные, похожие на распустившиеся цветы.
Добрыня держался с вятичами приветливо – поди узнай в нем теперь грозного дядьку25 князя, при одном имени которого многие трепетали. Сейчас же стоял как само ясно солнышко – улыбался белозубо, глаза искрились, руки мелодию по гусельным струнам выводили. И постепенно суровые вятичи оттаяли. Что сказать, они так же, как и другие племена, с охотой принимали бродячих гусляров. Звали их боянами, слугами Велеса вдохновенного, узнавали от них новости, с охотой готовы были послушать их пение, сказы дивные, кощуны26 волшебные. А так как Добрыня был мастер играть на гуслях, он не опасался, что уронит славу боянов. Надо было только, чтобы его не признали. Поэтому и сказал сквозь зубы Саве, когда тот едва не оговорился:
– Еще раз назовешь меня посадником – шею сверну.
Само селение состояло из десятка полуземлянок, низких, темных и небольших, с поросшими травой дерновыми крышами. Поэтому для пирушки в честь гостей столы накрыли прямо под небом, принесли угощение – меды стоялые, вареную дичину в казанках, копченую рыбу, даже хлеб, столь ценный по весне, выложили. Хотя хлеб у них был не ахти какой – с шелухой и мусором.
Сава неожиданно произнес:
– Мельниц у воды тут не ставят, вот и мелют ручным жерновом. Да и не злаки это, а обычная белокрылка27, из какой по весне лепешки пекут. Давно я таких не пробовал.
– Как давно? – тут же склонился к нему Добрыня.
Сава смутился, не ответил и даже отсел в сторонку.
Добрыня же разошелся. Пел про добрых молодцев, какие охотились за утицами, а потом увидели, как те сбросили оперение и превратились в красных дев; молодцы же забрали их оперение, и волшебные девы вынуждены были подчиниться ловким охотникам. А те увезли их к себе домой, согрели у очага, женами назвали.
Пел он и про Майю-Златогорку, летнее божество, рожденную из лучей золотистых звезд, невесту Дождьбога щедрого28. И была та Майя искусной мастерицей, вышивала чистым золотом: шила первый узор – солнце красное, а второй узор – светлый месяц, шила третий узор – то звезды частые.
Сделав перерыв да отведав местной стряпни, Добрыня снова взялся петь. На этот раз про белую лебедушку, какую полюбил сокол, да от избытка чувств поранил ее когтями, и ослабела лебедушка, истекла кровью на глазах удивленного сокола. Тут бабы местные расплакались, и, чтобы отвлечь их от кручины, Добрыня стал напевать про кота Баюна, какой сказками кого хочешь заговорит, но если кто хвост его на руку накрутить сможет, то только тот и будет сказки рассказывать, а сказки эти живительные и целебные, любого от хворей вылечат.
Селяне ахали, слушая, а когда гость умолкал, чтобы промочить горло медовухой, начинали расспрашивать, что и где в мире творится. И про Владимира князя расспрашивали. Но хмурились, услышав, в какую силу он вошел.
– Наши заокские вятичи тоже его власть признали, – говорили они о тех, кто жил за Окой и подчинился киевскому князю. – Ну ничего. Наших вон и Святослав некогда примучивал, но где ныне тот Святослав? Так и Владимира позабудем, когда его время пройдет.
Добрыня лишь улыбался, перебирая струны. Про себя же думал о том, что те роды, что жили ближе к Руси, пусть и платили дань князю, однако и на торги во грады ездили, а то и в дружину Владимира нанимались. Старики могли сколько угодно рассказывать о былых свободах, но это могло воодушевить только одно поколение. Следующее уже скорее потянется к богатой Руси – и мечи у тех лучше, и коней можно добыть, и серебро. К тому же те, что торговали с Русью, даже презирали диких заокских вятичей. Но этого Добрыня не сказал. О другом повел речь:
– Хорошо вы тут живете, в лесах, вольно. Но упредить все же хочу: князь Владимир душой неугомонный. Может и на вас однажды пойти.
– А пусть приходит! – подбоченился кто-то из мужиков. – Нас от него Малфрида оградит.
Добрыня даже поперхнулся медовухой.
– Какая еще Малфрида? Не та ли, что князьям Руси служила?
– Она и есть, чародейка великая. Она и от Ящера нас ограждает, чтобы не губил наших людей, она же и князя вашего заморочит так, что он обо всем забудет.
Добрыня в первый миг даже и слова вымолвить не мог. Не ожидал, что так скоро вести о матушке услышит. У самого же сердце заколотилось, как бубен, кровь к голове прилила. Играть не смог, брякнул гуслями жалобно, когда отставлял. И как-то без особого интереса подумалось: «Про какого такого Ящера говорят?»
А вот Сава с волнением спросил именно о Ящере. Добрыня слушал сперва без интереса. Плетут эти дикие всякое… Но они говорили с воодушевлением. Дескать, несколько лет назад пришла беда в эти чащи: появился невесть откуда страшный крылатый Ящер и начал людей хватать. Такого ужаса даже старожилы не помнили, хотя, казалось бы, всякое было – и огнегрызка людей косила, и лешие заводили в глухие чащи, и болотные кикиморы в топи затягивали. А тут вдруг Ящер! Но потом в селища пришла чародейка Малфрида и пообещала, что возьмется усмирить чудище лесное. Но при одном условии: чтобы Ящер их не губил, вятичи по приказу Малфриды будут в определенные сроки отдавать чудищу одного пригожего молодца и одну деву-красу. Волхвы и старейшины посовещались и решили, что лучше послушать чародейку и выдать ей требуемое. С тех пор в лесах заокских вятичей спокойно. А ведьма еще пообещала оградить их чащи от находников извне. Теперь ни степняки их не тревожат, ни княжеские люди сюда не суются. Но жертвы Ящеру местные все же отправляют. Избранных отводят к капищу Сварога, расположенному на берегах большого озера, называемого Оком Земли. И там начинается веселье и гуляние, пока Малфрида не высмотрит среди собравшихся тех, кто подойдет, чтобы откупиться от чудища. После этого опять мир и лад царят у заокских вятичей.
Добрыня, слушая их, даже плечами передернул. Дикость какая-то! Давно он таких странных историй не слыхивал. А тут еще Сава вдруг стал что-то бормотать тихо, и Добрыня с оторопью понял, что парень молитвы вздумал читать. Не хватало еще, чтобы местные это поняли! И, чтобы отвлечь Саву, Добрыня почти силком заставил молодого священника выпить ковш стоялой хмельной медовухи. А потом как ударил по струнам! Да не просто песнь грянул, а заиграл плясовую, лихую и удалую, от которой ноги сами в пляс просятся.
Выпитый мед подействовал на давно не пившего Саву, он стал улыбаться, а там и сам пошел в пляс. Добрыня только брови выгнул удивленно, наблюдая, какие коленца этот переодетый святоша выделывает. Небось на площадях Киева не последний плясун был до того, как рясу надел. Сейчас же разошелся, хватал местных молодиц за бока, крутил их так, что аж повизгивали, на девок наступал дробным топотом, разведя руки, словно желая обнять. Да и говорить вдруг стал по-местному – те же прибаутки о леших и кикиморах, те же словечки с вятичским аканьем.
Кто-то из вятичей даже спросил: а ты, чай, не из наших будешь, паря? Сава только смеялся, махал рукой – я, дескать, оттуда, издалека.
Лишь поздней ночью все разошлись, а гостей отправили почивать. Да не куда-нибудь, а на сеновал, где сладко пахли недавно скошенные травы. Сава почти сразу захрапел. Добрыня тоже начал подремывать, как вдруг различил некий шорох. Приоткрыл глаза и увидел, как к красавчику святоше пробирается девка из местных. Растрепанная, шалая, в сползшей с плеча рубахе, она устроилась подле Савы-Неждана, стала будить-тормошить:
– Да не спи ты, соколик! Полюби меня, солнышко мое…
Сава только что-то мычал со сна, отталкивал ее, отворачивался. Девка сопела обиженно, рубаху скинула, сисечки у нее были, как у козы – остренькие, в разные стороны глядящие тугими сосками. Даже верхом на парня садилась, а тот храпит себе, олух!..
А вот Добрыня не утерпел. Зашуршав сеном, подполз, стащил к себе девку. Она сперва было упиралась, ворчала недовольно, ну да Добрыня умел ласкать таких пригожих. Вот и сошелся с девицей. Сперва как положено, навалившись сверху, потом крутил ее, ласкал, на себя сажал, а то и сзади пристроился, как козу драл. А когда она к его плечу приникла и дышала уже спокойнее, лежал, поглаживая ее по волосам.
– Меня батя отправил, – шепнула едва слышно.
Добрыня лишь чмокнул ее в висок. Ну, понятное дело, в таких небольших селениях считается добрым делом гостей уважить, а если получится, то и понести от пришлого, дать роду свежей крови. Род-то все одно вырастит нагулыша, от кого бы он ни был. И хотя девке явно красавец Сава глянулся, но, кажется, и с бояном ей понравилось. А потом она сказала такое…
Добрыня даже приподнялся, переспросил.
Девушка отвечала, быстро шепча пунцовыми от поцелуев губами:
– Говорю, мне страсть как надо от тебя понести, боян ты мой разлюбезный. Ведь тогда меня на смотрины в жертву Ящеру не отправят. Конечно, волхвы говорят, что это великая честь – достаться Ящеру ради блага всего племени, да только батя мой сказал, что я и тут, в селище родном, пригожусь. И если твое семя во мне прорастет, то не тронут меня, потому что тех, кто в тягости, к Ящеру не берут: новую жизнь погубить – это зло великое. Вот мне и надо от чужого забеременеть… Со своими-то возлечь законы рода не позволяют. Мы все тут кровно повязаны, а полюбиться с родичем… За это и волхвы проклянут самым страшным проклятием.
– Погоди, погоди, девушка, – остановил ее быстрый шепот посадника. – Это когда вас собираются Ящеру отдавать?
– Да скоро уже. Пошла по всем селищам и заимкам весть, что неспокойно Ящер себя ведет за водами Ока Земли, бесится. Значит, чародейка Малфрида скоро явится выбирать жертву. Вот батя и приказал… Да что там, я сама хотела!
Добрыня откинулся, шурша сеном.
– И что, Малфрида всегда сама приходит?
– Всегда! Только она одна может выбирать жертву для Ящера.
Добрыня закусил соломинку, гонял ее по губам, размышлял. Ведьма и Ящер. Ну как в сказах былых сочиняли. Но нынче-то какой, к лешему, Ящер? Вятичи что, серьезно в это поверили?
Добрыня чмокнул прильнувшую к нему девушку в затылок и спросил:
– Какое оно собой, чудище ваше?
– Страшное! Батя мой его видел как-то. Говорит, что оно огромное и темное, а еще клыкастое. Глаза желтым светятся, рога у него черные. Жуть, одним словом.
– Послушай, милая, если бы тут водилось такое чудище поганое, весть бы о том по всем землям пошла.
Девушка как будто обиделась, отстранилась.
– Если это сказы, то куда те парни и девицы деваются, которых Малфриде отдают? Да и не смеет уже давно никто в наши земли сунуться, а Ящер за Оку тоже не наведывается. Он наш, лесной.
Девушка, казалось, с гордостью о чудище говорила. Дескать, вон какое диво у нас есть. Пусть и жертвами от него приходится откупаться.
– А сама Малфрида… Она какая?
– Да как ведьме и положено быть – старая, худющая, седая. Лет ведь ей немало.
Добрыня вздохнул и сказал девушке, чтобы уходила. А как остался один, задумался крепко.
Ну, про Ящера – это чушь. Но что-то тут и впрямь творится. А еще он думал о Малфриде. Старушка, говорят? Тогда ему есть о чем подумать.
Вспомнились посаднику давние события. Владимиру тогда и шестнадцати весен не было, когда он вступил в брак с красавицей Аллогией, дочерью нарочитого новгородского боярина. Юный князь очень радовался, и даже не столько тому, что с такой кралей в брак вступил, как тому, что теперь, став женатым мужем, он мог считаться взрослым и начинать править как настоящий князь.
Ну а Добрыня в ту пору, оставив на молодого женатого Владимира Новгород, сам отбыл на море, воевать с пиратами эстами. Поход его был удачен: пиратов он разбил, освободив морские торговые пути к Новгороду, да еще и обложил эстов данью. Так что возвращался вполне довольный собой. Но когда вернулся, о его победах особо слушать не стали, а наперебой рассказывали, что Владимира навестила его бабка Малфрида, чародейка великая. Да такая древняя, что еле ходила и в покои молодого князя ее внесли в кресле на руках.
Добрыня эту весть воспринял с сомнением. Знал, что даже если Малфрида и появится, то никак уж не старухой. Ибо его мать умела находить в диких местах источники с живой и мертвой водой, дающие силу и младость. И пусть поговаривали, что вода та давно иссякала, но даже в этом случае не могла Малфрида так состариться, чтобы ее в кресле пришлось носить. Он и Владимиру то сказал: самозванка это и нечего с ней церемониться. Однако Владимир не соглашался, заявил, что проверил, настоящая ли Малфрида перед ним. Знал он о бабке-чародейке нечто, что только Добрыня ему рассказывал. Вот и поглядел на ее руку…
Посадник как услышал про это, так сразу велел провести его к чародейке. Да только исчезла та, как и не было ее никогда.
Добрыня в тот раз только посмеялся над доверчивым Владимиром. А тот хмурил соболиные брови, смотрел из-под светлой челки и все твердил: она это была, бабка его Малфрида. Сказал, что сердцем почуял, что они родня, потому и поверил в то, о чем его колдунья предупреждала. Ибо она сообщила Владимиру, что брат его Ярополк Киевский настолько очарован своей женой гречанкой Зоей, что по ее воле стал христианином да еще и привечает сих почитателей Распятого в своем граде на Днепре. Ну, Добрыня знал, что еще раньше княжич Ярополк под влиянием бабки Ольги к христианству склонялся, теперь же, как уверяла какая-то старая ведьма, он полностью находился под влиянием Зои. Причем Малфрида еще и обещала Владимиру помочь своим чародейством, если он на Ярополка охристианившегося пойдет. Ну и что с того, что обещала? Вон же сгинула, причем и понять никто не смог, как это произошло. Добрыня посоветовал любимому сестричу29 всяких самозванок не слушать и очертя голову никуда не кидаться.
Но тогда и впрямь ни Владимир, ни его дядька Добрыня о том и не помышляли. Это позже у них вражда с Киевским князем вышла, окончившаяся гибелью Ярополка. Однако когда они на Киев уже шли, никакая Малфрида к ним не явилась. Вот и решил Добрыня, что просто чудила какая-то старуха, возомнившая себя великой чародейкой. Но свои сомнения посадник старался не высказывать, особенно после того, как понял, что служившие Владимиру варяги очень ценили, что к их предводителю вещая колдунья являлась. Ну да в чем эти пришлые разбираются? Они даже уверяли, что к Владимиру его мать-старушка прибывала, исходя лишь из того, что, обращаясь к старухе, князь почтительно называл ее «матушкой».
А теперь еще и эта девка из вятичей уверяла, что Малфрида стара годами. Что же такое с матерью Добрыни приключилось за эти годы, раз так одряхлела? И она ли это? В воспоминаниях Добрыни его родимая была дивной красавицей, такой, что мужчины ей вослед оглядывались. В любом случае он еще отроком был, когда она навсегда исчезла из его жизни.
И вот теперь ему необходимо разыскать ее, причем сам он еще не ведает, чем эта встреча обернуться может. Да и как-то неприятно было думать, что родимая до того дошла, что кровавые жертвы какому-то чудищу приносит. Но если это все же Малфрида, если из-за ее ненависти ко всему христианскому творит она зло и наслала морок на Новгородскую землю… Тогда Добрыня и впрямь забудет, что Малфрида его родительница. И сам решит, как с ней разделаться.
– Сава, ты так и не вспомнил ту, кого в бреду Малфридой называл? – спросил он утром спутника.
Сава смолчал. Потом просто ушел. А посадника отвлекла его ночная лада, принесшая ему умыться и чистое полотно. Девушка смотрела на бояна сияющими глазами, и как тут было об этом беспамятном святоше думать, когда у нее такие веснушки на носу, кудряшки русые вьются из-под подвесок на висках, а рубаха расшнурована на груди и видна соблазнительная выемка между белыми холмиками.
Отвлекся Добрыня, увел свою милую в дальние заросли. А не надо было этого делать. Ибо когда вернулся, то шум и гвалт стояли в селении, а еще вчера такие добродушные вятичи теперь таскали и пинали отбивавшегося от них Саву.
Добрыня не стал кидаться в толпу, а громко ударил по струнам, привлек внимание к себе. Мужики остановились, все еще тяжело дыша, бабы перестали визжать.
– Да что же вы творите, люди добрые? – шагнул вперед Добрыня. – Пошто парня моего такой лаской привечаете?
– Мы думали, он наш. Думали, сварожий внук, а он за тем дубом Христу своему молился.
– И что с того? Мы с ним с Днепра идем, там многие сейчас Распятого почитают. Вот и Неждан мой увлекся. Ну, походит немного по свету, и сойдет с него дурь.
Такой ответ озадачил вятичей. Но не успокоил. Кто-то ехидно спросил:
– А может, и ты, боян, крест на теле носишь?
– Ношу, конечно, – распахнул ворот Добрыня. – А еще ношу знак Перуна – молнию-зигзагицу. При мне также Велесово колесо и торсхаммер варяжский30. Есть и щучья голова из земель финнов-колдунов. Мы ведь люди бродячие, нам важен тот бог, в земли которого вступаем.
Он продемонстрировал свои нательные обереги растерявшимся вятичам, и многие даже понимающе закивали. Но местный старейшина вдруг сказал:
– Мы тебя понимаем, боян. Однако что ты скажешь на то, что твой парень носит только знак креста? Да еще и молится Распятому в наших лесах, на нашей земле!
И вятичи опять зашумели.
Мнимый гусляр примирительно поднял руку:
– Я разберусь со своим парнем. Молодой он, глупый. А молодые обычно с жадностью тянутся ко всему новому. Думаю, ваши старейшины это знают. – Он даже подмигнул одному из солидных седых мужей, и тот невольно кивнул в ответ. И добавил: так и есть, с молодежью нужен глаз да глаз, они считают, что умнее хранящих мудрость старейшин, и кроят все на свой лад.
И тут вперед вышел сгорбленный старичок, затряс перед носом гусляра скрюченным пальцем.
– Не наш ты, вот и не ведаешь, что несешь. Нельзя твоему парню тут ворожить по-христиански. Так он чары лесные может развеять. Нас об этом Малфрида предупреждала. Потому и гоним служителей Распятого куда подальше. Мы даже с Ящером лютым согласны сжиться, но христиан ни за что привечать не станем. А ты… и молодец твой… Гнать вас надо взашей!
Вот и пришлось им уйти не солоно хлебавши. Добрыня намекнул, чтобы проводника им дали, дабы пройти к другим селениям, но куда там! Едва ли не плевали пришлым вслед, когда те удалялись.
Чаща замкнулась за ними, едва стихли голоса разгневанных вятичей. И куда идти дальше? Но оказалось, что от Савы беспамятного все же какой-то прок есть. И чтобы там ни было в его прошлом, он явно был лесным жителем, мог легко определить, где пройти в колючих зарослях, знал, как пробраться через самые непролазные дебри. Добрыня, с детства проживавший во градах, а если и покидавший их, то всегда с отрядом и проводниками, скоро бы потерялся в такой глухомани. Сава же по цвету воды в ручье распознавал, что они сбились и могут попасть в болота, а потом на мох древесный смотрел и направление указывал. Двигались они на север, пока не вышли к текущей туда же речке лесной. Река в дебрях – это все же дорога, и есть надежда, что рано или поздно можно выйти к людскому жилью. Так думал Добрыня. Но что-то шли они шли, а вокруг только лес – и никого.
Ближе к вечеру Добрыня вдруг стал замечать некое странное шевеление в зарослях. То ли тени, то ли клочья тумана, а то порой быстрой искрой мелькнет чей-то недобрый взгляд. И при этом так тихо в чаще, что даже кровь стынет в жилах. Чужое тут было все. Нечеловеческое.
Не всякому дано замечать мир духов, однако сын ведьмы был наделен даром видеть то, что не замечают простые смертные. И Добрыня лишь замедлял шаг, когда из лесного сумрака выплывал тощий бледный силуэт, а то вдруг коряга протягивала свою ветвистую лапу, словно норовя преградить путь. Добрыня-то замечал, а вот Сава, как-то зацепившись ногой и едва не упав, брякнул первое, что в голову пришло:
– Кикимора тебя забери!
– Ты бы лучше забожился, святоша.
– Нельзя Всевышнего поминать всуе, – важно отозвался Сава. И перекрестился.
И тотчас будто шелест какой прошел по кустам, но потом стихло все, а только что протянувшаяся через дорогу лапа пригнулась, и перешагнуть через нее Добрыне уже ничего не стоило.
«Ага, опасаются. Может, и мне прочесть молитву в голос?» – размышлял посадник.
Когда-то он был даже привычен к тому, что духи ему являются, однако после бурной жизни среди дружин, после шумных градов и людных большаков словно забыл свое умение. А ведь ранее, почитай сызмальства, замечал, когда дворовой сдувал соломинки со стрехи в амбаре, когда чудинко31 насылал страхи на обитателей жилища. Взрастивший Добрыню вместо отца лекарь Малк Любечанин скоро определил способности мальчика, но его это не удивляло: все же сын чародейки. Однако, желая пареньку добра, предупредил: такое умение при чужих скрывать надо. Обычные люди не очень жалуют тех, кто от них отличается, это их пугает. А за страхом часто неприязнь и злость следуют. Так что не нужно это Добрыне.
Малка Любечанина Добрыня уважал, вот и послушал. Даже матери о том не говорил. Она у него чудная была, зато сама порой любила дива нелюдские сыну являть. Говорила бывало: «Пойдем на лесное озеро, я русалок тебе покажу» или «Давай лешего вызовем да чесноком его напугаем. Леший страсть как запах чеснока не переносит».
Добрыня лишь пожимал плечами и соглашался. Ей казалось, что только она может ему чудеса показывать, а он просто смотрел и согласно кивал. Но когда однажды Малфрида ушла и не вернулась, он, тоскуя за родимой, подумал, что надо было признаться, что и у него этот дар имеется. Однако позже, когда уже в Киеве поселился, Добрыня обратил внимание, что духов в людном месте не видно вообще. Они-то, конечно, были, и он порой ощущал их присутствие, но вот чтобы воочию увидеть, так нет. Позже, когда стал все больше к христианской вере склоняться, и вовсе о духах не думал. Тут бы с людьми разобраться, сестрича родного во власти устроить, так что не до чародейского мира было, какой и так исчезал, словно и не было его никогда.
Зато в этой чаще чародейства сколько угодно. Моховой32 вон пялится белесыми глазками из-под коряг, деревянник33 как нарост прильнул к древесной коре старой ели, самого едва различишь. Посадник хотел было сбить его палкой, но передумал. Пусть, вреда от него никакого.
– Что? – в какой-то миг произнес Добрыня, едва не налетев на стоявшего перед ним Саву.
– Привал, говорю, надо сделать, – отозвался тот. – Совсем в дебри забрели. А уже темнеть начинает. Не знаю уж, куда мы по этим лесам пробираемся, но все равно по темной поре скорее глаз выколем, чем куда-то выйдем.
Добрыня ответил, что сам выберет место привала. Уж слишком много всего опять шуршало и моргало вокруг. Спросил Саву, не замечает ли тот что-либо? Парень пожал плечами, а потом сказал:
– Борти34 медовые недалеко. Видишь этот срез на дереве, посадник? Так местные бортники отмечают путь к бортям с пчелиными запасами.
Вишь, что знал парень! Местный он, как пить дать. А еще Добрыня подумал, что борти обычно на лесных полянах расположены. Ну хоть не в чаще сырой ночевать придется.
Но вышли они не на обычную поляну, а на лядину35 заброшенную. Некогда люди отвоевали этот участок у леса, вырубили деревья и сожгли под пашню. Но через несколько лет использования такие поля приходили в негодность, их оставляли, и они постепенно зарастали лесом. Однако найденная ими лядина была еще светлой, лишь молоденькие елочки да березки поднимались над травами. Но все же путники решили, что где-то поблизости от лядины должны быть жилища тех, кто ее устроил.
– Завтра поищем, – решил Добрыня.
А еще подумал, что съел бы что-нибудь. Утром он крынку козьего молока выпил, а больше ни крошки во рту у него не было. Обычно путников в селищах в дорогу снабжали перекусом, но, учитывая, как скоро они покинули разгневанных вятичей, об угощении никто и не помянул.
Они согрелись у костра – днем было вполне тепло, а как зашло солнце, холод и сырость так и пробирали. В какой-то миг Сава сказал, что на такие лядины зачастую приходят полакомиться молодыми побегами олени или лоси. Был бы у них лук да стрелы… Добрыня ответил, что поутру смастерит пращу. Он в отрочестве отменным пращником был. Может, и поохотятся. Жрать-то надо.
Говорил это спокойно, миролюбиво, как будто старался передать свой настрой и Саве, который то и дело оглядывался на обступивший их лес и время от времени мелко крестился.
– Чего ты дергаешься, парень? Или чуешь что?
– Так, мерещится всякое. Кажется, будто кто-то наблюдает за нами из темноты.
– Местные кто? Из вятичей?
Сава судорожно сглотнул, но не ответил.
Добрыня тоже ощущал это пристальное внимание из темноты. Но отчего-то страха не испытывал. В чем-то он был всем этим духам сродни, правда, давно забыл об этом. Теперь же приходилось вспоминать.
– Слышишь, Сава, – сказал он, подбросив свежего сушняка в костер, чтобы пламя взметнулось повыше. – Ты ведь рукоположенный поп? Вот, может, и прочтешь молитву перед сном? Тут людей нет, тут можно.
– А если не люди во тьме, то кто?
Добрыня пропустил последнюю фразу мимо ушей.
– Давай, попик, прочти то, чему тебя научили. А я за тобой повторять буду.
Саву спокойствие Добрыни умиротворило. Он молитвенно сложил руки:
– Отче наш, Иже еси на небесех…
И как же вдохновенно читал! Всю душу вкладывал. Добрыня повторял за ним и чувствовал знакомое успокоение. Вот за это он и любил молитву, что после нее себя ощущал как под защитой, словно за ним целое воинство стояло или сила-силенная! А потом подумалось: всего-то ночевка в лесу. Ему и не такое переживать приходилось. И после молитвы Добрыня спокойно уснул, как только положил кулак под голову.
С утра они вышли к лесному озерцу – небольшому такому, заболоченному. Но уточки там плавали в изрядном количестве. Вот Добрыня и подбил парочку из пращи.
В котомке у Савы была соль, а ощипывать и потрошить дичину он умел, как заправский охотник. Вкусно получилось, поели с удовольствием.
– Куда пойдем? – спросил парень, обгладывая крылышко.
– Будем искать капище Сварога, расположенное у озера, какое местные называют Оком Земли. Вроде туда порой Малфрида является. Ты ведь уже должен был догадаться, что именно ее и разыскиваем.
Сава кивнул, но насупился, как всегда, когда при нем Малфриду упоминали. И по-прежнему отрицательно замотал головой, когда Добрыня попытался расспросить его. «Не знаю», «Не ведаю», «Она мне никто», – огрызался.
С утра лес радовал взор и уже не казался прибежищем для всякой нечисти. Оно и понятно: при ясном свете духи исчезают. А Добрыня все же надеялся, что и к людям скоро выйдут. Лядину ведь кто-то тут устраивал. Так что не могли уйти лесные жители от нее невесть куда.
Думать так было хорошо, а вот на деле… Пробираться сквозь чащу путникам становилось все сложнее: ручьи и речушки в округе были запружены бобрами, из воды торчали острые пни от срезанных умным зверем деревьев. Да и сами лесные строители появлялись то тут, то там и, непуганые, плавали себе, наблюдали за двумя бредущими по кустистым берегам людьми.
К полудню путники опять вышли к лесной речке. Она была неширокой, но глубокой – дна не видать. Противоположный берег весь в пене белых цветов черемухи, стрекоз над водой столько, что только дивиться можно. Кое-где поперек потока лежали стволы упавших деревьев; Добрыня хотел было перейти по одному, как вдруг закружилась голова, он оступился и едва не рухнул в воду. Вроде и ничего страшного, учитывая, какая теплынь разлита в воздухе, но почему-то не решился более пробовать перебраться через речку.
Долго они шли. Порой берег поднимался довольно высоко, но потом начинались заболоченные низины, и путники сворачивали в лес. Густые чащобы были завалены старыми, вывороченными с корнем деревьями, с ветвей свисали наросты древесных грибов, в зеленоватом сумраке было сыро и влажно. Белок тут водилось не меньше, чем бобров. Добрыня подбил несколько из пращи. Сава не понимал – зачем? Мех весной у зверька не тот, что по осени.
– Есть их будем, – сказал посадник.
Сава возмутился: белок есть нельзя, нечистый это зверь, церковь запрещает.
– Жрать-то нам все равно что-то надо, – хмыкнул Добрыня. – Ибо уже ясно, что людей мы тут не найдем. Дай бог, чтоб самим из этих чащоб выбраться.
– Погоди, погоди, Добрыня, – остановился Сава. – Как это не сможем из леса выйти?
– Знаешь, парень, я ведь еще не забыл рассказы старых дружинников, какие со Святославом сюда хаживали да вятичей в лесах искали. Говорили, что если уйти в эту чащу, то навсегда сгинуть можно. Правда, было и несколько счастливчиков, сумевших вернуться. Да и тех чародейка Малфрида пожалела и вывела.
Сава тихо охнул.
– Значит, и мы… без Малфриды этой… Значит, тут тоже кружить будем?
Добрыня не ответил. Сам хотел бы знать…
Что они действительно кружили на месте, оба поняли, когда вечером опять вышли к знакомой лядине. Кажется, все время от нее удалялись, а получилось, что сделали круг и снова тут же. И опять Сава увидел знак бортников на дереве, и опять перед ними была та же заброшенная пашня, заросшая молодыми деревцами.
Добрыня помрачнел. Парню своему и слова не сказал, но сам понял: тут без чар явно не обошлось, потому как словно какой-то силой их разворачивало, уводило от выбранного направления. Ну и что теперь?
Сава тем вечером отказался попробовать зажаренных белок. Хотя Добрыня уверял, что мясо белок очень нежное и вкусное, да и сама белка зверек чистый, ест ягоду, семена, грибы. И нигде в Писании не сказано, что белка нечистая. Но молодой священник лишь сказал, что ободранная белка на крысу похожа, и улегся спать голодным. Правда, перед этим прочел молитву и благословил поглощавшего непотребную пищу посадника. И то верно сделал. Ибо порой даже сыну ведьмы было не по себе, когда он видел кружащихся за светом костра лесных нелюдей. А вот Сава их не замечал. И то хорошо – так парню спокойнее будет.
Потом был еще один день, до смешного похожий на прежний. Лес, чаща, порой мелькающие силуэты оленей и рев тура где-то в дебрях. Путники теперь старались не отходить от реки, но все равно было ощущение, что далеко они не пройдут. В какой-то миг Сава углядел в воде под нависающими корягами тени больших щук и попросил сделать остановку. Белок есть он все равно не станет, а вот настрогает острых сулиц36 и попробует добыть с их помощью рыбину для прокорма.
– Я знаю, как их можно добыть, – пояснил парень. – День-то сегодня жаркий, вот эта водяная хищница и замирает под берегом, там, где прохладнее.
Добрыня не перечил. Опустился на склоне, сидел, задумавшись так глубоко, что даже не заметил, как Сава, уходя на свою рыбалку, шуршал зарослями вдоль берега. Сколько парня не было, особенно не тревожился. Не дитя ведь, да и явно чувствует себя в этом лесу как дома. Даже если не помнит, что это его родные места.
Между тем посадник долго не мог отвести взгляда от зарослей белой черемухи на другом берегу. Аромат от нее в воздухе был такой сладкий! Но даже это не радовало. Добрыня заприметил неподалеку бревно, по которому вчера попытался перейти через речку, да не смог. С чего вдруг? Почему? Может, снова попробовать? Пустячное ведь дело!
Но оказалось, что не такое и пустячное. Сперва Добрыня дважды поскальзывался на стволе, его шатало. А когда попросту лег на него плашмя и попытался ползком перебраться на другой берег, получилось, что с каждым движением силы в нем стали иссякать, душно сделалось, воздух казался таким тяжелым, что не вздохнуть, и все поплыло вокруг. Голова никла, дыхание вырывалось из груди со свистом, сердце стучало в груди, как после продолжительного бега, и в итоге он снова едва не свалился в реку.
Когда смирился и вернулся обратно, сразу полегчало. Добрыня тихо выругался, сел и попытался собраться с мыслями. Видать, не попасть им на противоположный берег, ибо что-то не пускает туда, заставляет кружить в окрестных чащах, вновь и вновь приводит к заброшенной лядине. И могут они с Савой хоть до первого снега бродить в этом лесу, но пройти вглубь земли вятичей им не удастся. Ну разве что кто-то из местных проведет. А в это мало верилось – попробуй найти еще местного вятича-проводника, когда сам не ведаешь, куда идешь. Да и не любят тут чужаков.
Добрыня пытался успокоить себя. Ведь он давно предпочел служение милосердному Иисусу Христу, однако в глубине души по-прежнему верил в духов и чародейство. А если веришь в чары, то любому волшебству даешь силу одолеть себя. Но как же тут не поверить, когда только что сам еле отдышаться смог, еле сердце успокоилось!
– А вот плевать мне!.. – процедил он сквозь зубы. – Какой бы ни был морок, но если человек захочет…
И осекся, поняв, что нет у него желания еще раз сталкиваться с мощью наложенного заклятия. Ибо страшно было. А страх – это то, что питает волшебство. Нет, надо как-то отвлечься.
Добрыня потянул ремень через плечо, устроил поудобнее на коленях гусли, провел пальцами по струнам, вызывая мелодичный звук. Странно и необычно отозвался он в этой глухой чаще. Но с каждым струнным переливом к Добрыне стала возвращаться его уверенность. Он был отменным гусляром, пришлось обучиться, да и сам хотел, когда еще отроком при конюшне служил. Тот, кто умеет сладость музыки дарить, всегда в почете будет. А Добрыня был честолюбив, ему нравилось привлекать к себе внимание, хотелось, чтобы его ценили. И он пел, играл, его слушали и челядинцы, и дружинники князя, его слушал сам воевода Свенельд, который всегда уделял особое внимание смышленому пареньку из Любеча. Да и сама княгиня Ольга пресветлая порой кликала его к себе в покои.
– Никак ты бояном надумал стать, Добрынюшка? – спрашивала.
– Нет! – отвечал он и дерзко смотрел в глаза правительнице. – Я коней люблю и желаю стать отменным конником. Всадником в дружине хочу служить, да таким, чтобы все обо мне говорили.
– Добро, – улыбалась Ольга своей особой, чуть печальной улыбкой. – Но пока ты не понесся в сечу да не обагрил оружие кровью, спой мне что-нибудь спокойное и мелодичное. Чтобы мир и лад я ощутила.
И он пел ей. Пел о сыне ее, о том, что ходил князь легко, как пардус, что славен был и велик, что страшились его недруги Руси, ибо яростен и опасен слыл Святослав в сече. Но отчего-то Ольга грустила, слушая о походах сына, вот и попросила юного гусляра спеть что-нибудь иное. Нежное и душевное.
Это бабам такие песни любы. Воинам же лучше слушать о подвигах и славе. А простому люду хочется что-нибудь волшебное да забавное, а еще лучше смешное. Но если сама княгиня просит нежное, то отчего бы и не спеть?
Сейчас он улыбнулся своим воспоминаниям, и его пальцы, только что легко перебиравшие струны, стали наигрывать более звонкую мелодию, с едва заметным надрывом.
Да, что-то подобное пел он и княгине, а думал… О всяком думал. Ну вот как и сейчас. Напевал, пробовал силу голоса, а сам размышлял, что, отправляясь сюда, он как раз и рассчитывал, что его, как по обыкновению бывает с гуслярами, примут в селениях вятичей. Не сомневался, что удастся скрыть, что он воин, дружинник, воевода. Слуг Велеса всегда ждут, им всегда рады. И если какой-нибудь дурень не убьет ненароком… Но это «ненароком» Добрыню не устраивало. Потому под рубахой у него была безрукавка из твердой вываренной кожи, за голенищем сапога таились острые тонкие ножи, некогда привезенные Владимиром дядьке своему в подарок из Корсуня греческого. Вроде и недавно это было, а сейчас казалось, что век прошел. И был он уже не родич правителя Руси, не посадник почитаемый, а какой-то бродяга, затерявшийся в глухомани лесной.
Добрыня заскрипел зубами с досады, ударил по струнам, а затем прижал к ним ладони, заставив замереть звук. Тихо-то как сразу стало! Саву, что ли, покликать? Похоже, завозился парень с рыбалкой.
И тут он услышал совсем близко:
– Спой еще, гусляр, потешь мне душеньку.
Добрыня медленно выпрямился. Поглядел на другой берег, откуда послышался негромкий девичий голос. И замер. Лесовичка, мавка? Она смотрела на него из белоснежных зарослей черемухи, улыбалась как солнышко. Какие синие глаза! Как раз под цвет венка из незабудок, венчавшего ее голову поверх длинных распущенных волос. И только через миг Добрыня рассмотрел видневшиеся на висках незнакомки узорчатые подвески. Тут не ошибешься – такие украшения, похожие на цветы, делали только у вятичей. Значит, не дух, как подумалось сначала. Хотя неудивительно, что ошибся, – никогда еще красоты такой посаднику видывать не доводилось.
Глава 2
Она вышла на крутой бережок из покачивающихся, как пена, и сладко пахнущих цветов черемухи. Да и сама прижимала к груди охапку белых цветов. Молвила с улыбкой:
– Надо же! Давно гусляры в наши края не забредали!
А потом легко и грациозно двинулась к нему по переброшенному через речку бревну. Добрыня задержал дыхание. Пройдет ли? С той-то стороны, куда ему самому доступа не было.
Прошла как ни в чем не бывало. И, бросив подле гусляра белые цветы черемухи, примостилась неподалеку.
– Что так глядишь на меня? Нравлюсь?
Она вела себя беспечно, не так, как обычная дева вятичей, с подозрением относящаяся к встреченному в чаще чужаку, а как лесной дух. Но духом явно не была. Вон на ногах лапти наподобие тех, какие вятичи плетут из лыка, причем на незнакомке они были аккуратные, ловко подогнанные по ноге. Рубаха простого сукна, но на груди две низки ярких стеклянных бус, и все бусины одна к одной – такие на ярмарке немало стоят. Не говоря уже о серебряных подвесках у висков – настоящее кованое серебро умелой работы. Значит, не бедная девица. Да и поясок ее отделан металлическими бляшками, хотя и перетягивает обычную, бурого цвета вздевалку39. Впрочем, не совсем и обычную, вон какими узорами по подолу вышита, какие яркие стежки идут по разрезам на боках до самого пояса.
– Что ж ты молчишь, чужак? – игриво спросила девушка, грациозно склонив набок голову в пышном голубом венке. – Или онемел?
Добрыня только сейчас заметил, что смотрит на нее, приоткрыв от изумления рот. Закрыл его, громко клацнув зубами.
Девица расхохоталась. Он тоже засмеялся. Радовался ее веселому дружелюбию, а еще развеселила неуместная для столь повидавшего мужа, как он, растерянность.
– Как тут было не онеметь, красавица? Мы с приятелем, почитай, уже третий день по вашим лесам блуждаем, а тут ты! Я тебя сперва за мавку дивную принял.
– За кого принял? – удивленно выгнула она темные, словно прорисованные брови.
Добрыня спохватился. Это на днепровских берегах таких лесных девушек мавками называют, тут же считают их берегинями. Он так и пояснил: за духа лесного принял, за берегиню40 из чащи.
Она чуть поджала яркие губы, задумалась на миг.
– Ну, можно сказать, что я сейчас почти дух. И буду им, пока месяц не появится. А до того я невеста лешего. Отправили меня родовичи в суженые лесному хозяину, да только жених мой что-то не спешит явиться. Может, тебя прислал вместо себя?
Добрыня понял: у вятичей, как ни в одном другом племени, почитали всякую лесную нежить, а лешака вообще мнили повелителем чащ. Вот и повелось у них по поре, когда лес весной входит в полную природную силу, отдавать ему красных девушек в жены, чтобы те жили в глухих чащах вдали от людей в самые темные ночи новолуния. А выживет ли девица среди лесной глухомани, это уж как повезет. Может и погибнуть от дикого зверья, могут и духи ее заморочить, и она никогда не избавится от исполоха. А может и понести от лешего, если тот пожелает. Так люди думали. Но Добрыня-то понимал, что, скорее всего, красну девицу мог разыскать в чащах кто-то из дерзких смельчаков. Ведь лес опасен, деве одной трудно в нем продержаться, так что она не откажется от помощи храбреца, а там и одарит любовью в благодарность. Потом скажут, что дитя леса в ней, и род возьмется такого опекать, причем мало кто посмеет усомниться, что не от лешего был зачат.
Вот и выходит, что эта красивая улыбчивая девушка, по сути, отдана жертвой лесному духу. Ну а то, что в невестах ходит, можно по ее распущенным волосам понять – девы-славницы41 обычно ходят с расплетенными косами. А что девица к нему так бесстрашно вышла… Может, в нем защитника ищет?
Вот Добрыня и спросил прямо: мол, что, красавица, полюбимся? Хотел даже обнять ее, но она быстро вывернулась. Миг – и в ее руке оказался острый нож, какой умело направила на него.
– Ишь какой скорый! Я к тебе приветливо и с добром, а ты…
– Твое добро больше похоже на заигрывания в купальский вечер, – усмехнулся Добрыня. – Ну, ну, убери нож, не трону, самим Родом в том клянусь. И если только леший тебе нужен, так и дожидайся жениха лохматого в чащах.
А сам глазами по кустам пошарил – ведь и впрямь еще вчера видел лохматую тень где-то тут в зарослях. Что же не поспешил к такой красе хозяин леса? А потом вдруг пришла другая догадка. Добрыня засмеялся.
– Это потому ты пояс с металлическими заклепками надела, чтобы дух тебя в жены не взял? Да и нож таишь в калите42. А ведь знаешь наверняка, что ни одна нелюдь к каленому булату не смеет притронуться.
Девушка убрала нож.
– Мне поясок и нож отец дал, когда меня в лес спроваживал. И верно ты все сказал: родитель хотел защитить меня от злобных духов. Он у меня, знаешь ли, сам волхв, потому и разбирается. Так и сказал – не страшно мне будет, только распоясываться не следует.
Дочь волхва? Добрыня впервые о таком слышал. Обычно те, кто выбирал служение богам, от семейной жизни отказывались. Или у вятичей иначе?
Но спросил о другом:
– А как мне звать-величать тебя, девица? Ну не лешачихой же?
Она улыбнулась.
– Забавой меня нарекли.
– Значит, Забава. Хорошее имя. Такое только любимому дитяти дадут.
– А я и есть любимая. Мать моя умерла, давая мне жизнь в муках. Отец меня сам взрастил и никогда больше не женился. Овдовев, он стал служителем Свагора небесного. И теперь очень почитаем в нашем краю, – с важностью добавила она. И уже совсем надменно закончила: – Я дочь самого Домжара Светлого!
Добрыня понятия не имел, кто сей почитаемый служитель. Но девушка так горделиво вскинула голову, так важно посмотрела на него, что он поверил в то, что ее батюшка-волхв – особа весьма значимая в этих краях. Недаром красавица была такой бесстрашной: она не сомневалась, что дочь такого человека никто не посмеет обидеть.
И все же эта дикарка из вятичских лесов была забавна. Забава, одним словом. С ней было легко, и Добрыня с удовольствием стал играть для нее, перебирать струны, напевать своим сильным, красивым голосом:
- Ты иди, иди, дева красная,
- Ты гуляй, дари радость светлую.
- И играет кровь в молодецких сердцах,
- И поет душа, видя милую,
- красоту несказанную.
Ох как девушкам нравится, когда восхваляют их красоту! Забава просто расцвела улыбкой, подбоченилась, игриво повела плечом. Казалось, еще миг – и в пляс пустится. Однако она вдруг замерла, глядя куда-то за плечо Добрыни, насторожилась. А там и он услышал голос Савы:
– Что это ты распелся среди лесов, посад…
Хорошо, что не договорил. И замер, глядя на Добрыню и сидевшую с ним красавицу. Добрыня же подумал: надо все-таки дать дурню пару тумаков, чтобы не смел упоминать его звание посадника.
Вслух же сказал иное:
– Подойти к нам, Неждан. Это Забава. Она невеста лешего.
– Невеста, – медленно повторил Сава. – Да, конечно же. Это видно по ее распущенным волосам. Можно догадаться, что невеста. Кого… ты сказал? – удивился он, только сейчас поняв суть сказанного.
Забава не сводила с него широко открытых глаз. А чего бы красной девице не смотреть на такого пригожего парня? Сава вышел из чащи по пояс раздетый, рубаха перекинута через плечо, ладное худощавое тело все в сплошных мускулах, лицо разрумянилось, светлые пряди завитками ниспадают на темные, красиво изогнутые брови. В руках он держал умело сплетенный туесок, из которого торчали рыбьи хвосты. Явно удалась у парня рыбалка.
– Добрян, я тут щук раздобыл, – произнес он, подходя.
– А я, как видишь, красну девицу песней приманил, – шутливо ответил ему Добрыня.
Но Сава и без того не сводил с нее глаз. Даже не услышал, как Добрыня продолжил, хваля его за удачную рыбалку и подшучивая, что иначе Неждан, ужас какой переборчивый, скоро вообще ослабеет от недоедания. Внезапно Добрыня умолк, увидев, как лесная красавица шарахнулась прочь, хватаясь за обереги.
– Чур меня, чур43, охрани!..
– Это тебя так мой Нежданка напугал? – удивился Добрыня. – Да не боись ты, парень он славный.
– Нежданка? – переспросила Забава. – Так твоего друга зовут?
– Да, Неждан это. Спутник мой и слуга.
А сам ждал, что девушка скажет. Понял, что она явно узнала парня, но отчего-то была напугана. Однако же перевела дыхание, поправила венок на голове, даже попыталась улыбнуться.
– Здрав будь, Неждан… не знаю, какого ты рода-племени.
До Добрыни ей теперь словно и дела не было. На Саву же смотрела с каким-то обостренным интересом.
– Что, хорош мой Неждан? – лукаво спросил Добрыня. – Вижу, глаз отвести не можешь.
В такой ситуации любая девица засмущается. Вот и Забава потупилась, стала теребить окованные концы пояска.
– За другого его приняла. Похож уж больно. Ну да тот, кого напомнил, давно помер. Я еще девчонкой была, когда его на съедение Ящеру отдали.
– Ого! – Добрыня даже поднялся. – И что, давно это было?
Девушка подумала и сказала, что случилось это за год с небольшим до того, как она впервые понёву надела44. И Забава сама видела, как чародейка Малфрида уезжала в лодке с некоей девицей и парнем, похожим на Неждана; плыли они к дальнему берегу, что за озером Око Земли, где обитал Ящер и откуда порой слышался его страшный рык. Но после того, как жертвы были отданы ему, долго мир и покой царили в землях заокских вятичей.
Сава даже рот приоткрыл, услышав такое. Перекрестился. Забаве его жест был явно незнаком, и она попросту не придала ему значения. А вот Добрыня задумался. Сейчас эта лесная девица в самой поре славниц, когда замуж выдают, и выходит, что с той поры, как понёву она надевала… лет пять-шесть прошло или около того. Приблизительно тогда же или немного позже состоялся поход Владимира на печенегов. Именно в то время они отбили полон, в котором оказался потерявший память Неждан. Мог ли он быть упомянутой жертвой, какая по некоей причине избежала гибели? И пожирал ли вообще жертвы загадочный Ящер или это один из местных страхов, какими чародейка подчинила себе лесных вятичей? И опять посаднику сделалось горько при мысли, что его мать могла вызвать такое колдовство, что приходилось прибегать к человеческим жертвам.
Он заставил себя отвлечься, слушал, о чем болтают парень с девушкой. Сава спрашивал, как она за столько лет не забыла облик того, кого отдавали Ящеру? Дети ведь путают многое да еще и присочиняют. Однако Забава уверяла, что ее отец волхв сам снаряжал выбранную в качестве жертвы пару, а она рядом была, видела их перед последней дорогой. К тому же Малфрида всегда самых пригожих выбирала. Вот девочка Забава и запомнила красивого молодца, которого увезли за Око Земли.
Саве бы загордиться, что оказался так схож со столь привлекательным парнем, однако он лишь насупился.
– Кто бы он ни был, но это не я. Тогда я наверняка уже на службе у князя Владимира состоял.
– У Владимира? Того, который наше вольное племя подчинить хочет?
Забава нахмурилась, а потом поднялась, явно желая уйти. Но Добрыня успел ее задержать.
– Да не слушай ты его, душа девица. Мы ведь по Руси немало хаживали, а там каждый второй считает себя служилым человеком князя. Вот мы и ушли подалее, чтобы в пояс Владимиру и его боярам не кланяться. Нам ведь свобода важна не меньше, чем вятичам в их чащах.
Умел Добрыня убеждать людей, и Забава успокоилась. Даже почти с детским любопытством заглянула в туесок Савы, восхитилась его уловом – три большие носатые щуки!
– Что с ними делать будете? – спросила. И, услышав, что собираются запечь рыбу на угольях, предложила свое: у нее тут есть котелок, так что выйдет отменная ушица на всех троих.
Добрыню только заинтересовало, собирается ли она принести сюда котелок, или… Она позвала их за собой. И на душе у Добрыни полегчало: если местная проведет их через чародейский заслон…
Она провела. Сказала: следуйте за мной. И они прошли без всяких помех.
На другом берегу имелась тропка, по которой уверенно шла Забава. Миновав заросли черемухи и густого смешанного леса, они оказались на широкой поляне. Здесь бил родник, а почти посередине высился могучий кряжистый дуб. К нему и направилась лесная девушка, стала взбираться наверх по некоторому подобию лестницы – шесту с перекладинами. А там наверху, когда пригляделись, увидели некое строение, похожее на хатку.
Сава неожиданно произнес:
– У здешних вятичей нередко такие жилища на деревьях устраивают. Охотничьи домики. Видишь, как укромно, – чужаки такое и не приметят.
Добрыня даже не стал спрашивать, откуда священнику это известно.
Озираясь, он заметил, что поляна, на которой дожидалась своего суженого дочь волхва, неплохо защищена от лесных духов: то там, то тут из зарослей торчали воздетые на шестах головы домашних животных – светлели костью черепа коз, коров, была даже одна лошадиная. А еще вокруг всей поляны шла будто проведенная плугом широкая полоса-межа. Добрыня знал, что служители-волхвы делают над такой межой особый наговор, охраняющий тех, кто внутри, от всякого внешнего чародейства. Вот и выходило, что упомянутый Забавой волхв Домжар хоть и отправил любимое дитя к лешему в чащи, но явно позаботился о том, чтобы дочь никто не обидел. Будь это не Забава, а какая иная чужая ему девица, заботился бы он так? Женщины вятичей, насколько знал Добрыня, вообще редко покидают свои селения и не углубляются в чащи, полные опасностей и страхов. Забава же явно не опасалась леса. И явно не ждала встречи с косматым суженым. Не верила в него? Или доверяла заботе родителя? В любом случае, спустившись из своего устроенного на дереве жилища с котелком, она была по-прежнему беспечна и улыбчива. А еще очень хороша собой. Так хороша, что Добрыня ощутил смутное беспокойство. Не то чтобы желание взыграло, а словно бы восхищение тронуло душу. Давно милые девы его так не волновали, как эта синеглазка с распущенными темно-русыми волосами, с венком из незабудок на голове.
Сава тоже смотрел на нее с явным восхищением. Послушно принял у нее из рук котел. И добротный котел – из чищеной бронзы, с зубчатыми узорами по краю. Настоящее богатство по местным меркам.
– Начинайте готовить, – приказала Забава. – А хворост для костра везде. – И махнула рукой в сторону леса.
Тут даже Добрыня опешил.
– А сама? Ты нас в гости позвала, тебе нас и потчевать.
– Я позвала, а потчевать вы меня будете, – уперев руки в бока, заявила девушка. – Велика честь, чтобы дочь Домжара для вас, пришлых, куховарила.
Ого! Но делать нечего, она тут хозяйка. Вот посадник новгородский и отправился в лес за дровами, пока Сава занимался разделкой рыбин.
Добрыня и в чащу не углубился, как заметил самого лешего. Тот тенью мелькнул за стволами, смотрел неприветливо из-под нависших зеленоватых косм. Духи леса редко когда к смертным расположены – они для них чужие. Этот же – сутулый, лохматый, поросший травой, как шерстью, – был огромен, выше Добрыни ростом. Но, едва глянув на человека, удалился. Не любят лесные духи смертных, сторонятся, если силу свою над ним не чувствуют. А Добрыня страха ему не выказывал, да и оберегов у него было предостаточно – даже освященный крестик имелся на шнурке на груди.
Когда посадник вернулся на поляну с охапкой сушняка, Сава с Забавой о чем-то спорили, препирались. И все же такими милыми показались они ему после сумрака леса и таящейся там нежити, что он улыбнулся.
– Лучше всю рыбу не чистить, – пояснял девушке Сава, пристроившись на корточках у котелка с водой. – Внутренности уберу, а от пера и чешуи только больше навара будет.
– У нас так не делают! У нас режут, чистят и мелко нарезают! – настаивала Забава. – Зачем мне шелуху рыбную есть, если от нее горечь одна.
– Не будет горечи, – не уступал Сава. – А когда уха подойдет, я опущу в нее ненадолго дымный уголек – от этого вкус только приятнее станет. И не хмурь брови, упрямица. Я знаю, как на Днепре рыбную похлебку готовят. На княжьем пиру такую подать не стыдно. А ты мне лучше луковицу подай. И ее я чистить не стану: в пере она даже больше вкуса рыбной юшке даст.
Добрыня усмехнулся: не знал он, что молодой священник такой умелец стряпать. Ну да пусть развлекаются, позже он переговорит с Забавой, есть что расспросить у нее.
Пока же девушка устроилась в сторонке, отвернулась, как будто обиделась, что ее не послушали. Но потом все-таки сказала, что, мол, пусть пришлый Неждан и готовит по-своему, но, когда уха будет на подходе, она лично вольет в нее мучную болтушку.
Добрыня попробовал было подольститься к ней, говоря, что, видать, знатная стряпуха дочка волхва, но Забава только губки пунцовые надула. Призналась через миг: да, она, конечно, знает толк в ведении хозяйства, однако возиться у печки с ухватом явно не любительница – жарко, дымно, утомительно. Зато когда станет госпожой в своем доме, сумеет наставлять нерадивую челядь.
– А без челяди тебе не обойтись? – усмехнулся в усы Добрыня. – Или у вятичей дочери волхвов все госпожами ходят?
– Все не все, но я точно знаю, что за бедного да бесхозного отец меня не отдаст.
И Забава с удовольствием посмотрела на свои белые холеные ладошки.
Сава лишь хмыкнул.
– Такую привередливую да ленивую тебя никто замуж не возьмет. Любому мужу в доме настоящая хозяйка нужна.
– А я и буду хозяйкой, – гордо вскинула голову красавица. – Причем у того, кто мне жизнь достойную даст. Мне нужен муж, который на главное место в доме меня посадит и любить станет за красу мою. А у печи с горшками и ухватом прислужницы пусть возятся.
– Ну и хвастливая же ты, – присаливая парующую рыбную юшку, покачал головой Сава. – И кому ты такая нужна будешь? Какой прок от тебя?
– Как какой прок? А детей мужу рожать? Красивых, здоровых детей! А домом его управлять, советы добрые давать да любиться до забытья? А уж любиться я умею. Пробовала уже на прошлых купальских гуляниях. Мне понравилось.
Сава даже вспыхнул от ее слов. Буркнул сурово:
– Девушке, вошедшей в возраст, не помешало бы иметь больше скромности и рассудительности.
Добрыня же расхохотался.
– Да ты, никак, боярыней решила стать, лесовичка?
– Может, и стану, – топнула ногой Забава.
Она устроилась поудобнее, обхватила обтянутые подолом колени.
– Мне отец обещал, что жить буду в сытости и почете. И никакими любовными утехами меня в курную избу никто не заманит. Я уже видела, как в иных краях жены мужей нарочитых живут.
– Как же, видела! Да ты из лесу и носа не высовываешь. Вы, вятичи, боитесь остального мира, потому и называют вас чащобой дикой.
Забава невозмутимо откинула длинные волосы за плечи, подняла увенчанную незабудками голову.
– А вот и не чащоба мы! С помощью Велеса и Сварога небесного мы тоже в мир выходим, торгуем по рекам. Домжар, отец мой, счету обучен, ему старейшины доверяют возить товары от нескольких родов на торг-мену в волжские грады. Он и меня однажды взял!
– Никогда не слыхивал, чтобы волхвы торговали, – заметил Добрыня, сняв удерживающий волосы ремешок и тряхнув волосами. Ох и жарко же становилось! Ночью они с Савой едва ли не зубами стучали, а днем теплынь, как в середине лета. От духоты лесной даже соловьи умолкли в лесу.
Забава невозмутимо уточнила, что, когда Домжар ездил на торги, он переодевался купцом. У них были хорошие вятичские товары: цеженый мед, барсучий жир, меха разного зверя, а еще бобровая струя, столь ценимая булгарскими лекарями. Домжар и отвез им ее по уговору.
– Так ты побывала в самом Булгаре45 на Волге? – изогнул брови Добрыня. Надо же, вятичи чащобные, а в такой торговый город пробрались.
Забава подбоченилась.
– Сварог небесный свидетель, что так и было. Я тогда еще девчонкой была, но все помню. И, главное, помню, в каких нарядах булгарские павы на рынок выходят, сколько бляшек и бусин ярких у них на груди, как подвески на головных уборах сверкают. Видела я и товары всевозможные на шумных торгах, видела высокие башни, минаретами называвшиеся46, и гуляли мы по площадям и предместьям, никто нас не обижал и не задевал. И, помоги матерь Макошь, никогда бы не подумала, что в мире может быть столько народа, что люди собираются таким скопом в одном месте… У нас в лесах даже на день подателя жизни Сварога или на игрища купальские столько не сходится. Мне с тех пор иногда даже снится то многолюдье, – вздохнула девушка.
– Это ты, Забава, еще Новгорода торгового не видела, – подмигнул ей Добрыня. – Не видела Киева стольного, Чернигова, Смоленска.
– Я видела Булгар! – ударила кулачком по колену Забава. Ей не нравилось, что ее восхищение столицей волжских булгар не впечатлило гостей. – И этот город был достаточно славен, чтобы завоеватель Владимир хотел подчинить его.
Добрыня сорвал травинку и стал покусывать ее. Спросил как бы между прочим:
– А когда вы с отцом там торговали?
– Говорю же, я еще девчонкой была и меня возили в Булгар переодетую пареньком, чтобы не привлечь внимания. Ведь я так хотела мир поглядеть, а мне родитель отказать не может. Позже он назвал меня своей удачей, ибо торговали мы тогда к великой своей выгоде. И успели сбыть все до того… – Она вызывающе посмотрела на своих гостей и добавила со значением: – До того, как ваш Владимир с воеводой Добрыней к граду с войском подступили.
– И ты видела их? – закусив стебель, спросил посадник. – Я имею в виду самого князя и Добрыню?
– Да! Мы оказались запертыми за стенами Булгара, когда ко граду по реке пришли ладьи князя и его дядьки Добрыни. И, поднявшись на стены, я видела их обоих.
Сава, помешивавший варево в котелке, даже выронил в уху ложку при ее словах. Посмотрел удивленно на Забаву, потом перевел взгляд на посадника.
– Ложку-то вылови, – спокойно заметил тот. – Навар рыбный от твоей липовой черпалки лучше не станет.
И обратился к Забаве:
– Ну и как они тебе? Ведь и князь, и дядька его Добрыня – первые люди на Руси.
Забава беспечно играла волосами – то на грудь перебросит и наматывает длинную пушистую прядь на пальчик, то небрежно откинет за плечо.
– То, что они оба отменные витязи, сразу видно: стать, выправка, шеломы с позолотой. И на лошадях сидели как влитые. О Владимире мне говорили, что он красив, как само ясное солнышко. Его ведь так и называют – Владимир Красно Солнышко?
Добрыня кивнул. Он ждал, что скажет девушка про него самого. Не из особого интереса, а чтобы понять, не хитрит ли она. Вон Саву сразу признала, могла и воеводу Добрыню угадать в бродячем гусляре. Она же как будто и не спешила о нем говорить. Ну ясно, девам скорее интересны те, о ком они в светелках судачат, – а о Владимире такие милашки болтали немало. И знали, какой он женолюб, скольких взял себе в жены, скольких поселил в теремах своих в Вышгороде и Берестове ради утехи плотской. Ну, до того как крестился и сделал единственной женой византийскую царевну Анну.
Сейчас же Забава принялась рассказывать, что Владимир и впрямь муж видный – как снял шлем, так волосы его и засветились, словно спелая пшеница. А вот дядька его был в броне по самые глазницы. Как будто боялся открыться, дабы чья-то стрела со стены не задела ненароком.
«Хорошо, что я тогда личину не скинул», – подумал Добрыня, понимая, что девушка так его и не разглядела.
Она же другое сказала: мол, как бы ни был воинственен и грозен дядька князя, но есть нечто, чего и он опасается.
– И чего же? – отбрасывая пожеванный стебель и срывая новую травинку, полюбопытствовал мнимый гусляр.
– Он боится сильных людей, – важно заявила Забава. – Я помню, как люди рассказывали, что после снятия осады именно он предложил князю не воевать с булгарами, а договориться. Дескать, рассмотрел он хорошо булгарских батыров, видел их купцов и даже пленников-колодников. И отметил, что все они в сапогах. А сапоги только у смекалистых да ловких имеются, у тех, кто умен и сможет себя достойно содержать. Вот и передавали люди друг другу речи того Добрыни: дескать, понял он, что с таких непросто будет дань взять. И посоветовал Владимиру заключить с булгарами договор о мире и торговле, а самим русам отправиться поискать более покладистых и простых лапотников.
Забаву эта мысль развеселила, и, вытянув ноги в маленьких лапотках, она заявила: вот, мол, вятичи все в лаптях из лыка ходят, а Владимиру туго с ними пришлось. И их вольное племя ни нынешний князь, ни его отец-воитель так и не смогли под себя взять.
– Однако я слыхивал, что Владимир с дружиной выступал против обутых в кожу ромеев – и не без успеха! – не сдержался Добрыня. – С булгарами же он просто заключил выгодную сделку – торговать, а не воевать. Даже взял в жены одну из дочерей булгарского хана. Слыхивала ли ты об этом, Забава моя сладкая?
– Я не твоя сладкая! – нахмурилась девушка. И повернулась к Саве: – Ну что, Неждан, уха почти готова. Пришло время болтушку в нее добавлять.
Сава не спорил. Он вообще теперь все больше поглядывал на мнимого гусляра, и в глазах его плясали веселые искорки.
А с чего радовался-то? Добрыня сам понимал, что не славу они добыли у булгар, а выгоду. Это порой поважнее побед, о которых потом поют славящие песни. Надо, как он сам, много лет тянуть на себе лямку власти, чтобы уразуметь это. Сейчас Добрыня почти с гордостью вспомнил последние слова договора о мире, к которому он приложил свое усердие: «Только тогда не будет мира между русами и булгарами, когда камень поплывет по водам, а легкий хмель тонуть станет».
Забава, казалось, уже забыла, о чем они только что говорили, и решила похлопотать над варевом: развела в плошке немного подболтки из сероватой ржаной муки и аккуратно стала сливать в рыбную юшку, приказав Неждану старательно помешивать. Когда лица молодых людей оказались совсем близко, они покосились друг на друга и оба враз вспыхнули.
Девушка отшатнулась первой.
– Все, теперь несколько минут под закрытой крышкой – и уха будет самое то.
Уха и впрямь получилась отменная. Ели втроем из котла – ложки, что у путников, что у лесной хозяйки, имелись при себе. Без ложки у пояса славяне не обходятся, как и без ножа. Вот и хлебали сперва молча, а потом стали наперебой расхваливать собственное угощение. Сава, изголодавшийся за прошлые дни, больше других налегал, ел, даже когда Добрыня и Забава уже откинулись назад с сытыми улыбками.
А через миг Добрыня засобирался, заметив, что им с Нежданом пора в путь. Не укажет ли им гостеприимная Забава дорогу к ближайшему селищу? Он ведь боян, его не только лес кормит, но и людское внимание. Для этого и шел в вятичские чащи.
Когда Забава огорченно притихла, не ответив на просьбу, Добрыня постарался скрыть улыбку. На это он и рассчитывал: такая болтушка-веселушка столько времени одна в лесу пробыла, что ей отпустить гостей ой как неохота будет. В итоге она и впрямь сказала, что в путь им пока не следует идти, – лесные чащи вятичей не большак47, по которому удобно передвигаться: путники снова могут заплутать. Но если погостят при ней денек-другой, то как раз молодой месяц выйдет – именно то время, когда за ней должны прийти от Домжара. Ведь время ее жертвенного пребывания в невестах лешака уже на исходе. Ну а с ней и их проводят к большому капищу Сварога, где отец ее требы возносит. И много людей там обычно собирается, будет гусляру перед кем показать свое умение.
Добрыня сделал вид, что задумался, а потом согласно кивнул. Быть посему! И им любо подле такой кралечки провести время да потешить ее песнями и рассказами. Так он сказал, а в душе готов был едва ли не расцеловать доверчивую девушку, понимая, что если ему нужно Малфриду разыскать в этом диком краю, то выйти на Домжара будет для него удачей.
И заиграл для довольной Забавы на гуслях, запел. Сильный и звонкий был голос у Добрыни, столь отличный от его говора – низкого и даже чуть хриплого. А пел он и о стругах, разрезающих грудью речную волну, и о рассвете, который встречает поутру тот, кто всегда в пути; пел о дивах, что ждут путника, и про встречи с новыми людьми, у которых своя, не похожая на других судьба. И каждый новый человек принесет свежую весть, и будут знать люди о других краях, о том, что делается в подлунном мире, широком и вольном, как само небо над головой.
Ох, как же пришлась эта песня по сердцу лесной девушке Забаве! Она слушала, и грудь ее вздымалась, щеки разрумянились, голубые, как незабудки, глаза влажно блестели.
– И отчего я не родилась парнем! – всплеснула она руками, едва певец умолк. – Позволь мне Род добрый явиться на свет юношей, куда бы только ни полетела, чтобы мир познать! А так…
– Так ты сделаешь счастье какого-нибудь хорошего мужа и тем будешь сама счастлива.
– И проведу всю жизнь за тыном своего жилища, – поникла Забава.
– Но ведь и за тын жилищ приходят люди извне, вот они и будут тешить тебя рассказами, прибаутками.
– Вот-вот, только это мне и остается… Слушать россказни других.
Сава все это время молчал. Но тут и он не стерпел, произнес вдохновенно, что и его понесла судьба в дальние пределы, и познал он многое, о чем ранее и не думал. А главное, что он познал…
Добрыня едва успел его перебить, опасаясь, что о Боге с язычницей лесной заговорит:
– А познал ты, Неждан, каков из себя пресветлый князь, какого все называют Красно Солнышко.
И посмотрел на умолкшего парня так свирепо, что тот побледнел и отвернулся, скрывая досаду.
– И каков же ваш Владимир Красно Солнышко? – спросила Забава с легкой ехидцей. Вряд ли ей в землях вятичей рассказывали что-то хорошее о князе-завоевателе.
Добрыня вновь провел по струнам – заиграли они величаво и плавно, словно река текла, словно облако высокое по небу плыло. А посадник под переливы струн поведал ей о Владимире, которого любит народ на Руси, ибо чувствует себя при таком правителе защищенным и необделенным. И приглашает Владимир Красно Солнышко к себе в Киев всякого толкового человека, устраивает пиры на весь мир, когда столы с яствами стоят от княжьего терема до последнего проулка. И каждый может пойти к крылечку Владимира Красно Солнышко – кто со своими жалобами, кто на службу просится, кто просто вести приносит. Обо всем знает пресветлый князь, и для всякого у него находится доброе слово. Но более всего ценит Владимир свою дружину воинскую, с которой одержал столько побед. Ни в чем князь своим витязям не отказывает. Потому однажды, когда возроптали богатыри, что, мол, князья да бояре едят серебряными ложками, а они, защитники Руси, черпают простыми деревянными, Владимир тут же повелел принести из казны его серебро – гривны, монеты-дирхемы, подсвечники византийской работы. И приказал князь мастерам своим перелить серебро на ложки для дружины его. Чтобы у каждого витязя была своя ложка из чистого серебра! Однако нашлись и такие, кто заметил Владимиру, что подобной щедростью он опустошит казну. На что молодой князь ответил: «Серебром и златом не найду себе дружины, а с дружиной верной добуду себе и серебра, и злата, как добыли дед и отец мой».
Струны почти гремели на последних словах, голос бояна сделался сильным и велеречивым. А потом Добрыня резко положил руки на струны, и умолкли они вмиг. И стало слышно, как щебечут птицы в лесу и шелестит листва под легким ветерком.
Забава, слушавшая с широко открытыми глазами, несколько раз моргнула и сглотнула ком в горле, словно приходя в себя. И когда увидела, с какой улыбкой смотрит на нее кареглазый гусляр, улыбнулась ему в ответ. Сперва неуверенно – он ведь восхвалял в песне того, о ком в ее племени говорили как о завоевателе, – потом улыбка стала более явной, а затем в ней появилась даже насмешка.
– Гусляры всегда восхваляют в песнях правителей – тем и кормятся. Но каковы бы ни были ваши песни, есть еще и людская молва. И в ней говорится, что не так уж добр и великодушен ваш Красно Солнышко.
Добрыня поправил ремешок на лбу.
– Правители тоже люди. А в каждом человеке есть и добро, и зло.
– Вот о зле и идет молва, – прищурившись, уточнила Забава.
– Люди всегда перво-наперво обращают внимание на дурные вести. Они их будоражат, независимо от того, правдивы они или нет.
– Но разве то, что говорят о Гориславе, неправда?
Добрыня невольно вздрогнул. Та, о ком упоминала лесная девушка, была дочерью полоцкого князя Рогволода. Звали ее Рогнеда, и в том, что с ней случилось, была и его, Добрыни, вина.
Он не смог сразу ответить. Вспомнилось всякое. Они тогда с Владимиром вернулись из варяжских стран с сильной дружиной. Новгород принял их – не столько Владимира, который до бегства от Ярополка был совсем юнцом, сколько весьма почитаемого посадника Добрыню. И именно Добрыня посоветовал племяннику сосватать Рогнеду Полоцкую. У Владимира тогда уже были жены: первая – Аллогия, дочь новгородского боярина, вторую, варяжку Олаву, родственницу шведского короля Эрика, Владимир привез из-за моря, и приданым ее послужили те отряды храбрецов, с какими молодой князь рассчитывал противостоять власти брата Ярополка. Иметь двух или больше жен на Руси не считалось зазорным, если муж в состоянии содержать своих женщин и кормить рожденных от них детей. И вот теперь Рогнеда… К ней тогда посватались и Ярополк, уже имевший жену-гречанку, и Владимир, которому нужно было заручиться поддержкой ее влиятельного отца Рогволода Полоцкого. Иначе Рогволод, став тестем Ярополка Киевского, мог немало бед натворить и даже ударить Владимиру в спину, когда тот пойдет на брата. Поэтому мудрый Добрыня посоветовал племяшу поторопиться со сватовством. А что, Владимир был очень хорош собой, поэтому вполне мог понравиться дочери Рогволода.
Вспомнив все это, Добрыня поднял глаза на Забаву. Но при этом отметил, как за ним самим наблюдает Сава. Понятно. Тот ведь знал всю эту историю и ту роль, какую в ней сыграл дядька князя. Поэтому, игнорируя взгляд этого недавно посвященного в сан святоши, посадник повернулся к Забаве:
– Вот что, дева милая, я тебе о тех делах поведаю, а уж ты сама решай, заслужила ли княжна, называемая тобой Гориславой, своей участи.
Он отложил гусли – для этой истории не нужна музыка, ибо Добрыня не стал бы ее воспевать ни за какие блага мира. И, сорвав очередную травинку, стал рассказывать, зажав ее в уголке рта.
Да, Рогнеда слыла красавицей. Единственная дочь в роду, где родились одни сыновья, любимица всей семьи, она была весьма высокого о себе мнения. Ей казалось вполне заслуженным, что киевский князь Ярополк прислал к ней сватов в такую даль. А тут еще Владимир.
– Они родились в один год от одного отца и разных матерей – Владимир и Ярополк. Владимир – дитя любви. Ярополк – сын сосватанной водимой жены48 князя Святослава. Именно Ярополк – после гибели брата своего Олега – имел огромную власть на Руси, не то что Владимир, только недавно вернувшийся в Новгород из-за моря. Так что, когда к престолу Полоцка явились послы Владимира, отец Рогнеды предоставил дочери самой решать, за кого ей пойти. И избалованная княжна с насмешкой ответила: «Я не хочу разувать сына рабыни. Я за Ярополка князя хочу!»
Забава вроде кивнула, поняв: снять обувь с мужа в первую ночь после свадебного пира полагалось всем женам – от простой селянки до княгини. Так жена выражает покорность тому, кому досталась. Но девушку заинтересовало иное.
– А разве матерью Владимира была рабыня-полонянка?
– Нет! – резко ответил Добрыня. И уже спокойнее сказал: – Она была ключницей при княгине Ольге, все хозяйство теремное было на ней, и Ольга весьма ценила Малушу… Так звали мать Владимира.
Добрыня умолк. Он не помнил, когда пошла молва, что его сестра была рабыней, не смог проследить, кто стал распускать этот слух об избраннице Святослава. Наверное, после их с Владимиром отъезда люди киевской жены Святослава постарались очернить ту, кого любил князь. При Ольге они бы такого не посмели. Но не было уже ни Ольги, ни Святослава… А на север, в Новгород, никто не смел принести весть, что Владимира считают сыном чернавки-невольницы.
А вот Рогнеда посмела заявить об этом во всеуслышание. И смеялась задорно, когда опешивший Владимир и его люди покидали хоромину Рогволода. Зато Добрыня помнил, как потом рыдал племяш у его колен, как стыдился выйти и поглядеть на тех же новгородцев, ожидавших, что им ответит на выдвинутое Рогнедой обвинение в низком происхождении. Как не посмел это сделать и Добрыня, некогда сам же уговоривший их выбрать князем своего сестрича. И теперь понимавший, что памяти его любимой сестры нанесено глубочайшее прилюдное оскорбление.
Но рассказывать Забаве о пережитом потрясении Добрыня не стал. Зато сказал, как разлютился дядька Владимира.
– Добрыня был родным братом Малуши, матери Владимира. Выходит, и его эта пава полоцкая унизила перед всем честным народом. И он велел Владимиру собраться с духом и идти на Полоцк. Помститься за осраму и унижение, за поруганную честь матери.
Дальше Добрыня и себя не жалел, рассказывая. И не скрыл, что именно дядька велел Владимиру после взятия Полоцка положить под себя Рогнеду перед всеми людьми, перед ее плененными отцом и братьями. Как рабыню, добытую в походе. Но позже сам же Добрыня посоветовал возвысить ее до уровня княгини. Чтобы глупая Рогнеда поняла, что и рабыне сильный муж может дать достойное положение. А уж потом Добрыня приказал вырезать весь род Рогволода. Не столько со зла, сколько понимая, что, оставшись в живых, они точно будут мстить за пережитое поругание. А им с Владимиром, учитывая, что они на самого Ярополка и на Киев шли, иметь за спиной мстителей никак нельзя было.
И взяли они Киев, и погубили Ярополка, и вознесся Владимир на Руси. Но одного только не учел Добрыня – полюбилась молодому князю красивая полочанка Рогнеда. И так полюбилась, что он и о других женах забыл. Что ему до Аллогии, которая только дочерей рожала? Что до принцессы Олавы, умершей первыми же родами? Даже то, что он взял себе вдову брата Ярополка, гречанку Зою, женщину редкостной красоты, не отвлекло его от Рогнеды. А Зою он взял, чтобы в семье осталась, – так исстари повелось, что победитель забирал себе вдову поверженного противника. Отчасти это даже добром считалось – позаботиться об оставшейся без защитника женщине, не дать погибнуть ей и детям ее. Гречанка Зоя в ту пору была беременна от Ярополка, но Владимир позже ее дитя своим признал, не сделал безотцовщиной. И все же любивший красавиц и заключавший и позже браки для родства с государями иных краев, Владимир все одно Рогнеду не оставлял. Она ему то и дело рожала красивых, крепких детей, к ней он возвращался из своих походов, с ней советовался, и она сидела подле него на княжьем столе как водимая главная супруга.
Так что власть имела Рогнеда-Горислава, да такую, что самому Владимиру указывала. Она же, помня былое, и настояла, чтобы князь услал Добрыню обратно в Новгород. Говорила, мол, нечего дядьке состоять при полновластном правителе, нечего в дела государственные вмешиваться. Вот Владимир и велел Добрыне уехать. И тот не виделся с князем до того времени, пока не понадобился ему для совместного похода на булгар. Тогда они только и встретились, однако пригласить Добрыню в Киев, где власть имела Рогнеда, Владимир все же не осмелился. Ну да у Добрыни были и свои дела в Новгороде, он не пенял князю. Зато все же предостерег, чтобы тот Рогнеде полной воли не давал. Ведь через кровь родни ее брал… Забудется ли такое?
И оказался прав, как оказалось. Рогнеда все помнила, да и любострастия мужа не простила, так что таила зло в душе. Она-то княгиней его была, но Владимир едва ли не из каждого похода еще по супруге привозил. Это не считая девок пригожих, которые встречались ему и которых он в усадьбах своих селил, даже жен уводил от мужей. Причем жили они у него безбедно, да и Владимира любили. Он ведь собой хорош на диво и с женщинами всегда ласков был, одаривал богато и лелеял. Одним словом, Красно Солнышко.
А вот княгиню Рогнеду это не устраивало. И однажды, когда Владимир посетил ее да остался ночевать в ее имении Предславино, она взяла нож и попыталась зарезать спящего мужа. Княгиня уже и руку занесла для удара – и не был Владимир никогда ближе к смерти, как в тот миг. Но, видимо, хранила его особая сила, ибо он очнулся и успел перехватить занесенную руку Рогнеды. А она боролась с ним, как рысь, но Владимир был силен, одолел разъяренную жену и, вырвав у нее нож, швырнул саму в угол одрины49.
Рассказывая все это, Добрыня не заметил, как увлекся, в нем словно проснулся боян. Он говорил, то повышая, то понижая голос, Забава сидела, прижав ладони к щекам, даже Сава заслушался, дышал бурно. Как будто не он был в числе тех рынд-телохранителей, какие той ночью явились на крик Владимира и оторопело смотрели на разъяренного нагого князя и рыдавшую на полу в углу растрепанную княгиню.
– Рогнеда тогда сказала, что имеет все права на кровную месть, какая всегда была свята на Руси. Но потом сорвалась на крик и стала пенять супругу, что тот уже не любит ее, что завел себе жен и девок полные терема, забыв, что она ради него отказывалась так долго от мести.
Тогда Владимир велел слугам обрядить госпожу в самые ценные одежды, надеть украшения и приготовить к смерти. Ибо готов был сам казнить ее прилюдно.
– Не совсем так, – невольно вмешался Сава. – Князь не хотел казнить княгиню при народе. Он сам…
Тут он осекся, замолчал и лишь через миг поднял виноватый взгляд на Добрыню.
– Ты-то откуда знаешь? – удивилась Забава.
– Так весь Киев о том говорил, – сразу нашелся Добрыня. – И Неждан мой прав: князь хотел сам зарубить жену, а от руки князя это все равно казнь. Поскольку Рогнеда пользовалась уважением, люди просили за нее, однако Владимир был неумолим. Он поднялся в покой к обряженной для перехода на тот свет Рогнеде, вошел с мечом… Но тут мать загородил княжич Изяслав, ее сын.
Изяслав тогда уже первый свой пояс носил50, а на поясе был меч, какой отрокам выдают. И вот со своим маленьким клинком сын стоял против отца и намеревался защищать родительницу.
Этого не выдержала душа князя. Он опустил оружие, сказав: «Я не ведал, что ты тут». А сын ответил: «Ты думал, что ты тут один. Но сразись сперва за маму со мной!»
При этих словах Забава прослезилась. Сказала:
– Когда-нибудь и у меня будут сыновья, которые будут защищать и оберегать меня.
Добрыня лишь повел плечом и продолжил рассказ, поведав о том, что люди просили за княгиню и что Владимир решил услать ее в отдаленное владение, какое называлось Изяславлем. Ибо оно принадлежало не столько Рогнеде, сколько было за ее сыном Изяславом. Ведь по закону сын, поднявший руку на отца – даже в таком необычном случае, – уже не мог оставаться в семье. Так и живут они нынче в глуши – бывшая княгиня и старший сын Владимира. А люди по-прежнему зовут Рогнеду Гориславой.
– Но если он не убил суложь свою, если простил, то, может, еще помирятся они? – всхлипывая и вытирая слезы, спросила Забава.
Добрыня отбросил изжеванную травинку.
– А как бы у вятичей поступили с женой, покушавшейся на мужа?
– О! У нас такое невозможно! У нас жены о таком и помыслить не могут. А если бы случилось…
Она умолкла, сидела поникшая, боясь и представить, как бы поступили с такой… Выходит, Рогнеда обошлась малым наказанием: и не погубили ее страшно, и с сыном осталась, и есть чем ей жить, есть чем кормиться при усадьбе Изяслава…
– Владимир, наверное, ее очень сильно любил, если помиловал, – сказала со вздохом Забава. – А кого же водимой женой своей он после Рогнеды назвал? Кто при нем стал княгиней? Ведь столько жен у него. Которой же честь выпала?
– Анне, цесаревне византийской.
– Кто ж такая?
Добрыня поднялся, оправил измявшуюся рубаху и сладко потянулся.
– Та, которая стала единой и почитаемой княгиней Руси при Владимире. Ибо она крещеная, как нынче и сам князь. А крещеный имеет только одну жену, о которой заботится, и не смеет заводить иных.
– Только одну? Как это?
Добрыня уже знал, что местных баб всегда восхищало то, что одна может стать женой и не опасаться, что супруг еще кого-то поселит к ней, когда поднадоест старая привязанность. Но об этом, да и о том, как Владимир расселял богато или выдавал замуж остальных жен и наложниц, ей Сава расскажет. Он так и сказал, но при этом поглядел на парня выразительно – пусть не увлекается, чтобы не сболтнуть чего не надо.
Сам же пошел к реке мыться. Окунался в прозрачную зеленоватую воду, пил ее. Вода в реке была прохладной, прекрасной свежести, со вкусом земли, лесных трав, ивы и папоротника. И даже местный водяной, затаившийся под корягами, не смел ему помешать наплескаться вволю. Добрыня лишь показал ему кулак, и водяной, смутившись, что его заметили, только поглубже зарылся в тину.
Позже, обсыхая на бережку после купания, Добрыня в который раз подумал, что лесных духов в этих лесах слишком много. Словно ушли они оттуда, где людское столпотворение, где новая вера, где духов перестают почитать и бояться. Без этих страхов простым людям спокойнее живется, а вот духи обижаются. Не нравится им быть незначительными, не нравится, когда их оставляют без подношения, не опасаются.
Размышляя об этом, Добрыня вернулся еще с мокрыми после купания волосами на поляну Забавы. Молодые люди увлеченно беседовали. Добрыня отметил, что Сава рассказывает лесной девушке о граде Корсуне на берегу синего моря. О его высоких каменных стенах и прекрасных храмах, о мощеных улицах и кораблях в гаванях. Забава слушала с интересом, задавала вопросы. И опять твердила, что хотела бы посмотреть на большой мир. Ну да, конечно, лесную девочку интересовало все, что находится за пределами ее чащи. Бедняжка просто не понимала, что тут она под защитой влиятельного отца, а в большом мире… с такими славными девочками много чего может случиться. И недавно рассказанная история о судьбе Рогнеды-Гориславы ничему ее не научила.
Но было еще нечто, что заметил посадник. Забава то плечом прильнет к парню, то волосы его взлохматит, то травинку ему за шиворот засунет и смеется. Сава вроде как отмахивался, но сам был весел, глаза его горели. Добрыня не стал мешать молодым людям резвиться, возился с гуслями, проверял струны. Когда Забава в свою очередь отправилась купаться, Сава смотрел ей вослед, словно и сам был не прочь присоединиться.
– Ну так и иди, – угадав его мысли, предложил Добрыня.
Но Сава опустил голову, покраснел.
– Нельзя. Грех это.
– Какой же грех, если девушка сама не против?
– Это блуд, – твердо отозвался парень.
Но насколько ему глянулась Забава, стало ясно, когда через время спросил:
– Если удастся ее крестить, как думаешь, могу я к ней посвататься? Мне ведь епископ Иоаким говорил, что рукоположенный служитель может себе жену взять.
– Эк тебя разобрало, парень! Ты сперва окрести ее. Но не забывай при этом, что Забава – дочка волхва местного. А он вряд ли ее христианину отдаст. Места тут, сам должен уже понять, какие. Вспомни, еще недавно я еле угомонил людей, чтобы не тронули тебя. И крест свой спрячь, а то глазастая Забава может заметить и спросить, что за цацка такая. Хорошо, что до сих пор не спросила.
– А я бы и не стал таиться. Что она мне сделает?
– Отцу скажет. И уж поверь, ее родитель не позволит новой вере распространяться там, где он свою власть через старых богов удерживает.
Сава помрачнел. И когда девушка вернулась, уже не так откровенно отвечал на ее заигрывание.
Вечером они доели уху, и Забава собралась на покой. Сказала, обращаясь к Саве:
– Я наверх полезу. Присоединишься? Согреешь меня стылой ночью?
Но парень лишь повторил: грех. И пояснил, что значит это слово: очень нехорошо, хуже некуда, ибо наказание грядет.
– Странный ты какой-то, – надула губы Забава. – Не здешний. А ведь мне сперва показалось…
Она вздохнула и ушла. Поднялась к себе в избушку на дереве.
– Ну и глупец, – посмеиваясь, произнес Добрыня. – Не согрешишь – не покаешься.
Но Сава остался спокоен.
– Я не намерен грешить с расчетом, что на будущее Господь станет мне все прощать.
Тут даже Добрыня призадумался.
Он верил в христианского Бога давно, почитай, с тех самых пор, как себя помнил. Ему рассказывали, что сызмальства он был странным. Как и положено сыну ведьмы. Но его мать Малфриду и ее мужа Малка пугало то, что, едва начав ходить, он по ночам словно рвался куда-то. Причем обычно в самые темные ночи новолуния. Малк был лекарем и лечил приемного сына всякими успокоительными отварами. Не помогало. Добрыня пытался объяснить родителям, что его словно зовет кто-то могущественный, противостоять которому трудно. И он не забыл, насколько оба они тогда испугались. Мать колдовала над ним, насылала крепкий сон, отец Малк обкладывал его ложе мокрыми тряпками: тогда, встав по велению голоса во сне, Добрыня делал шаг в сторону, но наступал на мокрое и просыпался. А потом однажды, когда Малфрида надолго ушла невесть куда – мать у него вообще была странная, подолгу могла отсутствовать, – Малк Любечанин надел на ребенка освященный крестик. И все. Прошли его мороки, успокоился, как будто под защиту кому сильному попал. Под защиту христианского Бога, как понял Добрыня. Как после этого не уверовать?
А вот мать его даже слышать не желала о новой вере. Потому, когда муж ее Малк сознался, что крещен, она сразу же ушла, причем навсегда. И вот теперь, спустя годы, Добрыня ищет ее. И не знает еще, чем эта встреча обернется для них обоих.
На другой день Забава была опять весела и беспечна. Даже угощала гостей: заварила на огне отвар из листьев дикого малинника, мяты и дички яблоневой. Принесла и горшочек с медом, а еще мешок с орехами. Сава взялся колоть орехи, а Добрыня как бы между делом стал расспрашивать, когда в путь трогаться. Забава уверяла, что наверняка последний день она в лесу значится невестой лешего и завтра за ней обязательно придут, отведут к людям, к капищу Сварога.
– А туда и прославленная ведьма Малфрида может явиться? – осторожно спросил посадник.
– Тебе-то она зачем? – искоса поглядела на него девушка.
– Как же! Она прославленная чародейка, о ней многие говорят. А я гусляр, мне сказы обо всем значимом надо слагать. Теперь же вот хочу о Малфриде.
Забава подумала немного и кивнула. Да, сказала, Малфрида может прийти. В прошлый раз она пришла осенью, когда день чуров был, когда родичей, ушедших в иной мир, поминали. Тогда рык Ящера особо был слышен и люди не понимали, чего это чудище не угомонится, – весной же ему жертву отдали, мог бы и удовлетвориться данным. Раньше где-то раз в год отдавали ему жертвы. Правда, когда отдали парня, похожего на Неждана, то почти три года тихо было. Но теперь снова ревет Ящер, многие слышат его рык, значит… Всякое может быть.
Сава, вроде как коловший орехи в стороне, все же слышал их речи и вдруг взъярился:
– И чего это вы детей своих какому-то чудищу отдаете? Вы и от Святослава отбивались, какой не одно племя покорил, и Владимиру с вами непросто было сладить, а тут какому-то чудищу поганому кровавую дань платите! Да собрались бы все вместе, да оделись бы в броню и пошли бы на Ящера, чтобы знал, что вы сила и не совладать ему с вами. А вы… Еще и вольным племенем себя считаете. Тьфу! А ведь в стародавние времена выходили добры молодцы против ящеров и змеев поганых. Добрыня, скажи ей! Сколько песен о том поется!
Забава, казалось, растерялась. Смотрела на него, моргала длинными ресницами. Потом все же сказала:
– Святослав и Владимир целые племена под себя брали, а Ящер малым обходится. И люди решили, что это меньшее из зол. Да и верят они Малфриде, которая как Ящера усмиряет, так и не пускает в эти чащи завоевателей со стороны. Да она… Знаешь, какая она? И хворых лечит, и наговоры на удачу в охоте творит. А венки невестам такие плетет, что брачующаяся, надевшая такой венок, потом счастлива в супружестве, муж ее любит, да и детки крепенькие рождаются. Вот какая она, чародейка наша!
Добрыня невольно заволновался, бурно задышал. Некогда и его мать Малфрида, еще когда жила под Любечем, тоже плела тамошним невестам венки. Может, старая ведьма, выбирающая жертву Ящеру, и его мать – одна и та же женщина?
Он задумался, но вскинулся, когда Сава и Забава едва ли не на крик перешли в споре.
– Вам надо веру менять и не поклоняться всякому Ящеру да иной нечисти поганой! – доказывал Сава.
– Как это веру менять? – топала ногой девушка. – Как ваш князь в Киеве приказал? Малфрида нам рассказывала: согнали по его повелению людей всем скопом к реке и не выпускали, пока они новому Богу не подчинились. Но от этого прервалась их связь со старыми богами. А как же тогда чуры, наши охранители? А как Сварог, от которого род свой ведем? Мы ведь сварожьи внуки все. Как же отказаться от этого?
«Ну вот, началось», – подумал посадник. Не удержался все же святоша, чтобы не начать проповедовать лесной девушке. И чтобы отвлечь их, он ударил по струнам, стал петь-сказывать о том, как в незапамятные времена летали над этими землями страшные Змеи Горынычи, кто с двумя клыкастыми головами, кто даже с тремя и более. Жили Горынычи в горах, выходили из вод перед ними, но всегда охраняли проезд через Калинов мост, через бурную реку Смородину, за которой начинался уже иной мир. Но когда на Горынычей находила лють, они летали над селищами смертных и палили их огнем. Однако всегда находились добры молодцы, вступавшие с чудищами в единоборство. Имен этих храбрецов никто не помнил, но ведь и ни одного Змея не осталось. Выходит, победили богатыри чудищ поганых.
Забава слушала, приоткрыв рот, как дитя. А Добрыня думал о том, какие же у нее уста сладкие и сочные. Чисто ягода лесная. Ах, поцеловать бы ее! Ну да девица уже выбрала, с кем целоваться ей охота. Только этот поп Сава сам от нее отказывается.
А сейчас Сава сидел и слушал Добрыню с горящими очами. И когда тот умолк, даже в ладоши стал хлопать восхищенно.
– Ай да боян, ай да потешил! Слышь, красна девица Забава, вон чему песня учит! Не отдавать своих детей чудищу на съедение, а разить его!
И тут Забава сказала со значением:
– Пока с нами Ящер, к нам никто иной не посмеет сунуться. Так было решено волхвами, в том согласились с ними люди. Ну а ты сам…
Она осеклась, только глаза сверкали.
– Надо еще разобраться, кто ты сам таков.
Ого, оказывается девушка не отказалась от подозрения, что Неждан мог быть из местных. Выходит, не так проста она, как кажется.
То, что Забава и впрямь что-то задумала, Добрыня понял на следующее утро.
Было еще совсем рано, когда его разбудил громкий сорочий стрекот из леса. По былой воинской привычке посадник не стал подниматься, а только пригляделся сквозь ресницы: знал, что сорока кричит, когда чем-то встревожена. Рядом посапывал Сава, уголья горевшего полночи костра подернулись пеплом, но от него еще веяло теплом. Выходит, не так много времени прошло после того, как они легли почивать у огня. И оба видели ночью, как над кронами деревьев поднялся тонкий молодой серп луны. Значит, время новолуния пришло и за Забавой должны были прийти.
И тут Добрыня уловил, что лесной сороке ответила еще одна. И ответила с дуба, где хоронилась в своем уютном домике Забава. Добрыня догадался, что лесная девушка ответила кому-то из леса. Лесные, они все были умельцами голосам зверей и птиц подражать. А там и сама дочка волхва показалась. Спустила свой шест с перекладинами, какой на ночь утаскивала наверх, и вниз соскользнула. Причем волосы уже в две косы заплетены, сама с заплечным мешком, явно в путь собралась. Однако пока не уходила. Посмотрела на спавших в стороне гостей и шагнула туда, где ближе к зарослям у кустарника бил ключ с родниковой водой. Возле него стояла и ждала кого-то.
И он появился. Добрыня даже глаза открыл. Что это волхв, тут и гадать не надо. Весь в амулетах, посохом размахивает. Вот-вот, именно размахивает, хотя обычно божьи служители ходят степенно, опираясь на особо вырезанный посох, являвшийся символом их власти. Этот же размахивал им, как клюкой, да и сам подскакивал, бегал бочком вокруг девушки, бренчал амулетами, а еще кривлялся, рожи корчил. Лохматый весь, рыжие с налетом седины волосы торчат в разные стороны, словно никогда не знали гребня, в космах и бороде хвоя застряла. Неряшливый какой-то волхв, несолидный.
Проскакав мимо Забавы, будто он исполнял какой-то танец, волхв неожиданно замер, заметив на поляне чужаков. И отскочил, и закрутился на месте, и все время тыкал в их сторону, то ли указывая на них, то ли насылая что-то.
Тут Добрыня услышал, как Забава произнесла негромко:
– Не опасайся их, Жишига. Это бродячий гусляр с подручным. Заплутали в лесу, вот я их и позвала.
– Ой, зря, зря, зря, – замахал рукой названный Жишигой волхв. Хорошо еще, что не Домжар, а то бы Добрыня вообще решил, что у вятичей со служителями не все в порядке. А этот… так, просто один из чудаков, который неким странным образом угодил в служители.
– А вот и не зря! – быстрым шепотом заверила Забава, схватила весьма непочтительно волхва Жишигу за рукав, отвела в сторону и что-то нашептывать стала.
Добрыня решил, что с него довольно. Резко поднялся, откинул назад волосы, шагнул к девушке и явившемуся за ней посланцу.
– Здрав будь, человече. Мира тебе и благоденствия твоим богам.
Лохматый Жишига стал приближаться – то подойдет и принюхается, то отпрыгнет и рассматривает, покачивая головой, будто что-то решая для себя. Потом улыбнулся. Его круглое, грязное до цвета желудя морщинистое лицо расплылось в улыбке, нос уточкой вздернулся, словно у ежа.
– Ты гусляр. Что же, гуслярам-боянам сварожьи внуки всегда рады. Мир тебе, путник.
– А ты на этого погляди, – указала Забава на сонно приподнявшегося на звук голосов Саву. – Смотри каков. Никого не напоминает?
Больше ничего не прибавила, заметив, как покачнулся Жишига, не сводя широко открытых глаз с растрепанного со сна светловолосого парня.
Сава тоже с интересом смотрел на всклокоченного волхва. Стал подниматься. И тут Жишига громко закричал, замахал руками, словно отгоняя наваждение.
– Блазень!51 – выкрикнул. – Упырь! Глоба из-за Кромки52 вернулся!.. Или дух его…
И рухнул как подкошенный. Остался лежать в беспамятстве.
Добрыня же и приводил его в чувство. Велел взволнованной Забаве набрать в роднике воды и облить Жишигу. Сам хлопал ладонями по его щекам.
Тот стал наконец проявлять признаки жизни. Но и придя в себя, не сводил с Савы глаз, хватался за свои амулеты, чуров поминал, Сварога светлого звал и просил защитить.
– Что, так похож мой парень на кого-то? – спросил Добрыня.
– Похож? – переспросил ошарашенный волхв. – Да похож, как одна капля воды на другую.
– Я тоже сперва так подумала, – присев рядом с волхвом, сказала Забава. – Но этого парня Нежданом зовут, и он пришел с берегов Днепра с гусляром Добряном.
Теперь Жишига не скакал, а только смотрел, морщил и без того складчатый лоб, раздумывал.
И тут Забава заговорила с ним на каком-то незнакомом Добрыне языке. Что-то поясняла, а волхв кивал, соглашаясь. Наконец вроде как смирился.
– Если уж он при свете нарождавшегося дня не развеялся, то, может, и впрямь живой человек. Странно все это. Но только Малфрида сумеет дать точный ответ.
Они двинулись в чащу. Шагавший первым Жишига опять стал подскакивать, посохом махал, бормотал что-то. Следом шла молчаливая Забава со своим мешком за плечами. Добрыня и Сава замыкали шествие, но в какой-то миг парень догнал Добрыню и сказал:
– Я уразумел, что Забава этому лохматому говорила. Это язык голяди53, и я его почему-то знаю. А сказала она, что моя мать жива и точно скажет, тот ли я, за кого меня приняли, или нет. Но странно мне все это…
А вот Добрыня уже ни в чем не сомневался. Сава был из местных, недаром же понял язык жившей рядом с вятичами голяди. И все местные уверены, что он давно мертв. Но это только Малфрида может разъяснить. Значит, их наверняка отведут к ведьме. А это как раз то, что Добрыне и надо.
Глава 3
За лиственным, густым от поросли лесом начинался темный ельник. Забаве он нравился. Мрачный, темный даже в солнечный полдень, хранивший особый зеленоватый сумрак, ельник казался девушке исполненным некой особенной тайны. Вековечные ели с тяжелыми нависающими лапами закрывали собой обзор, казалось, что за ними как будто и нет больше ничего. Земля под ногами пружинила от напáдавшей за годы хвои; под каждым еловым стволом круговое углубление – ель сидит в нем, как в лунке, потому что сквозь густые ветви опавшая хвоя не доходит до земли. А чуть заденешь еловую лапу, так и сыплется на голову.
В такой безветренный день, казалось бы, в глухом ельнике должна быть удивительная тишь. А вот и нет! То и дело можно уловить какие-то звуки: стрекот, цокот, шуршание. Интересно до жути! Будь Забава тут одна, она, может, и оробела бы. Но с таким отменным лесовиком, как Жишига, опасаться нечего. Он всю жизнь провел в этих чащах, сколько ему лет, никто не ведал. Забава была еще ребенком, когда лохматый волхв выбегал вприпрыжку из чащи, двигался скачками, как будто и ходить нормально не умел и в старом теле он как отрок. Однако множество амулетов на шее, поясе, на запястьях Жишиги указывали, что много знаний у старичка. Амулеты у волхва – знак постигнутого и особой силы.
Забава оглянулась на шедших позади гусляра и Неждана… или кто он там. В любом случае парень следовал за ними спокойно, только больно хмурый был. А вот гусляр Добрян разглядывал ельник как-то по-особому, словно видел что-то на его ветвях-лапах и в этом сумраке лесном что-то невидимое простому глазу примечал. Один раз отмахнулся от чего-то, оступился и едва не налетел на трухлявый пень. И тут же принялся тот пень внимательно разглядывать, даже приотстал от них. Но потом опомнился, поспешил следом. При этом обычно исполненное некоего потаенного достоинства лицо гусляра выглядело взволнованным, даже как будто встревоженным.
Забаве стало смешно. Вот она, девчонка, леса не боится, а Добряну тут словно не по себе. А ведь выглядит мужем бывалым. Забава даже готова поклясться, что до того, как он с гуслями в мир ушел, наверняка воином побывал. Это и по рукам его видно – жесткие они у гусляра, сильные, а выправка воинская, статная. Матерый собой муж. И по-своему хорош – брови соболиные, глаза, как у оленя, темные, с влажным живым блеском. Но когда Добрян, чувствуя внимание Забавы, поднял на нее свои глубокие карие очи, девушка поспешила отвернуться. Было в том, как он смотрел на нее, нечто… Даже казалось, что своим взглядом он проникает сквозь ее одежду, видит ее всю. Это волновало и смущало девушку. Забава понимала, что нравится гусляру, что хочет он ее, однако при этом довольно добродушно относится к ее заигрываниям к своему спутнику, не мешает любезничать с Нежданом… или кто он там.
Но, кем бы ни был так напугавший Жишигу парень, как бы ей самой ни напоминал невесть когда отданного Ящеру молодца, в нем она не чувствовала ничего опасного. Скромный такой, приветливый, да и от заигрываний ее теряется. Даже когда она его к себе покликала, не пошел. Забава редко кого милостью любовной одаривала, а вот Неждан этот вспыхнул, как девица перед первыми любовными играми на Купалу, и сторониться ее стал. Вот Добрян, тот бы не отказался, позови она. Но зачем Забаве Добрян? Гусляры по свету ходят, многим любы, да и сами многих любят, однако семьей, домом, хозяйством обзавестись не спешат. И все же было в нем нечто, что волновало лесную девушку. Скажет он – и она, казалось, перечить не смеет. Вон и Жишиге велел вести их, и тот подчинился. Да, с таким особо не побалуешь, не поморочишь голову. Этот сразу все возьмет.
А потом Добрян ее удивил. Они как раз вышли на небольшой просвет, где в низине протекал между разросшимися папоротниками небольшой ручей. Жишига уже и переступил через него, дальше их вел, когда Добрян вдруг издал громкий возглас. Все остановились, смотрят – чего это мужик шумит? А тот к Жишиге:
– Разве не видишь? Ты ведь волхв, кудесник, мать твою!.. Или тебе не дано это узреть?
Жишига залопотал что-то негромко, хмурился. Даже ногой топнул.
– Чего тебе, человече? Не приставай, иди себе смирно.
Добрян же рассмеялся. Хороший у него был смех, веселый, заливистый. И улыбка добрая, сразу менявшая обычно несколько суровое лицо.
– Ну идем так идем. Как прикажешь, Жишига-поскакун.
Больше он волхва не тревожил, шел себе, чему-то посмеиваясь.
Когда путники вышли к следующей реке, мягко журчащей по каменистым перекатам, Жишига сделал знак гостям остановиться и ждать. Сам же повел за собой девушку, пока не замер, прислушиваясь, потом вроде как и принюхиваться начал. И вдруг издал горлом пронзительный крик сойки.
Забава поняла, что они на месте, и невольно напряглась. Сейчас ей придется держать ответ перед теми, кого отец отправил вывести ее из леса. Она понимала, что, отдав дочь в невесты лешаку, Домжар хотел оградить ее от другого выбора – участвовать в жребии по выдаче жертвы Малфриде. Ведь тот, кто уже побывал жертвой, повторно не выбирается. И Домжар посчитал, что лучше единственной дочке в чаще невестой лешего пожить, чем попасть к Ящеру, от которого по сей день никто не возвращался. По сей день… И Забава, уже перебираясь на другой берег по брошенным на дно речки камням, невольно оглянулась назад. Где-то в зарослях остался Неждан… или кто он там на самом деле.
А потом она увидела волхвов, облаченных в длинные бурые балахоны с длинными расчесанными волосами. Сразу узнала обоих – Ядыку и Вышезора. Ядыка был еще туда-сюда, а вот Вышезора даже ее отец опасался.
Вышезор первым шагнул к ней, оглядел придирчиво.
– Здрава будь, Забава. Скоро же отыскал тебя в лесных чащах наш Жишига.
– Скоро. Но ведь и я ждала его там, где он меня оставил. Так мы с ним уговаривались.
Больше Вышезору знать не следовало. Это Жишиге ее отец доверял, потому и велел отвести дочь туда, где она могла безопасно провести время, на поляну с лесным домиком на дереве. Другие волхвы о том не знали и сейчас внимательно рассматривали дочь Домжара. Казалось, еще миг – так и руками потрогают, чтобы убедиться, что после жизни в глухомани невеста лесного хозяина сама не превратилась в духа. Или, наоборот, чтобы убедиться, что провела она эти дни в глухой чаще, а не отъедалась кашами у кого-то в гостях. Последнее Вышезору казалось более возможным, потому и сказал:
– И вздевалка твоя вышитая совсем не истрепалась, и личико чистое, ручки не исцарапаны. Выходит, добр был к невесте хозяин леса?
– Да, добр.
– Вижу. Или не выходил к тебе хозяин чащи? Вон же, как погляжу, оберегами защитными тебя обвешал родитель.
– Ну, лунница54 моя всегда при мне, – сказала Забава, прикоснувшись к серебряному амулету на шнуре. – Да и поясок окованный я не снимала.
Вышезор сам уже то понял, стал ругаться. Но тут Жишига отвлек его внимание, указав на заросли:
– Леший сам на Забаву людей вывел. И один из них… Может, и упырь, но солнца не боится. Я приглядывался.
Вышезор и Ядыка озадаченно переглянулись, а Жишига уже к лесу повернулся, подзывал жестом.
Забаве было любопытно посмотреть, как волхвы встретят так похожего на некогда отданного в жертву парня, но одновременно облегчение ощутила, поняв, что саму ее оставят в покое. Ибо оба волхва застыли, как столбы на капище, едва гусляр с парнем из зарослей показались. Добрян улыбался, говорил, что просит гостеприимства у них, но волхвы будто и не заметили его, смотрели только на Неждана. А как парень приблизился, попятились, за амулеты стали хвататься, призывая защиту Сварога светлого. Забава бы рассмеялась – не всякий раз столь испуганными волхвов-служителей можно увидеть, – однако их волнение вдруг и ей передалось. А если этот молодец и впрямь тот, кого Малфрида увела на съедение Ящеру несколько лет назад? Уж по крайней мере, именно волхв Ядыка молился с тем парнем в последний его вечер на капище перед отправкой на, казалось бы, смерть неминучую.
Тут слово взял Добрян. Пояснял перепуганным служителям, что ранее и Забава с Жишигой приняли его спутника за кого-то из своих соплеменников. Но он знает Неждана еще с тех времен, как в Киеве с ним познакомился. И нет в нем никаких признаков упыря: солнечного света он не опасается, железо каленое может в руку взять, ест обычные каши и даже чеснок, чего мертвец никогда не сделает. Боян еще много чего говорил, поясняя, что зашли они в эти леса, потому как хотели потешить местный люд песнями и сказами. В итоге все они слушали Добряна как важного гостя, он казался среди них главным, поэтому даже суровый Вышезор согласно кивнул, когда Добрян попросил отвести их к озеру, которое в этих местах называют Оком Земли.
Это позже Забава размышляла, как вышло, что гусляр сразу взял верх над волхвами, которые послушались его и подчинились. Когда уже тронулись в путь, волхв Вышезор опомнился и изрек, будто утверждая, что последнее слово все же за ним:
– Народ соберем. И тогда узнаем, кто сей Неждан. И если с ним не все ладно… Домжару придется ответ держать, как вышло, что жертва не попала к Ящеру.
Забаве стало не по себе. Вышезор не ладил с ее отцом и все выискивал, как бы его власть пошатнуть. Уж он действительно потребует ответа. И будет хорошо, если пришлый Неждан просто схож с отданным в жертву местным молодцем Глобой, сыном рыбака Стоюна. Давно уже Глобу поминали в молениях вятичи, как и остальных, кто был отдан на съедение Ящеру. Имена их всех были известны в племени. Забава, как и ее соплеменники, знала их на память: Всевой и Любава, Жмерь и Цвета, Карп и Веснянка. А еще Глоба и Умрянка. Но где та Умрянка? А Глоба, вот же он. Или кто он там на самом деле…
Но уже в первом селении, куда они вышли из чащи, поднялся настоящий шум, когда вятичи Неждана заметили. Бабы, полоскавшие белье у реки, завидев парня, первые раскричались и кинулись туда, где на расчищенной поляне виднелись холмики крыш полуземлянок. Вышедшие на их вопли родовичи тоже ошалели сперва, хватались кто за рогатину, кто за топор или дубину. И, несмотря на то что гость прибыл с почитаемыми волхвами, местный старейшина принялся угрожать, требовал колом проткнуть упыря, вернувшегося из-за Кромки.
Неждан вышел вперед, произнес громко:
– Люди добрые, не ведаю, за кого вы меня приняли, но вас я не знаю!
Хвала богам, волхвы, видя, что от парня нет бед, тоже за него заступились. Но местный староста, обойдя вокруг Неждана, уверенно заявил:
– Лопни мои зеньки, если это не Глоба, сын рыбака Стоюна и Липы, что из Куньего рода. Да, возмужал парень, зарос бородкой, но он это. О, я помню, как на него Малфрида смотрела, когда выбирала жертву для Ящера. Она кого попало не берет, ей лучшие нужны. А Глоба всегда пригожим молодцем среди баб и девок считался.
– А вот и разберемся, когда к капищу его доставим. Пусть нам Домжар ответит, как вышло, что отданный в жертву уцелел. Все погибали страшно, а этот… Может, просто похож на Глобу нашего?
За всеми этими потрясениями никто особо не интересовался, как самой Забаве удалось пережить участь невесты лешего. Даже сперва забыли отвести ее в баню, как полагалось для тех, кто в чаще пропадал. В итоге Забава сама подняла шум, потребовав отвести ее в парную. И уж как было хорошо попариться во влажном пару, соскрести с себя грязь и, облившись холодной водой, расчесать длинные, чисто вымытые волосы! Помогавшая ей старостиха заметила, что, побывав невестой лешака, Забава Домжарова даже как будто краше стала.
– Может, это лешак прятал все время Глобу, а потом к тебе его вывел? – предположила она.
– Лесной хозяин сперва вывел меня к игравшему на гуслях бояну Добряну. А Неждан потом вышел к нам. Он наловил рыбы, и мы сварили уху.
– Вот видишь, и отец его некогда был умелый рыбак, обучил своему мастерству сыночка. Сам Стоюн уже помер, но ведь Липа-то из рода Куницы жива! Ушла пару лет назад жить в семью дочери и с тех пор там. Далеко это от Ока Земли. Но как думаешь, Забава, если за ней сходят, распознает ли в пришлом сынка своего или это и впрямь схожий на него чужак?
– Я тоже о том подумала, бабка Горяна. И волхвам то посоветовала.
Старостиха искоса посмотрела на девушку.
– Ну да, ты же дочка самого Домжара. Ты и волхвам приказывать горазда.
Забава пропустила эти слова мимо ушей. Не в первый раз простые вятичи ворчали на нее, словно она виновата, что у нее родитель такой. А еще она думала, что если Неждан и впрямь окажется Глобой, сыном Липы, то у ее отца могут быть неприятности. Волхвы тут, в заокских лесах, большую власть имели, но и спрос с них был строг. Власть же Домжара в основном держалась на том, что он со старухой Малфридой был в дружбе. Именно его она возвеличила, именно от него требовала созывать молодежь на игрища, где жертву Ящеру выбирала. Так и поднялся Домжар. Но если окажется, что Неждан – это Глоба… Ее родителю придется отвечать перед всем племенем.
Самого парня Забава нигде не видела. Сперва даже заволновалась, но потом поняла, что селяне уже не о нем думали. Они обсели гусляра Добряна, который, как и положено бояну, занял самое видное место: расположился под стоявшим в центре селища шестом, на котором была воздета голова сохатого – покровителя местного рода, – и давай тешить местных пением-сказами. Забава отметила, что Добрян и тут смог подчинить и увлечь людей, они и страхи свои позабыли, улыбались, слушая его пение. Бабы вон уже и угощение готовили, мужики рогатины свои отставили. А Добрян – тоже посетивший парную, вымытый и расчесанный – сидел в кругу обсевших его родовичей, веселил их, пел. И как пел! Его слушали, отбросив недавние опасения, а когда Забава поинтересовалась, где прибывший с бояном Неждан, лишь махнули в дальний конец селища, указывая на свежескошенные скирды. Там он, ответили.
Когда Забава разыскала Неждана, парень вел себя странно. Стоял на коленях, сложив руки, вроде как молился. Но странно молился. Обычно люди обращаются к небожителям, широко раскинув руки, громогласно взывая, чтобы быть услышанными на небесах. Этот же лишь что-то шептал. А после сделал жест, коснувшись перстами своего лба, затем груди и плеч, и произнес негромко:
– Не оставь своею милостью!..
– Что это ты делаешь? – спросила Забава, когда он поднялся с колен.
Неждан не ответил, просто сел среди свежескошенного сена, понурый и печальный. Забаве даже стало жалко его. Она подала ему принесенное блюдо с тушенной на травах вепрятиной – совершенно несоленой, так как за солью еще надлежало отправить торговцев на реку. И пока парень ел, Забава сидела рядом, болтала беспечно о том, что и банька тут хороша, и почитающие лося родовичи, по сути, люди не злые, просто сперва испугались немного, а теперь чувствуют себя даже одураченными. Ведь если Неждан не тот Глоба, которого все поминают в день духов55, то ему и волноваться не о чем.
Парень перестал жевать и посмотрел на нее.
– А если тот?
– Ты что это несешь, глупый? Сам, что ли, не знаешь, кто ты?
Он глубоко вздохнул, а потом поведал ей о себе. О том, что в плену его нашли и что не помнит ничего, что было с ним до плена. А еще ему сказывали, что в бреду он ведьму Малфриду кликал.
Забава как услышала это, так ее холодом проняло, хотя день был теплый, солнечный. Но сказала:
– Ты вот что, Неждан… или кто ты там. Об этом больше никому не говори. Не стоит людям подозревать тебя в чем-то. Вон, посмотри, как Добрян твой местных успокоил. А там и я за тебя отцу словечко замолвлю. Он знаешь какой у меня? Его даже сама Малфрида слушает.
Глаза у Неждана были синие-синие, как васильковый цвет на лугу. Но такие печальные…
– А может, мне лучше не идти к твоему отцу? К Малфриде этой не идти? Знаешь, как я этого страшусь…
Забава повела плечом. Впервые парень при ней признался в своих страхах. Посмеяться бы над ним, но девушка вдруг почувствовала себя ответственной за этого пригожего молодца. Он ей доверился, он не сомневается, что она может ему помочь. Но как? Увести его куда-то в лес да схоронить? Но от этого только хуже будет. Он тут чужак, а местные охотники хорошо все стежки-дорожки знают. Разыщут, и только хуже будет. Нет, уж лучше пусть Домжар сам разберется, что и как с этим чудаковатым, невесть откуда возникшим живым мертвецом.
Она так и сказала это. И добавила, что, дескать, нечего Неждану переживать, когда он под защитой бояна Добряна. Добрян вон он какой: скажет слово – и люди его слушаются, верят.
– Ишь, поняла это, – покачал головой парень. И наконец улыбнулся: – Хорошая ты девка, Забава. Добрая. Век бы тебя любил, да только… Только если под благословение пойдем. Если по обряду положенному у алтаря предстанем.
«Жениться на мне хочет, – догадалась Забава. – Не просто под трели соловьев любиться в кустах, а законной суложью хочет величать. Ну да это не ему решать, а мне». Однако от столь уважительного отношения к ней Неждана девушке хорошо сделалось. Даже поцеловала парня в щеку, когда забирала у него опустевшую миску.
Вскоре Забава заметила еще кое-что: у расположенного неподалеку идола Сварога молился только Вышезор. Жишига после долгого пути просто дремал неподалеку под плетнем, а вот третьего волхва, Ядыгу, нигде не было видно. Позже ей сказали, что ушел он куда-то в чащи по приказу Вышезора.
К вечеру они вернулись к реке, сели в челн – длинный, выдолбленный из цельного ствола дерева. После перекатов лесная речка текла хоть и узким руслом, но глубоко, и плыть на таком челне было удобно. Забава примостилась на носу долбленки, отоспавшийся за день Жишига стал налегать на весла – откуда только силы в его худом старом теле нашлись, – важный Вышезор просто сидел на корме, а Добрян с Нежданом устроились между ним и гребущим волхвом. Когда Жишига подустал, Неждан сменил его, но греб словно бы нехотя, останавливался и вздыхал, пока за весла в свою очередь не взялся Добрян. Этот греб скоро и уверенно, особенно после того, как Вышезор велел зажечь гнилушку и укрепить ее на носу лодки, – чтобы на коряги ненароком не налетели. Ибо ночь все сгущалась, лес был полон ночных звуков, то отдаленных, то близких: соловьи пели, сова ухала, где-то лаяли лисы, стрекотало что-то…
Забава уснула, свернувшись комочком, и раскрыла глаза уже на рассвете. На веслах снова был Жишига, остальные дремали кто где. Она же с удовольствием вглядывалась в разлитый, как молоко по воде, туман, видела, как рыба плавником плеснет или коряга покажется из белесой мути, будто какой-то хищный зверь. Или Ящер. Забава поежилась, вспомнив о Ящере. Он был злым духом, но и охранителем местных вятичей. Он был их ценностью. Так Малфрида говорила, и тому же учил людей Домжар.
Речка теперь сильно петляла, но разливы, какие образовались по весне после таяния снегов, уже пересыхали, только там, где были засеки бобровые, еще стояли воды, превращаясь в болотца. Но когда из-за горизонта показалось солнце и ее спутники проснулись, река пошла уже более привольно. Стали попадаться селища на берегах. Забава заметила, как внимательно приглядывается к окрестностям боян, а вот Неждан сидел поникший, головы не поднимал, будто таился, чтобы и тут его не узнали. И опять ее потянуло к несчастному пригожему парню. Хотелось сесть рядом, приголубить, обнять. Ей сейчас не важно было, кто он такой. Просто хотелось, чтобы не тронули, не обидели. Кем бы он там ни был.
Наконец, когда солнце уже поднялось над кронами, они выплыли на широкий луговой простор, полого спускавшийся к большому спокойному озеру. Око Земли. Но сейчас внимание путников куда более привлекло капище на высоком рукотворном холме с изваянием Сварога на главном месте.
Давно возвели его вятичи, но только стараниями Домжара оно приобрело нынешний великолепный вид. Оструганные бревна частокола окружали его со всех сторон, на их навершиях были надеты черепа священных животных – рогатых туров, оленей, медведей. А за ним виднелось изваяние Сварога небесного. Даже на расстоянии можно было увидеть вырезанные и раскрашенные глаза, ибо Сварог должен был видеть людей, которым покровительствовал, и сложенные на животе руки божества, покрытые яркой охрой с синими узорами.
– Красиво, – произнес Добрян, разглядывая изваяние небесного покровителя вятичей.
Забава почувствовала гордость. Вот-вот, гусляр, знай, что и вятичи лесные не лыком шиты.
– Мой отец – служитель этого капища, и все люди идут к нему, ибо именно его голос дано услышать Сварогу небесному. Сама Малфрида чтит Домжара и приходит к нему, когда… Ну, когда надо.
Последние слова она произнесла негромко. Ибо приход Малфриды пугал ее. Самой Забаве Малфрида зла не выказывала, но ее появление здесь всегда означало выбор кровавой жертвы. А тут еще и Неждан-Глоба… или кто он там. Непросто на этот раз будет Домжару ответ перед людьми держать. Да и Малфриде предстоит ответить, кто сей парень с Днепра. Ведь никогда ранее не бывало, чтобы отданный Ящеру возвращался живым и невредимым.
Сейчас прикапищные поселяне уже выгнали скотину на залитые солнцем низинные луга, раскинувшиеся вдоль озера, где была самая лучшая трава. Сами же занимались своими делами – кто лодки смолил у воды, кто снимал невод с шестов для просушки, женщины чистили кожи, толкли пестами в больших ступах. Но все стали оборачиваться, когда к бережку причалила лодка с волхвами и их спутниками, многие пошли к ним, окликали Забаву, улыбались ей, приветливо махали руками. Все были рады, что дева невредимой из глухомани вернулась. Неждана сперва словно и не разглядели – тот вышел из лодки последним, головы не поднимал. Зато Добрян с его гуслями на ремне через плечо сразу привлек внимание. Но тут Вышезор вытолкнул вперед Неждана, и началось…
Все так же, как и ранее: крики, испуг, удивление. А Вышезор еще и громогласно заявил, мол, смотрите, люди добрые, кого суденицы56 дали ему повстречать в чаще. И велел трубить в рога. Пусть сам Домжар выйдет и пояснит, что это за диво такое они привели.
– Он и так придет, ведь дочка его живой и невредимой от лешего вернулась, – произнес кто-то. – А для отца только это и важно.
– Вот и поглядим, что для него важно, – хмыкнул Вышезор.
Тяжелые, сбитые из цельных бревен ворота капища – не менее мощные, чем в ином городище, – уже растворялись. Вышел и сам Домжар.
Забава с восторгом смотрела на родителя. Она гордилась, что у нее такой отец – величественный, красивый, важный. Он был в торжественном черном облачении, расшитом от горла до подола замысловатыми узорами, блестевшими серебряной проволокой, отчего одеяние казалось еще более прямым, а сам Домжар – более высоким. Но он и был высок и прям, как копье, никакой старческой сутулости, плечи широкие, как у витязя. Следом за ним вышли еще несколько служителей, все седые, как луни. А вот волосы и борода Домжара были всегда белыми, седины в них и не углядишь. Только морщинки у глаз и длинная борода указывали, что он в том возрасте, когда мудрость и жизненный опыт позволяют подняться до уровня общения с богами.
– Сварог с вами и милость его, добрые люди, – громогласно произнес Домжар, ни к кому особо не обращаясь. И добавил: – Вижу, невеста лешего вернулась к нам цела и невредима. Значит, лешак не обидел ее. Значит, лес будет милостив к нам и в дальнейшем, будут полны зверя и дичи наши угодья и племя не станет голодать, как в прошлые годы.
Забава вышла вперед. Вроде как и положено, когда вернувшаяся преклоняет колени под благословение служителя. Она же только и думала, что надо успеть предупредить отца о Глобе. Но не успела. Вышезор уже завел людей, по его наказу они вытолкнули Неждана к Домжару, требовали ответа.
Забава взглянула на отца и увидела, что он не менее потрясен, чем иные до него. Величественный волхв Сварога только и мог, что открывать и закрывать рот, не сводя глаз с юноши, даже попятился от него.
– О Сварог светлый! Кто это, ради самого неба? Глоба?
– А это тебя спросить надо, – не унимался Вышезор. – Мы скольких детей племени отдали на погибель? Скольких оплакали, за скольких молитвы возносим и по сей день! А ты этого охранил! Спас от смерти. Или это Малфрида его отпустила? Вызови ее! Пусть ответит перед всем честным народом.
Упомянутое имя ведьмы заставило Домжара взять себя в руки. Лицо его стало спокойным, он глубоко вздохнул и выпрямился.
– Да, похож парень на Глобу, но он ли?
Неждан, казалось, только этого и ждал. Стал уверять, что он тут впервые, что никогда не бывал у вятичей, что чужие они ему. Но тут увидел печальное личико Забавы и умолк. Сам ведь говорил ей… Вот она его и выдаст сейчас.
Однако Забава ничего не сказала. Только позже, когда уже сидела в большом доме волхвов, где у нее имелась своя пристройка, поведала все отцу, который пришел к ней. Родитель ее был мрачен.
– Если это и впрямь Глоба, многое может измениться.
– А ты попробуй все на Малфриду свернуть! Ведь Глобу увезли за озеро, ну, вместе с той девушкой Умрянкой, у которой косы были едва не до земли. Я мала была, но помню их обоих. И где та дева? Знаешь, батюшка, я ведь тоже сперва испугалась, когда Неждана… Глобу этого увидела. Но засомневалась потом. Да и он не помнит ничего о себе.
Родитель ласково погладил ее по волосам.
– Если бы не он, то сегодня люди бы праздновали твое возвращение, пир бы устроили, веселились. А так… Не верят мне. Вон Вышезор уже Ядыгу в леса отправил, чтобы мать Глобы разыскать. И если она его узнает… мне верить не будут.
Забава молчала. Она понимала, что отец ее нередко хитрил, если было нужно. Даже когда ей выпал жребий идти невестой к лешему, он ловко это подстроил, чтобы в этот раз именно она стала невестой лесного хозяина. Тогда двенадцать дев вышло, чтобы достать из липовой бадьи перстень Домжара с темным агатовым камнем. Девушки выходили, опускали руки, вынимали… Забава подошла третьей – отец велел больше не мешкать – и сразу вынула перстень родителя. Но никто не ведал, что у него было два таких перстенечка – один он опускал, другой Забава по его наущению в рукаве спрятала. Вот якобы и вынула. А Домжар едва не прослезился, горюя, что именно его доченьке такая участь выпала. Зато, отправив Забаву в чащи невестой лешего, он тем самым спас ее от жеребьевки идти к Ящеру. Другой же перстень тайком сам вынул и позже забросил в воды озера, несмотря на ценность его. Дочка-то ценнее будет.
Да мало ли разных проделок вытворял ее родитель! Забава сызмальства подобное наблюдала, и это казалось ей привычным. Ведь без этого нельзя, без этого люди перестанут верить, что он чародей. Он же не Малфрида, которая легко колдовать может. Но именно Малфрида некогда сделала Домжара главным волхвом на капище.
– Мне надо срочно с чародейкой нашей повидаться, – сказал дочери Домжар. – И чем скорее, тем лучше.
У Забавы сжималось сердце, когда она видела отца таким слабым. И на Неждана этого злилась – зачем вернулся? И на гусляра Добряна – зачем привел парня в их края?
А сам Добрян, как и ранее, уже ловко расположил к себе вятичей. Когда Забава уже в темноте спустилась к кострам, где вкруг бояна собрались родовичи, она и сама заслушалась его дивными сказами. Он рассказывал под звуки струн о солнечной Жар-птице, о мече-кладенце, который любого сразить может.
В какой-то миг Добрян заметил стоявшую в стороне девушку и весело подмигнул ей. Но она лишь нахмурилась. Вольготно же ему так веселиться, когда его спутнику беда угрожает. Ибо люди то и дело начинали говорить, что если окажется, что не отдали Глобу Ящеру, как иных отдавали, то Домжар будет отвечать по всей строгости. Или самой Малфриде придется ответ держать.
Добрян, когда различил те речи, гусли отставил, начал расспрашивать. Хмыкал порой, даже сказал, что, может, и нет этого Ящера, может, обманывают их. Дескать, он сам вон сколько по земле побродил, где только ни побывал, но про их Ящера никто не знает.
– Домжар как раз и стал волхвом, когда Ящер появился, – ответили ему. – А Ящер – он есть. Пришлые о том не ведают, пока не сунутся в эти лесные края. А если сунутся – пропадут безвременно. Вот потому никто и не разнес по земле весть об опасном чуде вятичей.
Наблюдая со стороны, Забава видела, что Добрян только посмеивался на это. Надо же, какой недоверчивый. Но в самой Малфриде, похоже, не сомневался. Ишь как она его заинтересовала! Все выспрашивает, когда придет, когда явится.
– А вот сообщит ей Домжар, что Глоба живой и невредимый от Ящера вернулся, так ей поневоле придется прийти и перед людьми ответ держать.
– Домжар уже отправился за нашей чародейкой, – важно произнес подошедший со стороны Вышезор. – Я видел, как он сел в лодку и уплыл на тот край озера. Нам же туда хода нет.
– Это почему же? – спросил, поворачиваясь к волхву, Добрян.
Но тут люди стали наперебой говорить, что, дескать, пробовали они обойти Око Земли, порой даже служители волхвы пытались туда пройти, однако никто не вернулся.
– Неужто только Домжар и может привести Малфриду? – покусывая травинку, спросил Добрян.
Вроде беспечно спрашивал, но Забава видела, что его это волнует. Она сама хотела ответить, но тут кто-то сказал:
– Может, Домжар попросту сбежал, чтобы не отвечать перед людьми?
– Да разве ж он дочку оставит? – спросил гусляр, и Забава почувствовала на себе его внимательный взор.
Но люди загалдели: нет, Забаву Домжар не оставит. А оставит… узнает, что мы с его кровиночкой можем сделать!
Такого девушка от своих соплеменников не ожидала.
– Только посмейте тронуть меня! Перед самой Малфридой будете ответ держать!
– Ишь разозлилась! Что она, что батя ее нас все время Малфридой стращают. Может, запрем ее куда-нибудь? Так же, как и Глобу воскресшего. Вон Вышезор сам его в порубе укрыл, да еще и стражу поставил. Может, и дочку волховскую так?
– Это разумно, – заулыбался Вышезор и указал на Забаву, веля ее схватить.
Девушка растерялась, а еще больше испугалась. Хотела уйти, но не дали, окружили. И когда ее стали хватать множество рук, она завизжала, стала отбиваться. Ей и Жишига не смог помочь, когда кинулся с воплем на людей. А вот Добрян смог. Вырвал из толпы, да еще и подсечку дал местному богатырю Удалу, когда тот уже и рубаху стал рвать на Забаве, за грудь хватал. Надо же, то в жены звал, а тут просто насел, как тать57. Но Добрян подцепил ногой его ногу, рванул, да так, что конечности богатыря разъехались на влажной от росы траве и он рухнул, повалив еще двоих самых рьяных.
– Ты что это творишь, боян? – взревел Удал, пораженно глядя на чужака. – Да мы тебя сейчас!..
Но не смог встать, когда Добрян наступил ему ногой на грудь, придавив к земле.
– Не знал я, что у вольных вятичей всем скопом на девок нападать принято. Это у вас такие законы? Насколько мне ведомо, ни в одной правде58 на Руси подобного не встречается. Вы хотите ответ требовать от подозреваемого служителя Сварога, а сами как злодеи с девой намерены поступить. Или забыли, что она только из леса пришла, что невестой самого лешего побывала, а тот ее не тронул, чтобы у вас ловы были и зверь не ушел из чащ? Обидеть ее – это сейчас самого лешего обидеть.
Добрян убрал ногу с груди притихшего Удала, даже подал ему руку, помогая встать. Удал рядом с гусляром казался глыбой, а тот хоть и не был таким рослым и могучим, но все же местный богатырь не осмелился на него наседать, отошел.
Жишига взял Забаву за руку.
– Не троньте ее, люди, я сам ее в поруб отведу.
И шепнул девушке: мол, от беды подальше. А то мало ли что еще случится, когда у людей такое на уме. Отсидишься там до прихода Домжара.
Но они еще не удалились, когда в тихом ночном воздухе вдруг прошло некое движение, словно кто-то вздохнул глубоко и сильно, а потом и вой раздался, перешедший в рык, далекий, но громогласный, полный ярости. Он шел откуда-то из-за вод тихого ночного озера, но был так могуч и силен, что показалось даже, будто ветром пахнуло.
Люди вокруг притихли, молча хватались за обереги, прислушивались, ожидая – не повторится ли? Жишига с Забавой стояли немного в стороне ото всех, но когда оглянулись, то при свете костров увидели застывшие фигуры с лицами встревоженными, но полными некоего благоговения. А еще Забава заприметила, что обычно степенный и уверенный в себе гусляр Добрян стоит, будто окаменев, и лицо его искажено от страха. Вот-вот, а ведь раньше не верил в Ящера. Теперь же поднял руку и сотворит тот же жест, что недавно и Неждан-Глоба делал, – коснулся лба, груди, одного плеча, потом другого. Словно крестом себя осенил.
Этот жест больше никто не заметил, все смотрели в сторону темного в ночи Ока Земли. Но потом люди стали переговариваться негромко – привычны уже были к подобным звукам.
– Что-то неспокоен он сегодня.
– Не только сегодня. Еще пары седмиц59 не прошло, как он в ночи ревел.
– И чего разошелся? Не так много времени минуло с тех пор, как к нему Любляна с Калиной-красой отвели. Как раз на Всеведов день60 это было. С тех пор и года не прошло, а вот же снова ревет, требует…
– И как это нашему Домжару не боязно в ночь туда отправляться?
Теперь, когда Ящер напомнил о себе, волхв Домжар вновь стал своим, защитником и другом. Пока люди переговаривались, Жишига увлек девушку прочь:
– Идем, идем, глупая, а то опомнятся и того и гляди вновь озлятся.
Забаве совсем не хотелось в поруб. Сейчас бы убежать, спрятаться в своей пристройке возле капища. Однако пошла за Жишигой, потому что сама хотела к Неждану.
В темном колодце поруба парень приблизился невидимой тенью и коснулся ее лица, провел пальцами по волосам, дотронулся до височных подвесок.
– Забава? О небо, отчего ты здесь, звездочка моя ясная?
– Они обижали меня, Неждан. Они на отца моего злы, а схватили меня. Как они посмели!
Девушка пыталась храбриться, но неожиданно заплакала. Он обнял ее, принялся утешать, поглаживая по голове. И Забаве вдруг стало все едино, кто он – Глоба ли, который давно погиб, или просто похожий на него парень с Днепра, забывший свое прошлое. Сейчас он приголубил ее так ласково, его объятия были такими нежными, теплыми. В темноте он коснулся виска Забавы легким поцелуем, потом задышал тяжело и хотел отстраниться. Но она не отпустила его, вскинула руки ему на плечи и стала целовать. О, она так любила целоваться, от этого кружилась голова и сладко ныло в груди.
– Любый мой… Кто бы ты ни был, я твоя.
Он сделал слабую попытку высвободиться, забормотал что-то невнятное. И вдруг стиснул ее так, что ей стало больно. Его била крупная дрожь, он задыхался. И целовал ее, целовал, как в лихорадке.
Забава, слабея, почти повисла на нем. Пусть делает все, что хочет… Что хочет она сама…
Она оседала, но он не дал ей упасть, а, наоборот приподнял, прижав, и она обвила его ногами.
Страсть туманила, желание было просто безумным, словно в священную купальскую ночь61, когда можно все. Забава спешно подняла подол, позволила Неждану касаться себя там, внизу. Сама теребила его одежду, пробиралась к нему.
Потом она думала, что все произошло слишком быстро. Она только распалилась, а Неждан уже слабо вскрикнул и навалился на нее, содрогаясь. Она еще целовала его, когда он как-то вяло отстранился.
– Грех это… такой грех. А у меня слишком долго не было женщины. Я не устоял.
– Я не понимаю. Что ты говоришь?
Он оставил ее в темноте одну – растерянную и неуспокоенную. Но когда Забава потянулась к нему, отшатнулся и удалился. Насколько можно было удалиться в порубе, этом врытом в землю колодце со стенками из бревен, который служил узилищем. Три шага туда, три обратно. И все же он был так далеко, далеко…
Парень что-то шептал. Даже не видя его во тьме, Забава поняла, что он опять шепчет молитвы, даже представила его коленопреклоненным, опустившим голову на сцепленные руки. Не раскинувшего их навстречу богам, а словно хранившего некое божество в себе. Даже расслышала, как он говорит:
– И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим…
И это все? Его божество важнее ему того, что только что было между ними?
– Неждан!
Кажется, он опустился в противоположном углу. Молчал, не отвечая, и лишь когда она села и отвернулась, стал говорить. Хорошие слова он говорил – что она чудесная, что он всем сердцем тянется к ней, но не должен был проявить слабость. Дал понять, что он словно в силках у нее оказался и ему от этого худо. Неждан хотел бы, чтобы они стали парой по закону, чтобы только она одна была у него всю жизнь. И когда он увезет ее отсюда, когда она узнает, что можно жить в чести и по законам Бога, Забава станет истинной его половиной, духом и плотью единой.
Нечто подобное он говорил ей и ранее. Но отчего же сейчас так грустно? Забава к нему и в поруб пошла, а он твердит только о каком-то грядущем, а ведь она вот же, совсем рядом.
– Давай поспим, Неждан. Утро вечера мудренее. А когда вернется Домжар, все уладится. Отец со всеми справится.
Ах, уснуть бы сейчас и взаправду! И чтобы Неждан не сторонился, а обнял ее, чтобы она не дрожала от ночной сырости в этом подземелье, а знала, что он рядом, что он с ней, чтобы согрелась у него в руках…
– А что это был за звук недавно? – через время спросил Неждан. – Странный такой, жуткий. Я уже было подремывать начал, а тут это…
Забава ощутила глухое раздражение.
– Это наш Ящер. И если ты так и не вспомнил его… то тебе просто повезло. Моли же теперь свое божество, чтобы и на этот раз тебя миновала встреча с ним.
Глава 4
Той ночью Добрыня долго лежал без сна. Его разместили в большой избе местного старосты – почет оказали, – удобно расположили почивать на полатях, дали тканое покрывало с узором, а ночью к нему еще пару раз наведывались местные бабы, трясли за плечо, звали шепотком ласково. Это когда Добрыня от такого отказывался? А вот сейчас лежал, отвернувшись, спящим прикинулся, а сам все пялился на бревенчатую кладку стены перед собой.
Надо же, он слышал рык Ящера! Как после такого не поверить в россказни вятичей? До этого все больше думал, что это выдумки местных волхвов, дабы держать народ в подчинении. Даже жертвоприношения, как решил было Добрыня, являлись лишь показухой, чтобы люди не сомневались в присутствии Ящера. А самих жертв потом попросту продавали торговцам живым товаром на реках. Недаром тот же Глоба-Сава-Неждан был обнаружен в полоне у печенегов – значит, как-то попал в степи из вятичских лесов. А может, просто избавлялись от жертв, убивали на каком-нибудь алтаре за озером. Раньше такое было не диво, поэтому вполне допустимо, что в этой глуши и поныне кровавые ритуалы исполняют. Ну а людям говорили, мол, Ящер сожрал, после чего, насытившись, угомонился. Однако когда Добрыня сам услышал утробный рык Ящера… Да, там за озером явно обитало что-то. Не дух какой-нибудь, но нечто сродни тем злобным тварям из старых сказов, какие сам же любил рассказывать под перезвон струн. И то, что ведьма Малфрида участвовала в подобном… С матушки Добрыни такое станется, ей ничего не стоит запугать народ, чтобы власть иметь и чтобы ее саму не беспокоили и почитали.
Что ведьма вятичей именно та Малфрида, которая его родила, Добрыня уже не сомневался. Окончательно он убедился в этом, еще когда по пути сюда заметил в глухом ельнике источники с живой и мертвой водой. Первый раз от неожиданности даже не сдержался, шуметь начал, удивлялся, как это волхв Жишига дивной воды не углядел. Позже просто наблюдал, как тот же Жишига и эти двое – Вышезор и Ядыга, проходя мимо лесных ключей, не видят розоватого и голубого свечения. Н-да, волхвы тут были плохенькие, может, какое знание и было у них, но до подлинного чародейства им – как тому же Ящеру до Киева стольного. А вот Малфрида если где и могла поселиться, так именно там, где вода чародейская бьет. И пусть многие видели ее старухой, но всегда гордившаяся своей красотой Малфрида от чародейской воды не уйдет. Она такая, он знал это. Только обидно было, что мать ради волшебства своего да живой и мертвой воды оставила их – и его, сына своего, и Малка, и князей, и саму Русь.
Со всеми этими мыслями Добрыня метался до утра. Когда же заснул, его долго не тревожили. Все же бояны – народ особенный, живут не так, как простые люди, вот гостя и не трогали почти до полудня. А когда проснулся, в избе старосты было пусто, но входная дверь растворена, шум какой-то извне раздавался.
Добрыня, как был неподпоясанный и всклокоченный, поспешил наружу. Видит – люди у капища столпились. А там как ни в чем не бывало стоял в окружении соплеменников волхв Домжар в своем темном блестящем одеянии. Впрочем, как ни в чем ни бывало – это неверно. Он гневно смотрел на притихших селян, говорил что-то негромко и внушительно. Приблизившись, Добрыня понял, что главный волхв рассержен из-за того, что с его кровиночкой, Забавой прекрасной, так поступили.
– Что вам сделала Забава? Отвечайте! Она невестой лешего была больше месяца, она вам добро от него несла, вы в лес теперь сможете ходить безбоязненно. Но вы при этом… Вот откажу вам в благословении и дары ваши не приму для Сварога, что тогда делать станете без небесного покровителя?
«Ну, с дарами он загнул», – хмыкнул про себя Добрыня. Знал ведь, что служители на капище тем и живут, что люди приносят – молоко, хлеб, копчености, яйца, птицу и живность всякую. Но окрестные жители сейчас явно были гневом волхва озадачены и смущены. Отводили глаза, опускали головы. Кто-то все же решился сказать, что, мол, это Вышезор посоветовал девку в поруб. И она ничего, пошла послушно с Жишигой.
Добрыня только наблюдал со стороны, чем дело обернется. На Вышезора вернувшийся главный волхв смотрел вроде как спокойно, но тот все же склонил голову, стоял в стороне, вцепившись в посох. Словно смиренно ждал от Домжара наказания. Однако обошлось, умерил свой гнев отец девушки, когда ее привели живой и невредимой. Забава сперва хотела было броситься к родителю, но под его суровым взглядом не посмела. Застыла в толпе, будто была виновата в чем.
А Домжар, казалось, и забыл о ней, о другом заговорил. Поведал, что виделся он с чародейкой Малфридой, что повелела она начинать сборы для выбора жертвы. И как ведь загнул! Добрыня даже подивился его невозмутимости и напору, словно и не было вчерашней перепалки, когда люди, увидев ожившего Глобу, готовы были уличить его с ведьмой в хитрости да обмане. Сейчас даже не вспомнили, больше слушали о том, что, дескать, Малфриде все труднее лютого Ящера удерживать, что неспокойно он ведет себя и что следует утихомирить его, дабы зло вятичам не принес. Так что, если люди не хотят беды себе и своим близким, пора откупаться жертвенной кровью.
– Я сам того Ящера вблизи видел, Сварог тому свидетель! – вскинул руку Домжар. – Лют он был и страшен, потому непросто мне было проникнуть в заозерье, чтобы нашу заступницу сыскать. Сами, небось, слышали, как Ящер бесновался прошлой ночью.
Люди согласно закивали. Но тут Вышезор все же решил напомнить:
– А про Глобу ты спрашивал у чародейки?
– А как же! – отозвался главный волхв. – Для того и отбыл за Око Земли. Однако мне чародейка ни в чем не призналась, хотя и велела парня удержать да проследить, чтобы не сбежал.
