Читать онлайн Покой бесплатно
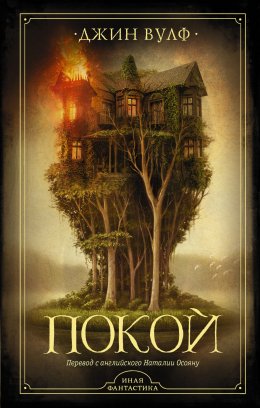
Gene Wolfe
PEACE
Публикуется с разрешения наследников автора и Virginia Kidd Agency, Inc. (США) при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия)
Copyright © 1975 by Gene Wolfe
© Наталия Осояну, перевод, 2023
© Василий Половцев, иллюстрация, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
1. Олден Деннис Вир
Вяз, посаженный Элеонорой Болд, дочерью судьи, рухнул прошлой ночью. Я спал и ничего не слышал, но, судя по количеству сломанных веток и размерам ствола, грохот был жуткий. Я проснулся, сидя в своей постели перед камином, однако к тому моменту, когда сознание окончательно вернулось ко мне, уже не было слышно ничего, только с карниза падали капли от тающего снега. Помню, сердце выскакивало из груди, и я испугался, как бы не случилось приступа, а затем пришла неясная мысль, что приступ-то меня и разбудил – выходит, я могу быть мертв. Я стараюсь как можно реже зажигать свечу, но в тот раз все-таки зажег и сидел, завернувшись в одеяло, радуясь свету и перестуку капели, таянию сосулек, и казалось, весь дом тает, будто воск: размягчается и стекает на лужайку.
Сегодня утром я выглянул в окно и увидел дерево. Взял топорик, вышел наружу и разрубил несколько сломанных веток на куски поменьше, которые бросил в огонь, хотя было уже не холодно. С той поры, как со мной случился удар, я не могу пользоваться большим канадским топором с двойным лезвием, но по крайней мере пару раз в день читаю надпись, выжженную на рукоятке: «„Бантингс Бест“, 4 фунта 6 унций, ручка из гикори». Другими словами, инструмент был заклеймен, как молодой вол; когда я прочитал эту надпись в трехсотый – а может, четырехсотый или пятисотый – раз, до меня дошел смысл выражения «пробу негде ставить»: на штуковины вроде моего топора (и, без сомнения, на другие вещи, особенно в те времена, когда многое делали из дерева) после проверки ставили тавро производителя; иногда это делал сам проверяющий, подтверждая апробацию. Таков был последний этап производственного процесса, после которого новинку выставляли на продажу, пометив лишь единожды. Жаль, что это пришло мне в голову только теперь, когда некому рассказать, но, возможно, так даже лучше; я заметил, что вопросов такого рода довольно много, и люди предпочитают не знать ответы на них.
Когда я еще жил с тетей Оливией, муж купил ей дрезденскую статуэтку Наполеона для каминной полки. (Полагаю, фигурка еще там – это вполне вероятно; надо лишь отыскать нужную комнату и проверить.) Гости часто удивлялись, почему Бонапарт прячет одну руку под жилетом. Так уж случилось, что я мог все объяснить, поскольку прочитал об этом где-то за год до того – кажется, в биографии Наполеона, написанной Людвигом.[2] Сначала я охотно разглагольствовал в надежде удовлетворить чужое любопытство (и таким образом испытать то неподдельное, хоть и едва уловимое наслаждение – приятное в любом возрасте, но сладчайшее в тринадцать лет, – которое мы ощущаем раз за разом, демонстрируя свою эрудицию и одерживая умозрительные победы). Позже – заметив, что невинный комментарий неизбежно кого-то оскорбляет, – я делал то же самое в качестве психологического эксперимента.
Прямо сейчас огонь в моем маленьком камине едва тлеет, но я тепло одет, и в комнате вполне уютно. Снаружи свинцовое небо, дует легкий ветерок. Я только что прогулялся, и, кажется, вот-вот пойдет дождь, хотя земля и так размокла от тающего снега. Прохладный ветер пахнет по-весеннему, но других признаков весны я не видел; на розовых кустах и всех деревьях по-прежнему твердые и тугие зимние бутоны; к тому же на некоторых розах все еще виднеются (словно мертвые младенцы в объятиях матерей) мягкие гнилые побеги, которые они выпустили в последнюю осеннюю оттепель.
Иногда я гуляю как можно дольше, а иногда силы быстро меня покидают, но разница невелика. Я так поступаю ради собственного утешения. Если мне мнится, что от ходьбы смерть подкрадывается к левой стороне тела, то каждую миссию я планирую тщательно: сперва к дровнице (рядом с китайским табуретом-слоном, чей паланкин служит подушкой для моих ног), затем к камину, после чего обратно к креслу у огня. Но если мне кажется, что надо размяться, я осознанно отклоняюсь от маршрута: сначала иду к огню, чтобы согреть руки, потом к дровнице и обратно к огню, где сажусь в кресло, сияя от своих успехов на гигиеническом поприще. И все же ни тот ни другой режим не улучшают моего состояния, отчего приходится регулярно менять врачей. Вот что следует сказать про врачей: с ними можно проконсультироваться даже из могилы, и я консультируюсь с доктором Блэком и доктором Ван Нессом.
К первому я хожу мальчиком (хоть и после инсульта), а ко второму – мужчиной.
Я стою, выпрямившись во все свои шесть футов роста, и фигура моя хороша, пусть даже во мне на двадцать (доктор Ван Несс скажет, что на тридцать) фунтов меньше веса, чем положено. Посещать доктора очень важно. Даже в каком-то безумном смысле важнее, чем посещать заседания совета директоров. Одеваясь утром, я напоминаю себе, что буду раздеваться не перед сном, как обычно, а в кабинете врача. Это немного похоже на предвкушение ночи с незнакомкой, и после бритья я принимаю душ, выбираю новые трусы, майку и носки. В час тридцать вхожу в здание «Банка Кассионсвилла и Канакесси-Вэлли» через бронзовые двери, сквозь другие такие же попадаю в лифт и, наконец, через стеклянную дверь – в приемную, где сидят пять человек и слушают «Жизнь за царя» Глинки. Это Маргарет Лорн, Тед Сингер, Абель Грин и Шерри Голд. И я. Мы читаем журналы: «Лайф», «Лук», «Здоровье сегодня» и «Водный мир». Только двое выбирают «Лайф». Конечно, разные выпуски, и один из этих читателей – я, другая – Маргарет Лорн. Вообще-то передо мной целая куча номеров, я играю в старую игру: пытаюсь расположить их в хронологическом порядке, не глядя на даты, и проигрываю. Маргарет бросает свой экземпляр и идет к доктору, а я каким-то образом понимаю, что это знак презрения. Поднимаю журнал и нахожу участок обложки, все еще теплый и слегка влажный от ее пальцев. Медсестра подходит к окну и вызывает миссис Прайс; Шерри, которой сейчас шестнадцать лет, отвечает, что та уже вошла. Медсестра выглядит обеспокоенной.
Шерри поворачивается к Теду Сингеру.
– Я… – говорит она, а потом переходит на неразличимый шепот.
– У нас у всех проблемы, – отвечает Тед.
Я подхожу к медсестре, незнакомой блондинке – возможно, она шведка.
– Пожалуйста, пустите меня к врачу. Я умираю.
– Из всех присутствующих вы последний в очереди, – говорит медсестра.
Тед Сингер и Шерри Голд явно намного моложе меня, но спорить с подобными доводами бесполезно. Я возвращаюсь на свое место, и медсестра называет мое имя – пора в смотровую, раздеваться.
Доктор Ван Несс немного моложе меня, он выглядит знатоком и одновременно самозванцем, словно медик из какого-нибудь телесериала. Спрашивает, на что я жалуюсь, и я объясняю, что живу в то время, когда он и все остальные уже умерли; у меня был инсульт, и я нуждаюсь в его помощи.
– Сколько вам лет, мистер Вир?
Я ему говорю. (Выдаю наилучшее предположение.)
Он издает какой-то тихий звук, потом открывает папку, которую носит с собой, и сообщает, когда у меня день рождения. В мае, и в саду устроили праздник, якобы для меня. Мне пять лет. Сад – боковой двор, окруженный высокой живой изгородью. Полагаю, даже по меркам взрослых двор большой, достаточно просторный для бадминтона или крокета, хотя и не для того и другого сразу; для пятилетнего мальчишки он огромен. Дети приезжают в угловатых, тряских автомобилях, словно игрушки, которые доставляют в грузовичках; девочки в розовых кружевных платьях, мальчики – в белых рубашках и темно-синих шортах. У одного мальчика есть кепка, которую мы закидываем в ежевику.
Сегодня весна – время года, которое на Среднем Западе может продлиться меньше недели, вынуждая жонкилии поникнуть от жары еще до того, как раскроются бутоны; так или иначе, это весна, настоящая весна, и ветер треплет первые одуванчики в честь их дня рождения, дескать, расти большой, не будь лапшой. Платья матерей на ладонь выше щиколоток и, как правило, неброских цветов; они предпочитают широкополые шляпы с низкой тульей и гагатовые бусы. Ветер норовит всколыхнуть то одну юбку, то другую, и женщины со смехом наклоняются, хватая одной рукой подол, другой – хлопающие поля шляпы; их бусы тренькают, словно занавески в тунисском борделе.
В ветреной тени гаража на гладко подстриженной лужайке для гостей приготовлен лимонад и розовый, покрытый глазурью торт – если с одного раза задуть все пять свечей, исполнится любое желание. Моя тетя Оливия – фиалковые глаза, черные волосы – вместо торта берет ледяную воду в большом бокале и крутит, зажимая в ладони, как будто согревает бренди; кассионсвиллская вода из реки Канакесси крутится и вертится, словно взывает к сомам и прочим рыбам. У ног Оливии белый пекинес величиной со спаниеля, и он рычит, когда кто-нибудь подходит слишком близко. (Смейтесь, дамы, но Мин-Сно и впрямь кусается.)
Миссис Блэк и мисс Болд, сестры, сидят рядом. Они – действуя сообща, словно богини-покровительницы соседствующих государств, которые объединились, дабы подвергнуть разорению поля третьего, то бишь мои – привели Бобби Блэка. У Барбары Блэк каштановые волосы, правильные черты лица и длинные мягкие ресницы; после рождения ребенка она – так говорит моя бабушка, чей смутный розовый призрак реет над вечеринкой – «набрала двадцать фунтов здоровой плоти»; но это не изменило ее цвет лица, который остается мягким и нежно-розоватым, как повелось в роду Болдов. Ее сестра – ослепительно белокурая, стройная и гибкая, как ива; слишком гибкая по меркам прочих дам, ибо с их точки зрения физическая податливость подразумевает моральную уступчивость и они подозревают Элеонору Болд во всяком (приписывая ей, сообразно собственным измышлениям и болтовне в клубе кройки и шитья, за раздачей карамелек и после службы в методистской церкви, самых немыслимых любовников: батраков и кочегаров, блудных сыновей предыдущих пасторов, молчаливого помощника шерифа).
Высокий белый дом – собственность бабушки; нашим матерям с лужайки видно, чем мы занимаемся, и поэтому мы почти не покидаем его пределов, шумно носимся туда-сюда по крутой и узкой лестнице без ковра со второго этажа на третий, где в бессловесном хихиканье таращимся на прислоненный к стене самой дальней и прохладной комнаты огромный портрет покойного брата моего отца.
Портрет, как известно из некоего тайного источника – что бы ни высмотрели недремлющие, пытливые очи кассионсвиллского спиритуалистического общества, недавно организованного моей тетей Арабеллой, этим источником наверняка была Ханна (в прошлом кухарка моей бабушки, а теперь – моей матери), – ну так вот, этот портрет был написан ровно за год до его смерти. На вид ему около четырех лет: темноволосое дитя с грустными глазами послушно, но без воодушевления позирует художнику. Он одет в свободные красные брюки, как зуав[3], белую шелковую рубашку и черный бархатный жилет, пахнет яблоками, поскольку его так долго хранили рядом с ними, а еще стегаными одеялами (украшенными вышивкой такой невероятной красоты, что каждое из них тканью собственного бытия становится мягким и теплым памятником бесконечному послеобеденному труду по вторникам и четвергам – и, во многих случаях, гению Уильяма Морриса[4]); и позже, на протяжении многих лет не видя образ покойного брата моего папы – сам отец с ним никогда не встречался, – я годами воображал, что на картине малыш стоял, завернувшись в стеганое одеяло (точно так же меня в детстве насильно укутывали в большое полотенце после купания), а у его ног катались яблоки. Лет этак в двадцать я снова вернулся в тот дом и избавился от иллюзии, одновременно осознав – с удивлением, весьма похожим на стыд, – что фантастический пейзаж, перед которым ребенок позировал, как будто стоя на подоконнике, этот край, всегда вызывавший у меня воспоминания о сказках Эндрю Лэнга (особенно из «Зеленой книги сказок») и Джорджа Макдональда[5], на самом деле был тосканским садом.
Сад с мраморным фавном и фонтаном, ломбардскими тополями и буками всегда производил на меня куда более сильное впечатление, чем бедный мертвый Джо, которого никто из нас, кроме бабушки и Ханны, никогда не видел и за чьей могилкой посреди кладбища на холме ухаживали в основном муравьи, воздвигшие на его груди город. Теперь я сижу в одиночестве перед камином, смотрю на обломки вяза, озаренные вспышками молний, потерянные и изломанные, словно корабль на мели, и мне кажется, что сад – я имею в виду сад маленького Джо, вечно греющийся в лучах тирренского полудня, – это ядро и корень реального мира, для которого вся наша Америка – лишь миниатюра в медальоне, забытом в дальнем ящике стола; и мысль (подкрепляемая воспоминанием) вынуждает вспомнить «Рай» Данте, где Земля (ибо мудрость мира сего была безумием мира иного)[6] физически находилась в центре, окруженная лимбом луны и прочими сферами, каждая огромнее предыдущей, и, наконец, самим Богом, но при этом физическая реальность в конечном итоге представляла собой обман, ибо Господь был центром духовной истины, а наша бедная планета изгонялась на периферию райских забот, за вычетом разве что тех мгновений, когда о ней думали с чем-то вроде постыдной ностальгии, и это отвлекало великих святых и Христа от созерцания триединого Бога.
Правда, все правда. Почему же мы любим этот беспризорный мир на краю сущего?
Я сижу перед маленьким очагом, и когда снаружи дует ветер – стонет в каменной трубе, которую я приказал возвести красоты ради, грохочет в водосточных желобах, завывает в кованых украшениях, вдоль карнизов и декоративных решеток, – мне открывается истина: планета Америка вращается вокруг своей оси где-то на задворках, на периферии, на самом краю безграничной галактики, от чьего круговорота захватывает дух. А звезды, которые как будто покачиваются на ветру, на самом деле порождают этот самый ветер. Иногда я вроде бы вижу огромные лица, склоняющиеся среди светил, чтобы заглянуть в мои два окна – лица золотые и нечеткие, тронутые жалостью и удивлением; и поднимаюсь я из кресла, ковыляю к хлипкой двери, но ничего там нет; и беру я топор («Бантингс Бест», 4 фунта 6 унций, ручка из гикори), что стоит у двери, а потом выхожу наружу, где под песню ветра деревья хлещут себя, как флагелланты, и глядят звезды сквозь решетку бегущих туч, но в остальном небо остается пустым и безжизненным.
С тосканским небом все иначе: его безмятежную голубизну прерывают лишь одно-два белых облака, не отбрасывающих тени. Фонтан сверкает на солнце, но Джо его не слышит, и вода никогда не намочит ни его одежду, ни даже каменные плиты вокруг бассейна. Джо держит крошечное ружье с жестяным стволом и деревянную собаку с негнущимися лапами, но Бобби Блэк идет и, если ему удастся захватить эту комнату, начнет бросать яблоки, которые разобьются о стены, забрызгают картину и пол хрустящими, ароматными, кислыми кляксами; а те, в свою очередь, в конце концов покоричневеют, обратятся в грязь и гниль, их обнаружат (скорее всего, это сделает Ханна) и обвинят меня – невозможно, немыслимо, чтобы мне пришлось вымыть пол, уж скорее свинья полетит или мышь сыграет на губной гармошке; мы – свиньи, мыши, дети – такими вещами не занимаемся, наши конечности для них не приспособлены. Я стою на верхней ступеньке лестницы, уступая в силе и росте, но превосходя в положении, я молчу, и мои глаза почти закрыты, а лицо искажено от подступающих слез – так я бросаю ему вызов; а он насмехается, зная, что стоит мне издать хоть один звук, и я проиграю; остальные заглядывают мне через плечо и между ног – они зрители, а не мои союзники.
И вот наконец мы, два карапуза, хватаемся друг за друга и пыхтим со слезами на глазах, как два раскрасневшихся бойца. На мгновение мы теряем равновесие.
Снаружи тетя Оливия закурила сигарету в мундштуке из мамонтовой кости (зуб дьявола) длиной с ее предплечье. «Шкура есть?» – спрашивает миссис Сингер, глядя на мою мать, и та отвечает: «Да, она на пианино; когда Ханна опять появится, попрошу, чтобы принесла», а миссис Грин, которая почему-то прислуживает маме – я слишком юн, чтобы в этом разбираться, но мы владеем фермой ее мужа, – провозглашает: «Я добуду ее, принцесса Белый Олененок», и мама: «Лети быстрее, принцесса Птичка-Невеличка», и все смеются, потому что они воображают себя индианками, и миссис Грин, которая совсем не невеличка, а низенькая, ширококостная и грузная, выбрала такое имя (хотя ей больше бы подошло «принцесса Кукурузница», как предлагала принцесса Звезда-за-Солнцем, моя тетя Оливия), чтобы всякий раз по-дурацки улыбаться, когда оно звучит во время ритуалов (и стоять, прижав правую руку к груди, пока моя мать вплетает ей перо в волосы перед церемонией готовки брауни для пау-вау[7]).
– Прискорбно, что так получилось, – говорит мама. – Кто-то должен был беречь старую шкуру.
Принцесса Певчая Птица, чей муж – строительный подрядчик, говорит:
– Надо было замуровать ее в фундаменте.
А принцесса Зелье Радости, сестра Элеоноры Болд, прибавляет:
– Ее хотели показать школьникам.
Миссис Грин возвращается, благоговейно неся мягкий сверток из оленьей шкуры – бледно-коричневой и почти такой же мягкой, как замша. Моя тетя Оливия – оливковая кожа, овальный лик, самая привлекательная женщина из присутствующих, если считать Элеонору Болд девушкой (а таковой она и была: кочегары и коммивояжеры, торговцы скобяными изделиями и батраки – все это персонажи мифические, как кентавры), – берет у нее сверток и разворачивает, зажав мундштук в зубах, изумляя и скандализируя остальных.
– Тут пусто, Делла.
– Я знаю, – говорит мама. – С этим придется разбираться самим.
– Откуда шкура? – спрашивает миссис Сингер.
– Добыча Джона, – говорит тетя Оливия и уточняет с улыбкой: – В смысле, вождя Белого Олененка.
– Ох, Ви!
– Я просто дурачусь, – говорит принцесса Звезда-за-Солнцем, почесывая Мин-Сно за ушами.
– Ох, Ви!
Приходит Ханна, убирает тарелки из-под торта, приносит кофе.
– Где дети, Ханна?
– Внутри. Точно не знаю. Кто-то из них вроде на краю огорода.
Руки у нее красные, волосы белые, лицо большое и квадратное. Она помнит фургоны[8], но не говорит об этом. Моя мать разговаривает с мужем, тетя Оливия – со своими собаками, жена методистского священника – с Богом, а бабушка – с Ханной, но та беседует только со мной, из-за этого я, сидя в постели у очага, все еще слышу ее, в то время как многие другие замолчали навсегда. Я отправляюсь в старый дом, особняк моей бабушки, на кухню, где в центре пола старый синий линолеум протерт до досок, и Ханна, принцесса Пенных Вод, моет посуду. Сажусь на маленький табурет возле железной печки…
– Все стало совсем другим. И место совсем другое. Раньше я была там, а теперь я здесь, и люди говорят – сказали бы, спроси я кого-нибудь, – что дни и ночи сменяют друг друга, крутятся и вертятся, как электрические часы с маленькой дырочкой на циферблате, которая каждую секунду становится то черной, то белой, и голова идет кругом, если на нее смотришь, но дело не в этом. Почему все меняется только из-за того, что солнце прячется за горизонтом? Вот что мне интересно. Все знают: оно на самом деле не движется. Помню, когда я была маленькой девочкой, совсем крохой, и Мод – он женился на ней после смерти мамули и заставил меня носить на голове мочалку, чтобы уши не оттопыривались, – просила наемную служанку, молодую ирландку, рассказывать ей сказки, и меня такой страх взял – ух какой страх! – я даже не выходила на улицу после наступления темноты, а ты представь себе, как темно было у Сахарного ручья по ночам, ведь там не видать других домов, только наши лампы на фотогене[9] и звезды! Звезды сияли так ярко, будто висели прямо над крышей; однажды я все-таки вышла наружу, на заднее крыльцо, и почувствовала под ногами кукурузу, которая просыпалась, когда я днем кормила цыплят, – тут мне стало ясно, что мир остался таким же, каким был, и я пошла прямиком к насосу, где тоже ничего не изменилось (стоило спуститься с крыльца, стало даже чуть светлее), и я вернулась домой, ступая широко и подобрав юбку, чтобы не споткнуться об подол. Теперь все исчезло, а когда мы с Мэри туда вернулись, Сахарного ручья тоже не увидели, только сухие камни на том месте, где он был. Это было в мае – нет, не в мае, а в июне – во второй половине мая или первой половине июня, не важно… И наш дом, он стал таким маленьким. Просто немыслимо, чтобы мы там жили всей семьей. Он оседал, разрушался, никто бы не смог пройти через его узкие двери. Я никогда в жизни не бывала дальше сотни миль от этого крошечного дома, а теперь его нет, и я даже не увидела, как он сгинул.
Я разделяю чувства Ханны, хотя и на свой лад. Мой дом не уменьшился, а разросся. (И пока что не разваливается.) Я спрашиваю себя, зачем мне понадобилось столько комнат – кажется, их становится все больше всякий раз, когда я отправляюсь исследовать свое жилище, – и почему они такие просторные. Эта комната велика в ширину, а в длину еще больше, с двумя громадными окнами на западной стороне, выходящими в сад, с востока же стена отделяет ее от столовой, кухни и моего уединенного кабинета, куда я теперь не заглядываю. В южном конце камин из бутового камня (вот почему я теперь живу здесь; это единственный камин в доме, разве что я забыл про еще какой-нибудь). Пол выложен плитняком, стены кирпичные, а между окнами висят картины. Мое ложе (не настоящая кровать) стоит перед камином, где я могу греться. Когда наступит лето – мысль кажется мне странной, – возможно, я опять буду спать в собственной спальне этажом выше.
И тогда, быть может, все действительно пойдет по-старому. Интересно, что бы случилось, останься Ханна переночевать на ферме у Сахарного ручья (я буду называть ее так; без сомнения, соседи называли это место домом Миллов)? Потекли бы воды вновь, журча в ночи и оделяя влагой сухие камни?
– Ханна?
– Ну что такое, чего ты хочешь? Вот сидит на табурете большеглазый малыш, и что же он успел за свою жизнь изведать? Труд? Ой, нет – ты ни дня не трудился. Глянь-ка на эту тарелку. Вот она какая, работа на хозяина. Ну, твоей вины в этом нет. Мне уже недолго осталось, Денни. Не понимаешь, что за чушь я несу? Тогда вымой всю посуду, а я сбегаю и поиграю в пятнашки с детворой. Вот же удивится твоя мама – спросит, кто эта новенькая? Я как раз собиралась сказать, что помню ее совсем малышкой, только вот на самом деле не помню, потому что она не из этих мест; твой отец в детстве играл с другой девочкой. Иногда теплыми летними вечерами под газовыми фонарями собиралось больше ребят, чем светских болтунов у какого-нибудь камина. Скоро опять наступит теплое лето, и ты, наверное, тоже отправишься туда, а я испеку пряники к рутбиру[10]; еще одну зиму пережила, а летом мне умереть не суждено – я всегда это знала.
Кажется, я никогда не видел, чтобы кто-нибудь мыл посуду на нашей кухне. Там есть посудомоечная машина, и ею всегда пользовались, только сперва соскребали объедки в слив и спускали в утилизатор – раковина была чем-то вроде мусорного бака. Теперь я готовлю еду в камине и ем рядом с ним; да мне и нужно-то совсем немного пищи.
– Вы худой, мистер Вир. Ваш вес ниже нормы.
– Да, вы всегда проверяете меня на диабет.
– Разденьтесь до трусов, пожалуйста. Сейчас придет медсестра и взвесит вас.
Я начинаю снимать с себя одежду, сознавая, что Шерри Голд находится в соседней кабинке, вероятно, разоблаченная до лифчика и трусиков. Она молоденькая, немного полноватая («Вы, кажется, прибавляете в весе, мисс Голд. Разденьтесь до лифчика и трусиков, пожалуйста, а я вернусь и взвешу вас».), с хорошеньким еврейским лицом – еврейки обычно некрасивые, а она вот миловидная. Я бы мог ее увидеть, проткнув дыру в перегородке складным ножом, и окажись удача на моей стороне, она бы не заметила ни яркое острие шила, ни оставшуюся после него темную дырку, из которой смотрит мой блестящий, немолодой синий глаз. Зная, что на самом деле ничего такого не сделаю, я начинаю рыться в карманах брюк в поисках ножа; его там нет, и я вспоминаю, что перестал носить эту штуковину с собой несколько месяцев назад, потому что каждый день ходил в офис и, поскольку больше не работал в лаборатории, никогда им не пользовался; а еще из-за него ткань брюк быстро протиралась в тех местах, где жесткие притины[11] упирались в правый набедренный карман.
Я стою, держась рукой за каминную полку, и снова проверяю: пусто. Снаружи барабанит дождь. Наверное, хорошо было бы вернуть мой складной нож.
– Доктор Ван Несс, если у меня все-таки случится инсульт, что делать?
– Мистер Вир, не в моих силах вылечить вас от несуществующей болезни.
– Да садитесь вы, ради бога. Почему, черт возьми, я не могу поговорить с доктором, как мужчина с мужчиной?
– Мистер Вир…
– На моем заводе нет ни одного человека, с которым я разговаривал бы так, как вы разговариваете с каждым своим пациентом.
– Не в моих силах уволить пациента, мистер Вир.
Я снова одеваюсь и сажусь в кресло. Входит медсестра, говорит, что мне надо раздеться, и уходит; через несколько минут доктор Ван Несс спрашивает:
– В чем дело, мистер Вир?
– Я хочу поговорить с вами. Садитесь.
Он садится на край смотрового стола, и мне хочется, чтобы снова был жив доктор Блэк, этот пугающий, грузный мужчина из моего детства, в темной одежде и с золотой цепочкой от часов. Барбара Болд, наверное, растолстела лишь потому, что готовила для него; глядя, как он ест, она вполне могла утратить всякое чувство меры, поскольку ее собственные порции, сколь угодно большие, должны были казаться намного меньше; разве она могла осознать, что вторая печеная картофелина или миска рисового пудинга со сливками – это лишнее, если ее муж съедал втрое больше? Мама протягивает ей блюдце с еще одним ломтиком розового торта, который, в строгом смысле слова, предназначен мне в честь дня рождения.
– Спасибо, Делла.
Сестра Барбары, Элеонора, говорит:
– Хорошо, мы можем писать на этой шкуре – но что именно и чем?
– Маслом? – предлагает тетя Оливия. – Можно взять мои краски.
Кто-то возражает, что у индейцев не было масляных красок, а миссис Сингер подчеркивает, что дети ничего не узнают.
– Но мы-то узнаем, – возражает мама. – Уже знаем.
– Послушайте, – говорит миссис Сингер, – меня осенило! Подумайте про их встречу – ну, поселенцев и индейцев. На самом деле писаниной занимались индейцы, но ведь все могло быть и наоборот! Случись оно так, текст выглядел бы обычным, а это значит, что мы можем его написать.
Прошу прощения, необходима короткая пауза. Позвольте мне встать и подойти к окну; позвольте положить эту сломанную ветку вяза – формой она напоминает рога деревянного оленя, из тех оленей, какие встречаются под огромнейшими рождественскими елками на открытом воздухе, – в камин. Дамы, я не этого хотел. Дамы, я лишь жажду узнать, надо ли в моем состоянии упражняться или избегать активности; ведь если мне следует упражняться, я отправлюсь на поиски своего скаутского ножа.
– Мистер Вир! Ну мистер Вир!
– Да? – Я выглядываю через приоткрытую дверь.
– О, вы одеты, я вижу по вашему рукаву.
– В чем дело, Шерри?
– Не входите, я не одета.
(Доктор Ван Несс возвращается, и Шерри прячется, хлопнув дверью своей кабинки.)
– Доктор, что касается инсульта…
– Мистер Вир, если я отвечу на ваши вопросы, вы согласитесь пройти небольшой тест? Своего рода игра с зеркалами. И еще не могли бы вы взглянуть на кое-какие картинки?
– Да, если вы ответите на мои вопросы.
– Ладно. Итак, у вас был инсульт. Должен заметить, с виду не скажешь, но я готов это принять. Каковы ваши симптомы?
– Не сейчас. У меня еще не было инсульта – пожалуйста, постарайтесь понять.
– У вас будет инсульт?
– Он случился в будущем, доктор. И не осталось никого, кто бы мог мне помочь, совсем никого. Я не знаю, как быть – и потому вернулся в прошлое, к вам.
– Сколько вам лет? Я имею в виду, сколько было, когда случился инсульт.
– Точно не знаю.
– Девяносто?
– Нет, не девяносто, не так много.
– У вас еще есть собственные зубы?
Я ощупываю их пальцами.
– Почти все.
– Какого цвета ваши волосы? – Доктор Ван Несс наклоняется вперед, бессознательно принимая позу прокурора на суде.
– Я не знаю. Их почти не осталось.
– Пальцы болят? Они шишковатые, опухшие, непослушные, воспаленные?
– Нет.
– И вы все еще время от времени испытываете сексуальное желание?
– О да.
– Тогда, я думаю, вам около шестидесяти, мистер Вир. То есть до инсульта осталось всего пятнадцать-двадцать лет – вас это беспокоит?
– Нет. – До этого я стоял в дверях смотровой. Теперь отхожу в сторону и сажусь на стул; доктор Ван Несс следует за мной. – Доктор, левая сторона моего лица оцепенела – у меня такого выражения никогда раньше не было, а теперь оно не меняется. Левая нога постоянно кривая, как будто неправильно срослась после перелома, а левая рука не очень крепкая.
– Головокружение бывает? Часто ли вы чувствуете рвотные позывы?
– Нет.
– У вас хороший аппетит?
– Нет.
– Вам больно передвигаться? Очень больно?
– Только эмоционально – ну, знаете, из-за того, что я вижу.
– Но не физически.
– Нет.
– Случился только один инсульт?
– Думаю, да. Я проснулся в таком виде. На следующее утро после смерти Шерри Голд.
– Мисс Голд? – Доктор едва заметно, как бы невзначай указывает подбородком в сторону разделяющей нас перегородки. Интересно, слушает ли меня девушка; надеюсь, что нет.
– Да.
– Но после этого ваше состояние не ухудшилось.
– Нет.
– Мистер Вир, вам необходима физическая активность. Выходите из дома, прогуливайтесь внутри него и беседуйте с людьми. Совершайте променад в несколько кварталов каждый день, если погода благоволит. Кажется, у вас большой сад?
– Да.
– Ну так поработайте в нем. Избавьтесь от сорняков и прочего.
Именно этим я частенько и занимаюсь – избавляюсь от сорняков и прочего. «Прочее» обычно цветы, а то и овощи; еще я нередко обнаруживаю, что выдрал из земли сорняк, который был милее взлелеянной клумбы. Есть один, которого я не видел уже много лет, он рос между забором и переулком у бабушкиного дома – очень высокий сорняк с нежной прямой колонной зеленого стебля и горизонтальными веточками на одинаковом расстоянии друг от друга, изящными и тонкими; каждая была безупречна и несла пучок миниатюрных листьев, которые весело глядели на солнышко. Я иногда думал, что летом деревья такие тихие, поскольку испытывают подобие экстаза; именно зимой, когда, по словам биологов, природа спит, они на самом деле бодрствуют – ведь солнца нет, и они словно наркоманы без наркотика, которые спят тревожным сном и часто просыпаются, бродят по темным коридорам лесов в поисках солнца.
И теперь я буду искать свой нож, тем самым выполняя упражнения, предписанные доктором Ван Нессом. Нож был большой, с надписью «Бойскаут». Накладки черные, из искусственного оленьего рога, от чего в воображении (по крайней мере, моем) рождался искусственный олень – с рогами, поднятыми гордо, как подобает любому обитателю вязовых рощ, – бродящий по лесу среди просыпающихся деревьев; деревьев, чьи листья умирают вместе с летом во всем своем синюшном многоцветье, но синяки эти прекрасны, словно кожа племен нерожденных, утаенных от человечества, ибо Господь, судьба или тупой научный случай (слепой, писклявый бог-обезьяна, бог-идиот ученого люда – мы встречались раньше; мы знаем тебя, смутьян вавилонский) лишили нас возможности лицезреть все эти алые и желтые – истинно красные, оранжевые, серо-буро-малиновые – народы на наших бульварах, а заодно отняли все удивительное богатство стереотипов, которыми мы могли бы насладиться, будь они нам дозволены: алый народ, чьи кулаки крепки, а женщины распутны, чьи диалекты невнятны, но зато они умеют рисовать мелом на стенках газетных киосков и демонстрируют выдающиеся способности в розничной торговле принадлежностями для хобби, вроде крохотных, игрушечных реактивных двигателей и моделей мусоровозов, чьи прожорливые огузки во время поездок по деревянным столешницам сосланных в подвалы обеденных столов пожирают отбросы вокзальных забегаловок; оранжевый народ с его странной религией, требующей поклонения солнечным часам (а наша собственная религия кажется другим племенам поклонением телеграфным столбам), так что во время приятельской болтовни в раздевалке, когда мы наконец-то и под угрозой определенных санкций допустили их в Пайнлон и обсуждаем теперь уже прошедший раунд, они начинают сыпать странными ругательствами. Что такое «нава»[12]?
И все они, поскольку земля наша полностью заселена, должны быть родом из стран чужих и далеких – от Хай-Бразила до Островов Солнца, от континентальных островов[13] до тех земель, что высились еще посреди Тетиса[14]. Только редчайшие из них, серо-буро-малиновые, родом из здешних мест, открытых святым Бренданом,[15] и они вымирают; славится этот народ не странными ругательствами, не талантами в каком-нибудь искусстве или умениями в ремесле, но алкоголизмом, гонореей и упадком. Из них получаются хорошие солдаты, и это фатально – схожим образом отважный искусственный олень рвется навстречу смерти, отвечая на искусственный боевой клич, и в иссохшем осеннем лесу получает пулю, а затем падает на краю картофельного поля, где продырявленные легкие изливают искусственную кровь. Искусственный охотник кричит и приплясывает от радости, а потом – поскольку он научился метко стрелять, но не умеет вскрывать туши, да и к тому же считает, что в его возрасте уже вредно таскать тяжести, – оставляет оленя гнить и вонять, превращая его в приманку для пластмассовых мух с рыболовными крючками в брюхе. Со временем плоть, растерзанная лисицами из искусственной шерсти, какие еще встречаются, и зубами псов, отпадет, и останутся лишь рога да целлулоидные кости, добыча изготовителя ножей для бойскаутов.
Притины – те жесткие валики на концах рукояти, которые протерли изрядное количество габардина и саржи к моменту, когда моя жизнь кончилась и я сел за свой письменный стол, – были из немецкого серебра, из Funfcentstucksilber, как пуговицы СС. Это мягкий, но прочный металл, и его тусклый блеск неподвластен времени. Про олово забудьте – оно для тарелок, блюд и разных кружек.
Но эти штуки, накладки и притины, находились снаружи, как подобает отделке ножа. Его сокровенная, истинная суть была предопределена выдвигающейся сбоку пластиной – то есть сталью.
Я очень хорошо помню Рождество, когда мне подарили нож; это было единственное Рождество, которое я провел у деда, отца моей матери. Дом стоял высоко на утесе над Миссисипи и имел множество широких окон, хотя, как и дом бабушки с узкими окнами, тоже был из выкрашенного в белый цвет дерева. Рождественская елка заслоняла несколько окон, так что сквозь ее ветви, среди дурацких кукол, мишуры и блестящих «фруктов» из болезненно тонкого стекла, можно было наблюдать за пароходами. Точно помню, что Рождество выдалось снежным, хотя так далеко на юге снег выпадал редко – если и выпадал, обычно ближе к концу года. Меня привезла мать; отец остался дома, без сомнения, чтобы поохотиться. Значит, в доме нас было четверо: я, моя мать, мой дед (высокий старик – как мне тогда казалось, – выкрасивший бороду и усы в черный цвет) и его экономка, полная блондинка лет сорока (как я теперь склонен думать). Моей матери было бы двадцать пять, мне – шесть. Год назад случилось происшествие с Бобби Блэком.
Наш поезд прибыл на станцию, уже слегка припорошенную снегом; помню мамино пальто с лисьим воротником и чернокожего мужчину, который – ухмыляясь всякий раз, когда мама смотрела на него, – помог нам с багажом и усадил в машину с деревянным кузовом, чтобы, как мне сказали, отвезти к дедушке.
– Тебе холодно, Ден?
Я ответил, что нет.
– Холодно и голодно. Мы согреем тебя там и уложим в постель, а потом наступит Рождество, и ты получишь свои игрушки.
– Полагаю, вы дочь Ванти, – сказал водитель. Лицо у него было вытянутое, словно отражение в тыльной стороне ложки, а в уголках глаз виднелись прыщики.
– Да, я Аделина, – сказала мама.
– Ну, сами убедитесь – с ним все в порядке; крепкий, на зависть большинству мужчин. Наверное, вы слышали, что теперь за домом присматривает Мэб Кроуфорд.
– Она мне написала.
– Правда? Ну, видать, так оно и есть. – Мужчина отвернулся от нас, наклонился вперед, и машина с деревянным кузовом, которая до этого тряслась и как будто что-то бормотала себе под нос, дернулась и почти так же внезапно застыла; под тем местом, где были наши с мамой ступни, что-то взорвалось, и после наше транспортное средство начало двигаться более-менее нормально. – А вы слыхали, что Эрл от нее удрал?
Мать ничего не ответила, плотнее закутавшись в пальто. Высокие окна рядом с нами дребезжали, сквозь них в салон автомобиля проникал холодный воздух.
– Сдается мне, Эрл уехал в Мемфис; ну и ладно, зато есть ваш папаша – экий живчик, не хуже какого-нибудь юноши. – Мы ехали мимо магазинов с темными витринами по улице, которая казалась очень широкой – возможно, потому что была пуста. – Это если верить ему на слово, а я верю; ну, такие вот дела. Она тоже поехала в Мемфис – слыхали, да? Потому все и решили, что Эрл именно туда удрал. Все случилось примерно через три месяца после того, как он исчез. Почти до самого Дня независимости; потом вернулась – ну, ей же надо было найти себе какое-то дело, а я так разумею, что женщина, которая была сама себе хозяйка, к другой в служанки не пойдет. Впрочем, Эрл не больно-то ее обеспечивал.
Несомненно, у дома моего деда имелся какой-то фасад, но я его не помню. Здание было, как я уже говорил, деревянным и вроде бы белым, хотя оно могло показаться таковым из-за снега. Как раз перед тем, как мы приехали (точнее, за несколько минут до того – ведь я, как и все маленькие дети, был уверен, что любая поездка заканчивается, едва начавшись), я начал опасаться, что дом окажется невзаправдашним – то есть не деревянным, а кирпичным или каменным, как другие такие же, в каком-то смысле противоестественные и похожие на театральные декорации (или даже нечто еще более нереальное, ведь в тот период ни термин, ни понятие как таковое не были мне знакомы), служащие – как я считал – лишь для того, чтобы отгородить улицы от чего-то иного; населенные людьми, судя по всему, но пригодные для троллей (а в этих существ я верил еще много лет после того Рождества, как верил, если уж на то пошло, и в Санта-Клауса).
Но дом был сколочен из надежных досок – такой не рухнет, а если и рухнет, то не навалится тяжким бременем. Дедушка и его экономка встретили нас на крыльце; в этом воспоминании я уверен. У всех дыхание превращалось в пар, и пока мама рылась в сумочке, дедушка расплатился с мужчиной, который нас привез. Миссис Кроуфорд, которая вышла на улицу в одном длинном платье, не накинув пальто, обняла меня и попросила звать ее Мэб; от нее пахло душистой пудрой и по́том, а также постирочным днем, какие устраивали в то время: грязной водой, разогретой на угольной плите. Звучит неприятно, но ощущалось иначе. Эти запахи – за исключением пудры, так как моя мать, тетя Оливия и другие женщины, которых я знал, пользовались другими марками, – были знакомыми и гораздо менее чуждыми, чем запахи железнодорожного вагона, в котором мы приехали.
Помню, какая суматоха воцарилась на скрипучих ступеньках крыльца, пока мы толкались, обнимались, расплачивались с водителем, разгружали багаж и приветствовали друг друга, и еще помню, как застывало в холодном воздухе дыхание и заметало снежком грязную сетчатую дверь, видневшуюся за приоткрытой на четверть настоящей дверью. Внутри стояла пузатая печка, и когда мы к ней подошли, белокурая Мэб попыталась помочь мне снять калоши, но пятки застряли, так что в конце концов маме пришлось ненадолго оставить дедушку и заняться мной. Потолки во всех комнатах были очень высокими, и там стояла большая рождественская елка, украшенная игрушками, шарами и незажженными свечами, а еще печеньем с присыпанной драже глазурью из яичного белка со свекольным соком.
За ужином я заметил (стоит подчеркнуть, когда я рассказываю, как что-то заметил, почувствовал или испытал, моя вера в правдивость рассказа сродни религиозному чувству – а ведь, может статься, единственная причина, по которой детские воспоминания так сильно на нас влияют, заключается в том, что из всего багажа памяти они самые отдаленные, вследствие чего самые зыбкие, и в наименьшей степени сопротивляются тому процессу, посредством которого мы подгоняем их под идеал, по сути представляющий собой художественный вымысел или, по крайней мере, нечто далекое от реальности; поэтому вполне вероятно, что некоторые из описанных мною событий вообще не происходили, но должны были произойти, а другие не имели тех оттенков или привкусов – к примеру, ревности, старины или стыда, – которые я позже бессознательно предпочел им придать), что хотя дедушка называл миссис Кроуфорд «Мэб» – несомненно, следуя привычке, – она называла его «мистер Эллиот»; и тут крылось нечто новое в их отношениях, причем она была довольна собой и считала, что культивирует смирение ради высшего блага – в те времена, стоило взрослым приступить к обсуждению подобных эмоций, неизменно всплывало выражение «образцовый христианин». Дедушку, по-моему, смущало это новоявленное почтение, он знал, что оно фальшивое, а также понимал, что моя мать распознает фальшь (что, несомненно, случилось еще до конца трапезы), от чего в нем пробудились стыд и гнев. Он оскорбил миссис Кроуфорд в том грубом деревенском стиле, который они оба понимали, сказав своей дочери (уплетая клецки за обе щеки), что не ел как следует с тех пор, как ее собственная мать «покинула этот мир» – дескать, кое-кто целыми днями бездельничает, поскольку заботиться нужно лишь об одном человеке, в отличие от нее, Деллы, которой «этот маленький негодник не дает сомкнуть глаз ни днем ни ночью, да еще и за благоверным надо присматривать». Это, конечно, выводило за скобки Ханну, о чьем существовании он наверняка знал: готовкой и тяжелой домашней работой занималась именно она. Стены столовой были увешаны сепиевыми фотографиями гарцующих лошадей, единственным исключением оставалось пространство прямо за головой деда, полностью скрытое из его поля зрения, когда он сидел за столом: там висел большой портрет женщины в величественном и сложном одеянии восьмидесятых годов девятнадцатого века – моей бабушки по материнской линии, ее звали Эвадна.
Когда трапеза закончилась, меня раздели и уложили в постель совместными усилиями матери и Мэб, которая пришла с нами, неся лампу, – не для того, как она сказала, чтобы показать путь, который, по ее заверениям, моя мама должна была знать гораздо лучше, чем она сама, а потому что «будет неправильно, если вы подниметесь к себе без провожатых, едва приехав, нельзя так поступать, и я бы ночью глаз не сомкнула, если бы такое учудила; не спала бы ни секундочки, миссис Вир». «Зовите меня Делла», – сказала мама, и миссис Кроуфорд от этого так разволновалась, что едва не выронила лампу.
Когда она ушла, мать принялась осматривать комнату, где, по ее словам, жила в детстве.
– Это была моя кровать, – сказала она, указывая на ту, на которой сидела минуту назад, – а другая принадлежала твоей тете Арабелле.
Я спросил, должен ли я спать в ней, и она сказала, что мы можем спать вместе, если мне так хочется. Я пробежал по холодному полу – тряпичный коврик не слишком защищал от холода – и сел на середину кровати, наблюдая за мамой.
– У нас тут был кукольный домик, – сказала она, – между слуховыми окнами.
– Мама, я получу кукольный домик на Рождество?
– Нет, глупыш, кукольные домики для девочек. Ты получишь игрушки для мальчиков.
Я сожалел об этом; у моей подруги по играм (девочки, хотя до того момента я не понимал, что этот факт как-то связан с игрушками) был большой и красиво расписанный кукольный домик со съемными стенами. Я несколько раз играл с ним, и поскольку видел его часто, мог вообразить во всех подробностях – а теперь вышло так, что мне никогда не обнаружить его под рождественской елкой; домик уплыл в туманное царство невозможного, как раз когда я решил, что он совсем близко. Я собирался расставить в нем своих игрушечных солдатиков, чтобы они стреляли из окон.
– Книга, – сказала мама после долгой паузы, на протяжении которой изучала содержимое шкафов. – Санта может принести тебе книгу, Ден.
Мне нравились книги, но я сомневался, что Санта-Клаус посещает какой-либо другой дом, кроме нашего – в особенности если речь шла о домах за пределами Кассионсвилла. Что уж говорить об этом странном, тихом жилище, пропитанном запахами старой одежды, которую много лет не вынимали из шкафа. Я спросил маму, и она сказала, что предупредила Санту о нашем приезде.
– А дедушке Санта что-нибудь принесет?
– Если он был хорошим мальчиком. Отвернись, Ден. Посмотри на стену. Мама хочет раздеться.
Когда лампа погасла, весь дом погрузился в безмолвие. Даже с закрытыми глазами я чувствовал, как снаружи тихо падает снег; еще я понимал, что мы единственные люди на этом этаже, пока наконец, как мне показалось, очень поздно, не услышал, как Мэб устало поднимается по лестнице, чтобы лечь спать в комнате, которая – как впоследствии рассказала мне мама – во времена ее детства принадлежала маме бабушки Ванти. Мне было тепло там, где спина прижималась к спине матери, ужасно холодно в прочих местах, несмотря на сокрушительную тяжесть стеганых одеял и перин; отчасти, без сомнения, потому, что я так устал, а еще потому, что южный дом не привык к холоду, который обрушился на него в ту ночь, – ведь это был просторный, продуваемый сквозняками особняк, даже в разгар зимы грезивший о спокойных, жарких вечерах, о качелях на крыльце и жужжании комаров. Мама спала, а я – нет. Под кроватью стоял ночной горшок; я воспользовался им и снова вернулся в тепло одеял, не испытывая облегчения.
Наконец, совершенно уверенный в том, что пролежал без сна почти всю ночь и что рассвет, наверное, уже посерел в окнах (хотя мой «рассвет» оказался не более чем сиянием луны на свежевыпавшем снегу снаружи), я прокрался вниз, чтобы погреться у печки в гостиной и посмотреть на рождественскую елку, пусть и считал, что подарки – если я вообще их получу – ждут меня дома, на том месте, где стояла бы наша елка, будь она у нас, или под каминной полкой без чулок. Я имел лишь смутное представление о плане этого жилища; помню, как несколько раз натыкался на не те комнаты – большую кухню, столовую с лошадьми, гарцующими по стенам, похожую на музей гостиную с чучелом какой-то большой птицы под стеклянным колпаком на центральном столе, словно предназначенным для компании (если компания когда-нибудь вновь придет сюда, если найдется общество, достойное этой гостиной с ее хрустальными чашами и восковыми фруктами, мебелью из конского волоса и фонографом, помню, как над ним немыслимым цветком ипомеи распустился рупор), которая должна была сидеть и изучать нетронутое пылью оперение; словно это был симург, последний в целом мире; словно дед решил организовать сборище натуралистов – и, возможно, птица на самом деле была такой и он действительно готовился принять у себя таких людей.
Дверь в нужную комнату, «повседневную гостиную», была закрыта, но я увидел желтую, как масло, полоску света у основания. Думал ли я, что это свет из печи, проникающий сквозь слюдяное окошко, или что кто-то оставил непогашенную лампу, или солнце светит в восточное окно – не забывайте, я был твердо убежден, что наступило утро, – теперь и сам не знаю; вероятно, я не стал тратить время на размышления. Я открыл дверь (не ручкой, которая поворачивалась, как у нас дома – а еще у нас было газовое освещение и керосином пользовались только тогда, когда приходилось куда-то нести лампу, так что в доме деда мне поначалу все время казалось, что происходит нечто чрезвычайное, – а странной защелкой, та сразу поддалась под нажимом моего большого пальца), и тут же ласковый желтый свет – нежный, как двухдневный цыпленок, как цветок одуванчика, и куда более яркий – хлынул наружу, и я с изумлением увидел, что все свечи на рождественской елке горят, каждая вытянулась по струнке на конце ветки, словно увенчанный пламенем белый призрак. Я направился к дереву, но, кажется, на полпути застыл как вкопанный. Елка блистала на фоне темного оконного стекла; за ним, далеко-далеко, сверкали звезды, отражаясь в реке; меж ветвями двигался лучистый пароход, с такого расстояния миниатюрнее и ярче любой игрушки. Под деревом и между нижними ветвями были сложены и втиснуты подарки, но я их почти не видел.
– М-да, похоже, ты опоздал, – проговорил дедушка, причудливо растянув первое слово. – Старина Ник уже ушел.
Я ничего не ответил, поначалу не видя его в углу, где он сидел в огромном старом дубовом кресле-качалке с вырезанной на высоком подголовнике маской.
– Он пришел, оставил всякие штуки, зажег свечи и вышел через дымоход. Взгляни-ка на часы вон там – уже за полночь. Он почти всегда приходит в двенадцать и не канителится. Я сам только спустился, чтобы взглянуть на эти свечи, прежде чем потушить их и лечь спать. Когда-то, много лет назад, я так и делал после того, как он уйдет. Ты умеешь определять время, младой Вир?
Меня звали не Младой, но я знал, что он имеет в виду меня, и покачал головой.
– Думаю, ты можешь взглянуть разочек. А потом вернешься в постель. Или уже насмотрелся?
– У нас дома нет свечей на елке.
– Твой отец, наверное, боится пожара. Что ж, всякое бывает. Я довольно быстро пришел следом за Ником, чтобы их задуть, а еще сам срубил это дерево меньше двух дней назад. Когда твоя мама была маленькой, они с сестрицей бегали подглядывать. Наверное, она уже про все забыла – а может, послала тебя.
– Она спит.
– Хочешь кинуть взгляд, что принес Ник?
Я кивнул.
– Ну, твой подарок я не покажу, а вот на остальные, думаю, поглядеть стоит. Итак, давай посмотрим.
Он поднялся из кресла: высокий, в темной одежде; на подбородке торчат жесткие черные волоски, словно столбики забора, которые обмакнули в креозот. Опираясь на трость, дедушка присел вместе со мной возле елки.
– Вот это твой подарок, – он показал мне тяжелый прямоугольный пакет с примятым бантом. – И еще этот. – Коробочка, в которой что-то дребезжало. – Тебе понравится. Ну, я надеюсь, что понравится.
– А можно сейчас открыть?
Дедушка покачал головой.
– Дождись завтрака. Теперь смотри сюда. – Он взял большую и тяжелую коробку, в которой что-то булькало, когда ее наклоняли. – Это туалетная вода для Мэб. А вот здесь… – Коробочка поменьше, перевязанная красной лентой. – Подожди чуток… – Он аккуратно снял ленту, и коробочка приоткрылась, словно раковина из синей кожи. – Это для твоей мамули. Знаешь, как такое называется? Жемчуг. – Он поднял нить, чтобы я полюбовался ею в сиянии свечей. – Все как на подбор, одинаковые. А сзади серебряный замочек с бриллиантами.
Я кивнул, впечатленный: мама уже донесла до меня важность своей шкатулки для драгоценностей, и я принял мудрое решение не прикасаться к священному сокровищу даже кончиком пальца.
– По-твоему, они ярко блестят? – спросил дедушка. – Дождись, пока она их увидит, и посмотри в ее глаза. Когда Ванти покинула этот мир, я взял все, что мы не отправили вместе с нею в могилу, и поделил между Беллой и Деллой. Так-то я многое повидал, но среди тех украшений не было ничего и вполовину столь изысканного – я ей такого не дарил, от матушки она такого не получила. А теперь ступай-ка в постель.
И словно по волшебству – возможно, это оно и было, поскольку я верю в волшебную суть Америки и в то, что мы, канувшие в Лету американцы, некогда были обитающим в нем волшебным народом, ныне ожидающим возможности предстать перед непостижимым грядущим поколением, как безымянные племена домикенской эпохи предстали перед греками; только дайте сигнал, и мы начнем шнырять, играя на дудочке, в еще не выросших рощах, а женщины наши в облике ламий поселятся среди розово-красных холмов, руин Чикаго и Индианаполиса, в то время как кроны деревьев поднимутся выше сто двадцать пятого этажа, – я снова оказался в постели, и старый дом покачивался в тишине, как будто привязанный к вселенной единственной нитью, свитой из печного дыма.
На следующее утро я проснулся в объятиях матери, мое лицо было холодным, но все остальное – теплым. Мы отнесли наши вещи на кухню и оделись там, обнаружив, что Мэб уже встала, готовит и греет воду, чтобы дед мог срезать щетину на подбородке своей большой бритвой; он лишь раз в неделю брился таким образом, но в Рождество, великий день, собирался сделать исключение. Она дала мне сахарное печенье с огромной изюминой посередине, чтобы заморить червячка, пока не готовы овсянка, ветчина и яйца, холодное молоко из примыкающего к заднему крыльцу «ледника», кофе – оказалось, и мне по традиции полагалась порция, чего никогда не случалось дома, – а также печенье и домашние пончики. Я, конечно, охотнее заглянул бы под елку, но об этом – как объяснила мама, согласно правилам дома – не могло быть и речи. Сначала завтрак. Этому покойная и мною забытая бабушка Ванти суровой рукой учила мою маму и ее сестру на протяжении всего их детства; и этому она и ее отец были полны решимости научить меня, хотя я всерьез подозревал, что в моем чулке найдутся апельсины (которые я всегда любил) и орехи, которые оказались бы куда лучшим перекусом, чем любое сахарное печенье. Мама несколько раз наведывалась в гостиную в промежутках между попытками помочь Мэб (такое же подобие помощи она оказывала Ханне дома) с приготовлением еды, но при этом клялась, что не ходила дальше двери; а мне даже не разрешили покидать кухню. Дед спустился вниз и сбрил щетину вокруг бороды в углу, где висело зеркало, – я впервые заметил, что он ниже ростом, чем мой отец. Он не обращал внимания на женщин, пока не покончил с этим занятием, а потом сел во главе стола, и мама сразу же налила ему кофе.
– Самое холодное Рождество на моей памяти, – сказала Мэб. – Снег на крыльце вот такой глубокий. – Она сделала преувеличенный жест, расставив руки на три-четыре фута. – Полагаю, нас заметет.
– Глупости говоришь, Мэб, – произнёс дедушка.
От его слов она улыбнулась, на пухлых щеках появились ямочки; она запустила пальцы, слегка влажные от разбитых яиц, в свои волосы цвета масла.
– Ну чего вы так, мистер Эллиот!
– К полудню все пройдет, – встряла мама. – Какая жалость. Снег такой красивый.
Дед сказал:
– Послушал бы я твои похвалы снегу, если бы тебе пришлось топать по нему, чтобы накидать сена лошадям.
Мэб пихнула маму локтем.
– Держу пари, вы бы хотели, чтобы мисс Белла была здесь! Вы бы с ней пуляли в него снежками!
– А я и так могу, – заявила мама. – Попрошу Дена помочь мне, если вы не захотите.
– О, мне нельзя, – сказала Мэб и хихикнула.
Дедушка фыркнул.
– Ишь, разбегалась кобылка, – пробормотал он, обращаясь ко мне, но я не понял смысла.
Мы позавтракали – взрослые ели с убийственной медлительностью, – а затем гурьбой отправились в гостиную. Как я и предполагал, там были апельсины и орехи. Конфеты. Пара подтяжек для дедушки и коробка с цветными платками (три штуки). Для меня – увесистая книга в зеленом коленкоровом переплете с ярко раскрашенной картинкой: русалка в стиле ар-нуво, более грациозная и более морская, чем любая мокрая девушка, которую я видел с тех пор, томно жестикулирующая кораблю эпохи позднего Средневековья, управляемому викингами, – на первой же внутренней иллюстрации он утонул, а иллюстраций было множество, похожих, столь же прекрасных – а иногда даже лучше, – как и первая, рассеянных по тексту, напечатанному готическим шрифтом и часто непонятному, но для меня совершенно завораживающему; и еще нож. Не сомневаюсь, именно такой нож дед выбрал бы для себя самого, мужской нож, хотя на вделанной в бок пластинке и было написано «Бойскаут». В закрытом виде он оказался длиннее моей ладони, и в дополнение к огромному клинку, напоминающему по форме лезвие копья, который, будучи раскрытым (я не смог его выдвинуть без помощи деда), удерживался в таком положении медной плоской пружиной, в нем были штопор и отвертка, открывалка для бутылок, лезвие поменьше – как предупредил дед, очень острое, – шило и инструмент для удаления гравия из копыт лошадей – кажется, он называется «копытный крючок». В отличие от лезвий мальчишеских ножей, которые изготавливали потом, все эти части сделали из высокоуглеродистой стали, а потому они ржавели, если их не смазывать маслом, но хорошо держали заточку, в отличие от броских и эффектных клинков.
Мама получила большую бутылку туалетной воды, а Мэб – нитку жемчуга, отчего сначала заплясала от радости, потом заплакала, несколько раз поцеловала дедушку и, наконец, выбежала из комнаты наверх, в свою спальню (мы слышали ее топот по ступенькам, быстрый и сбивчивый, словно у загулявшего бражника, спасающегося от полиции), где пробыла почти полдня.
В детстве я верил, что моя мать, из-за той неоспоримой щедрости, которую дети так легко обнаруживают в хорошем родителе, обменялась подарками с Мэб. Незадолго до поступления в колледж я понял (как мне показалось), что дед, наверное, сам поменял коробки – не после нашего разговора накануне вечером, а позже, в качестве платы за какую-то сексуальную услугу или в надежде получить ее, когда ночью он лежал один в большой спальне на первом этаже.
А теперь я стал старше – наверное, мне столько же лет, сколько было ему, – и вернулся к своему детскому мнению. Сдается мне, старики таких подарков не делают; интересно, что подумали в городе, и разрешил ли он ей оставить жемчуг, похоронили ли ее в этом ожерелье?
– Надо было замуровать шкуру в фундаменте.
И Барбара Блэк, мать Бобби:
– Ее хотели показать школьникам.
Но теперь-то жемчуга никто не видит, по крайней мере на ней; она уже мертва, эта пышнотелая, рубенсовская женщина. Когда моя мать умерла, я нашел среди ее вещей фотографию Мэб, стоящей рядом с моим сидящим дедушкой. Она показалась мне похожей на сиделку, да, ту самую разновидность сиделок, которых выбирают, чтобы угождали старику, хихикали и надували губки, пока он не примет лекарство, – словом, этакое ходячее сожаление. Не могу вообразить, чем она сама могла болеть в конце жизни и кто о ней заботился.
Помню, после смерти матери мне все время казалось, что та ушла слишком рано. А теперь я бросаю взгляд в прошлое и ощущаю, что мама прожила целые эпохи – как будто ей была отмерена вечность. (Может, где-то в ином месте она все еще живет.) Теперь уже слишком поздно что-то менять, но иногда мне приходит в голову, что в наших летописях с каждым новым поколением нужно указывать, как сильно мы удалились от крайне важных вещей. Когда умер последний очевидец какого-нибудь события или какое-нибудь историческое лицо; а потом – когда умер последний из тех, кто был с ними знаком; и так далее. Но сперва мы бы попросили первого человека описать то, что он видел и с чем соприкасался, а после того, как все они покинут этот мир, мы бы прочитали описание публично, чтобы понять, значит ли оно для нас хоть что-то – и если нет, то цепь связанных жизней считалась бы оборванной. Принцесса Пенной Воды, расскажи нам о том, как ты повидала индейцев.
– Ой, да к чему тебе эта старая байка. Ты ее слышал сотни раз.
– Ну пожалуйста, Ханна, расскажи, как папочка повел тебя к индейцам.
– Господи, тебя послушать, так мы на ярмарку сходили. Это была никакая не ярмарка. Ему просто надо было заключить с ними какую-то сделку, и он боялся, что кто-нибудь придет; в любом случае, я была слишком мала, чтобы оставаться одной. Это случилось сразу после смерти мамы, еще до рождения Мэри. До того, как появилась служанка, ирландка, – до того, как он вообще женился на той, другой.
Наверное, это прозвучит ужасно, Денни, но вот я вспоминаю те дни и думаю, что они были в моей жизни самыми хорошими – только не подумай, что я не тосковала по матери. Просто под конец все обернулось таким кошмаром, она была так больна, а я сильно переживала, но ничего не могла сделать, потому что была совсем крохой. И вот она отмучилась. Он спал рядом с ней, чтобы помочь, если ей что-нибудь понадобится, а она, наверное, скончалась ночью, и он не разбудил меня. Он сколотил для нее ящик – деревянными гвоздями, а не железными, теми мы пользовались редко, их делали кузнецы, и стоили они кучу денег. Но у него был бур, и он просверлил отверстия в досках, потом выстругал колышки и вбил их большим молотком, который смастерил сам. Боек тоже был деревянный. Матери он объяснил, что сооружает курятник, и она ответила – вот и славно, хотелось бы увидеть яйца. Он все твердил, что купит цыплят, когда доделает.
Тем утром я проснулась, когда он прибивал крышку – удары меня и разбудили. Знаешь, Денни, сколько раз я тебе это рассказывала, а никогда не вспоминала, но… все верно, именно это меня разбудило – стук молотка. Наверное, я не задумывалась, даже в тот день, ведь когда села в кроватке и посмотрела на него, он уже все закончил и просто стоял с киянкой в руке. Позже сказал мне, что колышки сделал из вишни, а доски – из сосны. У нас за домом росло вишневое дерево – не такое, чтобы пироги печь, а дичка: ее еще называют розовкой или темнушкой. Мама ни за что не позволила бы ему срубить вишню, потому что в цвету она была очень красивая, и он не срубил, даже после ее смерти. Просто колышков нарезал, потому что веточки были прямые, а древесина – твердая. А еще делал из вишни трубки; табак тоже выращивал сам. Чаши вырезал из кукурузных початков, и снаружи они оставались мягкими.
– Ханна, я могу сделать так, что ты скажешь индейское слово.
– Как? А, понятно. Ну ты и проныра[16]. Я знаю похожую историю… ох, она тебе точно понравится. Эту историю рассказывала та ирландская служанка, которую мы наняли, когда они поженились. Ну, она-то рассказывала ее интереснее: у нас тогда не было ни соседей, ни телефона – ничего, что есть сейчас. Мимо нашей фермы, у подножия холма, шла дорога, но иногда проходила целая неделя, прежде чем кто-нибудь появлялся на этой дороге…
В общем, жил-был бедный парень по имени Джек, и любил он девушку по имени Молли; однако отец Молли не хотел, чтобы они поженились, потому что у Джека не было за душой ничего, кроме работящих рук и улыбки; и все же он был хороший, сильный парень, ничего не боялся, и все в округе его любили. Отец Молли строил козни, интриговал, чтобы избавиться от дочкиного жениха, но бросить его в колодец боялся – Джек был слишком силен, и к тому же за такое и повесить могут. Ну так вот, ферма у него была большущая, с всяко-разной землей.
– Кэти, это взаправдашняя история?
– Слово даю, милая. И…
– Это случилось в Ирландии, Кэт?
– Ой, нетушки, мадама Милл. Это было в Масси-Чусетсе, там мой отец обувку тачал.
Были на той ферме луга и леса, поля для пахоты и поля для сена – что только не придумаешь, и к тому же земля была богатая на загляденье; но также попадались каменистые участки, и лощины среди зарослей, куда из года в год не проникал ни единый лучик солнца. Требовался целый день, чтобы пересечь такие обширные владения, и для сева нанимали десять человек, а для сбора урожая – сорок.
Так вот, в лесу, вдали от посторонних глаз, стоял каменный сарай – и, казалось бы, такой сарай можно для чего-нибудь приспособить, да? Но нет, стоял он пустой, как маслобойня по воскресеньям, из года в год. А причина заключалась в том, что там водился призрак, и не какой-нибудь, а банши – самое страшное привидение из всех, и я нередко слыхала, когда болтали про изгнание привидений, что можно избавиться от любого неупокоенного духа, кроме этого. Ежели сжечь дом – или какое иное строение – прямо с банши внутри, та останется на пепелище; и ни святейший из людей, ни даже сам епископ не сможет прогнать ее насовсем; проще избавиться от лендлорда, чем от банши. Выглядят они как уродливые старухи с длинными загребущими пальцами и зубищами, что шипы на ветвях терновника; банши – призрак повивальной бабки, которая убила младенца, потому что кто-то отсыпал ей золотишка и попросил избавить от неугодного наследника; и не знать ей отдыха до той поры, покуда земля, где она обитает, не уйдет под воду.
Каждую ночь, стоило луне заглянуть в окно, приходила банши. Если в сарае стояли коровы, она доила их и выливала молоко на землю; а если лошади – гоняла галопом всю ночь или пила кровь, так что утром те валились с ног. И если человек пытался остаться в сарае на всю ночь, она его хватала и душила, пока он не называл чье-то имя – и названный, кем бы он ни был, умирал в ту же ночь, а еще она рвала одежду несчастного в лохмотья и избивала дышлом от фургона, пока тело не превращалось в сплошной синяк, чтобы все знали, чьих рук это дело.
– Любой мог умереть, Кэти? Так ведь плохой дядя мог просто пойти в сарай и…
– Ну, так говорили. Он…
– …встретив банши, назвать имя дочкиного жениха?
– Он слишком ее боялся. Нет; и все же он думал и размышлял, мысли его так и метались, пока наконец ему не пришел на ум способ избавиться от Джека, который вечно беспокоил его из-за Молли, не давая сидеть себе спокойненько у собственного очага. Ты и сама догадалась, сомнений нет. Даже малышка Мэри в колыбели поняла, что к чему. Он сказал Джеку: проведи всю ночь в сарае и сделай так, чтобы тебя оттуда не вышвырнули – если получится, будет тебе и Молли, и половина фермы в придачу.
Пошел Джек в сарай и сел там, прислонившись к стене, наблюдая за луной в окошке, и ни разу не сомкнул глаз. В положенное время во мраке ночи появилось крохотное пятнышко лунного света, и едва это случилось, как кто-то постучал в дверь. Тук… тук… тук.
– Кэт, не стучи так по столу – ребенка разбудишь.
– Ну, Джек ничуточки не испугался и дерзко крикнул: «Кто бы ты ни был, входи, но дверь закрой – тут и так сквозняк». Дверь медленно приоткрылась, и вошла банши. Вместо платья на ней был саван, а походка у нее была вот такая. «Джек, ежели ты не возражаешь, я оставлю дверь открытой, – сказала гостья, – все равно она тебе скоро пригодится». У Джека на языке вертелись слова, дескать, есть у него Молли, и он здесь останется любой ценой, пока не засияет солнце, потому что очень ее любит, но он и пикнуть не успел, как банши вцепилась ему в глотку и завопила: «Имя! Имя!» Ибо привидения эти все время жаждут заполучить живую душу, но не могут, пока не узнают чье-то истинное имя, а люди все и вся забывают, когда их охватывает смертный страх. Да Джек и не собирался никого называть, даже если она его совсем задушит, но банши все колотила бедолагу об стену, и поскольку держала его за шею, язык у парня вывалился аж до пряжки от ремня, и он так одурел от того, как его душили и лупили, что чуть было не позвал Молли; потом пришло ему на ум назвать имя ее отца, но это же был его будущий тесть, если они с любимой когда-нибудь поженятся, а с родней так не поступают, и потому, чтобы избавиться от банши, он возьми да и назови имя самого подлого человека, о каком вспомнил, – человек тот грабил всех подряд, беднякам не давал ни пенни, и тогда тварь отпустила Джека; но перед этим выдернула доску из конторки, которая стояла в сарае, и так отделала, что он шагу ступить не мог, да и вышвырнула за дверь – там его поутру нашли, отец Молли принес бутылку зелья из ведьмина ореха[17], но сказал, что больше не желает его знать.
Думаете, это конец, а вот и нет. Мало-помалу Джеку стало лучше, он по-прежнему любил Молли и решил попытаться еще раз; ее отец этого не хотел, но девушка плакала и все такое, так что в конце концов фермер разрешил – и тогда Молли снова заплакала, думая, что на этот раз Джека уж точно убьют. Ждал он, ждал, как и в первый раз, и пришла банши, которой Джек назвал имя одной старой леди, которая все равно должна была скоро умереть, – и привидение поколотило его так сильно, что он чуть не помер.
Думаете, это конец, а вот и нет. В следующий раз Джек пообещал отцу Молли, что если не продержится в сарае до рассвета – банши там или не банши, – то уедет в Техас. Явилось привидение, значится, как и в прошлые два раза, только выглядело уродливее и крупнее. Когти у него были длинные, как вязальные спицы, и Джек подумал, что оно сейчас выцарапает ему глаза, поэтому поднял руку вот так, чтобы оно не могло его ослепить, и когда он это сделал, банши схватила его за шею. Ну что ж, боролись они и сражались – то ли как коты из Килкенни, то ли как святой Брендан с дьяволом. В конце концов Джек понял, что ему придется сказать чье-то имя, и назвал отца Молли, и можно подумать, что на этом злому старику придет конец, однако Джек успел заметить, что после того, как он кого-то называл, всегда возникала небольшая заминка, пока банши искала, чем бы его отдубасить. Стоило ей разжать хватку, как он сам схватил ее за шею! «Ну вот, – сказал Джек, – ты попалась. Выплюнь-ка имя, которое я тебе отдал, или я сломаю твой мерзкий хребет, как прутик от метлы!» И она подчинилась. Кашлянула пару раз и выхаркнула имя Моллиного отца – то шлепнулось на пол сарая и осталось там лежать, ужасно испоганенное после того, как побывало внутри привидения. «Теперь отпусти меня, – сказала банши Джеку, – я вернула тебе то, что получила сегодня ночью, а мертвецам воскреснуть не суждено». «Не суждено, – согласился Джек, – но будут другие, и младенец в колыбели, и старик, что коротает вечность, сидя у камина в углу. Слыхал я, что банши обладают даром предвидения». «Что ж, это так, – сказала она, – ежели ты чуток ослабишь хватку на моей несчастной шее, я тебе про будущее все-все поведаю». «Держи карман шире», – сказал Джек и принялся ее лупить, словно пыль из ковра выбивал. А потом и говорит: «Трижды ты спрашивала меня, кто умрет, а я один раз спрошу тебя, кто родится». «Антихрист, – прошипела банши, что твоя змеюка, – и быть тебе его отцом».
– Не богохульствуй, Кэт.
– Едва последнее слово слетело с ее губ, взорвалась она, как бочка с порохом, и полетел бедняга Джек кувырком. Когда очухался, банши уже не было, и с той поры никто ее не видел, а когда пришли люди утром к сараю, то там сидел Джек на точильном камне и ковырял в зубах щепочкой. Только пришел не отец Молли: после того, как банши проглотила его имя, тот слег, а через год помер. Ну, Джек и Молли поженились в церкви, но он построил себе маленький домик рядом с ее большим, и там живет, и теперь они оба старые, и детей у них нет.
– А банши потом вернулась, Кэти?
– И след простыл, только вот скоту в том сарае живется плохо, Джек в основном хранит там чуток сена, и оно вечно гниет. Молли уже старуха, и говорят, что с виду она вылитая банши.
– Довольно, Кэт. Что-то ты хватила лишку. Уложи Ханну, а я займусь Мэри.
– Иди-ка сюда, зайка моя, снимай платьице и сделай так, чтобы я увидела твое милое личико, потому что прямо сейчас по нему размазана половина твоего ужина.
– Ты мне делаешь больно, Кэти.
– Я хотела тебя кое о чем спросить, зайка. Кого я вижу за твоей спиной?
– Это всего лишь маленький Ден, Кэти. Он уже бывал тут раньше.
– Да, но за ним есть еще кто-то – я его вижу очень неотчетливо.
– Я вижу только того, кто позади меня, Кэти. Вот такую историю рассказывала ирландка, Денни. Много их было. Знаешь, не слишком-то хорошо заставлять людей говорить то, что им говорить не хочется.
– Я знаю еще одну шутку, Ханна. Скажи «три».
– Сам сопли подотри, маленький негодник.
– Ты так и не рассказала мне про индейцев.
– Ну, я же не Буффало Билл[18], Денни. Это единственные индейцы, которых я видела за всю жизнь, не считая тех случаев, когда я была взрослой женщиной и приезжал цирк. Они были здесь последними индейцами.
– Расскажи.
– У них был маленький домик. Не островерхий шатер, как в книжках, а домишко из палок, покрытый снаружи корой. Такой крохотный, что взрослому человеку пришлось бы встать на четвереньки, чтобы попасть внутрь, и мой отец никогда туда не заходил, но я пробралась, пока он торговался с индейцем, и внутри сидела индианка – у костерка, дым из него поднимался через дырку в крыше, – а у нее на коленях лежал индейский младенец; на куске настоящей мягкой кожи, сам в чем мать родила. У стены валялась Библия, – видать, оставил какой-то миссионер, – а еще я увидела пучок перьев и немного дров; больше во всем доме не было ничего. У индейца, который разговаривал с папой снаружи, были пистолет и нож. Индианка даже не взглянула на меня, просто сидела и раскачивалась взад-вперед, держа ребенка на коленях; тот не двигался, может, вообще умер… такой кроха… Потом я рассказала папе про индианку, и он решил, что та, вероятно, напилась.
Не сомневаюсь, что напилась, но у индейца-то нож есть, а у меня нет, и доктор Ван Несс велел больше двигаться. Я всегда сомневался, что правильно начертил планы этого дома; таков изъян строительства в пожилом возрасте и переезда в новое жилище после того, как множество старых уже закрепились в мозгу и стали частью его пейзажа, смахивая на романтичные древние развалины с картин девятнадцатого века, где из осыпающихся трещин растут кусты и даже кедровые деревца. Помню, Элеонора Болд как-то рассказывала, что розу сорта «бель амур» нашли растущей из стены разрушенного монастыря в Швейцарии; стены этих старинных домов в моем воображении именно таковы: гниют и осыпаются, но в то же время ощетинились шипами и пестрят удивительными цветами, и корни всего живого, что в них поселилось, связывают камни крепче, чем это когда-либо удавалось строительному раствору и штукатурке.
Кроме того, я совершил ошибку, когда компания наконец оказалась в моих руках и у меня появилось достаточно средств: я воссоздал – или почти воссоздал – некоторые хорошо известные мне комнаты и наполнил мебелью, полученной в наследство. Было бы лучше – и я вполне мог себе это позволить – восстановить сами дома или скупить участки, на которых они стояли (многое снесли, освобождая место для третьеразрядных квартир и парковок), и построить заново. Тысячи старых фотографий могли бы послужить руководством для строителей, и, конечно, я без труда подыскал бы бездетных пар со старомодными привычками, которые были бы счастливы поддерживать и лелеять эти владения в обмен на скромную арендную плату.
Но я оплошал, и теперь в моем доме функциональные комнаты перемежаются с «музейными»; стоит попытаться вспомнить, где расположены последние – или, если уж на то пошло, где лестницы или чулан, в котором я когда-то держал зонтик, – как я теряюсь в лабиринте безымянных картин и дверей, открывающихся в никуда. «Грязь занесла следы веселых игр; тропинок нет в зеленых лабиринтах»[19]. (Помню, как архитектор разворачивал синие чертежи на столе в обеденном уголке моей маленькой квартиры, и случалось это неоднократно, поскольку изменениям и совещаниям – как тогда казалось – не было конца. Помню квадраты и прямоугольники, которым предстояло стать комнатами, как архитектор снова и снова говорил мне, что комнаты без окон будут темными, – точнее, мы предусмотрели для них окна в соответствующих местах, всегда прикрытые шторами или ставнями, рассеивающими свет; или загороженные разрисованными ширмами, потому что тетя Оливия так загородила некоторые окна у себя дома, подражая, как мне думается, Элизабет Барретт; или открывающийся из них вид будет декорацией, как в кукольном театре. Но я не помню их расположения относительно этой длинной закрытой веранды, в которой обитаю, не помню даже, на каком они этаже. Наверное, мне следовало бы выйти на улицу и, если получится, обойти весь дом, заглядывая в окна, как вор, отмечая нанесенный зимой ущерб. Но это кажется избыточным и чрезмерным для человека, который только и мечтает о том, чтобы побродить по собственному дому, а не вести себя так, словно попал в «комнату смеха» на ярмарке, где все стены если не стеклянные, то зеркальные.)
– Вы обещали, мистер Вир, что, если я пропишу вам лекарство от инсульта, вы будете сотрудничать со мной – пройдете определенные тесты.
– Я совсем забыл о вас. Я думал, вы ушли.
– Подождите минутку, я кое-что отодвину. Вот, видите? Это зеркало. Сбоку у него колесики.
– Похоже на зеркало в «комнате смеха».
– Вот именно. Встаньте перед ним, пожалуйста. Видите, когда я поворачиваю колесо, область зеркала, прилегающая к нему, искажается; вы понимаете, к чему я веду?
– Это ведь металл, не так ли? Стекло так себя не ведет.
– Думаю, это пластик с серебряным покрытием. Вы понимаете, как это работает?
– Конечно.
– Очень хорошо. Теперь я хочу, чтобы вы встали прямо там и отрегулировали колесики: пусть ваше отражение сделается таким, каким оно должно быть.
Я вращаю волшебные колеса, придавая себе то внушительную необъятность в области половых органов, то корпоративное пузо, положенное крупному промышленнику, то узкую талию и преувеличенные плечи трудяги-ковбоя, пока, наконец, не привожу все в порядок. Поджав губы, доктор Ван Несс записывает цифры на каждом переключателе (их пять) и сравнивает с цифрами на листке бумаги, который берет со стола.
– Как я справился?
– Очень хорошо, мистер Вир. Возможно, даже слишком хорошо. Вы безупречно отобразили каждую из психосомических областей тела; другими словами, индивидуально обусловленная реакция равняется нулю. Я бы сказал, что это указывает на очень высокий уровень самоконтроля.
– Хотите сказать, я так выгляжу?
– Да, именно так. Пугающий вид, не правда ли?
– Нет, отнюдь. А я, оказывается, гигант. Мысли… то есть, мысли в процессе были только о том, как бы не погрешить против истины.
– Вы не очень высокого роста, мистер Вир.
– Нет, но выше, чем думал. Это радует.
– Мне показалось, или пару секунд назад вы исподволь назвали себя «гигантом мысли»?
– Я пошутил. Повеселил самого себя. Увы, со мной так бывает часто – я не жду, что собеседники поймут мои шутки, и они их действительно понимают лишь изредка.
– Ясно. – Доктор Ван Несс что-то записывает.
– Знаете, мне от вас на самом деле требовалась только консультация о влиянии физических упражнений на последствия инсульта. Я ее получил, и теперь должен вас устранить.
– Вы действительно думаете, что вам это под силу, мистер Вир?
– Конечно. Мне нужно лишь обратить свой ум на что-то другое – естественно, с вашей точки зрения это недоказуемо, ведь вы не сможете узреть доказательство.
– Вам кажется, что вы можете контролировать весь мир… силой мысли?
– Речь об этом мире, а не о реальном. В реальности я пожилой человек, больной и одинокий, не способный ничего изменить. Но этот мир – ныне ваш единственный мир, Ван Несс, – я создал из собственного воображения и воспоминаний. Этой беседы между нами никогда не было, однако я хотел посоветоваться насчет инсульта.
– Вы можете заставить меня встать на голову? Или посинеть?
– Я предпочитаю, чтобы вы оставались самим собой.
– Я тоже. Вы, наверное, помните, мистер Вир, что, когда я давал вам совет насчет этого будущего инсульта, вы обещали взглянуть на кое-какие карточки. Вот, пожалуйста.
– И что же мне делать?
– Переверните первую. Расскажите мне, кто эти люди и чем они заняты.
2. Оливия
Спустя некоторое время Бобби Блэк умер от травмы позвоночника, полученной на лестнице в доме моей бабушки. Вскоре после его похорон я переехал жить к тете Оливии. Мне тогда было (кажется) лет восемь-девять. Блэки – понятное дело, что уж говорить – озлобились и никак не могли успокоиться, и ситуация в обществе, по-видимому, сложилась довольно напряженная. Мои родители решили провести полгода или больше, путешествуя по Европе, но меня сочли слишком маленьким, чтобы взять с собой. Вызвалась ли тетя присматривать за мной добровольно или ее каким-то образом к этому принудили (я думаю, в то время она зависела от моего отца в финансовом смысле, по крайней мере, частично), мне неведомо. Несомненно, поначалу я чувствовал себя нежеланным гостем, и, хотя со временем это изменилось, не верю, что тетя когда-либо считала меня более-менее постоянным жителем в своем доме – с ее точки зрения, я был ночным визитером, пообещавшим или обязанным уехать на следующий день; однако этот день никак не наступал, так что вся моя жизнь превратилась в растянувшееся утро, невыносимо долгий полдень и бесконечный вечер; и все это время я провел в доме через один переулок и пять участков от старого особняка моей матери (точнее, бабушки), к которому наведывался, наверное, с десяток раз в первые недели после отъезда родителей, чтобы заглянуть в занавешенные окна. Тетя безжалостно высмеивала меня, когда находила там, и мне редко случалось чувствовать себя более покинутым и одиноким, чем в то время.
Дом тети Оливии сильно отличался от бабушкиного – он был горизонтальный и просторный (хотя в нем имелось всего два этажа, подвал и чердак), а не высокий, вытянутый и полный укромных уголков. У бабушки я всегда чувствовал, что дом многое знает, но ничего не скажет; а дом тети Оливии все позабыл.
Окна были большие. Одно, эркерное, выходило на улицу, а другое, на боковой стене, – в сад камней; под ними, а также под другими окнами, стояли заваленные нотами банкетки – если, конечно, я не путаю их со скамеечкой для фортепиано с таким же мягким, поднимающимся верхом. Наверное, эти две разновидности сидений в то время казались мне похожими, одинаково чужеродными и волшебными, ибо в доме бабушки не было банкеток и пианисты сидели на табурете, тот обладал особым качеством: делался выше или ниже, когда его вращали.
Стены отличались взбалмошным характером: они оставались прямыми самое большее на протяжении одной комнаты, да и в прочих отношениях их терзала нерешительность – они были то деревянные, выкрашенные в белый, то кирпичные, причем кирпичи зачастую различались; попадались мягкие, предназначенные для строительства, они уже крошились от старости, а еще твердые и стеклянистые, такие использовали для мощения дорог (и изготавливали в какой-нибудь местной печи, широко известной в узких кругах). Ставни были зеленые. Крыша – кедровая дранка местами поросла ярким мхом – тоже зеленела, как и купол венчавшей гостиную лантерны[20] с дорическими колоннами vert de Grice[21].
Дом тянулся почти до самого тротуара, так что, собственно говоря, лужайки перед ним не было, только две клумбы, отведенные под папоротники, поскольку больше ничего не росло в тени вязов, возвышающихся между тротуаром и проезжей частью. В одном из боковых дворов располагался сад камней с крошечными кувыркающимися эльфами и гномами, а также купальней для птиц, из которой соседские кошки, перелезая через забор и одинаково презирая керамических стражей и собак в вольерах, регулярно воровали золотых рыбок из «Вулвортса», а моя тетя столь же регулярно запускала новых.
Двор по другую сторону дома получал больше солнечного света и щеголял зеленой травой с яркой россыпью цинний, ноготков и других похожих цветов. На заднем дворе те собаки, которым в соответствующий период времени не разрешалось входить в дом, жили в конурах и бегали в вольерах.
Ибо моя тетя выращивала пекинесов.
И действительно, она «выращивала» их в самом буквальном смысле: в то время как все другие заводчики стремились к уменьшению, питомцев моей тети, хотя те и сохранили характерные для породы приплюснутые морды, выпученные глаза и кривые лапы, отбирали и выводили по размеру, потому что она намеревалась воссоздать «львиных собак» – древних свирепых псов эпохи Тан и собак Фу, которые были для средневекового Китая тем же, чем мастиф для Европы; и по сравнению с предками нынешние пекинесы – всего лишь игрушки, миниатюрные копии, пожизненные щенки, обреченные быть объектом развлечения и умиления детей и глупых женщин Запретного города.
Моя тетя знала, что такая участь не для нее. Она не обитала под чьим-то крылышком – после смерти отца она жила одна, более-менее независимо, относясь к моей бабушке, своей матери, гораздо более отстраненно, чем моя мать. И глупостью не страдала. На самом деле, можно сказать, Оливия была из тех, кому свойственно горе от ума, ибо она выставляла себя смешной, не заботясь о множестве вещей, которые ценили мы – люди из ее окружения, родственники и приятели, а также те самые ныне повзрослевшие девочки, с кем она сидела в одной классной комнате в милой кирпичной школе на краю бывшего поселка – той самой школе, где каким-то образом выучила (или избрала по собственному желанию) совершенно иную программу, нежели ту, которую учителя считали важной. Она была из тех феминисток, что презирают женщин; чулком настолько синим, что он казался почти черным; любительницей всевозможных искусств, музыки (тетя играла на пианино, как я уже упоминал, и еще на арфе), живописи, поэзии и какой угодно литературы; она лепила из глины, расставляла по дому букеты – любезно выпрашивая у соседей и друзей те материалы (а их было много), которые не предоставлял ее собственный сад, и используя, кроме того, полевые цветы, рогоз и ветки, сломанные с дикорастущих деревьев в сезон цветения, – а также подбирала мебель и картины, причем не только для собственного дома, но и – по настроению – для любого, кто соизволил бы ее впустить. Она подписывалась на интеллектуальные и научные журналы, которые иначе никогда не появились бы в Кассионсвилле, и, прочитав, отдавала их в библиотеку, так что чужестранец – скажем, коммивояжер, только что сошедший с поезда и желающий почитать в тишине перед тем, как провести ночь в отеле «Эббот», – счел бы город настоящим средоточием интеллектуализма, хотя на самом деле какой-нибудь счастливый владелец автомобиля мог бы объездить Кассионсвилл всего-то за один весенний день, пригожий, как пучок анютиных глазок и ландышей на шляпке, начав от универмага «Макафи» и закончив у пекарни «Дюбарри», что располагалась на другом конце Мейн-стрит.
Оливия никогда не была замужем. Она жила одна со своими собаками в большом доме, стирала белье у прачки, и два-три раза в месяц к ней приходила другая женщина – редко одна и та же два раза подряд, так как их всего было пять или семь, и Оливия, по ее словам, «расширяла сферу сотрудничества ради общего блага», – чтобы сделать уборку; этакая временная служанка, с которой тетя сплетничала пару часов за обедом, переплачивала и обвиняла в краже, стоило той уйти.
В плохую погоду Оливия могла целыми днями не выходить из дома, и я помню, как за год до переезда к ней услышал – морозным утром, когда шел в школу, – звуки арфы над заснеженной улицей. Когда у нее было хорошее настроение, и особенно по воскресеньям, она могла отправиться в гости к кому-нибудь, но другие женщины редко ее навещали. Подозреваю, она немного пугала их, они завидовали ее свободе и к тому же боялись ее отчужденного отношения ко всему, что придавало смысл их собственной жизни: мужьям и детям, готовке и шитью, менталитету фермерши-без-фермы, огородам (они были почти у всех, кроме тети Оливии, потому что если нет огорода, то и про заготовки на зиму можно не думать) и курам (наличествовали у многих огородниц), а также родственникам, которые приходят на ужин и приводят детей.
Мы были единственной родней тети Оливии, и никто никогда не приходил обедать к ней домой, потому что она не готовила: часто на ужин (помню, как я был потрясен, когда впервые это увидел) были только маринованный огурец (из банки, подаренной каким-нибудь соседом-мариновальщиком) и чашка чая. Ее поклонники – за время, пока я у нее гостил, их было трое – приходили вечером, пообедав, как водится, вскоре после полудня. Она угощала их чаем с пирогом или печеньем из лавки «Дюбарри», со смехом замечая, что, поскольку не готовит для себя, не будет готовить и для мужчины, а значит, им придется голодать, если они возьмут ее в жены, – они же все до единого клялись, что у нее будет кухарка и горничная, стоит лишь выйти замуж. Профессор Пикок – худощавый, добродушный мужчина – даже предложил голодать вместе с Оливией, если ей будет так угодно, и еще – поселиться в пансионе (в целых двух городах от Кассионсвилла!), где он жил, прорубить дыру в стене между комнатами и уподобиться «троглодитам, про которых знают классики», включая Монтескье, питаться клецками по воскресеньям и курицей со сливками по понедельникам, а в другие дни – каким-нибудь рагу, исключая визиты гостей или появление среди членов факультета многообещающих новичков, от чьих суждений зависело будущее всего заведения, в честь чего и подавали жареную свинину с подливой, особенно если был июль. Профессор, которого я пару раз встречал на улице еще до того, как переехал к тете Оливии (он приезжал в гости, иногда дважды в неделю, останавливался на ночь в отеле и возвращался к студентам ранним утренним поездом), был единственным доказательством того, что всего в тридцати пяти милях от Кассионсвилла был – а он и в самом деле там был! – университет, этакая зеленая и живая ветвь, унесенная ветрами и течениями любви далеко в море невежества, море кур, свиней и мясного скота, кукурузы и помидоров, где ее мог поднять из воды усталый моряк и, прижавшись лицом к листве, ощутить еще не выветрившийся запах мела, даже не зная, в какой стороне света (если безыскусный человечий компас вообще способен таковую указать) лежит легендарная страна знаний.
(Только что, сам того не осознавая, я описал – точнее, спародировал – гравюру, висевшую в гостиной бабушки, кажется, рядом с изображением девушки, вцепившейся в скалу посреди бушующего моря, то бишь твердыню вечную. На гравюре был Колумб, под взглядами изумленных соратников поднимающий из волн веточку кизила на фоне заката и многообещающего бурления волн на горизонте. В детстве картина создавала у меня впечатление – думаю, в этом и заключалась ее цель, – что Новый Свет до своего открытия не существовал.)
Чему именно учил профессор Пикок, я так и не узнал, но то, что мне запомнилось из его речей, подводит к мысли об антропологии или истории США, хотя с тем же успехом это могло быть полдесятка других научных областей, в то время как две упомянутые темы представляли собой его увлечения – то, что ему лучше всего удавалось, а не то, за что ему платили. В конце концов, если подробно изучить жизнь большинства людей, то окажется, что каждый из них был экспертом грандиозной важности в какой-нибудь неоплачиваемой сфере, в стратегии и теории некоего вида спорта или в практике некоего ремесла, обладал исчерпывающими познаниями в истории старых цирковых афиш, гостиничных вывесок восемнадцатого века или математики комет; и ничто так не выделяло профессора Пикока на фоне безликой массы, как его дилетантский вид. Казалось, он из тех, кто слишком любит все, чем занимается, чтобы заниматься этим как следует. Его ботинки, например (и самый типичный пример – в этом отношении он явно больше всего был самим собой), всегда были либо слишком свободно зашнурованы, либо шнурки попросту волочились по земле, как у малыша. Но профессор Пикок, в отличие от малышей, не спотыкался. Он шагал широко и проворно, пусть и без изящества, успевал подхватить оброненный зонтик или лопату, а еще однажды с поразительной быстротой, которая напугала тетю Оливию не меньше, чем меня самого, сиганул за край утеса (мы называли их «кручами»), обвязавшись веревкой, – этакий длинноногий коричневый паук, который никогда не падал.
А сейчас стоит описать Кассионсвилл и его окрестности подробнее, чем я это сделал до сих пор. Я только что вышел на улицу, решив освежить память, хотя из сада за моей комнатой почти ничего не видно, и я еще не обошел весь дом, как намеревался. Добрался лишь до дальнего конца поваленного вяза, где некоторое время размышлял, опираясь на рукоять топора, не вскарабкаться ли на ветви, но так этого и не сделал. Сырость ранней весны причиняет боль моим костям. Погода? Ах да, погода.
- Дует южный ветерок,
- С ним не прилетит снежок.
Но думаю, что дождь вполне вероятен.
Кассионсвилл расположен на реке Канакесси в долине, открытой с запада. Это типичная среднезападная низменность, где семья может жить весьма комфортабельно на участке в сотню акров. На востоке, где река уже и быстрее, земля становится все более каменистой, а фермы – на удивление маленькими и бедными; там много скота и лесистых участков, зато мало пахоты. Я нередко замечал, что кладбища на востоке старше, потому что первые поселенцы пришли оттуда, и самые нищие фермы часто принадлежат самым старым семьям – их дома сложены из бревен, которые теперь обшиты досками или какой-нибудь ерундой. Наши предки, Виры, предположительно прибыли из Голландии – они были «черные голландцы», потомки испанских солдат Филиппа II – и одно время управляли водяной мельницей в верховьях Канакесси.
Кассионсвилл построили у первого брода. Его больше не существует; через реку перекинули мост, и широкие низкие берега (все еще видимые на старых фотографиях Уотер-стрит) сузили и укрепили, чтобы построить больше зданий. Более длинные и важные улицы тянутся с востока на запад, вдоль русла. Это Ривер-стрит, Уотер-стрит, Мейн-стрит, Морган-стрит, Черч-стрит, Браунинг-стрит и так далее. Все улицы с севера на юг названы в честь деревьев: дуба, каштана, ивы, бузины, яблони, сливы и сумаха. И прочее. Город холмистый, и на улицах – особенно тех, что тянутся с севера на юг, – полно крутых подъемов и спусков. Когда-то через Кассионсвилл текло несколько бурных ручьев, стремящихся к Канакесси, но их давным-давно заточили в трубы и заасфальтировали, они стали просто ливневой канализацией, сами их названия забыты, хотя они все еще несут свои воды в реку, разинув широкие, круглые пасти. К западу от города, в более широкой и спокойной части русла, есть длинный каменистый остров, на котором – примерно в то время, когда я воображал, что навещаю доктора Ван Несса, – жил отшельник по имени Чокнутый Пит[22].
К северу и югу от долины простираются изломанные и отчасти живописные холмы, слишком суровые для земледелия. Почти весь лес там вырубили лет за пятьдесят до моего рождения, и к тому времени, когда я впервые увидел эти холмы, подоспела вторая поросль, которая тогда приближалась к зрелости; однако в маленьких темных лощинах все еще оставались (полагаю, кое-что сохранилось до сих пор) нетронутые фрагменты изначального непревзойденного леса Америки. По этим лощинам бежали ручейки, журча среди камней; там обитали олени, кролики, лисы и даже, я думаю, несколько диких кошек; но медведи, волки и горные львы вымерли, исчезли очень давно – наверное, Ханна единственный человек, от которого я когда-либо слышал про них, и даже для нее они были всего лишь детским воспоминанием.
Скалы, как и некоторые деревья, не сдают позиции; они солдаты, рыцари-храмовники, которые не сумели спасти весь лес, но уберегли хотя бы его часть, как и саму землю, от плуга; трехфутовые валуны, будто скромные пехотинцы, погребенные в скудной почве целиком или наполовину, и высокие каменные колонны, похожие на генералов и героев, заметные с расстояния в несколько миль и увенчанные ястребами. Я как-то видел прелестную сосну, которая обнимала корнями камень, словно целовалась с отважным юношей, идущим воевать ради нее – и с точки зрения ее восприятия времени так оно и было. Но среди этих камней (как напомнил бы мне профессор Пикок, будь я все еще мальчиком, а он – в моих воспоминаниях так и оставшийся молодым человеком – все еще жив)…
– …можно обнаружить кое-что еще, Олден. Наконечники для стрел, ручные топоры и даже вот это.
Рукой с длинными шишковатыми пальцами он сдвинул перекинутый через плечо моток веревки, порылся в кармане брюк, звякая монетами, и наконец извлек нечто твердое, коричневато-серое – длинную, узкую и тоненькую чешуйку.
– Знаешь, что это такое?
Взяв эту штуку двумя пальцами, я вдруг преисполнился глупой уверенности, что держу окаменелое птичье перо. Я покачал головой.
– Видел когда-нибудь, как строгают доску? Помнишь длинные кудрявые стружки, которые от нее отделяются? Так вот, Олден: однажды кто-то придавал форму камню, чтобы сделать кремневый нож или наконечник стрелы. Для этого пришлось…
Тетя Оливия крикнула сверху:
– Роберт, я спущусь через минуту. Ден развлекает тебя?
– О да, мы прекрасно проводим время.
Я сказал:
– Будет пикник. Тетя Оливия приготовила нам еду для пикника.
– Большая честь для меня. Она же никогда не готовит?
– Иногда, только для нас двоих. Есть индейка. Она заставила даму, которая приходит убирать, ощипать ее. Но приготовила сама. Бутерброды.
– Ты голоден? Не совершить ли нам набег на корзину до того, как она спустится?
– Лучше не надо. – На крыльце появилась тетя Оливия в старом розовом платье – накануне вечером за ужином из чая с сыром она объяснила мне, что всегда надевала его в такие походы, «так как оно недостаточно хорошее для других случаев, но все равно выглядит симпатично» – и в очень модных дамских охотничьих сапожках с высокой шнуровкой. Я заметил, что платье отнюдь не такое поношенное, как те, которые она надевала, вытирая пыль или не ожидая увидеть в доме никаких гостей, кроме меня. – Готов идти, Роберт? Я знаю, что Ден был готов еще несколько часов назад.
Внезапно (я к такому все еще не привык) она пронзительно свистнула, и Мин-Сно и Сунь-Сунь подскочили, пыхтя от удовольствия; широкие цилиньские[23] пасти, растянувшись в улыбке, как будто раскололи надвое их деформированные головы.
– Собираешься взять обоих?
– А почему бы и нет? Я позабочусь о Мин-Сно, а Ден – о Сунь-Суне. Ты, Роберт, понесешь корзину для пикника.
Мы проехали на трамвае через мост и достигли – так далеко я никогда не ездил – южного конца линии, где на склонах холмов виднелось несколько конюшен и коровников. Профессор Пикок спросил тетю Оливию, не хочет ли она отправиться в Игл-Рок.
– Сегодня ты командуешь, Роберт. Такой прекрасный день – Ден, Мин-Сно, Сунь-Сунь и я будем сопровождать тебя, куда пожелаешь, при условии, что наши бедные, слабые ноги не запросят пощады раньше времени.
Профессор рассмеялся.
– Скорее у меня отвалятся ноги, чем устанешь ты, Ви, и тебе об этом известно. Так или иначе, я давно хотел кое-куда заглянуть.
И вот мы шли странными, извилистыми тропинками, собаки резвились вокруг, а тетя Оливия указывала на дикие цветы и с совершенно невозмутимым лицом придумывала для них фантастические названия, так что собачий зуб и венерин башмачок ненадолго (словно по ошибке попали на колдовской бал) смешались со слезами императрицы, шляпкой герцогини и лавандовым светочем Жорж Санд.
– Это флокс, – сказал профессор Пикок.
– Роберт, ты безнадежно приземленный человек. Разумеется, флокс. Но еще «светоч Жорж Санд» – я только что переименовала этот цветок, и ты-то знаешь, что у некоторых растений по три-четыре народных названия, которые по сути все ненаучны. Взять хотя бы бедный пиретрум – его то нивяником называют, то поповником, а иногда и просто ромашкой.
– Ви, ты…
– Наш милый мальчик вырастет, и однажды кто-нибудь спросит его, что это за цветок? Он скажет; в конце концов термин войдет в обиход, и рано или поздно какой-нибудь идиот напишет что-то вроде: «Название „светоч Жорж Санд“, под которым этот цветок часто известен в народе, не могло возникнуть задолго до 1804 года, когда мисс Санд (урожденная Дюпен) появилась на свет».
– Теперь ты умничаешь, в чем всегда упрекаешь меня. Ви, я собирался сказать, что большая часть твоего шинуазри[24] тоже придуманная – и не спорь. Но когда ты говоришь про Жорж Санд, я как будто слышу старину Блейна.
– Стюарта? О, нет. Он же сторонник генерала Уоллеса и книг в таком духе. Ты не утомился нести корзину, Роберт? Мы с Деном могли бы тебе помочь.
– Нет, все в порядке. Но дальше тропинка будет крутой. Вверх по этому холму, а затем вниз по другой стороне, что еще труднее, потом вокруг следующего холма и вверх. Справишься?
– Конечно. В любом случае, мы уже почти на вершине.
– А как насчет тебя, Олден?
– Я думал, мы просто вышли посмотреть на цветы.
Тетя Оливия сказала:
– Роберт приглашает меня сюда, только если хочет показать что-то особенное. Он приходит в эти холмы один, бродит по округе и развлекается тем, что находит какую-нибудь диковинку, а потом прилагает усилия, чтобы заставить меня ею полюбоваться. В последний раз так вышло с черепом динозавра.
– Ленивца, – уточнил профессор Пикок. – Мэнвилл из университета уже опознал его. Это был гигантский ленивец.
– Во всяком случае, я думала, что это будет нечто жуткое, но увидела всего лишь большой кусок кости и зуб… ты жулик, Роберт.
– Всего лишь энтузиаст, – парировал профессор.
Я спросил его, что здесь делал ленивец.
– Ел листья, – был краткий ответ. – Это было их главное занятие.
Подъем шел достаточно круто, профессор Пикок немного запыхался, как и мы с тетей, а вот Сунь-Сунь и Мин-Сно пыхтели постоянно – была ли тропа прямой или резко уходила вверх, – но, казалось, воздуха им всегда хватало.
Я заявил, что ленивец мог добыть листья где угодно, и тетя Оливия велела мне помалкивать, а ведь мое возражение было справедливым, никакому животному не пришло бы в голову тащиться в эту отдаленную и труднодоступную местность только за листьями. Не зная, как выглядел этот самый «ленивец», тем более гигантский, пусть название и звучало одновременно неуклюже и волнующе, я вообразил огромную корову, а потом Бэйба, синего быка Поля Баньяна[25], о котором где-то читал, да и самого великана с топором в руке – великана, который почти сразу же стал моим громадным подобием, шагающим по холмам с вершины на вершину, – и я подумал о том, как весело было бы валить лес прямиком в ущелья и узкие долины, освобождая место для новых зарослей.
– Стану взрослым, – сказал я, – возьму топор, приду сюда и срублю кучу деревьев.
– Уж поверь мне, Олден, – заметил профессор Пикок, – когда вырастешь, тебе будет куда приятнее иметь дело с красивой женщиной, чем с топором.
– Роберт!
– Тетя Оливия, если Мин-Сно или Сунь-Сунь умрут, мы можем похоронить их здесь?
– Ден, что за глупости. Они не умрут.
– Ну, они же когда-то будут совсем старенькие.
На самом деле я бы с радостью убил их на месте ради удовольствия от похорон. У Сунь-Суня, который обнюхивал сурочью нору, нос уже испачкался в грязи.
– Почему ты хочешь, чтобы их похоронили здесь?
– Потому что кто-нибудь однажды найдет их головы и удивится.
Профессор Пикок сказал:
– Он прав, Ви. Только взгляни на их черепа – никто не подумает, что это собаки.
Тетя Оливия возразила:
– Ден, что за ерунда, никто их не найдет.
– Через много лет, – со смехом уточнил профессор.
– Через много лет все будут знать, что это за существа: большие пекинесы.
– Ви, ты меня неправильно поняла. Я на стороне Олдена, и речь про много тысяч лет.
– Тогда не будет никого, – парировала тетя Оливия.
Она поднималась по склону, и профессор Пикок остановился, чтобы помочь ей. Мы почти достигли вершины.
– Ты не знаешь, – возразил он.
– Догадаться нетрудно. Тебе знакома история видов. Поначалу каждый из них – новое, непонятное животное, обитающее на клочке земли и даже там редкое. Затем в силу тех или иных причин условия становятся благоприятными, и эти существа начинают безудержно, неукротимо, неудержимо размножаться и становятся самым часто встречаемым видом. Если речь о травоядном, вроде человека, численность будет расти, пока равнины не почернеют.
– Ви, люди не травоядные, – заметил профессор.
– Роберт, хлеб в твоей корзине приготовлен из размолотых семян, а индейка – откормлена на зерне. Китайцы, составляющие четверть или более населения земного шара, питаются почти исключительно семенами болотной травы.
Мгновение спустя мы оказались на вершине; пока профессор и я присели отдохнуть, тетя Оливия повернулась лицом к ветру, сняла широкополую шляпу и вытащила из волос заколки с гагатовыми головками. Ее шевелюра была очень длинной и черной, как крыло скворца. Профессор Пикок достал из кожаного футляра на поясе бинокль.
– Олден, ты знаешь, как им пользоваться? – спросил он. – Просто поворачивай эту штучку, пока то, на что ты смотришь, не приобретет четкость. Я хочу тебе кое-что показать. Взгляни-ка вон туда.
– Дракон, – провозгласила тетя Оливия. – Когти дракона, заточённого в потоке допотопной лавы. Когда Роберт расколет скалу, он восстанет, живой и свободный; но не волнуйся, Ден, они с Сунь-Сунем родственники.
– Пещера, – подсказал профессор. – Видишь темное пятно на склоне утеса?
Я все еще продолжал его искать, когда тетя забрала бинокль.
– Дай посмотреть, Ден.
– Всего в пятнадцати-двадцати футах от вершины. Думаю, к ней добирались по тропе на другой стороне холма, но та часть обвалилась. Посмотри налево.
Тетя кивнула.
– Роберт, я видела Альтамиру[26], когда была в Испании. Я говорила тебе об этом, не так ли… Да, точно говорила. Название означает «смотреть с высоты», кажется, и в пещеру нужно спускаться.
– Не рассчитываю, что мы обнаружим еще одну Альтамиру в четырех милях от Кассионсвилла, – сказал профессор, – но я подумал, что это может быть интересно. Я собираюсь спуститься с вершины, обвязавшись веревкой.
Тетя задумчиво посмотрела на него.
Мы сошли по дальнему склону, на который только что поднялись, и пересекли небольшой каменистый ручей, окаймленный деревьями с замшелыми стволами, чьи ветви, протянувшись над шумной водой, приглушали звуки – на расстоянии нескольких футов казалось, что кто-то играет на свирели, а его слушатель то смеется, то плачет.
Мы впятером обогнули холм, пройдя по склону через низкие, густые заросли и колючие кусты ежевики; затем по траве, уже подсыхающей от первой летней жары, поднялись на вершину. Этот холм был выше предыдущего, хотя подъем с выбранной стороны дался нам легче, и я помню, как посмотрел оттуда на место, откуда мы увидели пещеру, и изумился тому, насколько простым казался путь к нему. Я спросил профессора, где находится Кассионсвилл, и он указал на видимый вдалеке участок дороги и дым, который, по его словам, шел от печей для обжига кирпича; оттуда, где мы стояли, не было видно ни одного строения. Пока мы с тетей продолжали любоваться видом, профессор завязал большой узел – который, как он объяснил позже, когда я спросил, назывался «обезьяний кулак» – на одном конце своей веревки и втиснул его между двумя прочно сидящими камнями. Затем, со скользящей петлей на талии, спустился с края утеса, отталкиваясь ногами от каменной стены, как будто шел по земле.
– Что ж, – сказала тетя, наблюдая за ним с края, и носки ее сапожек (это я хорошо помню) повисли на дюйм или больше над пропастью, – он ушел, Ден. Может, перережем веревку?
Я не был уверен, что она шутит, и покачал головой.
– Ви, о чем вы там болтаете? – Голос профессора по-прежнему звучал громко, но почему-то издалека.
– Пытаюсь убедить Дена прикончить тебя. У него прекрасный скаутский нож – я видела.
– А он согласен?
– Говорит, что нет.
– Славный малый.
– Ну, в самом деле, Роберт, почему бы и нет? Там ты висишь, как огромный уродливый паук, и все, что ему нужно сделать, это перерезать веревку. Так он изменил бы всю свою жизнь, все равно что обратился бы в какую-нибудь религию – ты же читал Достоевского? И если он этого не сделает, то до конца своих дней будет задаваться вопросом, не поступил ли так отчасти из-за страха.
– Если ты все-таки перережешь веревку, Олден, потом толкни Оливию следом, ладно? Свидетелей-то нет.
– Правильно, – сказала тетя, – а остальным можно объявить, что мы заключили договор о самоубийстве.
Испугавшись, я снова покачал головой.
– Здесь есть пещера, Ви! – крикнул профессор Пикок.
– Ты что-нибудь видишь?
Он не ответил, и я, решив быть по крайней мере таким же смелым, как тетя, подошел к краю и посмотрел вниз; веревка обмякла и пошевелилась, когда я коснулся ее ногой. Стараясь казаться совершенно взрослым, я спросил:
– Он упал?
– Нет, дурачок, он в пещере – и придется ждать здесь целую вечность, прежде чем он поднимется и расскажет нам, что обнаружил.
Она понизила голос, и я последовал ее примеру.
– Тетя Оливия, ты же на самом деле не хотела, чтобы я перерезал веревку, правда?
– Не думаю, что меня действительно сильно волновало, сделаешь ты это или нет, Ден, но я бы остановила тебя, если бы ты попытался. А что, были сомнения?
Если бы я был старше, то сказал бы, что были, и я бы – по обыкновению пожилых людей – не соврал. Я чувствовал, что перерезание веревки – всего лишь шутка; а еще чувствовал, что за шуткой таилось вполне серьезное напряжение, и был недостаточно зрелым, чтобы присоединиться к одному негласному уговору: по нему подобные секретные, досадные мысли игнорируются – как мертвые деревья в саду, оплетенные вьюнком или розами, которые посадил рядом мудрый садовник. Я продолжал ждать, растерянный и молчаливый, пока голова профессора не появилась над краем обрыва, а потом он вскарабкался и встал рядом с нами.
– Ви, там раньше кто-то жил, – сказал он. – Есть следы костра и даже царапины на камнях. Но это, конечно, не Альтамира.
Тетя подошла к краю – она отступила от него, пока мы ждали, – и посмотрела вниз.
– Думаю, у меня получится, – сказала она.
– Ви, не сходи с ума!
В конце концов профессор Пикок соорудил для тети Оливии стропу и спустил с края. Я спросил его, не тяжелая ли она.
– Ты про Ви? – ответил он. – Господи, нет. Птичьи косточки и нижние юбки. Ее одежда, вероятно, весит больше, чем она сама.
Тогда я спросил, как предстоит спускаться мне (предполагая, что раз уж тетя это сделала, мне тоже можно); профессор растерялся, а тетя Оливия, у которой, по всей вероятности, был отличный слух, крикнула:
– Роберт, посади Дена на мое место. Я поймаю его, когда он спустится. Ден, тебе просто нужно держаться как следует и не поцарапаться.
Путь вниз оказался короче, чем я себе представлял. На узком, но с виду достаточно безопасном уступе стояла тетя Оливия, которая подхватила меня и увлекла в пещеру. Миг спустя пустая веревочная петля снова поднялась, а затем вернулась, на этот раз с корзиной для пикника, подвешенной за ручки.
– Теперь, Ден, – провозгласила тетя Оливия, – даже если жестокий Роберт бросит нас, мы не умрем от голода – по крайней мере не сразу.
Я спросил, спускается ли он.
– Конечно, иначе останется без обеда.
Профессор Пикок появился через несколько секунд, своим присутствием вынудив нас слегка отодвинуться в маленькую пещеру за выступом.
– Видите, какая здесь черная почва? – сказал он. – Это уголь.
Профессор присел на корточки, начал просеивать уголь пальцами, и в конце концов продемонстрировал нам кусочек обугленного дерева, в котором крошечная частичка слюды коротко сверкнула в лучах солнца, словно гаснущая искра.
– Здесь горели сотни костров – возможно, тысячи.
Тетя уже распаковывала ланч.
– Нижняя сторона скатерти почернеет, но, полагаю, миссис Доэрти за определенную плату вернет ей первоначальный вид. – Она приостановилась, чтобы рассмотреть непонятный узор, нацарапанный кем-то на стене пещеры. – Как думаешь, я смогу сделать копию притиранием?
– Я сделаю, – сказал профессор Пикок. – Мне тоже понадобится экземпляр. По-твоему, Олден понимает, что это самое старое жилище, в котором ему довелось побывать? Вероятно, и доведется, даже если он доживет до ста лет.
Тетя Оливия развязала голубую нитку, которой было обвязано блюдце с крышкой в виде курочки-наседки из молочного стекла, чтобы содержимое не просыпалось в корзине.
– А, оливки, – проговорила она. – Спелые оливки. Совсем забыла, что взяла с собой. Ден может понять этот факт, Роберт, но не способен осознать его значение. Пока что не способен. Какие сокровища ты нашел в этой грязи?
– Кость. – Он показал почерневший прутик. – Кажется, дикая индейка.
– Здесь жили индейцы, да? – спросил я.
– Доисторические индейцы, – уточнил профессор Пикок.
Тетя фыркнула.
– Те самые аборигены, – продолжил профессор, – которые, по словам Хрдлички[27], около десяти тысяч лет назад пересекли Берингов пролив и в итоге поселились в Индианоле, Индиан-лейке, Индианаполисе и в различных других местах, где были вынуждены стать индейцами, чтобы оправдать названия мест. Эта индейка, возможно, кулдыкнула в последний раз еще до того, как построили пирамиды.
Тетя протянула Пикоку бутерброд; он отложил его и принялся вытирать почерневшие пальцы о брюки.
– Возможно, это последняя трапеза, которая здесь состоится, Роберт, – вот о чем я думала, пока доставала еду, – проговорила тетя Оливия. – Вероятно, здесь в первый раз кто-то ест – по крайней мере, лет за пятьсот – и, возможно, в последний. На что ты смотришь, Ден?
– Ни на что, – соврал я.
Посреди груды костей лежал череп, человеческий череп, однако я вспомнил, как несколько лет назад нашел череп какого-то животного – возможно, кролика или белки – под густыми зарослями роз в саду и отнес матери, которая пришла в ужас; я ничего не сказал и занял свое место у скатерти. У нас были бутерброды и оливки, сельдерей, все еще влажный после мытья под краном в кухне тети Оливии, и лимонад – уже не слишком прохладный. И еще печенье: твердые имбирные пряники, которые, как я знал, были из пекарни. После еды моя тетя и профессор Пикок сделали копии царапин на камнях, и я наблюдал, как каждый из них обнаружил кости и решил – тетя Оливия очень быстро, профессор Пикок, я думаю, медленнее – ничего не говорить остальным.
Затем профессор снова взобрался на вершину холма, а я сел в веревочную петлю, и меня вытащили наверх. Я ожидал, что он спустит веревку тете, но вместо этого профессор снова спустился сам, сказав, что ему нужно кое-что обсудить с ней, и попросил меня подождать. Я свистнул Мин-Сно и Сунь-Суню, но успел лишь несколько минут поиграть с ними, прежде чем Пикок вернулся и, в последний раз спустив веревку, медленно поднял мою тетю с пустой корзиной для пикника на коленях. Когда мы возвращались домой, пока профессор расплачивался с кондуктором, я сказал тете Оливии, что он тоже предлагал мне перерезать веревку, когда поднимал ее. (Он этого не говорил, однако я почувствовал.) Но я бы этого не сделал. Она сжала мою руку и прошептала на ухо, что оставила блюдце с крышкой в виде курочки в пещере.
– Я так решила. Потому что в нем оливки – понимаешь, Ден? И, кроме того, оно фарфоровое.
Я заметил, что это было молочное стекло.
– Нижняя часть, – твердо сказала Оливия, когда профессор Пикок сел на свое место, – фарфоровая.
Второго из трех ухажеров моей тети звали Джеймс Макафи. В то время он казался мне несколько обособленным от других: всегда приносил подарки, причем не цветы (которые я ненавидел) или конфеты (которые предпочитал, поскольку тетя редко ела больше одной штучки, оставляя мне все прочие, «оперные» со сливочно-ванильной начинкой и жевательные карамельки в шоколадной глазури), но что-то существенное – например, пюпитр для нот или пару грузчиков-кули из пожелтевшей слоновой кости, которым надлежало подпирать тетушкины книги; один сильно толкал первый том обеими руками, а другой прислонился к последнему так старательно, что рисковал потерять свою широкополую шляпу. Мистер Макафи навещал тетю Оливию реже, чем остальные двое, а еще всегда приходил и уходил рано. Он регулярно давал мне монеты (чего остальные не делали), а однажды принес губную гармошку морского оркестра.
Кажется, я лишь спустя некоторое время связал воздыхателя тети Оливии с универмагом «Макафи», которым он владел. Мистер Макафи был невысокого роста, плотноватого телосложения и рано начал лысеть; он хорошо одевался – в той манере, которая мне тогда нравилась, – по сравнению со Стюартом Блейном, еще одним ухажером. Думаю, он был искренне добр и от души любил музыку, всегда выглядел довольным, когда тетя играла для него, и разочарованным, когда она останавливалась. Примерно через сорок лет после того времени, о котором я пишу, когда контроль над универмагом (под другим именем) более-менее перешел ко мне в результате определенных финансовых операций со стороны компании, я провел большую часть дня, просматривая записи магазина в поисках каких-либо следов руководства Джеймса Макафи. В конце концов я раскопал несколько документов; однако от него осталось куда меньше следов, чем от его отца (Дональда Макафи, основателя) – и это притом, что он был директором относительно недавно и фактически руководил магазином в течение более длительного времени. Джеймс оказался ловким дельцом, но, вероятно, не любил подписывать бумаги и ненавидел быть в том или ином смысле на виду.
Он развлекал мою тетю прогулками и поездками в своем «студебеккере», которые часто превращались в экспедиции по поиску антиквариата, поскольку мистер Макафи был таким же страстным коллекционером антиквариата, как тетя Оливия – китайских и связанных с китайцами предметов искусства. Летними воскресными вечерами мы ходили на оркестровые концерты в парке Уоллингфорд – я был вынужден их сопровождать, пока жил с тетей, и она сидела между мистером Макафи и мной на узкой скамейке с железными ножками и зеленым деревянным сиденьем – и вежливо аплодировали в конце каждой композиции. Эстрада находилась прямо перед мемориалом Гражданской войны (серый каменный солдат в фуражке и мешковатой униформе северянина стоял «вольно» с винтовкой Спрингфилда в руках, словно рабочий возле раскопа, у пропасти времени, на ее дальнем краю располагался помост для музыкантов, а на ближнем – его собственный постамент, на котором были высечены имена погибших горожан, а не, как я полагал несколькими годами ранее, списки убитых этим воином), а сам оркестр был подразделением волонтерской пожарной бригады.
Джин Вульф. ПОКОЙ
Там не было ни правил, ни контроля, но рассадка строго регламентировалась: ближайшие к эстраде места занимали те, кто был лучше всего одет. Самые плохо одетые, нищие дети и несколько городских бездельников сидели не в парке, а на бордюре с противоположной стороны Мейн-стрит. Поскольку в воскресенье вечером даже на главной улице не было никакого движения, они слышали музыку так же отчетливо, как и мы (мистер Макафи и моя тетя Оливия всегда сидели в первом ряду), и упускали только захватывающий вид тромбониста крупным планом.
История с китайским яйцом началась, кажется, недели через три после того, как я поселился у тети: она отправила меня спать, а спустя два часа или около того прервала мое чтение, стремительно ворвавшись в комнату.
– Ден! – воскликнула она. – Джимми Макафи только что ушел.
Я спросил, можно ли мне покинуть постель.
– Не говори глупостей, тебе давно полагается спать. Но вот какая новость – у меня будет студия! Я стану давать лекции и уроки! Все в магазине Джимми. Мы можем съездить туда завтра и осмотреть место.
Кажется, в тот вечер я вообще не понимал – так как мне было все равно, – что это за студия и какие уроки будет давать тетя. Как только она вышла из комнаты, я вернулся к сказке о принцессе, чья одинокая башня стояла на омытой морем скале, далеко от какой-либо земли. По приказу отца-короля к ней каждый день в лодке приплывали слуги; рисунок на соответствующей странице демонстрировал, что у суденышка были весла и крошечная мачта с одиноким квадратным парусом, на котором красовался герб королевского семейства. (Меня радовало то, как парус стремился компенсировать свои миниатюрные размеры упорным трудом. Он раздувался на зависть любой жрице Титании[28], хотя ветер – если верить вымпелу в футе над парусом – дул вдоль полотнища, а не сзади.) Похоже, слугам приходилось плыть очень долго – на иллюстрации за кормой кораблика не было видно земли, – но они не жалели сил, поскольку были очень верны своей прекрасной принцессе.
По ночам принцесса оставалась совсем одна в своей опоясанной морем башне.
Все это представляло собой (а как иначе) результат пророчества, сделанного у постели королевы-матери неким согбенным и косматым старцем-колдуном, приковылявшим из ночной мглы в тот самый миг, когда торжества по случаю рождения принцессы были в разгаре. Колдун, который одевался в волчьи шкуры и, по слухам, питался исключительно чаем, пропел следующее:
- Сей деве, что пришла в мир бренный,
- Отмерен долгий срок смиренный;
- Предметом станет вожделенья,
- Хоть не дарованы владенья;
- Море, твердь и эфир
- Явятся на пир,
- Но пламя – ее кумир.
- Из земли состоянье свое извлечет
- И отца-короля зять во всем превзойдет.
Король, разумеется, не имел ничего против зятя-богатея, чего нельзя было сказать про идею о том, что тот его превзойдет, – вот вам и башня на скале. Весть о заточенной девушке распространилась по городам и весям, что было неизбежно – и, несомненно, многим пришло в голову, что, пусть нельзя объяснить, о каком «пламени» речь в предсказании – после свадьбы, понятное дело, оно может означать многое, – ее избранник точно станет королем (или даже лучше) и весьма разбогатеет. Однако в радиусе нескольких миль от скалы было негде бросить якорь, и почти все, кто пытался добраться до несчастной узницы (звали ее Элайя[29]), утонули.
Наконец (я как раз начал клевать носом) на сцене появился первый серьезный воздыхатель. Он был младшим сыном короля гномов, чрезвычайно знатным и таким красивым, что удостоился собственной иллюстрации: на ней он в довольно вальяжной позе стоял у двери башни – за миг до того он прыгнул туда с кормы удаляющейся королевской лодки, где прятался в трюме в облике мыши. У него были меч и щит – с большим шипом в центре и с делениями по краю, как на циферблате солнечных часов. Действительно ли он вошел через эту дверь или был вынужден из уважения к девичьей скромности подняться на башню и проникнуть внутрь через окно, я уже не помню. Зато припоминаю, что принцесса поставила перед ним ряд чрезвычайно трудных задач – например, велела добыть звон колокола со дна моря, – и он все выполнил с поразительной, но приятной для меня легкостью. Со временем, конечно, известие о подвигах молодого человека дошло до короля, и он приплыл к дочери с визитом. Принцесса оказалась одна, и, когда король-отец спросил, где же этот неподражаемый паладин, младший сын короля гномов, она ответила лишь одно: его поцелуи слишком сильно отдавали свежевспаханной землей.
Второй поклонник – я ожидал, что это будет житель морских глубин, но вышло совсем по-другому – оказался предприимчивым молодым купцом, настолько сведущим в морском деле, что ему удалось подвести свой корабль к самому краю скалы (как было показано на иллюстрации) и перепрыгнуть на нее, не замочив подошвы. Сверхъестественными способностями он не обладал, роста был (опять же, судя по иллюстрации) довольно невысокого, но эти недостатки возмещал светлыми кудрями и поразительной хитростью. По настоянию принцессы он отнял вола у волка, оставив хищнику всего лишь одну «к», потом обменял вола на тень великана и с помощью нее вверг жителей прибрежного города в такой ужас, что они провозгласили его королем, после чего вернулся к великану и выменял тень (та подорожала, побывав во владении прославленного завоевателя) на волшебную птицу из рубинов и аметистов, которую и вручил принцессе. От песни этой птицы успокаивалось бурное море, и любой слушатель был бы ею очарован – впрочем, чтобы услышать прекрасные звуки, владельцу надлежало выпустить певунью на свободу, как принцесса и поступила, а потом запела сама и приманила существо обратно в клетку. Когда король-отец спросил, что случилось с предприимчивым молодым купцом, принцесса ответила, что отослала его прочь: тяжелый кошель у него на поясе причинял ей боль всякий раз, когда они обнимались.
Третий поклонник впечатлил меня сильнее прочих: страну, откуда он был родом, иной раз можно увидеть летним днем в вышине – там, где с необоримой безмятежностью плывут над нашими тенистыми, сумеречными низинами летающие острова, словно лебеди рассекая белоснежной грудью поверхность пруда и не задумываясь ни на миг о червях и улитках, которые копошатся в грязи внизу. Он без затруднений добрался до острова с башней принцессы, и его прибытие оказалось самым грандиозным из всех, ибо он приземлился на крыше с почетным караулом из духов воздуха: те из них, кто находился ближе всего к нему, были едва различимы, как призраки, и походили на мужчин и женщин, уродливых, прекрасных и странных; одни с длинными развевающимися бородами, другие в фантастических одеждах, а третьи зависли в отдалении крылатыми ангелоподобными силуэтами на фоне яркого солнца. Принцесса была с третьим женихом самой строгой, заставляла его выполнять всевозможную черную работу в башне, чистить рыбу и мыть посуду, опорожнять помойные ведра и даже полировать сапоги своих слуг; однако когда король-отец спросил, что с ним сталось, она ответила лишь одно: «Его королевство было слишком нематериальным для меня – там ничего нет, кроме пустоты и стонущих ветров».
Увы и ах, в этот момент раздался голос тети:
– Ден, дорогой, не пора ли тебе в кроватку?
