Читать онлайн Шайтан-звезда (Книга вторая) бесплатно
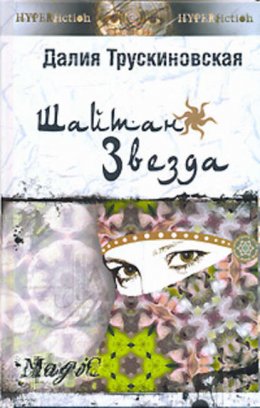
Часть вторая
Сухая земля пустыни гудела – шло войско.
Ни одного пешего не было в нем – ибо войско спешило.
Неслись взявшие хороший разбег белые беговые верблюды, невысокие и поджарые и на каждом сидело по всаднику в белоснежной джуббе, с подвязанным к ноге длинным гибким копьем, у кого – самхарским, у кого – рудейнийским, с небольшим луком. Копья слегка наклонились вперед, и зубцы на них блестели, и отряд за отрядом, ощетинившись, летел вслед за предводителями.
Шли размеренным галопом прекраснейшие в мире кони, благородные кони арабов, рыжие, белые и вороные, с выгнутыми шеями, с летящими по ветру хвостами. Они несли бойцов в индийских кольчугах, вооруженных ханджарами и круглыми кожаными щитами в железной оковке, сделанной так хитро, чтобы улавливать и ломать ханджар противника.
У этого войска не было влачащегося обоза – ибо войско спешило!
А впереди, возглавляя знаменосцев, торопились трое всадников, на лучших конях.
И справа ехал высокий, статный мужчина с черным лицом, плечистый, подобный хмурому льву, залитый в железо.
А слева скакал человек не столь выдающегося роста, но зато плотного сложения, и борода у него была, точно банный веник, и сам он со своим немалым пузом сильно смахивал на кабана, который проглотил черные перья, и концы их торчат у него из горла.
Между ними же ехала женщина с открытым лицом, и если бы красавицы всех времен увидели ее входящей в свой круг, то встали бы и крикнули: «Пришедшая – лучше!»
Она, подобно мужчинам, была затянута в длинную кольчугу, не скрывавшую высокой груди, стана, заставляющего устыдиться ветку ивы, и округлых бедер, с томными глазами, вытянутыми сходящимися бровями и овальными щеками, но локон, который, подобный черной раковине, должен был лежать на блюде ее лба, встречным ветром развило и отнесло назад.
Ее кудрявые волосы были заплетены в две длинные и толстые косы, чтобы от ветра не обратиться в войлок, но покрывало, которому следовало скрывать их от глаз правоверных, сбилось и сползло, а постоянно поправлять его на всем скаку женщина не желала.
Вслед за этими тремя неслись юноши-знаменосцы, и к их копьям были подвязаны белые треугольные знамена Хиры, а ленты знамен, что всегда завиваются вокруг древка, словно локоны красавиц, были зеленые.
Из середины войска вырвался и нагнал предводителей всадник, залитый в железо так, что были видны лишь уголки его глаз, в развевающемся плаще из малинового атласа с золотыми нашивками.
– О Джабир! – обратился он к чернокожему всаднику. – Мои люди увидели с верблюдов пыль вдали. К нам движутся какие-то конные. Свернем ли мы с дороги, чтобы пропустить их?
– Пусть сворачивают они, о Джудар ибн Маджид! – отвечал чернокожий. – Но если это путешественники из Хиры, нужно взять их в плен и расспросить.
– Это не путешественники, о аль-Мунзир! – возразил названный Джударом. – Я же говорю тебе – они скачут к нам во весь опор, как будто спасаются от врага!
– Если их враг – царь Хиры, то, клянусь Аллахом, они – наши друзья! – ни мгновения не колебавшись, решил Джабир аль-Мунзир. – И мы непременно окажем им покровительство!
– Может быть, среди них есть женщины, которые нуждаются в помощи, как нуждалась я, когда бежала из царского дворца, – добавила красавица, не поворачивая головы к собеседнику. – И поспешим, ради Аллаха! Вряд ли эти проклятые надолго отложат казнь аль-Асвада!
– На голове и на глазах, о госпожа! – восторженно воскликнул аль-Мунзир.
– Как ты выдерживаешь эту скачку, о Абриза? – осведомился Джеван-курд, усердно погоняя своего большого рыжего жеребца.
– В Хире я свалюсь с коня и просплю не меньше суток, и то еще неизвестно, смогу ли я после этого сделать хоть шаг, о Джеван! – прокричав это, Абриза усмехнулась ему, и он понял эту усмешку, ибо она означала – пока Ади аль-Асвад в беде, я не могу предаваться заботам о своем драгоценном здоровье.
– Да хранит тебя Аллах и да приветствует, о Абриза! – крикнул и он ей, потому что топот копыт, конских и верблюжьих, заглушал голоса.
Абриза скакала в одном ряду с мужчинами, от возбуждения не ощущая усталости, и более того – тогда, когда ей полагалось бы от изнеможения заснуть в седле, ее ум работал особенно пронзительно, и в голове возникали цепи слов, связанных между собой изысканными ритмами, и она поражалась образам, в которые складывались эти слова, и не могла понять – слышала она такие стихи когда-то прежде, или же сама на скаку сочинила их.
Вот и сейчас тревога за Ади аль-Асвада была столь велика, что его сухое темное лицо как живое обозначилось перед глазами Абризы, и не стало больше ни пыльной пустыни, ни тысячи всадников, ни даже аль-Мунзира и Джевана-курда, все это исчезло, а были только огненные черные глаза возлюбленного под сходящимися бровями и рождающиеся слова!
И Абриза произнесла их нараспев, и голос ее оказался до того громок, что перекрыл шум движущегося войска. И это были два бейта, достойные лучших поэтов, а ведь арабы славятся своими поэтами:
- Мой любимый стоит всегда пред глазами,
- Его имя начертано в моем сердце.
- Его вспомню, так все во мне – одно сердце,
- Его вижу, так все во мне – одно око.
– Велик Аллах! – воскликнул в великом восхищении Джеван-курд. А Джабир аль-Мунзир, направив коня так, чтобы его колено соприкасалось с коленом скачущей Абризы, потребовал задыхающимся голосом:
– Прибавь, о госпожа!
И она прибавила, ибо цепи из слов клубились у нее в голове, и вытягивались, и каждое слово тянуло за собой другое, и каждое слово переливалось в другое слово, так что рожденные бейты были похожи на струю драгоценного румийского вина, крепкого и выдержанного, льющегося в цветной стеклянный кубок из серебряного кувшина:
- Твой призрак меж закрытых век я вижу,
- В движенье и в покое тебя помню.
- Любовь к тебе в костях моих так льется,
- Как льется сок в плодах и в гибких ветках!
– Вперед, вперед! – прокричал Джудар ибн Маджид, и его плащ плеснул по лицу Джевана-курда, потому что Джудар обогнал его и теперь вел скачку. – Вперед, о лесные львы, о горные барсы! Если мы спасем аль-Асвада – пост и паломничество для нас обязательны!
И тут же он придержал коня, ибо углядел в облаке пыли нечто неожиданное. То же самое сделал и аль-Мунзир.
– Клянусь Аллахом, это или призрак, или аль-Асвад! – воскликнул он.
– Не бывает призраков среди ясного дня, о несчастный! – возразил, нагоняя его, Джеван-курд.
– Но посмотри, как сверкает его лицо! Разве это не маска аль-Кассара?
– Всякий может нацепить маску, снятую с пленника!
– Но он – из воинов, посмотрите на его длинные волосы! – добавил Джудар ибн Маджид.
– Вперед, вперед! – крикнула Абриза, обгоняя их всех. – Разве мужчины у арабов боятся призраков? Да пусть хоть целое войско призраков встанет между мной и Ади!
Тот, кто несся навстречу, стал виден яснее.
– Гляди, о Джеван, это же аль-Яхмум! – крикнул курду в ухо Джудар ибн Маджид.
Его слова услышала Абриза.
– Те, что подобрали золотую маску, увели и коня! – прокричала она курду в другое ухо. Он кивнул, а Абриза сразу же вспомнила, что маска оказалась в руках переодетой женщины, которой аль-Яхмум оказал предпочтение, и сознание того, что эта женщина любит аль-Асвада, обожгло Абризу.
– Клянусь Аллахом, сейчас я выясню, что это за призраки! – с такими словами аль-Мунзир, вырвавшись вперед, подбоднул коня стременами и, вовсю работая поводом, приблизился к загадочному всаднику.
– Ради Аллаха, кто ты? Если ты порожденье шайтана – то убирайся к себе в геенну! А если ты мой брат аль-Асвад – дай верный знак! Ибо всякий может сесть на вороного коня с белыми ногами и надеть позолоченную маску! – крикнул он.
– Если ты из людей Джубейра ибн Умейра, то прочь с дороги, или я убью тебя! – отвечал всадник в золотой маске. – А если ты мой брат аль-Мунзир – то вспомни ночь после гибели моей матери и подаренную тебе джамбию, которой я поразил врача!
– Это могли знать только мы двое, о аль-Асвад! – Джабир придержал пляшущего коня. – Нужно ли тебе доказательство?
– Нет, клянусь Аллахом!
И оба они, съехавшись вплотную, обнялись крепчайшим объятием.
– Как ты оказался тут, посреди пустыни, о Ади? Ведь мы едем спасать тебя от топоров палачей! – только и успел сказать аль-Мунзир, и тут первой подскакала Абриза, за ней – Джудар ибн Маджид, а уж за ними – Джеван-курд.
– Ты жив, о любимый! – восклицала Абриза. – Ты спасен!
– Ради Аллаха, не останавливайте войска! – приказал аль-Асвад, одной рукой обнимая аль-Мунзира, другую протягивая к Абризе. – Скорее туда – там остались те, кто спас меня от смерти! Их верблюды не выдерживают скачки, а за нами – погоня! И все – из-за этого бесноватого аль-Яхмума!
– Ты бросил тех, кто спас тебя от смерти? – изумился Джеван-курд.
– Это самая странная история, какая когда-либо случалась с человеком, имеющим коня! – отвечал Ади, занимая положенное ему место во главе войска, под развевающимися знаменами. – Он вытворил еще одну из своих штук, но она, благодарение Аллаху, привела к спасению! За мной, о друзья Аллаха! Доставайте стрелы из колчанов, доставайте ханджары из ножен! И почему вы едете без песни?
– Ты отучил нас от песен и шума, о аль-Асвад, – упрекнул его Джеван-курд.
– И мы не знали, застанем ли тебя в живых, – добавил Джудар ибн Маджид. – О львята, предводитель хочет, чтобы вы пели!
И грянули боевые литавры, и, подобно громоносному ветру, полетела песня, и это была песня воинов, опоясанных ханджарами и облаченных в нанизанные кольчуги:
- Стройтесь в ряды под сенью мечей, приобретайте величье!
- Тот, кто всегда на коврах возлежит, мужа теряет обличье!
– О Джеван, возьми своих людей и заезжай справа, во имя Аллаха! – приказал на скаку Ади.
Джеван-курд кивнул, приотстал и кликнул из отряда знаменосцев двоих, на рыжих конях. Вместе с ними он отклонился вправо и, встав на стременах, дал рукой знак, по которому часть всадников тоже отошла вправо, под его знамена.
– А ты, о Джудар да будет доволен тобой Аллах за то, что ты спас мое войско, заезжай со стрелками слева! – приказал аль-Асвад и Джудару ибн Маджиду. – Ты опишешь плавную дугу, чтобы расстрелять погоню сбоку!
– На голове и на глазах! – отвечал тот, отставая, чтобы также взять знаменосцев и оказаться возле наездников на верблюдах.
– А тебе, о брат, достанется самое опасное! – обратился Ади к аль-Мунзиру. – Ты вместе с тремя десятками всадников вырвешься сейчас вперед, и встретишь тех, за кем гонятся люди Джубейра ибн Умейра, и вступишь в бой с его людьми, чтобы никто из моих спасителей не пострадал! И ты будешь вести этот бой, оставаясь на одном месте, чтобы Джудар ибн Маджид успел зайти сбоку и расстрелять наших врагов из луков. И они побегут, и их встретят бойцы Джевана-курда, и погонят их к Хире, и мы ворвемся в город, держась за концы их джубб и плащей, клянусь Аллахом!
Войско на полном скаку перестраивалось так быстро, как если бы оно показывало боевые приемы и уловки на ристалище, чтобы развлечь царя.
– Поиграйте копьями и повеселите мое сердце! – крикнул вслед уносящимся навстречу пыльной туче аль-Асвад и тогда лишь повернулся к Абризе, все это время молча скакавшей с ним рядом.
– Как вышло, что ты оказалась с моими людьми? – спросил он. – И где твой ребенок?
– Я не знаю, где мой ребенок, о аль-Асвад! – отвечала Абриза. – С того дня, как меня похитили из города, где ты поселил меня, я не видела его. И я не знаю, где его искать! Но я нашла тебя, о Ади, и ты жив, и жив аль-Мунзир! А что касается Джевана-курда – то этот обязан жизнью мне, и он все тебе расскажет после боя. И ты тоже расскажешь мне все, что с тобой случилось, о Ади! И ты снимешь эту золотую маску!..
– Я не могу ее снять, о госпожа, – возразил аль-Асвад. – Ведь я дал обет, что ни один человек не увидит моего лица, пока я не восстановлю твою честь и твой сын не сядет на престоле Хиры. Довольно того, что ее сорвали с меня, когда взяли в плен… А теперь оставайся здесь, со знаменосцами. Я хочу сам возглавить людей Джевана-курда, чтобы вместе с ними ворваться в Хиру!
– Погляди, кто едет сюда, о Ади! – воскликнула вдруг Абриза. – Да это же наше бесноватое войско!
– Бесноватое войско? – переспросил озадаченный аль-Асвад.
– Ну да, о любимый, мы с Джеваном-курдом встретили в пустыне этих бесноватых, которые не умеют набирать воду из колодца! – смеясь, отвечала красавица Абриза. – Это же были просто обезьяны, которые где-то отыскали кучу женских платьев, изаров и покрывал, и нацепили все это на себя, и ехали с воплями на старых верблюдах! Неужели эти верблюды дошли до Хиры? Джеван-курд утверждал, что они при последнем издыхании!
– Нет, о Абриза, это – те верблюды, на которых меня, и Хабрура, и Мансура ибн Джубейра, и еще многих везли к месту казни, – вовсе не разделяя ее веселья, сказал аль-Асвад. – Когда мы подъедем поближе, ты убедишься, что они все еще обвешаны лисьими хвостами, лентами и колокольчиками. И на них мы бежали из Хиры, а за нами гнались люди проклятого Джубейра ибн Умейра. А что касается тех, кого ты назвала обезьянами, – так это мальчики, не достигшие шестнадцати лет, которые, очевидно, впервые увидели нарядную одежду. И они рисковали своей жизнью, чтобы спасти меня, ибо их чуть больше трех десятков, и у них даже нет ханджаров, и их оружие – остроги, которыми жители озер бьют кабанов. А если бы они не привели мне аль-Яхмума, то вы, аль-Мунзир, Джудар и Джеван, приехали бы как раз к моему последнему издыханию!
Говоря все это, аль-Асвад проникался яростью, хотя Абриза не могла знать, что за события произошли на базарной площади Хиры. Но его пылкая натура была такова, что несправедливость, пусть и невольная, делала его подобным горящей головне.
– Бесноватым нужно быть, чтобы надеяться уйти от погони на этих верблюдах, о Ади! – заметила Абриза. – Впрочем, иначе и быть не могло – ведь их возглавляет женщина!
– Никто и не собирался уходить от погони на верблюдах, о Абриза. Выехав из Хиры, мы повернули на север, чтобы добраться до караван-сарая и захватить там всех свежих лошадей, каких только найдем. Но аль-Яхмум вдруг словно взбесился! Я уж решил, что в него вселился шайтан! – Аль-Асвад ласково похлопал коня по холке. – Он понес меня на запад, не слушая ни поводьев, ни стремян, а поскольку я возглавлял отряд, то все поскакали за мной следом. А он, оказывается, учуял влачащееся войско! Я непременно велю сделать ему золотую уздечку и поводья из золотых цепей, клянусь Аллахом!
На поле боя тем временем все случилось именно так, как он задумал.
Верблюды, на которых ехали Джейран, Хашим, Хабрур ибн Оман, Мансур ибн Джубейр, Ахмед, прочие осужденные и мальчики, уже выбивались из сил, таща несоразмерную ношу, и всадники, посланные Джубейром ибн Умейром, почти нагнали их, когда подлетели тридцать человек во главе с аль-Мунзиром.
– Погоняйте верблюдов! – кричал аль-Мунзир, проносясь мимо. – О Хабрур, веди их туда, к знаменам, к аль-Асваду!
И всадники Джабира аль-Мунзира, обогнув отряд беглецов, выставили копья и понеслись навстречу погоне и многих сбросили с коней, ибо те не ожидали такого нападения, и пустили своих коней плясать в поле, размахивая ханджарами, и завязался бой, и аль-Мунзир удержал погоню на месте, пока сбоку не зашли лучники на верблюдах.
Джейран, Хашим и Джарайзи, ехавшие на одном верблюде, первыми приблизились к знаменосцам и ждущим их под белыми знаменами аль-Асваду и Абризе.
– Вот женщина, которая спасла меня от смерти, о госпожа! – сказал аль-Асвад, указывая рукой на Джейран. – И спасла она меня тем, что потребовала исполнения данного ей слова. Прими ее как сестру, о госпожа, и полюби ее, ибо, когда мы возьмем Хиру, я исполню свое слово – женюсь на Джейран и возьму ее в свой харим!
– Ты женишься на Джейран и возьмешь ее в свой харим? – не веря своим ушам, переспросила Абриза.
– Да, клянусь Аллахом!
Аль-Асвад поправил золотую маску, подбоднул коня стременами и умчался догонять людей Джевана-курда.
Джейран заставила верблюда лечь, и первым с него спустили черного пса, которого все это время держал в охапке маленький Джарайзи. Затем сошел Хашим, а с другой стороны соскочила девушка.
– Я знаю тебя, твое имя – Абриза, о госпожа, – сказала она, подходя. – Это мне ты отдала золотой крест, чтобы я нашла раба Рейхана или Ади аль-Асвада. Я выполнила то, что обещала!
– Так я обязана спасением тебе? – изумилась Абриза, стараясь глядеть Джейран в глаза и не разглядывать ее потрепанный в побоище наряд, а также знаки на левой щеке, подобные кусочкам темно-синей шерстяной нитки, причудливо выложенным под самой кожей.
– Ты обязана спасением Аллаху, о госпожа, – смутившись, отвечала Джейран.
Она вдруг вспомнила о своем безобразии и представила, как жалко выглядит рядом с прекрасной Абризой, которой даже длинная кольчуга была к лицу и прибавляла ей прелести.
Абриза же недоумевала, как могло случиться, что Ади аль-Асвад, один из красивейших мужчин среди детей арабов, пообещал ввести к себе в харим эту рослую, словно латник из Британии, и плечистую девушку с изуродованным синими знаками лицом.
Мысль о том, что Джейран получила обещание, которое предназначалось самой Абризе, была для красавицы невыносима.
– Тебе удалось выбраться оттуда? – спросила она, хотя это и так было ясно.
– Удалось, о госпожа.
Абриза помолчала, опустив глаза, вдруг усмехнулась и шагнула навстречу Джейран, протягивая к ней руки.
– О сестрица! – воскликнула она. – Как я рада, что мы вместе войдем в харим аль-Асвада! Как только мы въедем в Хиру и войско расправится с врагами, непременно будет пышная свадьба! Он станет нашим мужем, о сестрица!..
Джейран, вовсе не ожидавшая такого поворота дел, отступила и посмотрела на Хашима в поисках поддержки.
– Ади аль-Асвад займет отцовский престол и станет нашим мужем! – следуя за девушкой с распростертыми объятиями, продолжала Абриза. – И будет ночь тебе и ночь мне!
Она достаточно усвоила нравы дочерей арабов, чтобы вовремя припомнить и употребить приветствие-уговор, принятое между женами одного мужчины.
– Ты же христианка, о госпожа! – напомнила Джейран. – По вашей вере мужчине не положено иметь двух жен.
– Но ведь аль-Асвад – не христианин, и пророк дозволяет ему иметь столько жен, сколько он может прокормить, – возразила Абриза, обнаружив, что интерес к этому делу в ней зародился давно и что она успела заготовить все необходимые доводы. – Вот если бы я взяла себе двух мужей – это было бы преступлением. А так ни один из нас не нарушит закона своей веры, о сестрица! Он берет столько жен, сколько ему позволено, а я беру столько мужей, сколько позволено мне!
Хашим, от которого растерявшаяся Джейран ждала вмешательства, только переводил взгляд с одной невесты аль-Асвада на другую. И на его подвижном лице читалось явное недовольство обстоятельствами.
Тем временем Хабрур и прочие осужденные вместе с мальчиками и псами сошли с верблюдов. И, к великому удивлению соратников аль-Асвада, мальчики принялись, отцепляя от верблюдов лисьи хвосты и колокольчики, украшать себя ими. Очевидно, они еще не поняли, что эта роскошь, которой снабдили осужденных, носила шутовской и издевательский характер.
Сорвав с себя колпак, украшенный пестрыми лоскутами, и обмотав голову вместо тюрбана куском огненно-желтой ткани, покрывавшей бока его верблюда, Хабрур ибн Оман разгладил свою прекрасную бороду и, соблюдая достоинство, подошел к Абризе.
– Простор, привет и уют тебе, о госпожа! – сказал он, слегка поклонившись.
Абриза повернулась к нему – и глаза ее округлились, а рука потянулась ко рту, желая зажать срывающийся с губ смех.
Хабрур красил бороду, но не голову, хотя и у него были длинные волосы, как положено воину. Сейчас они, совершенно седые, свешивались уже не крутыми локонами, а лохматыми прядями по обе стороны лица из-под желтого подобия тюрбана. При всем при этом на нем был халат из самой дорогой парчи, ибо неприлично было везти на казнь наставника царевича Ади в чем-то кроме золотой парчи.
Пока Абриза боролась со смехом, Хабрур ибн Оман повернулся к Джейран и низко поклонился ей со всем возможным достоинством.
– Мы раскаиваемся в том, что подозревали тебя, о девушка, – сказал он, округлым движением отведя руку в сторону и указав на спасенных соратников. – И мы благодарим Аллаха, что ты не затаила вражды к нам! И мы рады, что аль-Асвад сдержит свое слово и возьмет тебя в свой харим, ибо подобных тебе цари приберегают на случай бедствий!
Пока он говорил, все его товарищи подошли и окружили Джейран, за исключением Ахмеда, которого сняли с верблюда и уложили на песок, потому что от жары, скачки и потери крови он поминутно терял сознание.
Джейран смутилась и опустила голову, ища рукой изар, который, как она помнила, свешивался с плеча. Но она не нашла изара и закрыла лицо обеими руками.
– Если вы правоверные, то отвернитесь и не заставляйте ее стыдиться и краснеть! – вмешался Хашим. – Разве прилично смотреть в лицо невесте вашего повелителя?
– Мы уже видели ее без изара, о шейх! – ответил кто-то, чьего имени Джейран не знала.
Мальчикам показалось, что их звезде грозят бедствия от столпившихся вокруг нее людей. Немедленно в грудь и горло Хабруру уперлись три зубца вынырнувшей из-за плеча Джейран длинной остроги.
– Отойдите от нее, о гнуснейшие из тех, кто вбивал колья палаток! – раздался решительный и звонкий голос. Джейран узнала пылкого Вави, а вот острога принадлежала Бакуру, она запомнила эту самую длинную и самую тяжелую острогу, украшенную у основания зубцов золотым шнурком и алой лентой из райской добычи.
Хабрур отступил и негромко рассмеялся.
– Твои люди не знают, что такое страх, о госпожа, – сказал он, – и я бы упрекнул тебя за то, что ты не учишь их осторожности, если бы не то, что лишь их безумной отваге мы обязаны жизнью, клянусь Аллахом! Вашей госпоже ничего не угрожает, о молодцы! И каждый из нас, спасенных ею, сделает ей дорогие подарки, а она разделит между вами столько денег, сколько сочтет нужным.
– Добыча! Добыча! – завопили мальчики со смехом. – Она опять привела нас к добыче!
И Джейран услышала опасное чмоканье – кто-то за спиной у нее поцеловал себе руку.
По тому, как тревожно переглянулся Хабрур ибн Оман с человеком, стоявшим по правую руку от него, Джейран поняла, что он заметил этот поцелуй в левую ладонь. А по его нахмуренным бровям нетрудно было догадаться, что он знает, какие люди совершают подобные поцелуи.
Но Хабрур промолчал.
Абриза, глядя на все это, пыталась понять, в чем подозревал Хабрур Джейран, но не это ее беспокоило. Она видела, какими глазами аль-Асвад глядел на Джейран, а какими – на нее, Абризу. И, сопоставив обстоятельства, она обнаружила, что не только она пострадала из-за аль-Асвада, но и он чуть не лишился жизни ради спасения ее чести. Джейран же спасла и аль-Асвада, и его людей, и приняла какое-то участие в спасении самой Абризы, а самый страшный грех, каким Ади никогда не согласится себя запятнать, – это неблагодарность.
И аль-Асвад сам объявил о том, что берет в жены ту, кого он искренне считал уродиной с серо-голубыми глазами и коротким вздернутым носом, а что касается супружества царского сына с Абризой – так его провозгласило войско Джудара ибн Маджида, пока неслось по пустыне, возглавляемое аль-Мунзиром, Джеваном-курдом и Джударом, и восторгалось ее красотой, отвагой и стихами.
Абриза знала, что ей удастся оттеснить Джейран, но не хотела, чтобы это выглядело слишком явно. И раз аль-Асвад попросил ее позаботиться о девушке, она должна была сделать это так, чтобы все войско видело ее заботу!
Поэтому, когда Хабрур увидел целующего левую ладонь Даубу, Абриза уже сделала шаг вперед.
– Не смущайся, о Джейран! – звонко сказала она. – Все, что ты совершила с открытым лицом, ты совершила для спасения нашего будущего мужа! И все эти люди сделают тебе богатые подарки, и пусть я буду первой среди них!
Абриза нашарила под кольчугой единственную драгоценность, которая была при ней, – ожерелье с темными камнями, и вынула его, и подняла над головой, показывая всем, а потом надела на шею девушке.
Это было единственное, что подарила ей женщина, что назвала ее дочерью, спасшая ее из позорного плена и пропавшая неведомо куда. Но, как та сражалась за счастье своего ребенка стремительными куттарами, так сама Абриза сражалась сейчас за свое счастье при помощи ее подарка. И она, уже надев на Джейран ожерелье и выслушав по этому поводу похвалы, подумала, что мать непременно должна желать ей удачного замужества, и она только обрадуется, узнав, что ожерелье послужило делу этого замужества.
Вдруг Хабрур приложил ладонь к уху, и все примолкли.
Сообразив, в чем дело, Джарайзи вскарабкался на плечи к рослому Бакуру и крикнул, что видит всадников, несущихся во весь опор. И тут же раздался лай собак.
Когда же эти всадники подскакали совсем близко, оказалось, что они ведут в поводу оседланных лошадей.
– В Хиру! – крикнул опередивший прочих статный воин. – Таково приказание аль-Асвада! По коням – и, во имя Аллаха, в Хиру! Каждый человек сейчас дорог!
– Вы вошли в город? – спросил Хабрур, немедленно кладя руку на холку и повод ближайшего к нему коня.
– Мы вошли в рабат, и горожане приветствуют нас, а люди Джубейра ибн Умейра отступили в медину, но мы захватили их арбалеты, и мы уже простреливаем тяжелыми стрелами улицы медины, так что скоро путь к дворцу будет открыт! Но чтобы старого царя и царевича Мервана не вывезли из Хиры, мы должны немедленно встать у городских ворот! – отвечал всадник, а когда он окончил свою речь, все спасенные уже сидели на конях и разбирали поводья.
– Мы безоружны, о друг Аллаха! – сказал Хабрур.
– Мы взяли для вас луки со стрелами и ханджары на поле боя, о Хабрур! – тут всадник показал рукой себе за спину, туда, где была разгромлена погоня, и проговорил нараспев: – Это был славный бой, который делает седым младенца и плавит своим ужасом каменную скалу!
– Так давай их сюда, во имя Аллаха!
Пока разбирали привезенное оружие, Хабрур обратился к Хашиму:
– Твои люди неплохо потрудились, о шейх! Пусть они сядут на верблюдов и сопровождают женщин в Хиру. Там вам всякий скажет, где царский дворец. Езжайте не торопясь. Но если вы увидите по дороге что-то подозрительное…
– Караван, который собран впопыхах и удаляется от Хиры, о почтеннейший? – уточнил Хашим.
– Посылайте гонца к аль-Асваду, а сами преследуйте его, и если получится – то скрытно! – велел Хабрур и подбоднул коня стременами.
Джейран стояла, опустив руки.
У нее было такое ощущение, будто она никому здесь больше не нужна.
Дело было задумано и свершено.
Опасность миновала.
Мальчики радовались будущей добыче.
Абриза, держа под уздцы своего коня, смотрела вслед всадникам с мечтательной улыбкой, и ее лицо было прекрасно.
– Ничего, о звезда, твои желания осуществятся, – негромко сказал Хашим. – Клянусь собаками. Тебе сопутствует удача, о звезда.
Джейран вздохнула.
* * *
– Разве у нас сегодня траур, о почтеннейшие? – гневно говорил Ади аль-Асвад. – С чего это вы взяли, что сегодня нужно отменить трубы и барабаны, возвещающие срок молитвы?
Он стоял перед склонившимися старцами в одной нижней рубахе и шароварах, а Джеван-курд держал распяленную на руках джуббу из плотного черного шелка – наряд, вовсе непригодный для езды под палящим солнцем, но призванный подчеркнуть величие своего знатного владельца.
Парчовый халат, в который ради утонченной насмешки нарядили аль-Асвада перед казнью, валялся у его ног.
– Ради Аллаха, сократи эти речи! – сказал ему аль-Мунзир, который, как Джеван-курд, держал наготове темно-красную перевязь, уложив на сгиб локтя уже прилаженный к ней ханджар в ножнах. – Сейчас они побегут и прикажут дворцовым трубачам трубить! И если срок очередной молитвы не будет возвещен, пока ты надеваешь царскую одежду, то, клянусь Аллахом, они будут раскаиваться из-за того, чего не совершили!
– Они вообразили, будто у них траур! – раздалось из-под шуршащей джуббы, которую Джеван, смешно встав на цыпочки и зачем-то вытянув шею, поторопился накинуть на голову аль-Асваду. – Траур по пятнистой змее, что ли, решили они объявить?
– Твой отец до сих пор не найден, о Ади, и брат – тоже, – напомнил аль-Мунзир. – И твой отец настолько обременен годами, что всякое волнение для него губительно.
– Вот уж по кому я охотно надел бы траур, так это по моему братцу! – воскликнул аль-Асвад, выпрастывая голову из выреза джуббы, а руки – из широких и коротких рукавов. – По его милости ношу я эту проклятую маску!
Аль-Мунзир высоко поднял перевязь, надел ее на своего названного брата и расправил на правом плече. Аль-Асвад попробовал левой рукой, каково опираться на рукоять ханджара, и отвел ее немного назад.
Старцы во все глаза смотрели на него, и на их лицах было написано великое подозрение: хотя носящего золотую маску окружали известные им люди, Хабрур ибн Оман, Джеван-курд и Джабир ибн Джафар аль-Мунзир, но с трудом верилось, что под маской – старший сын царя.
Красная перевязь прижала выпущенные из-под черного же тюрбана длинные кудри аль-Асвада, которые блестели на изгибах завитков не хуже дорогого китайского шелка. Ади высвободил волосы и вскинул голову, чтобы они легли естественно и красиво.
– Теперь пусть приходят! – распорядился он.
Хабрур ибн Оман встал рядом с ним, держа перед собой обнаженный ханджар острием вниз. С другой стороны встал аль-Мунзир, тоже достав ханджар из ножен. Джеван-курд вышел чуть вперед, но встал несколько иначе – боком к аль-Мунзиру, держа ханджар на плече.
Но первым вошел человек, которого бояться никак не следовало, – Джудар ибн Маджид, верный, надежный, сохранивший войско аль-Асвада. За ним шло четверо воинов, залитых в кольчуги.
– Начальники конных разъездов вернулись и клянутся, что след потерян! – доложил он.
– Не унесли же их ифриты и джинны! – воскликнул Ади. – Что я должен думать о дворцовой службе? Сейчас они ползают передо мной на животе и утверждают, что мечтали о моей победе! И они же не заметили, как ровно два часа назад из дворца исчезли эта пятнистая змея, Хайят-ан-Нуфус, мой драгоценный братец и мой несчастный отец, уже не отличающий горькое от кислого и сладкое от соленого! Когда наконец приедет твоя мать, о аль-Мунзир?
– Не раньше завтрашнего дня, – отвечал Джабир. – Я послал за ней людей с наилучшими махрийскими верблюдицами.
– Пусть сразу же приступит к своим обязанностям! – тут аль-Асвад заметил, что перепуганные старцы, по милости которых дворцовые барабанщики и трубачи не возвестили городу со стен дворца срока очередной молитвы, так и не двинулись с места. Джабир проследил направление его взгляда и шагнул к ним, приподнимая ханджар.
– Горе вам, вы еще здесь?! – прорычал он. И сразу же загородил широким плечом аль-Асвада от вкатившегося в зал непонятного и огромного пестрого клубка.
Клубок распался – и стало ясно, что это всего лишь черные и белые евнухи, в лучших своих нарядах, пихавшие и толкавшие друг друга, чтобы рухнуть на колени поближе к новому повелителю.
Аль-Асвад подошел к ним поближе.
– Завтра приедет благородная Умм-Джабир, которую все вы знаете под именем Каукаб-ас-Сабах, – негромко сказал он. – Отведите ей наилучшие помещения. Пошлите за купцами и посредниками, чтобы я мог приобрести ей подарки и невольниц, которые не знают дворцовых склок и будут ей верны! Пусть она сама выберет, что ей будет угодно, я оплачу эти расходы. Когда благородная Умм-Джабир будет готова принять меня – известите, чтобы я пришел и поцеловал землю меж ее рук! Приготовьте также покои для двух других знатных женщин, которые скоро прибудут. Госпожу Умм-Джабир я ставлю от себя начальницей харима! Все вы будете подчиняться ей. А когда я введу в харим свою жену, то и она поставит от себя начальницу. И они поделят между собой обязанности. Тот, кто найдет и приведет приближенных женщин Хайят-ан-Нуфус, получит свободу!
– С тем же успехом ты мог бы обещать звезду с неба, – тихо заметил Хабрур. – Тех, кого пятнистая змея не увела с собой, она отправила в ад! Клянусь Аллахом, нас еще долго будут извещать о найденных трупах убитых женщин!
Аль-Асвад в знак того, что тут уж он бессилен, возвел глаза ввысь – к куполу, перекрывавшему зал.
И вздохнул – купол был возведен совсем недавно на часть денег из его военной добычи. До той поры дворец не имел зала, общего для всех четырех его угловых построек, а лишь двор посередине, куда сходилось восемь широких коридоров. Старый царь очень огорчался тем, что его обиталище отличается от караван-сарая лишь величиной. И чем старше он становился, тем больше значения придавал этому куполу, который должен был превратить двор в зал, пока наконец старший сын не оплатил укрепление стен и возведение свода над двором. И обошлась эта затея недешево – двор был тридцати шагов в длину, немногим меньше в ширину, и купол волей-неволей получился очень высоким. Сам Ади, много лет не бывав в Хире, сейчас увидел его впервые.
Он мечтал о том дне, когда победителем войдет в этот дворец, но меньше всего на свете собирался ввергать в бедствия отца. И вот старик пропал, и накануне исчезновения он был, как сообщили сразу перешедшие на сторону аль-Асвада молодцы из дворцовой охраны, в состоянии, близком к беспамятству.
Кроме того, Ади, привыкший входить победителем в селения и небольшие города, где никто не считал его хозяином, имеющим намерение править долго и тщательно, ожидал даров и изъявлений преданности, но не вопросов о десятках, сотнях и тысячах динаров, которые ежемесячно должны выплачиваться привратникам, вольноотпущенникам, сотрапезникам, чтецам Корана, конюшим, муэдзинам дворцовой мечети (состоящей, если вдуматься, всего лишь из примыкающего к залу михраба, но расположенного так, что при необходимости чуть ли не вся середина дворца делалась одной огромной мечетью), а также служителям зверинца, звездозаконникам и шутам.
– Ради Аллаха, сколько же дармоедов и бездельников я обязан кормить? – изумился он, когда главный повар попросил триста динаров – и это на продовольствие одного лишь дня.
Он успел явиться с этой просьбой самым первым – как только узкие ворота дворца распахнулись перед новым владельцем. И он получил требуемое – ибо аль-Асвад не желал начинать свое правление с отказа. Но потом аль-Асвад отправил старого и мудрого Мансура ибн Джубейра побеседовать с греком Юнусом аль-Абдаром, возглавлявшим молодцов левой стороны и знавшим, на что тратятся царские деньги.
И сразу же ему, воину, который у арабов считался за пятьсот всадников, стало неловко за это приказание – как будто щедрость отныне уже не считается достоинством царей!
По его молчанию Хабрур ибн Оман, и не видя скрытого под золотой маской лица, догадался о мыслях аль-Асвада.
– Этот день – твой день, и никто его с тобой не разделит, – негромко сказал наставник. – Ни его радостей, ни его забот. Пока у тебя нет вазиров и казначеев, ты сам обязан заботиться о состоянии своей казны – и одному Аллаху ведомо, насколько облегчила ее пятнистая змея…
И вскоре подошел Мансур ибн Джубейр.
Подобно молодым воинам, он перед сражением выпустил из-под тюрбана длинные седые волосы, но еще не убрал их. И странно было видеть его при бороде, сохранившей почему-то естественный черный цвет, и при этих прозрачных серебряных локонах.
Вслед за ним шел Юнис аль-Абдар.
– Я не хочу ни на кого доносить, о аль-Асвад, – сказал грек, – потому что мои молодцы кормятся с этого дела. Но если ты увеличишь им жалованье…
– Я увеличил им жалованье! – веско отвечал Ади, а Хабрур ибн Оман одобрительно кивнул и огладил бороду. – Я увеличил его на треть. Говори, о Юнис.
Обращение по имени было менее уважительным, чем обращение по прозвищу, но вот как раз с прозвищем у грека дело обстояло печально. Еще молодым его подобрали утром на улице со спиной, распоротой наискосок. После чего нельзя было не прозвать его Пораженным в спину. И вот уже двадцать лет носил он это прозванье. Как и Джеван-курд, он не получил прозвища-куньи по имени своего отца или своего сына, ибо его отца никто не знал, а о сыновьях он никому ничего не рассказывал.
– Дворцовые повара закупают продовольствия ровно на триста динаров, об этом тебе скажут все купцы, о счастливый царь, – тут Юнис усмехнулся. – На рынке очень удивятся и будут смеяться, если дворцовые повара начнут скупиться. И они воистину замечательно стряпают. Они уставят твою скатерть кушаньями не сорока, а ста сорока родов! Но как только они поймут, что повелитель и дворцовые женщины в этот день уже больше не попросят еды, они берут котлы и пробираются к выходу из харима, где их уже ждут горожане. И они продают лакомства, которых те никогда бы так вкусно не изготовили, за весьма умеренную цену. Не станет же царь Хиры проверять, что к ночи осталось на дне котлов!
– Хорошо, пусть будет триста динаров, хотя этих денег хватило бы на то, чтобы кормить в пути целое войско, – усмехнувшись, отвечал аль-Асвад. – Не унижаться же мне ради трехсот динаров! О Юнис, я и тебе увеличил жалование на треть. Чьи молодцы стоят возле всех дворцовых ворот – твои или Юсуфа аль-Хаммаля ибн Маджида?
– Я собрал всех своих молодцов, до кого дотянулась моя рука, сразу же, как стало известно, что ты входишь в Хиру, о аль-Асвад! – гордо сказал Юнис. – И они первыми встретили тебя, клянусь Аллахом! Мне не нужно было расставлять их возле входов и выходов – они сделали это сами!
– Как вышло, что они сохранили в душе верность аль-Асваду? – неожиданно спросил аль-Мунзир, оправдывая свое прозвание Предупреждающего.
– Двое из наших погибли потому, что видели кое-что из проделок Хайят-ан-Нуфус, – мрачно поведал Юнис. – Третий уцелел, он-то и рассказал об этом деле. Мы спрятали его в городе, и если ты прикажешь – его принесут и он расскажет, как пятнистая змея приказала ночью тайно выносить из дворца сундуки с твоей добычей, о аль-Асвад.
– Что скажешь, о аль-Мунзир? – Ади повернулся к своему Предупреждающему.
– Скажу, что сейчас мы должны проверять всех и каждого, невзирая на обиды, – отвечал Джабир. – Пятнистая змея могла оставить во дворце своих соглядатаев. И врачи Хиры еще не разучились составлять яды – за большие деньги, разумеется! А женщина, что наложила руку на твою добычу, – обладательница очень больших денег.
Тут на лице Юниса промелькнуло некое сомнение.
Джабир, говоривший с аль-Асвадом, не заметил этого, зато заметил Хабрур ибн Оман.
– О начальник молодцов левой стороны, – обратился он к греку, чтобы не унизить того случайно ни обращением по имени, ни обидным прозвищем. – Ты знаешь что-то еще об этом деле.
– Да, знаю, но я боюсь зла для своих людей, – открыто сказал тот.
– О сынок, если молодцы что-то натворили, то это дело минувшее, и их непременно нужно помиловать, – сразу догадавшись, о чем сейчас пойдет речь, сказал аль-Асваду Хабрур.
– Я их помиловал, – с некоторым недоумением, но все же уверенно отвечал Ади. – Говори, о Юнис.
– Обладательницы больших денег и сокровищ обычно наряжаются сами и наряжают своих невольниц, о аль-Асвад, а пятнистая змея в последнее время сделалась скупой, как тот старый скряга, что уже не отличает четверга от субботы, – сообщил грек. – Некоторые из моих молодцов завели подружек среди дворцовых женщин…
– Так надо отдать этих женщин за них замуж! Вот это и будет им достойное наказание, клянусь Аллахом! – вмешался Джеван-курд, ибо такую замечательную мысль он был просто не в силах удержать при себе. – Даже младшая прислужница младшей невольницы царицы настолько изнежена и избалована, что мужчине проще сразу пойти и повеситься, чем угодить ей нарядами и украшениями!
– Она оставила для своих женщин лишь те наряды, в которых они выезжают в город, сопровождая ее, – добавил Юнис. – Куда подевались знаменитые золотые пояса, которые заказала для своей свиты твоя мать, о аль-Асвад, и китайские ткани, и ожерелья с бадахшанскими рубинами, не знает никто!
– Ну как, послушаем совета Джевана-курда? – спросил Юниса аль-Асвад. – Я простил твоим людям то, за что другие цари карают смертью, но должен же я совершить нечто такое, чтобы это дело всем запомнилось надолго?
– Сперва нужно узнать, как вышло, что женщины имели такую возможность, о мой брат, – вмешался аль-Мунзир. – Разве никто не охранял их?
– Да простит меня Аллах, если я лгу, но сдается мне, что пятнистая змея часто тайком покидала не только харим, но даже и Хиру, – сказал Юнис. – Расспроси евнухов, о аль-Мунзир, может, чего-нибудь от них и добьешься. А когда повелительницы нет, невольницы теряют чувство меры.
Тут вдруг вовсю затрубили трубы.
– К оружию, о любимые! – воскликнул аль-Асвад, хватаясь за рукоять ханджара.
Юнис аль-Абдар и Мансур ибн Джубейр также обнажили клинки, а Джеван-курд, яростно оскалившись, завертел головой, отыскивая врага.
Он первым и сообразил, в чем дело. Сообразив же, рухнул на колени.
На возвышении между колоннами стоял один из тех старцев, что получили порядочную взбучку от аль-Асвада. Ухватившись пальцами за свои уши, он провозглашал призыв к молитве.
– Аллах велик! – трижды воскликнул он, и вслед за тем, также трижды, провозгласил: – Свидетельствую, нет Бога кроме Аллаха!
Хотя купол был возведен совсем недавно, дворцовые священнослужители уже уразумели, как следует направлять голос, чтобы слова пронзительно гудели, как бы звуча сразу со всех сторон.
Ади Аль-Асвад вместе с прочими устремился к водоему, чтобы омыть себе, как положено, лицо, руки до локтей и ноги до щиколоток. Поскольку соблюдаемая им клятва требовала, чтобы золотая маска заменила на время его лицо, то он и плеснул тепловатой воды на сверкающее шлифовкой золото. Затем, не успев слишком удалиться от водоема, он опустился на колени, положив перед собой ханджар. Аль-Мунзир встал рядом, но оружие из рук не выпустил, как исхитрился не выпустить при омовении.
– Разве сейчас время для молитвы? – шепотом спросил он. – О брат, нельзя ли вообще заменить этих бесноватых старцев на каких-нибудь других, помоложе и поумнее?
– Эти служили еще моему деду, и они считают, что таким образом искупают свой грех за пропущенный сигнал к молитве, – отвечал Ади, и в голосе его было сожаление.
– Еще неизвестно, что хуже, клянусь Аллахом… – проворчал аль-Мунзир.
Очевидно, проще было захватить Хиру и поменять в ней власть, чем избавиться от впавших в старческое слабоумие служителей Аллаха.
Появившись в михрабе, почтенный имам возглавил общую краткую молитву. И весь зал, как и было задумано, обратился в одну большую мечеть.
Совершив краткую молитву в два раката, сердитый аль-Асвад поднялся и поманил к себе Хабрура ибн Омана.
– О дядюшка, скажи им, что если они с перепугу еще раз призовут весь город к молитве не вовремя, мы отправим их всех пешком в паломничество, и, клянемся Аллахом, ни один из них не вернется из Мекки! – грозно приказал он.
– Достойная кара! – одобрил случившийся тут же Джеван-курд.
И тут же в зале появились молодцы Юниса аль-Абдара.
– Прибыли женщины, которых ожидает царь!
– Они устали, не ведите их сюда, а сдайте евнухам, чтобы их устроили в хариме, – распорядился Ади. – Когда им будет угодно видеть меня, я приду и поцелую землю между их рук.
– У них вооруженная охрана во главе с неким шейхом, о царь! Что делать с теми людьми? – спросил старший из молодцов.
Аль-Асвад повернулся к Юнису.
– О друг Аллаха, можешь ли ты разместить тех людей и их шейха в своей казарме? Ведь твои люди все сейчас охраняют дворец, а этим нужно отдохнуть и поесть.
– Мы сделаем лучше, о господин, – предложил грек. – Казарма молодцов правой стороны пуста, они разбежались, когда стало ясно, что Хайят-ан-Нуфус бросила их, и первым исчез Юсуф аль-Хаммаль ибн Маджид. Пусть эти люди будут нашими гостями в той казарме, а мы позаботимся, чтобы им принесли с дворцовой кухни хорошей еды, а что касается имущества, брошенного молодцами правой стороны, и сундуков Юсуфа аль-Хаммаля ибн Маджида, так пусть эти люди пользуются им, как захотят. Они оказали нам такую услугу, что это – наименьшее из всего, что мы можем им дать и дадим!
– Они прибыли на верблюдах и лошадях, им не принадлежащих, – вспомнил Хабрур ибн Оман. – Животных нужно отвести в царские стойла и загоны.
– Делайте так, о любимые, – приказал аль-Асвад молодцам. – Что там еще за люди? С чем они пришли?
* * *
– Будь он проклят, этот дворец, и будь они прокляты, эти покои! – воскликнула Абриза. – Разве нельзя было отвести нам другое комнаты?
Старший евнух, склонясь, насколько позволял живот, бормотал, что эти – наилучшие, если не считать покоев самой Хайят-ан-Нуфус, но их после бегства царицы еще не успели привести в порядок.
– Здесь, на этих коврах, царевич Мерван овладел мной, а я лежала, одурманенная банджем, и не могла сопротивляться! – раскрасневшись от стыда и ярости, объяснила Абриза Джейран. – А эти жирные мерзавцы наверняка помогали ему! Веди нас в покои царицы! Теперь уж я разберусь, кто был виновником всех бедствий!
Джейран, растерявшись, покорно шла за Абризой, которая уже вела себя в хариме как полновластная хозяйка.
Евнухи, пятясь перед ней, пытались убедить ее остаться в приготовленных комнатах, соблазняя их роскошью, но красавица и слушать ничего не желала.
– Идем, идем, о Джейран! – звала она. – Нам нужно поскорее умыться, на мне десять ритлей пыли и грязи, я вся пропахла конским потом и этой безобразной кольчугой! Вот уже второй раз я путешествую по самому солнцепеку в кольчуге, и хотя арабская куда легче франкской, я все равно чуть не испеклась в ней и каждую минуту готова была лишиться сознания!
Джейран, пальцы которой сами тянулись к ушам, чтобы заткнуть их и избавить от пронзительного голоса Абризы, сильно усомнилась в том, что эта женщина способна лишиться сознания, но спорить не стала.
– Лучший из городских хаммамов очищен от посетителей, так что вы можете сразу же поехать туда, – вставил евнух.
– Поедем, о Абриза! – обрадовалась Джейран. – Я сама разотру и разомну тебя! А тем временем нам приготовят другие комнаты.
– Но придется немного подождать, пока для вас оседлают мулов, о владычицы красавиц, и пошлют стражу прогнать людей с улиц, и потом я сам поеду проверить, все ли купцы закрыли свои лавки и нет ли среди горожан подглядывающего… – уже предчувствуя, к чему приведут все эти предосторожности, заговорил евнух.
– Разрази тебя гром Господень! – воскликнула Абриза на языке франков, который она теперь вспоминала лишь при подобных обстоятельствах, и обратилась к Джейран уже на языке арабов: – О сестрица, этот человек поклялся уморить нас!
– Может быть, мы можем привести себя в порядок здесь? – спросила Джейран. – Если нам принесут тазы и ведра с горячей водой…
– Довольно с нас тазов и ведер! – возразила Абриза. – Если бы ты знала, о сестрица, как они надоели мне в Афранджи, когда за целую долгую зиму мне удавалось помыться три или четыре раза! И, как я ни расчесывала себе волосы, все равно в них и в одежде заводились вредные насекомые. Если бы ты знала, как мы прогоняли слуг с кухни, и закладывали окна всем, что могли найти, и кипятили большие котлы с водой! Если бы ты видела ту гнусную лохань, в которую я забиралась и сидела в ней так, что мой нос упирался в мои колени! А потом, когда я кое-как промывала волосы, меня ополаскивали, и вытирали, и я натягивала на влажное тело эти мерзкие шоссы…
– Что ты натягивала, о сестрица? – Джейран впервые назвала так Абризу и сама ощутила в собственном голосе некую фальшь. Она вовсе не хотела, чтобы эта заносчивая красавица была ее сестрицей и делила с ней любовь аль-Асвада!
– Шоссы, и я больше всего на свете хотела бы забыть это слово! – с неподдельной искренностью отвечала Абриза. – Вообрази, что под платьем на тебе надет широкий теплый пояс, и ты натягиваешь нечто вроде чулок, но только из плотного сукна, которые доходят чуть ли не до живота, и сверху привязываешь их края к этому поясу, чтобы они с тебя не скатились.
– Но это же страшно неудобно! – возмутилась Джейран, которая привыкла ходить в сафьяновых туфлях на босу ногу.
– А кто говорит, будто это удобно? Разве женщины носили бы эти ужасные шоссы, если бы у них был иной способ согреться? Когда ты ложишься в постель, то в спальне еще тепло. Но когда ты просыпаешься – то страшно вылезти из-под одеяла. Когда я приехала в земли арабов, то просто ожила! Знала бы ты, о сестрица, что меня больше всего поразило? Даже самые бедные женщины стараются купить себе шелковое платье! И мужья дают им на это деньги!
– И что же ты обнаружила, когда купила шелковое платье, о сестрица?
Абриза рассмеялась.
– Я еще в Афранджи слыхала, что вредные насекомые не любят шелка, – сказала она, – но это было вроде историй про дерево, на котором растут живые ягнята, а из их шерсти ткут тонкие ткани. Разве бывает так, чтобы нити пряли червяки? Ведь тогда они получатся не прочнее паутины!
– Говорят, что когда Аллах великий вывел Адама из рая, то он вынес оттуда четыре листа, чтобы прикрыться ими, – сказала Джейран. – И они упали на землю, и один из них съели черви – и сделался из него шелк, а другой съели газели – и сделался из него мускус, а третий съели пчелы – и сделался из него мед, четвертый же упал в Индию и возникли из него пряности. Так что, наверно, все дело в том, какую пищу получают эти червяки. Благодарение Аллаху, теперь нам надолго хватит шелковых платьев, платков и покрывал!
– Клянусь Аллахом, я никогда больше не надену эти проклятые шоссы и не буду мыться в лохани! – весело воскликнула Абриза. – И я очень удивлюсь, если во дворце царей Хиры найдутся хотя бы одни шоссы!
Джейран вздохнула. Вот уже в который раз красавица намекнула, что она будет жить в этом самом дворце. И не требовалось особой сообразительности, чтобы догадаться, кого из них двух аль-Асвад будет любить крепче и пламеннее.
Любовь аль-Асвада… а что это такое?..
Джейран знала лишь то, что у него пылкий и гордый нрав, нрав истинного сына арабов, что превыше всего он ставит верность слову, а о прочих его качествах она могла лишь догадываться.
В тот единственный миг, когда она, стоя на помосте, увидела его лицо под позорным колпаком, она не могла оценить, красиво это лицо или же нет. Ее больше волновало, сможет ли она без помех сорвать с пояса гибкий клинок и передать ему. Потом она видела, как он сражался!
Но воспоминание о том побоище не вызывало в ее душе волнения, подобного тому, которое внушил ей Маймун ибн Дамдам.
А она хотела повторить именно то волнение и предвкушение близости, ощутить именно те стремительные и вызывающие испарину приливы крови к сердцу!
Нечто похожее было в пещере, когда она помогла аль-Асваду снять золотую маску и впотьмах умыла его лицо.
И получалось, что подлинную страсть в Джейран вызывал не мужчина, прекраснейший среди сынов арабов, невзирая на черноту лица, а некий безликий образ, являющий себя лишь в прикосновении!
Джейран никогда не слышала о том, что такое возможно. О любви она знала от других банщиц и из сказок, которые слушала у дверей хаммама. Всюду едва ли не главной причиной любви была красота лица и тела.
Джейран охотно взглянула бы на лицо аль-Асвада, чтобы убедиться, что оно вызывает те чувства, которые сопутствуют любви, но она сама вручила этому упрямцу золотую маску аль-Кассара, и он мог теперь снять ее не раньше, чем возведет на престол сына Абризы…
А вот Абриза видела это лицо, она знала его и любила! Достаточно было посмотреть на нее – и сразу становилось ясно, как пылко она любит аль-Асвада и как гордится своим возлюбленным.
И аль-Асвад любил Абризу – иначе зачем бы он затеял все это покровительство, и завоевывал трон для ее сына, и надевал золотую маску?
Джейран ощутила себя лишней. И свадебное торжество, которое ожидало ее, спасительницу молодого царя, показалось ей злобной издевкой над ее подлинным положением в хариме аль-Асвада – положением нелюбимой, которой оказывают нелепый почет, чтобы потом с чистым сердцем посещать любимую!
Она коснулась черного ожерелья, ощутила холодок камней и подумала, что это воистину прекрасный дар от избранной женщины женщине отвергнутой…
Абриза же тем временем, выставив евнуха, занялась разложенными на ковре платьями.
– Как только мы умоемся, непременно все это наденем! О Джейран, когда я жила в Афранджи, то не могла и мечтать обо всем этом! Там мы носили меха, и мои сорочки были сшиты из двух кусков холста, тот, что потоньше, шел на верх, а подол был из грубого. Я сама вышивала себе сорочки… И как же было холодно, когда я снимала грязную сорочку, чтобы надеть чистую! Ты не знаешь, что такое каменные стены и окна, закрытые дубовыми ставнями, и сквозняк, который поднимается, когда слуги затапливают большой камин!
Она выбрала тонкое платье цвета граната и золотой пояс к нему.
– Вот что будет мне к лицу! А что наденешь ты?
Джейран не знала.
В хаммаме она носила то, что велел покупать ей хозяин, а покупкой одежды ведала совсем другая женщина. В раю самозванной Фатимы она, правда, получила нарядные платья, но ей и в голову не приходило, к лицу ей они или же нет. А потом она и вовсе надела мужской наряд, который ее полностью устраивал.
Вдруг ей мучительно захотелось хоть в чем-то перещеголять красавицу Абризу. Несомненно, дочь франкского эмира будет очень хороша в гранатовом платье, но тут непременно должно найтись что-то подходящее и для Джейран!
Девушка уставилась на разложенные наряды – и протянула руку к черному шелку.
Она откуда-то знала, что именно черный шелк сделает ее статную фигуру красивой, придаст лицу и осанке благородство.
Она вытащила платье – и по лицу Абризы поняла, что та раскаивается в своем выборе. Если бы она первая заметила это прекрасное, отделанное золотыми узорами платье, то не стала бы прикладывать к лицу гранатовое.
Джейран распялила платье на руках.
Ей столько раз приходилось помогать невольницам одевать их распаренных и истомленных сладостью хаммама повелительниц, что она могла на глаз сказать, длинен или короток наряд, насколько глубоко хозяйка сможет его запахнуть. В таких вещах проявлялась ее сообразительность.
Черное платье принадлежало женщине высокой, статной, и Джейран даже назвала бы ее полной.
Она бросила дорогой наряд на ковер.
– Я не надену его, – сказала она Абризе. – Его носила эта пятнистая змея, Хайят-ан-Нуфус!
Абриза, протянувшая было руку за великолепным нарядом, тоже отказалась к нему прикасаться.
– Как же нам узнать, какие платья принадлежали ей, а какие – другим женщинам старого царя? – растерянно спросила она.
Вошел, метя ладонью по ковру, толстый евнух.
– Если владычицам будет угодно, я отведу их в покои Хайят-ан-Нуфус, – сказал он.
– И позови женщин, чтобы они помогли нам одеться! Тех, у кого были основания нас бояться, увезла пятнистая змея, а другие пусть приходят без всякого страха! – распорядилась Абриза.
– Наш благородный господин сказал, что ни на одну из дворцовых женщин нельзя положиться, – возразил евнух. – Завтра придут посредники, и он купит вам белых невольниц и черных рабынь. А пока я сам помогу вам.
И, видя удивление на лицах Абризы и Джейран, добавил:
– Я пострадал от Хайят-ан-Нуфус, и царь знает это.
Евнух вывел их в небольшой двор харима, со всех четырех сторон охваченный галереями, провел мимо водоема и показал дверь на противоположной стороне двора.
– Нам придется подняться наверх, о владычицы красавиц.
– Мне приходилось забираться на верхушку большого донжона! – заявила Абриза. – А тебе, о сестрица?
– Мне тоже, – решив, что «донжон» вряд ли выше башни Сабита ибн Хатема в крепости гулей, и не желая уступать хоть в этом, отвечала Джейран. – Но дворцовые женщины, очевидно, не любят ходить по лестницам. Те, которые приезжали к нам в хаммам, были такие толстые, что деревянная лестница их бы не выдержала.
Пузатый евнух вздохнул – вся его надежда была на то, что избранницы аль-Асвада, увидев довольно крутую лестницу, вернутся обратно.
Помещения, которые увидели Абриза и Джейран, разочаровали обеих. Они были и убраны довольно бедно, и прибраны на скорую руку. Ни прекрасной посуды в нишах, ни дорогих тканей, ни изящных столиков, ни изысканных вышивок они тут не обнаружили. И не могло быть, чтобы Хайят-ан-Нуфус, в спешке покидая дворец, прихватила с собой столики.
– Может быть, эта скверная дала обет бедности? – осведомилась Абриза.
– В таком случае, ее женщины дали обет нищеты, о госпожа, – с презрением заметил евнух. – Их помещения похожи на каморки нищенок с городского базара.
Оказавшись в покоях беглой царицы, Абриза прежде всего принялась отдергивать в комнатах занавески, пока не обнаружила за одной из них резную деревянную решетку.
– Смотри, о сестрица! – позвала она Джейран. – Мне рассказывали про это окно! Отсюда мы увидим весь большой зал!
Она прижалась щекой к завиткам узора, выглядывая внизу нечто, любопытное для нее, а евнух усмехнулся.
– Отсюда ты увидишь только середину большого зала и место, где обычно сидит царь, когда принимает послов и вельмож, о госпожа, – сказал он. – Женщинам царя больше и не нужно.
– А где же аль-Асвад? – спросила Абриза. – Почему я не вижу его?
Евнух подошел к решетке.
– Я тоже не вижу повелителя, – сказал он. – Очевидно, его отозвали в сторону… там что-то стряслось, клянусь Аллахом!.. Если ты прикажешь, о госпожа, я побегу и узнаю!..
Джейран ощутила укол где-то над сердцем. Она протянула руку, чтобы прикосновением унять боль, но рука сама легла на камни ожерелья.
Мальчики!..
Ей следовало самой убедиться, что ее отряд разместили наилучшим образом! И что мальчики накормлены, и что Хашим, измученный всеми событиями, удобно устроен на самых мягких коврах!
Мальчики попали в беду – и все это случилось из-за нее!
Ей не следовало покорно принимать приказ аль-Асвада, к тому же, прозвучавший не из его уст. Он велел немедленно отвести прибывших женщин в приготовленные для них покои – но разве не могла она воспротивиться? Разве стал бы аль-Асвад, которого ее люди спасли от позорной смерти, сердиться, если бы она отказалась войти в харим и осталась с ними?
Евнух нетерпеливо ждал приказа, и на его круглом лицо проявилось такое оживление, что Джейран, обычно кроткую и миролюбивую, охватила ярость.
Этот ублюдок, не мужчина и не женщина, ищет себе развлечений в бедствиях ее мальчиков!
– Тебе нет нужды бегать и узнавать, о враг Аллаха! – сказала она не так чтобы слишком громко, но евнух попятился, а изумленная Абриза протянула к ней руку.
– А тебе нет нужды успокаивать меня, о сестрица! – уже не проговорила, а прорычала Джейран. Мальчики попали в беду, придя за ней в этот дворец, разрази его Аллах громом и каменным дождем! И если Аллаху нужны, чтобы уничтожить это прибежище зла, ее руки – так вот они!
Джейран ухватила поудобнее резную решетку, попробовала, как она закреплена, и, сперва толкнув вперед, рванула ее на себя. Большой кусок деревянного узора остался у нее в руках – и Джейран бросила его вниз, на головы тех, кто шумел сейчас в зале.
От такого нежданного приветствия они прекратили гомон и подняли взоры туда, откуда слетела на них решетка, хотя таращиться понапрасну на окна царского харима было более чем неприлично.
И они увидели женщину, расширяющую отверстие настолько, чтобы протиснуться сквозь него.
Первым узнал Джейран Хабрур ибн Оман.
– Ради Аллаха, что там случилось? Тебе угрожает смерть, о женщина? – воскликнул он, хватаясь за рукоять ханджара.
– Я говорил, что эта пятнистая змея могла оставить в хариме своих людей! Прыгай к нам, сюда, мы поймаем тебя! – закричал аль-Мунзир, протягивая к ней руки.
Неожиданная отвага обуяла девушку. Швырнув вниз обломки решетки, она оттолкнулась и полетела вниз, раскинув руки наподобие крыльев.
Аль-Мунзир, очевидно, имел опыт ловли летящих людей. Он не стал подставлять под тело Джейран вытянутые руки, он поступил иначе – в тот миг, когда она уже почти коснулась ступнями пола, прыгнул на нее, ударив мощной грудью в бок, едва не сбив с ног при этом, но удержал в объятиях.
– Прекрасно, о аль-Мунзир! – воскликнул аль-Асвад. – Вот лучший способ ничего не повредить при прыжках с высоты! А где же Абриза? Что с ней? Она в безопасности?
Джейран отпихнула чернокожего великана с такой силой, что он отлетел на несколько шагов.
– Пусть ифриты унесут твою Абризу! – крикнула она. – Где мои люди? Что ты сделал с ними?
Аль-Мунзир ухватился за плечо Джевана-курда и устоял.
Он был настолько поражен тем, как его, хмурого льва, залитого в железо, отшвырнула, будто ребенка, женщина, что лишь открывал и закрывал рот, словно ему не хватало дыхания для речи.
– Ради Аллаха, не кричи, помолчи немного, о Джейран! – с такими разумными словами выступил вперед Хабрур ибн Оман. – И ответь нам на один вопрос.
– Что с моими людьми? – вопросом же отвечала разъяренная девушка.
– Твои люди в безопасности, – загадочно сообщил наставник царевича. – Клянусь Аллахом! Погоди, о аль-Асвад, дай мне распутать этот узел!
Ади, шагнувший был к нему, остался стоять на месте.
– В какого из богов ты веруешь, о Джейран? – спросил Хабрур ибн Оман. – Если ты – христианка, или еврейка, или из благородных сабиев, то не скрывай этого! Все это – люди Писания, и все религии, что я перечислил, дозволены в землях арабов, и нет в них дурного! Даже если ты из тех жителей Ирана, что поклоняются огню, то и они приравнены к людям Писания, и их не убивают, и не обращают в рабство, и не разрушают их храмов, они только платят особый налог! И женщины, которые еще не познали Аллаха, дозволены правоверным, и могут вступать с ними в браки, и наследовать имущество! Тебе нет нужды скрывать свою веру из страха, что жених отвернется от тебя!
– Я мусульманка! – сердито сказала Джейран и, повернувшись к михрабу, где еще стоял руководивший общей молитвой имам, объявила: – Нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммад – пророк Аллаха!
– Она лжет! – крикнул, выходя вперед, Юнис аль-Абдар. – Аллах мне свидетель, только что ее люди клялись, что верят, непристойно сказать, в Отца горечи! И вопили, что она – его посланница! И целовали себе левую ладонь!
– Он поклялся именем Аллаха! – раздался из михраба громоносный голос того из старцев, что призывал к общей молитве. Хабрур и Джеван-курд переглянулись.
– Где мои люди?! – прорычала Джейран, кидаясь навстречу греку с несомненным намерением сомкнуть пальцы на его шее. – Что ты сделал с ними?
– Он здесь, ловите его! – закричали вдруг в дальнем углу зала, где сходились два коридора. – Держите его! Он убьет аль-Асвада!
Немедленно аль-Мунзир, придя в чувство, кинулся к брату и загородил его широким плечом. Рядом тут же оказались Джеван-курд и Джудар ибн Маджид.
– О звезда! – перекрыл мужские голоса звонкий мальчишеский голос.
– Ко мне, сюда! – ответила столь же пронзительным воплем Джейран.
– Спаси нас, о звезда! – крикнул, проскальзывая сквозь сомкнувшиеся вокруг пустоты руки, маленький Джарайзи. – Эти люди напали на нас и загнали нас в какой-то подвал! Они – предатели! Они хотят нас убить!
– Ради чего им вас убивать? – отвечал вместо Джейран Хабрур ибн Оман. – Не бойся, о молодец, сейчас мы разберемся, в чем дело.
– Если бы не псы, нас бы уже не было среди живых! Слава и хвала псам! – с этими словами Джарайзи нырнул под рукой Юниса и упал на колени перед Джейран.
– Ты слышишь, о господин? – воззвал Юнис к аль-Асваду. – Ты слышишь, что говорит этот нечестивец? Если ты позволишь, я зарублю его! Иначе он примется поминать перед тобой не только псов, но и самого Отца горечи!
И, не мешкая, занес свой ханджар.
– А разве сам ты, о аль-Абдар, не был в его годы нечестивцем? Разве ты не веровал в Сотворенного, а не в Единосущего? Разве не придавал Аллаху сотоварищей и подругу? – удерживая его руку, выкрикнул ему в лицо Хабрур ибн Оман, и это грубое напоминание о прежней христианской вере несколько отрезвило не в меру правоверного Юниса.
Джарайзи, уже ухватившийся за подол Джейран и прижавшийся к ее бедру, гордо выпрямился.
– Мы исполняем волю! – крикнул он. – И с нами – наша звезда! Сейчас она вспыхнет – и всех вас не станет! Клянусь собаками!
Джейран ужаснулась с той же пылкостью, с какой бросилась на защиту своего отряда.
Прижав к себе Джарайзи, она прикрыла его краем своего плаща, потому что в тот миг не могла придумать для него иной защиты.
– Все целы? – быстро спросила она. – Никто не пострадал? Что с шейхом?
– Я боюсь за псов! – отвечал мальчик. – Нас они не тронут, потому что боятся тебя, но псы кидаются на них, и они могут пустить в дело луки и стрелы! А шейха мы несли на руках, как невесту в дом жениха!
– Не напрасно же сказано: «О обладатели писания, не излишествуйте в вашей религии!» – громко говорил между тем Хабрур ибн Оман, стараясь погасить страсти, ибо те молодцы, что ворвались следом за Джарайзи, требовали его погибели и погибели всех, кого им удалось загнать в подвал казармы. – Эти дети, которые спасли аль-Асвада, полагают, будто веруют срамно сказать в кого! Что же касается псов – то они в большом почете у огнепоклонников Ирана, и никто из-за этого не вопит подобно страдающему животом ишаку! И разве не пес охранял семь отроков, спящих в пещере, как поведал нам пророк? Наши дворцовые имамы подтвердят это!
– Но мы же знаем это! Мы знали это еще во время бегства! – вмешался человек, имени которого Джейран не знала, но помнила его лицо. Он был из спасенных от смерти, и он действительно понял, что означает восторженное целование собственной левой ладони.
– Сказано также: «А кто простит и уладит – воздаяние ему у Аллаха»! – повернулся к нему решительный Хабрур. – Разве не должен ты, кого они, рискуя жизнью, вытащили из-под топора палача, помолчать, чтобы утихли страсти и аль-Асвад принял разумное решение? Это – наименьшее из всего, что ты можешь сейчас сделать для общей пользы!
Он встал перед своим воспитанником, во все время этой безобразной склоки хранившим молчание, и протянул к нему руку.
– Говори, о дядюшка, – сказал аль-Асвад.
Все смолкли, ожидая прекрасной речи, ибо наслаждение красноречием – одно из тех, что доступны лишь благородным.
– Ради Аллаха, будь милосерден! – сказал Хабрур ибн Оман.
И долго длилось молчание.
– Ты предлагаешь, о ибн-Оман, сделать вид, будто ничего не случилось и мы не знаем, что аль-Асвада спасли приверженцы шайтана? – первым заговорил аль-Мунзир, а излишне правоверный Юнус сморщился, услышав гнусное имя. – Но ведь не настанет время вечерней молитвы, как об этом услышит вся Хира! И что же скажут правоверные? Что Ади аль-Асвад захватил трон при пособничестве самого шайтана?
– А разве это было не так? – спросил Джарайзи.
– Это было так, – ответила ему Джейран, – но только мы спасали неблагодарных.
Она в упор посмотрела на аль-Асвада – и вдруг поняла, что его лицо сейчас столь же бесстрастно и неподвижно, как прикрывающая его золотая маска аль-Кассара.
– И люди скажут, что своими глазами видели черномазых посланцев Отца горечи, которые сражались с городской стражей так, как обычные воины не сражаются, о аль-Асвад! – добавил Юнис.
– Этих детей было не больше, а куда меньше, чем молодцов у тебя под началом, о аль-Абдар! – возразил ему Хабрур. – Почему же твои молодцы не показали горожанам, как бьются воины? Сейчас же они преданно торчат у дверей царского харима и доблестно охраняют входы на кухню! О Ади, о любимый, этих детей нужно прежде всего вывести из подвала и успокоить, а потом пусть с ними потолкуют имамы и разберутся, в кого они верят на самом деле! Может быть, это даже какое-то неизвестное нам ответвление веры франков. Вспомни – ведь у этой женщины, Джейран, был на груди золотой крест!
– Если бы это оказались воспитанники франков, я возблагодарил бы Аллаха! – добавил аль-Мунзир. – Но ведь Джейран получила крест от Абризы!
– Разве правоверная мусульманка станет надевать на себя крест и зуннар? Сказано, что женщинам недостает разума и веры, но не до такой же степени! – глядя в глаза аль-Мунзиру, воскликнул Хабрур ибн Оман. – Она сказала так от страха, чтобы ее не убили! Воистину, она – из христиан, и ее люди тоже веруют в одного из тех, кого они по малоумию придают в сотоварищи Аллаху! Спросим Абризу!
– Да, спросим Абризу! – согласился аль-Мунзир. – Ведь только она и может сейчас рассказать про обычаи христиан Афранджи, потому что обычаи сирийских христиан мы и сами знаем. Позови ее, о аль-Асвад!
Молодой царь поднял голову и нашел взглядом разломанное решетчатое окно, потому что лишь он мог беседовать с обитательницами своего харима без посредников.
– Почему они говорят о кресте, о звезда? – шепотом спросил Джарайзи. – Разве на тебе был крест?
– Да, на мне был крест ради спасения одной женщины, – тоже шепотом отвечала Джейран. – И помолчи немного! Нам придется притвориться, будто у нас иная вера, чтобы закончить это дело миром.
– Притвориться, будто у нас иная вера?.. – в глазах мальчика было такое непонимание, что Джейран опять ощутила укол чуть выше сердца и взялась за это ноющее место.
– Да, о любимый, – сказала она. – Так нужно. Ты же веришь мне, о Джарайзи? Так нужно, чтобы завершить наше благодеяние аль-Асваду. Нехорошо оставлять дело незавершенным.
Тем временем Ади громко позвал Абризу, но она откликнулась не сразу, как если бы не затаилась за уцелевшим куском решетки и не наблюдала за событиями в зале.
– Между нами возник спор, о владычица красавиц! – крикнул он, когда ее лицо появилось наверху. – И никто, кроме тебя, не может разрешить его! Ибо только ты знаешь обычаи франков! Никто из нас не был в Афранджи и не знает, как молятся ваши христиане!
– О каких обычаях ты спрашиваешь, о любимый? – осведомилась сверху Абриза. – Я всего лишь женщина, а вы, правоверные, считаете, что женщинам недостает ума и веры. И я не знаю всего того, что знают священники в Афранджи.
– Все нам и не требуется, о госпожа! – вмешался Хабрур. – От тебя зависит прекратить склоку и распрю! И сделать это нужно как можно скорее – пока не вмешались придворные имамы. Скажи, о госпожа, ведут ли себя люди, освободившие аль-Асвада, как жители Афранджи? Проделывают ли они, говоря о своей вере, то, что проделывают жители Афранджи?
– Вспомни хорошенько, о госпожа! – крикнул и аль-Мунзир. – От твоего ответа многое зависит!
Абриза помолчала, глядя на Ади.
Сейчас перед ней открылась возможность единым словом избавиться от своей нелепой соперницы и ее людей, причем это не было слово лжи и неправды!
Аль-Асвад опустил голову – очевидно, и ложь претила его гордому нраву, и правда ему совершенно не нравилась…
Абриза перевела взгляд на Джейран.
Та стояла, прикрыв краем одежды мальчика, и тоже смотрела на аль-Асвада.
Джейран видела, что аль-Мунзир и Хабрур ибн Оман всеми силами стараются выручить ее и ее мальчиков, она видела и то, что аль-Асвад готов унизиться до лжи, но сейчас все зависело от соперницы.
– Я впервые видела, чтобы люди, верующие во Всевышнего, так себя вели! – звонко, чтобы ни у кого потом не возникло сомнений, произнесла Абриза. – Это не христиане! Я видела христиан и на севере Афранджи, и на юге Афранджи, и видела христиан других стран, которые приехали сюда освобождать Гроб Господень, и я говорю вам – это вовсе не христиане!
– Все слышали слова этой женщины? – вопросил Юнис аль-Абдар. – Все приняли ее свидетельство?
– Мы слышали свидетельство женщины-христианки! – отвечал ему главный из дворцовых имамов. – И мы ждали, пока оно не прозвучит, чтобы благородному аль-Асваду не в чем было упрекнуть себя. А сейчас мы рассудим это дело по законам ислама!
Дворцовые священнослужители, потерпевшие от Ади аль-Асвада такую обиду и такое поношение за то, что вовремя не послали барабанщиков и трубачей на дворцовые стены, появились в зале все, сколько их кормилось при дворцовой мечети.
– Вас тут только недоставало!.. – буркнул Джеван-курд.
Молодцы левой стороны расступились, когда старцы в больших белых тюрбанах, в развевающихся белых одеждах, намеренно громко ударяя об пол посохами, направились к молодому царю. Их было шестеро – испытанных в словесных ристалищах знатоков Писания и преданий, и еще не менее десяти тех, кто помоложе, мечтавших стать их преемниками, сладкогласных чтецов Корана и пылких спорщиков об установлениях. И старцы, подойдя, заговорили о величии и обязанностях повелителя правоверных Хиры, ведя речь как бы издалека, а аль-Асвад слушал, кивая, и свет факелов отражался от золотой маски. И прежде всего они потребовали удалить из залы людей явно посторонних, как бы недостойных слушать поучения, обращаемые к царю.
Хабрур и аль-Мунзир, пока молодцы аль-Абдара неохотно покидали зал, сошлись поближе, чтобы перешепнуться. Стоявший рядом с ними Джеван-курд, вопреки своему обыкновению, не встревал с советами и замечаниями туда, где в них не нуждались, а молча смотрел на Джейран.
– Пока имамы будут разбираться с Джейран и ее людьми, в городе начнется волнение! – сказал, как всегда, разумно аль-Мунзир. – И мы не можем вывести этих несчастных из дворца тайно, потому что слишком много людей знает теперь об их деле! Не так ли, о Джеван?
– Я не могу ничего сказать, о аль-Мунзир, – хмуро отвечал курд. – Я не знаю, каковы законы арабов в таких делах. Я могу только сражаться за аль-Асвада, да сохранит его Аллах! Но если аль-Асвад проявит неблагодарность…
Он замолчал.
Джейран слушала речи имамов, и все яснее становилось ей, что противников у нее больше, чем защитников.
– Ты сможешь привести меня туда, куда загнали наших людей? – тихо спросила она мальчика.
– Если я не перепутаю все эти двери и проходы… – отвечал он, несколько растерявшись.
Джейран поняла – Джарайзи не видел в своей жизни даже обыкновенного большого караван-сарая, который расположением входов, коридоров, внутренних небольших дворов и эйванов был воистину похож на царский дворец Хиры.
– Дело это сложнее, чем вам всем кажется, о любимые, – заговорил наконец аль-Асвад. – Я, как и все мы, преклоняюсь перед тем, что повелел нам Аллах устами Пророка, но я обещал ввести в свой харим женщину, которая привела этих людей. И вы должны считаться с тем, что я не могу нарушить слово!
– Никто и не говорить сейчас о том, что царь должен нарушить слово, – с достоинством отвечал старший из имамов. – Ты волен взять в свой харим хоть пожирательницу людей из премени зинджей, о аль-Асвад, если это доставит тебе удовольствие, ибо женщины иной веры для нас не запретны. А раз мы все – за то, чтобы ты сдержал данное слово, то нам тем более следует избавиться от ее нечестивого отряда так, чтобы не осталось от него ни известия, ни следа! Иначе в Хире до конца дней твоих будут толковать, что ты взял в жены предводительницу воинства Отца горечи! А нужно ли тебе это, о аль-Асвад?
– Нет, о почтенные, я обошелся бы без таких почестей. Но кем я буду, если проявлю неблагодарность?
– А разве может идти речь о благодарности по отношению к шайтану? – имам внезапно возвысил голос, и без того зычный и властный. – О дети арабов, о правоверные, Отец горечи вовлек вас в ловушку! Горе нам, Аллах испытывает нашу веру – и не находит в наших сердцах стойкости!
Ади опустил голову.
– Если ты хочешь сдержать слово и жениться на этой женщине, то сделай это, о повелитель Хиры! – обратился имам к аль-Асваду. – Ибо, я повторяю, мужчине дозволено жениться на женщинах, еще не принявших ислама. И тем ты выполнишь данное слово. А отродьям шайтана ты никакого слова не давал – и ты не обязан охранять их от гнева правоверных!
Ади быстро повернулся к аль-Мунзиру.
И Джейран поняла, что творилось сейчас в голове молодого царя.
Он действительно не давал слова вознаградить мальчиков и Хашима за свое спасение. Ему просто не пришло в голову, что в разгар сражения нужно давать подобные клятвы. И он не знал, как ответить сейчас имаму, чтобы это не было ложью.
– О Ади, о сынок, с каких это пор богословы вмешиваются в дела воинов? – громко спросил Хабрур ибн Оман, чтобы выручить питомца. – Если бы ты нанял людей любой веры для своих дел, а потом расплатился с ними и отпустил их восвояси, разве это следовало бы обсуждать знатокам Корана и преданий? О сынок, все обстоит очень просто – твоя невеста наняла их, и они выполнили то, за что им нужно заплатить, и забудем об этом!
– Если бы ты нанял евреев, или индийцев, или даже зинджей, или проклятых франков, которые грабят мечети, я сказал бы то же самое, о повелитель Хиры! – возвысил голос имам. – Недостойно правоверного не рассчитаться честно с иноверцем за сделанное дело или за купленный товар! Но сам Иблис, повелитель шайтанов, подстроил, чтобы ты был возведен на престол его отродьями! Сам Иблис, Отец горечи, требует от тебя дани!
Он повернулся к Джейран.
– Тебя обманули, воспользовавшись твоей любовью, о женщина! Мы ни в чем не виним тебя, ибо и пророк был снисходителен к ущербным разумом! Ступай в харим!
Имам приказывал, осознавая, что молчание аль-Асвада как бы наделило его на эти мгновения царской властью. Но Джейран осталась стоять, прижимая к себе Джарайзи.
– Ступай, о любимая, – негромко приказал и аль-Асвад. – Один раз ты уже избавила меня от позора неисполненной клятвы. Доверши свои благодеяния – оставь нас!
– Замечательно, прекрасно, о аль-Асвад! – воскликнула Джейран, ибо только этих слов жениха и недоставало, чтобы ввергнуть ее в пламя бешенства. – Ты полагаешь, что я снова сделаю все, что окажется в моих силах, лишь бы не оказалось, что ты – клятвопреступник? И ты полагаешь, что я откажусь от своих людей ради места в твоем хариме? С меня довольно! Отпусти меня и моих людей! Мы возьмем в этом городе то, что считаем своей добычей, и уйдем! А в жены ты возьмешь ту, которая не станет губить свою душу и возглавлять войско шайтана, чтобы спасти тебя из-под топоров палачей!
При этом она почему-то подумала об Абризе.
– Успокойся, не кричи, о женщина! – обратился к ней имам, и подошел, и увидел синие знаки на ее щеке, и протянул к ним руку, другой рукой как бы прикрывая свои глаза, чтобы не видеть более такого непотребства.
– О правоверные! Шайтан и ее пометил своим когтем!
– Сейчас я тебя самого помечу когтем! – крикнула девушка, занося руку.
– О Джейран, ты все погубишь! – с такими словами бросился ей наперерез Хабрур ибн Оман, но лучше бы он не делал этого. С неожиданной для себя ловкостью Джейран извернулась, сильно ударила его по руке и ловко ухватила за рукоять взлетевший в воздух ханджар.
Ее никто не учил владеть оружием, но желание пробиться к мальчикам и вывести их из этого проклятого дворца было настолько велико, что клинок обрел в руках Джейран стремительность молнии.
Она взмахнула – и половина белого тюрбана, украшавшего бритую голову имама, свалилась наземь.
Даже не удивившись остроте и прекрасной заточке клинка из наилучшей индийской стали, равную которой еще не научились варить мастера Дамаска, даже не изумившись, откуда ее правая рука знает этот удар с оттягом, Джейран пробежала через зал и вскочила на возвышение в михрабе. И сразу же рядом оказался Джарайзи.
Имам же, ошеломленный свистом клинка, так и остался стоять, держась за голову и ощупывая ермолку, надетую под тюрбаном. Удар был настолько точен, что клинок срезал с ермолки верх, кожи головы, однако, не коснувшись.
– Отойдите все от нее! – кричал Хабрур ибн Оман. – Мы должны уладить это дело миром! Пусть она возьмет своих людей и уведет их!
– Мы не можем отпустить ее! – возразил Ади аль-Асвад. – Она непременно должна стать моей женой и войти в харим!
– Но это значит, что ее люди будут погублены! Разве ты не понимаешь этого, о сынок? – в отчаянии спросил Хабрур. – Если ты совершишь это, то дети арабов скажут: «Умерла благодарность среди людей!»
– Пусть уходит вместе со своими людьми! – вмешался аль-Мунзир. – Хира не простит царю, если он женится на той, что запятнала себя! Пусть она сейчас уйдет – а потом мы что-нибудь придумаем!..
– Я дал слово, о враги Аллаха! – воскликнул аль-Асвад. – О Джейран, опусти ханджар и повинуйся! Тебя никто не принуждал тогда, в пещере, согласиться войти в мой харим! Ну так и выполняй уговор!
– А кто ты такой, чтобы женщина пожелала войти в твой харим? – громко осведомилась Джейран. – Ты не повелитель правоверных Каира, Багдада или хотя бы Дамаска! В твоем дворце нет даже хаммама, чтобы женщины, которых ты будешь посещать, не воняли подобно верблюду!
Эта короткая, но страстная речь вызвала потрясенное молчание.
– Бери себе в жены дочерей франков и вводи их в свой харим, о несчастный, и пусть они восхищаются тобой! – продолжала разъяренная Джейран. – У них в Афранджи халиф не имеет в своем дворце такого отхожего места, как у тебя в казарме! А моются они два раза в год, когда уже не знают спасения от насекомых! А ну, расступитесь! Я хочу забрать своих людей и уйти! Мне нужны лишь мои люди и моя добыча, клянусь Аллахом!
Вдруг она вспомнила про Хабрура ибн Омана.
– И если ты, о скверный, причинишь хоть малейшее зло этому человеку, я вернусь – и царский дворец Хиры сделается для тебя тесен! – она указала острием ханджара на онемевшего наставника и так взмахнула клинком, что испытанные в битвах мужи расступились, давая ей проход. – Веди меня, о Джарайзи!
Но навстречу ей выскочил Юнис аль-Абдар.
– Аллах простит мне много грехов, если я погублю тебя, о несчастная! Из-за тебя и от рук твоих людей пострадали мои молодцы!
И обменялся взглядами с имамом.
– Ты полагаешь, что тебя вознаградят за то, что ты избавил аль-Асвада от такой невесты, а Хиру – от такой царицы? – спросил его Хабрур ибн Оман. – Ты хочешь разрубить ханджаром узел, который нужно развязывать долго и терпеливо? Ты кто – Искандер Зу-ль-Карнейн, чтобы рубить мечами узлы? Отойди, не оказывай услуги, о которой тебя не просят!
– Вперед, о Джарайзи… – тихо приказала Джейран.
Мальчик сжался в комок, словно сбираясь с силами, – и вдруг прыгнул на грека, повиснув у него на шее, и упал вместе с ним, и вскочил, подняв окровавленную джамбию.
Юнис остался лежать на узорном полу, и из его перерезанного горла текла кровь.
Воспользовавшись общим замешательством, Джейран бросилась вперед, Джарайзи – за ней следом. И они покинули зал, не беспокоясь о том, что станется с оставшимися там людьми.
Первый, на кого они натолкнулись, был тот самый евнух, что привел Джейран и Абризу в покои Хайят-ан-Нуфус. Он побоялся войти в зал и подслушивал из коридора.
– Где мои люди, о несчастный? – спросила Джейран, хватая его за шиворот, и, хотя она не имела намерения лишать его жизни, евнух затрясся и сделал плаксивое лицо.
– В казарме молодцов правой стороны, о госпожа!
– Веди меня туда!
Но у евнуха подкосились ноги.
– Мы и без того потратили время! – как следует встряхнув этого несчастного, рявкнула ему Джейран в самое ухо. – Мы слушали дурацкие пререкания вашего царя и вашего имама, вместо того, чтобы спешить на помощь нашим людям! Куда нам идти?
Евнух закатил глаза, удерживаемый лишь крепкой рукой Джейран.
Девушке вовсе не показалось странным, что она держит вытянутой рукой за шиворот теряющего сознание жирного евнуха. Напротив – в ее душу вошло сознание собственной непобедимой силы! И сила эта требовала стремительных движений и яростных поступков! Наподобие выдирания деревянной решетки и безумного прыжка в дворцовый зал…
– Это вход в харим… – пробормотал бедняга, которому ворот пережал шею. – Тебе нужно вернуться в зал… о владычица красавиц…
– Кто это тут владычица красавиц? Пусть ваш бесноватый царь берет в жены эту визгливую и сварливую владычицу красавиц! Во всей Афранджи не нашлось для нее мужчины, так что она до двадцати лет все еще не замужем! Воистину, прекрасная невеста для вашего царя! Погоди…
Джейран вдруг несколько опомнилась.
– Горе тебе, я правильно поняла тебя? Я могу попасть к казармам, только пройдя через зал?
– Да, да… – прохрипел евнух. – Ты выйдешь… михраб будет по левую руку… А справа – выход в Хиру…
– Слава псам! – крикнула Джейран, бросая своего осведомителя на пол. – Бежим, о Джарайзи, мы должны прорваться к нашим! Не отставай о меня, ибо я побегу быстро!
– Я не отстану, о звезда! – воскликнул в полном восторге мальчик.
Хабруру ибн Оману как раз удалось разумными словами внушить главному имаму, что если горожане возмутятся и не признают аль-Асвада, его положение, положение священнослужителя в пустом дворце, откуда разбегутся теперь уж решительно все, лучше не станет. И он, поддерживаемый аль-Мунзиром, как раз толковал, что следует отпустить Джейран с ее отродьями шайтана, не поднимая большого шума, а о клятве аль-Асвада думать уж потом, когда Джейран вихрем пронеслась через зал, увлекая за собой Джарайзи. Никому и в голову не пришло задержать ее.
– Клянусь Аллахом, женщины так не бегают! – сразу же завопил имам. – Разве не видите все вы, что в нее вселился сам Иблис?
Аль-Мунзир кинулся следом за девушкой.
Он единственный понял, что, раз она устремилась к казармам, которые расположены у входа, то ее стычка с молодцами левой стороны неминуема. Ибо двое из них, стоя на страже у дверей, видели, как отродье шайтана поразило джамбией Юнуса, и побежали рассказать об этом своим товарищам, и в довершение всех бедствий имаму и аль-Асваду придется объединять усилия, чтобы договориться с дворцовой стражей! А если вмешается Джейран – последствия могут быть самые несуразные!
Он выбежал в коридор, но Джейран там уже не застал – входы в обе казармы были за дворцовыми воротами, хотя они и располагались в здании дворца. Она успела выбежать – и свидетельством тому были два привратника, которые, стеная и ругаясь, поднимались с пола.
Когда же аль-Мунзир, крича на бегу, чтобы никто не смел обнажить оружие против этой женщины, ворвался во двор казармы, то увидел такое зрелище.
Джейран, вооружившись огромной дубиной, из тех окованных китайским железом крючковатых дубин, какими можно выбить дверь дома, стремительно размахивала ею, занося над головой и опуская без видимых усилий. Ошарашенные стремительным натиском молодцы пропустили ее к помещению, где находилась дверь в погреб, и, пока она, стоя в дверях, зычным голосом вызывала затворившихся там прислужников шайтана, кидали в нее мисками, котелками, чашками, подносами, оселками для заточки оружия, светильниками, палками для факелов и вообще всякой утварью, случившейся под рукой. В довершение суматохи огромные черные псы, оставшиеся снаружи и никого не подпускавшие ко входу в погреб, кидались с собачьими восторгами на вооруженного ханджаром Джарайзи и весело лаяли.
– Выходите, я пришла за вами! – вопила Джейран так, что трескалась глазурь на кувшинах.
Тут те молодцы левой стороны, что сохранили самообладание и не стали унижать себя швырянием котелков, наложили стрелы на тетивы луков.
– Это тебе за Юниса аль-Абдара! – крикнул первый стрелок.
Аль-Мунзир ахнул – стрела неминуемо должна была пробить девушке горло.
Но Джейран неуловимо стремительным движением уклонилась и тут же левой рукой рванула к себе Джарайзи, в которого летела вторая стрела.
– Прекратите это! – аль-Мунзир выбежал в середину двора и вскочил на высокий край водоема. – Повинуйтесь аль-Асваду!
– Смерть отродьям шайтана! – нестройно отвечали ему молодцы.
– Хвала псам! – ответили им звонкие юношеские голоса.
Джейран посторонилась – и во двор выскочили Дауба и Ханзир.
– За мной, о любимые! – приказала девушка, раскручивая над головой свою устрашающую дубину. Она, как бы не замечая тяжести своего оружия, устремилась с ним к тому из нападавших, что был к ней ближе, увернулась от его рук, оказалась за спиной у него и ударила его дубиной по плечу.
Аль-Мунзир глазам не поверил – Джейран двигалась вдвое быстрее, чем превосходно обученный стражник!
Не успело еще тело нападавшего лечь на каменные плиты, как Дауба завладел его ханджаром и джамбией.
– Наше вино – это кровь врага! – крикнул он, выпрямившись.
– Наш кебаб – это печень врага! – отвечали ему, выбегая, Вави и Чилайб.
– Где ваше оружие? – строго спросила Джейран, не оборачиваясь, потому что схватилась с крепким стражником, увернувшимся из-под дубины.
– Мы сложили остроги в углу!.. Мы не думали, что на нас нападут!.. – отвечали ей вразнобой мальчики.
Стражник, уворачиваясь от дубины, отскочил за колонну, одну из тех деревянных колонн, что украшали выходивший во двор эйван. Джейран со всего размаху треснула, промахнувшись, дубиной по колонне – и дубина прошла сквозь дерево так легко, как если бы это был ствол тростника. И хуже того – вложив в замах всю силу, Джейран не предусмотрела, что легко одолевшая препятствие тяжелая дубина потащит ее за собой. Она влетела под свод эйвана, споткнулась о человека, которого дубина поразила вместе с не ставшей для него укрытием колонной, и, задержавшись рукой о другую колонну, крутнулась вокруг нее, круша при этом потерявшей управление дубиной все, что подвернулось.
– Ну так возвращайте свое оружие! – крикнула Джейран, пытаясь совладать со своим взбесившимся оружием. И расхохоталась, когда ей это удалось.
– Звезда с нами! Лучшее одеяние для звезды – поток вражьей крови! – раздалось во дворе.
На аль-Мунзира, неподвижно стоявшего на самом углу водоема, словно каменная птица Анка в хаммаме, никто не обращал внимания. Сам же он смотрел на Джейран с великим изумлением – будь она мужчиной, он не пожалел бы денег, чтобы заполучить в войско такого бойца, а как быть с драчливой женщиной, даже аль-Мунзир, предусмотрительный и многознающий, читавший труды по военному устройству, понятия не имел!
Когда во дворе казармы молодцов правой стороны появились наконец Хабрур ибн Оман и Джеван-курд, посланные Ади, чтобы разобраться и усмирить драчунов, усмирять было некого.
Джейран стояла посреди своего отряда, вернувшего себе длинные остроги, и встревоженно ощупывала голову Хашима.
Выбираясь из подвала, старик неловко задел о притолоку.
– Привет, простор и уют вам! – крикнула она. – Вам нечего беспокоиться о нас – мы уходим! Но в хане хранится немало добычи, которую мы взяли до того, как пошли по следам войска Джубейра ибн Умейра! Дайте нам лошадей и верблюдов, чтобы мы могли поехать и забрать ее!
– Это нужно сделать, пока в городе не узнали о том, в кого веруют эти несчастные, – сказал аль-Мунзир. – А потом мы уж как-нибудь разберемся и сохраним престол для аль-Асвада.
– Сделай, чтобы им дали все, что требуется, о друг Аллаха, – обратился Хабрур к Джевану-курду.
– Сколько вам нужно животных? – быстро спросил тот.
– Три десятка лошадей и десяток верблюдов, – быстро ответил Хашим. – И еще – то, чего не пожалеет ваша щедрость! А если нам не дадут добычу, мы прокричим на всю Хиру, что отродья шайтана возвели на престол аль-Асвада!
Все трое переглянулись.
– Вы спасли моего воспитанника, и моя доля военной добычи за десять лет принадлежит вам! – отвечал Хабрур ибн Оман. – Если вы позволите, я выдам ее наилучшим оружием, которого я собрал немало, и там есть оружие китайское и индийское, стоящее много динаров! Когда вы покинете дворец, к вам присоединится мой невольник, и вы поедете в мой городской дом и возьмете эти вещи. И я поступаю так не ради страха, клянусь Аллахом!
– И моя доля… – начал было Джеван, но аль-Мунзир перебил его теми же словами, и оба от неожиданности замолчали.
Джейран отстранила Хашима и вышла вперед.
– Я ничего не возьму у тебя, о почтенный Хабрур, потому что это не твой долг передо мной! Я благодарю тебя – и владей своим добром сам, а не искупай грехи аль-Асвада! И у тебя ничего не возьму, о благородный Джеван, и у тебя, о достойный аль-Мунзир! Пусть аль-Асвад сам исполняет свои клятвы и сам платит свои долги! Я возьму то из царских сокровищ, что соответствует плате наемного отряда за год войны! Пусть золото в кожаных мешках вынесут к воротам – и мы заберем его! А теперь – дайте дорогу мне и моим людям!
* * *
– О госпожа! – испуганно доложила четырнадцатилетняя невольница, глядя на Абризу с подлинным восхищением. – Евнух Масрур говорит, что у дверей женских покоев стоит женщина в мужском наряде, и она домогается встречи с тобой, но имени не называет, а утверждает, что ты узнаешь ее в лицо!
– Больше она ничего не говорит, о Нарджис? – осведомилась заспанная Абриза, спуская ноги с богатого ложа и попадая на самый край ступеньки. Впрочем, Абриза вовсе не была уверена, что перед ней именно Нарджис, а не Хубуб или Хамса. Аль-Асвад, как только удалось справиться с переполохом, устроенным Джейран, отправил Масрура к посредникам и велел приставить к знатной гостье не менее двадцати девушек, причем красивых и знающих толк в музыке. На следующий день привезли столько девушек, что Абриза растерялась и возмутилась – среди них не было ни одной старше восемнадцати лет, а ей самой вот-вот должно было исполниться двадцать, и она уже один раз рожала. Следовало предпринять что-то, чтобы избавиться от такого количества юных и прекрасных лиц, но это было посложнее, чем убрать с пути Джейран. В конце концов самых, на ее взгляд, опасных девушек удалось не допустить до царского харима… Но и тех, которые были куплены, вполне хватало для беспокойства.
– Она говорит, что еще вчера пыталась встретиться с тобой, но ее не пустили, о госпожа.
– А каково ее лицо? Она из дочерей арабов или из иноземок? – спросила осторожная Абриза, вдруг вспомнив злейшую свою врагиню в Афранджи – тетку Бертранду.
– Она закрывает лицо краем тюрбана, о госпожа.
– Значит, евнухи по голосу догадались, что она женщина?
– Нет, по телосложению, о госпожа.
– Она молода?
– Средних лет, о госпожа. И она в прескверном настроении!
Бертранду уже нельзя было назвать женщиной средних лет, и Абриза несколько успокоилась. Теперь главное было – достойно сойти вниз.
К ложу вели четыре узкие ступеньки, и она уже однажды чуть не съехала по ним на пол. Абриза не понимала, почему в Хире это считается особенной роскошью, но не препятствовала Ади аль-Асваду в желании осыпать ее дарами.
– Какое платье ты прикажешь подать, о госпожа?
Абриза подумала, что ей непременно предстоит еще сегодня встреча с аль-Асвадом. Раз уж сама судьба лишила его одной из двух невест, значит, он явится побеседовать об этом деле. И Абриза многого ждала для себя от этой беседы.
Аль-Асвад впервые увидел ее и стал рабом ее красоты, когда она была в зеленом платье…
– Найдите мне зеленое, о девушки! – приказала Абриза, спускаясь с ложа. – Пусть Масрур пошлет за купцами – мне непременно нужно сегодня зеленое платье из китайского шелка! А той женщине пусть скажут, что у меня нет еще в этом городе знакомых женщин среднего возраста, разве что…
Вдруг она вспомнила о той, что велела ее похитить, и держала в темнице без окон, угрожая смертью ребенка, и потом увезла ее впопыхах, и исчезла бесследно – а обнаружилось это, когда аль-Мунзир и Джудар ибн Маджид вели войско вслед за войском Джубейра ибн Умейра, пленившего Ади аль-Асвада, торопясь в Хиру, и расспрашивали местных жителей, и узнали, что Джубейр ибн Умейр принял небольшой караван, который вез женщин, после чего женщины исчезли, а случилось это поблизости от Хиры.
Девушки были во дверце новенькими и не узнали бы Хайят-ан-Нуфус, а преданность толстого Масрура и прочих евнухов тоже пока вызывала сомнения…
– О девушки! – воскликнула Абриза. – Пусть войдут сюда вооруженные евнухи, сколько их там у меня есть! Я приму эту женщину, но только в присутствии всех своих женщин и евнухов!
Абриза не могла представить себе, что нужно от нее той пятнистой змее, но ожидала зла.
Нарджис побежала за евнухами, Абриза тем временем выбрала платье изумрудного оттенка, хотя и не такое, как хотелось бы, и села на скамеечку, чтобы девушки убрали ей волосы.
– Какое алоэ прикажешь ты зажечь в курильницах, о госпожа? – спросила Хубуб, а может, Хамса, пока Нарджис прикладывала к лицу Абризы попеременно нити розоватого, желтоватого, прозрачно-белого – одному Аллаху была ведома его цена, но Абриза еще не знала, насколько редко он встречается, – и даже голубоватого жемчуга для перевивания кудрей и укладки их вдоль щек.
– Какое из них самое дорогое?
– Какуллийское, о госпожа.
– Значит, его и зажигайте, – не в силах выговорить слово, услышанное впервые, распорядилась Абриза. Вспомнив вдруг самое важное, она вскочила со скамеечки и взбежала на ложе.
Там под большой подушкой, набитой кусочками беличьих шкурок, лежала джамбия, подаренная ей аль-Мунзиром, дорогая джамбия, чью рукоять украшала бирюза, спутница победоносных воинов.
Абриза схватила джамбию и задумалась, можно ли к зеленому платью надевать бирюзу. Так она и стояла в размышлении с клинком в руке, когда дверные занавески распахнулись и вошло около десятка вооруженные евнухов.
Евнухи расступились, Абриза соскочила с возвышения и увидела женщину, чуть выше себя ростом, чуть шире в бедрах, но конец тюрбана уже не закрывал ее лица, да и сам тюрбан она, войдя, сразу же сорвала, так что евнухи окаменели, переводя взгляд с незнакомки на свою госпожу и с госпожи – на незнакомку.
Сходство лиц было поразительное.
Эта женщина, одетая в мужской наряд, успела распустить черные волосы так, как распускала их сама Абриза, когда тетке Бертранде или служившим ей девицам не удавалось заставить ее заплести косы. И длины они оказались такой же, и так же завивались тяжелыми жгутами.
– О доченька! – сказала Шакунта, не двигаясь с места. – Вот я и нашла тебя! О моя Шеджерет-ад-Дурр! Какая же ты красавица!
Сейчас к ее рукам не были примотаны толстыми ремнями боевые куттары, обагренные кровью, и на ногах у нее не было тяжелых боевых браслетов из наисквернейшего серебра, и волосы не покрылись пылью и грязью от кувырков по окровавленной земле, и рот ее не был оскален, и дыхание, подобное змеиному или кошачьему шипу, не вырывалось громко, одновременно с ударом куттара. Но Абриза узнала ее – ту, что спасла ее из когтей Фатимы!
– О матушка!.. – прошептала она, впервые в жизни произнося это слово. – Я знала, что ты найдешь меня! О матушка! Как ты похожа на меня!
И побежала через всю комнату, и повисла на шее у Шакунты, целуя ее в щеки!
С Шакунтой же произошло нечто неожиданное – руки и ноги отказались ей повиноваться, и хуже того – от избытка чувств она лишилась дара речи, и, будь рядом Саид или Мамед, как она, увы, привыкла их называть, они немало удивились бы этому.
– Идем, о матушка! – твердила между тем Абриза. – Ты непременно должна поесть с дороги, и мы пошлем невольниц в хаммам, чтобы все для тебя приготовить, и я прикажу принести для тебя все платья, какие у меня есть, чтобы ты переоделась, и прикажу принести ожерелья, и жемчуг, и браслеты, и покрывала! Как прав был тот рассказчик – ты воистину Захр-аль-Бустан, лучший цветок в саду! Я знала, что мы встретимся! О, как ты похожа на меня! Теперь мы никогда не расстанемся!
Абриза провела рукой по волосам и по щеке матери, и мать ответила ей точно таким же движением.
– О Шеджерет-ад-Дурр, о любимая! – повторяла Шакунта. – Нам больше нельзя расставаться! Как ты похожа на меня! Мечта моя сбылась, дело мое совершилось… Вернее, половина дела…
Но Абриза, не поняв, что бы это означало, и не желала сейчас ничего понимать. Радость ее не знала предела, все ее желания осуществились. Недоставало лишь ребенка – ведь вокруг нее собрались решительно все, кто ее любил, и не было больше соперницы!
Абриза хлопнула в ладоши, вызывая своих невольниц, подаренных аль-Асвадом.
Вбежали девушки, числом восемь, и, не успев завершить поклона, услышали столько приказаний, что растерялись, ибо на каждую невольницу пришлось не меньше трех или четырех.
Наконец одна побежала к дворцовой кухне за лакомствами, другая ей вслед – за напитками, третья – туда же за пилавом, и еще одна – снаряжать гонцов в хаммам, чтобы оттуда выпроводили всех и приготовили помещение для невесты аль-Асвада и ее матери, а еще одна – известить через евнухов аль-Асвада о неожиданном событии, а прочие устремились в глубину женских покоев, отдергивая дверные занавески перед Абризой и Шакунтой.
Абриза вела Шакунту по плотным басрийским коврам, отбрасывая ногами скамеечки черного дерева, выложенные серебром и перламутром, и большие шкатулки с благовониями, и даже лютни в чехлах из атласа, с длинными лентами и узорными золотыми накладками в виде солнц и лун. Она вела мать из комнаты в комнату, предлагая ей выбрать себе помещения по вкусу, чтобы усадить ее на самое богатое ложе и одарить всем, что предоставил в ее распоряжение аль-Асвад, и выслушать историю своего похищения.
Сейчас даже эта история не могла бы доставить ей ничего, кроме радости.
Ведь обстоятельства Абризы были таковы, что воистину ее голова кружилась от восторга.
Еще совсем недавно она была пленницей в комнате без окон, принуждаемой к непотребствам. И лунного месяца не прошло, как она сидела над умирающим Джеваном-курдом, неведомым ей самой образом спасая его. А потом, когда их, изнемогающих, подобрал в пустыне конный разъезд, и вдруг оказалось, что это – люди Джудара ибн Маджида, которые разосланы на поиски Ади аль-Асвада, и когда Джеван немедленно возглавил отряд всадников, и повел их на поиски Черного ущелья, и потом – когда они встретили на берегу потока Джабира аль-Мунзира, ожидающего в засаде и с луком в руке возвращения тех, кто пошел брать приступом мнимый рай, – потом, в тот час, когда все они соединились, и понеслись выручать аль-Асвада, и скакали, давая коням и верблюдам лишь малую передышку, в Хиру, – все это время Абриза была непрерывно счастлива. Счастлива, невзирая на то, что в Хире, сойдя с коня, она не ощутила под собой ног и едва не повалилась наземь.
Ее стихи о любви к аль-Асваду, рожденные ею на скаку, повторяло нараспев все войско!
И она видела, что войско как бы несет ее, прекраснейшую из женщин, с этими великолепными стихами, в дар своему повелителю, прекраснейшему и отважнейшему из мужчин!
Этот мужчина ради нее поднял мятеж, и рисковал своей жизнью и жизнями своих верных, и сражался, и скрывался, и, лишенный всего, кроме достоинства и благородства, с горсточкой людей бросился на безнадежный приступ, чтобы освободить ее!
И все вокруг было прекрасно – отчаянная отвага аль-Асвада, и сжигающая душу тревога за его судьбу, и преданность аль-Мунзира, и грубоватая заботливость Джевана-курда, и бешеная скачка к Хире, и город, радостно встретивший своего любимца, и дворец, и лицо Абризы в дорогом китайском зеркале.
А ведь Абриза сама знала про себя, что особенно чувствительна к красоте и болезненно ощущает ее отсутствие.
Теперь же ее нашла наконец мать – и мать тоже была прекрасна, и ее зрелой красоте была в землях арабов лишь одна соперница – дочь, Шеджерет-ад-Дурр, Абриза.
А то, что лежало на всем этом великолепии, как сальное пятно на дорогом наряде, ушло, исчезло, пропало навеки.
Абриза вздохнула с облегчением, когда бесноватое войско, не признававшее Аллаха и его посланника, убралось из Хиры, и несуразная невеста аль-Асвада – с ним вместе. И возблагодарила Бога за то, что достигла этого, не осквернив уст ложью.
Но Шакунта напомнила ей о нелепой сопернице.
– О доченька, – сказала она, держа в каждой руке по дюжине дорогих ожерелий, пока Абриза раскидывала перед ней шелковые и парчовые наряды, – а где же ожерелье с черными камнями, которое я надела на тебя той ночью?
– А разве оно тебе нужно, о матушка? – удивилась красавица. – У нас сегодня день радости, а не день скорби, зачем нам ожерелье с черными камнями?
– И все же я хотела бы, чтобы ты его носила, – Шакунта усмехнулась, вспомнив ту свою злость на Саида, которую ожерелье усилило многократно. – Не каждый день, разумеется, но в некоторых случаях…
– Так вышло, о матушка, что я подарила его, – призналась Абриза.
– Кому же ты подарила его? – встревожилась Шакунта. – Скажи – и мы его выкупим!
– Боюсь, что у нас нет к нему больше пути.
– Я нашла это ожерелье, когда к нему воистину не было пути! А ты рассталась с ним недавно.
– О матушка, это ожерелье доставило мне столько неприятностей!.. – плачущим голосом сказала Абриза. – Из-за него тетка Бертранда попрекала меня с тех самых пор, как я себя помню! Она говорила, будто я лишила его силы! Всякий раз, глядя на него, я вспоминала тетку Бертранду, будь она неладна! А как оно попало к тебе, о матушка?
– Как оно попало ко мне?.. – Шакунта вздохнула. – Это длинная история. И я расскажу ее тебе, когда слово, которое я дала, будет выполнено. Так у кого же ожерелье? Раз оно вызывает у тебя плохие мысли, ты никогда больше его не увидишь, но мне оно необходимо. Ведь нам удалось вернуть ему силу…
И замолчала, сообразив, что без помощи того, кого она привыкла звать Саидом, ожерелье так бы и осталось лежать в шкатулке евнуха Шакара…
– Я отдала его той девушке, которая спасла от смерти Ади аль-Асвада, – отвечала Абриза, но мать ждала еще каких-то объяснений. – Все делали ей подарки, а у меня не нашлось ничего иного…
– Что же это за девушка и как нам ее найти, о доченька? – не унималась Шакунта.
– Зовут ее Джейран, а где ее теперь искать, наверно, не скажет никто. Вот если бы она ходила с открытым лицом – ее знал бы весь город!
– Джейран… – Шакунта задумалась. – Так что же у нее с лицом?
– Во-первых, у нее на левой щеке написано «звезда аль-Гуль».
– Странная надпись. Но разве это нельзя смыть?
– Буквы как будто выложены синей шерстяной ниткой под кожей, о матушка! Я никогда раньше такого не видела, клянусь Аллахом! А во-вторых, она сильно отличается от здешних женщин. Больше всего она похожа на мою двоюродную сестру Берту… то есть, я все эти годы считала Берту своей двоюродной сестрой… Она тоже высокого роста, с худым лицом, нос у нее короткий и немного вздернутый, волосы серые, а глаза – серо-голубые, о матушка. Ты же знаешь, что для арабов все это – признаки уродства! Как странно – а ведь в Афранджи Берту считали красавицей…
– Но если ее привезли из Афранджи, откуда у нее такое имя?
– Я не знаю, о матушка, – отвечала Абриза, которая действительно не задумывалась над несоответствием имени и внешности банщицы. – Сама она сказала, что выросла среди бедуинов, а потом ее отдали вместо платы хозяину хаммама.
– А не сказала ли она, кто ее мать? – задала Шакунта уж вовсе нелепый и неожиданный с точки зрения Абризы вопрос.
– О матушка, а какое нам дело до матерей банщиц? – искренне удивилась красавица. – И какая еще могла бы быть мать у Джейран, как не жительница пустыни и собирательница сморчков на песчаных холмах?
– Джейран… – повторила Шакунта. – Бедная Джейран… Бедный подкидыш! Так, значит, ты ее отблагодарила за спасение аль-Асвада ожерельем? Начертал калам, как судил Аллах! Это было проявлением его справедливости… Она заслужила это ожерелье. И пусть она им владеет!
Абриза удивилась было неожиданным заслугам Джейран, но сообразила, что в Хире наверняка уже толкуют возле всех колодцев о том, как был спасен от казни Ади аль-Асвад, и хвалят Джейран, не подозревая, какая суматоха была во дворце из-за нее и ее бесноватого войска.
Очевидно, связь между Абризой и Шакунтой, впервые, по сути дела, увидевшими друг друга, воистину была связью матери и дочери, поскольку проявилась в чтении мыслей.
– А ты хочешь стать женой аль-Асвада, о доченька? – как бы услышав, о чем задумалась Абриза, спросила Шакунта. – Когда я искала тебя в Хире, то со всех сторон только и кричали о том, что он нашел себе жену из тех женщин, что цари приберегают на случай бедствий!
– Это говорили о Джейран, о матушка. Аль-Асвад действительно обещал ввести ее в свой харим. Но между ними вышла ссора, и она покинула Хиру со своими людьми, и он может считать себя свободным! – весело воскликнула Абриза.
Шакунта задумалась.
– Поклянись, что ты не приложила руку к этой ссоре, о дитя! – вдруг потребовала она. – Поклянись, что не ты разрушила ее счастье!
– О матушка, ссора вышла из-за ее людей, которые сцепились с людьми аль-Асвада, и были взяты под стражу, и она вывела их из тюрьмы, размахивая ханджаром, словно тюрок-сельджук! – воскликнула Абриза, которой вовсе не хотелось посвящать мать в подробности этого дела. – И она увела их из Хиры, и забудем об этом. Ведь она больше не вернется.
– Знала ли она, что ты любишь аль-Асвада? – продолжала расспросы Шакунта.
– Я полагаю, что знала, ибо нет в Хире человека, который не слышал бы моих стихов о любви к аль-Асваду! – гордо заявила Абриза. – И скажи сама, о матушка, разве она достойна быть его женой? Он всю жизнь будет угнетен тем, что у его жены на щеке какая-то нелепая надпись, – ты не знаешь всей гордости Ади, о матушка! И он будет удручен тем, что все считают ее безобразной! А мной он будет гордиться – ведь вся Хира видела меня без изара и покрывала, и придворные поэты уже сочинили обо мне множество касыд!
– О дитя, те же люди, что упрекнули бы его, если бы он взял в свой харим некрасивую женщину, которая, тем не менее, спасла ему жизнь, упрекнут его, когда станет известно, что он женился на женщине с ребенком, – прозорливо заметила Шакунта.
– О матушка, довольно об этом! Мой ребенок уже встал однажды между мной и аль-Асвадом! И из-за этого произошли все бедствия Ади! Сейчас он так рад, что избежал смерти и вернулся в Хиру победителем, что вовсе не вспоминает о ребенке! И я не допущу, чтобы это помешало нашему счастью, клянусь Аллахом! Еще через день или два он непременно вспомнит о нем и пошлет за ним своих людей, и они привезут его… и мы еще насладимся его обществом…
– Но где твой мальчик? Когда я увижу его?
Абриза вздохнула.
– Я не знаю, где он, но аль-Асвад прикажет своим людям узнать, и они узнают, – призналась она. – Ты ведь еще не слышала, о матушка, как у меня появился этот ребенок! А это – плод насилия, и я не хотела его рождения, и родила его лишь потому, что не смогла его вытравить из себя!
– Собираешься ли ты сама искать его? – сурово спросила Шакунта. – Или ты будешь ждать, пока этим займется аль-Асвад?
– Разумеется, собираюсь! – выпалила Абриза, но по голосу дочери Шакунта поняла, что говорит в ней испуг перед грозной матерью, единственной, кто мог бы потребовать у нее отчета в судьбе ребенка. А всякий, кто видел Шакунту с двумя куттарами и в боевых ножных браслетах, не стал бы понапрасну искушать ее терпение.
Тем не менее она не стала корить дочь, а уперлась локтем в колено и опустила голову на руку.
И Абриза услышала нечто вовсе неожиданное – глубокий и горестный вздох.
– Ты воистину моя дочь… – пробормотала Шакунта. – Ты увлечена лишь прекрасным и благородным! А то, что не прекрасно и не благородно, не находит пути к твоему сердцу. Знаешь ли ты, о Шеджерет-ад-Дурр, что у тебя есть два брата? Два старших брата?
– А кто мои братья, о матушка?
– Почтенные люди из купеческого сословия, я полагаю… О доченька, я не могу корить тебя за то, что ты отдалилась душой от своего сына, ведь я сама, чтобы сдержать слово, бросила двух маленьких сыновей! – воскликнула Шакунта, и это было вторым потрясением для Абризы – она не думала, что ее мать способна говорить таким жалобным голосом.
– Но мои сыновья остались под присмотром женщин, которым я доверяла! – справившись с угрызениями совести, продолжала Шакунта. – И я оставила их в доме их отца, чтобы отыскать тебя и привести к твоему жениху!
– К моему жениху? – рот у Абризы открылся так, что туда проскочил бы целый апельсин.
– Да, к жениху, которому я обещала тебя, когда еще только носила ношу, – объяснила решительная мать. – Он царского рода, и между нами заключен договор, который я сохранила, и мы скрепили его рукопожатием.
– О матушка, но ведь я хочу стать женой аль-Асвада! – возразила Абриза.
– О доченька, я просватала тебя за царевича Салах-эд-Дина еще до твоего рождения! И я искала тебя все эти годы…
– Только для того, чтобы выдать замуж за этого царевича?!
Шакунта во второй раз за недолгое время их встречи лишилась благословенного дара речи.
– Конечно же, нет, о доченька, я искала тебя потому, что ты была похищена из колыбели, и мне подложили другого ребенка, и это – диковинная история…
– Я знаю эту диковинную историю! – перебила Абриза. – Я слышала ее у ворот хаммама от уличного рассказчика! И я узнала по описанию комнату в замке своего отца с гобеленом, на котором были Адам и Ева с яблоком, и черное ожерелье своей тетки Бертранды! Это так поразило меня, что я стала искать рассказчика, чтобы купить у него книгу, в которой все это было написано. Но я не слышала самого начала, а там, наверно, и говорилось об этом несуразном сватовстве!
– О доченька, как это ты называешь несуразным сватовство, которое задумала твоя мать?
– О матушка, а разве есть для него другое название?
– Я хотела, чтобы ты вошла в царский харим, о дитя, и заняла там подобающее твоей красоте место!
– Так и я хочу того же самого! Я хочу стать женой Ади аль-Асвада, а уж если у него – не царский харим, так какого же тебе еще надо? И там я займу место, подобающее моей красоте и моему таланту!
– Ты говоришь про умение писать стихи? – осведомилась Шакунта.
– Полагаю, что стихами я прославилась в войске и в городе еще больше, чем своей красотой, – опустив глаза, чтобы хоть так соблюсти скромность, сказала Абриза.
– А как же быть тогда с договором между мной и царевичем Салах-эд-Дином? Нет, о доченька, ты непременно должна поехать со мной к нему, и сказать, что ты готова стать его женой, и посмотреть на его стыд и позор!
– Почему это мужчина при взгляде на меня должен испытывать стыд и позор? – Абриза схватила мать за руки и попыталась, вглядываясь в лицо, понять, уж не покинул ли ту разум.
– Да нет же, о доченька, при взгляде на тебя мужчина должен испытывать восхищение! Но пусть этот скверный Салах-эд-Дин увидит твою несравненную красоту и пусть ему станет стыдно за то, что я сдержала слово, а он, этот враг Аллаха, этот пьяница, которого владельцы всех кабачков узнают по походке, этот взбесившийся пес и опаршивевший волк, этот ишак и сын ишака…
– О матушка! – отшатываясь от Шакунты в неподдельном ужасе, вскрикнула Абриза. – Ты хочешь отдать меня за скверного пьяницу?..
– Не бойся, о прохлада моих глаз, я вовсе не желаю видеть тебя женой пьяницы! – заявила Шакунта, так торопясь все объяснить дочке, что самое главное все время оставалось несказанным, а она и не замечала этого. – Но я должна сдержать слово! На это я потратила девятнадцать лет своей жизни, о доченька!
– Выходит, я должна расплачиваться за то, что ты дала необдуманное слово, и искупать этим девятнадцать напрасно потраченных лет твоей жизни? – спросила Абриза, все яснее понимая, что внезапно объявившаяся мать внесет в ее жизнь то, без чего она охотно обошлась бы, – благородное безумие.
– Как ты можешь называть слово матери необдуманным? Я девятнадцать лет искала тебя, я претерпела множество бедствий, я вырвала тебя из когтей этих врагов Аллаха – и все ради того, чтобы услышать, что мои слова – необдуманные?!
Задавая этот яростный вопрос, Шакунта действительно забыла, что по меньшей мере десять лет из этих девятнадцати провела в Индии, где славилась красотой и умением побеждать в поединке, где звалась Ястребом о двух клювах, где к ее ногам кидали сокровища, где она была гордостью владык – и одному Аллаху ведомо, что у нее было из близости с теми, кто этой близости домогался…
Абриза же смутилась. При всей благодарности, какую она испытывала к матери, желание воспротивиться нелепому замыслу крепло в ней, и набирало силу, и подсказывало слова, которых говорить, наверно, не стоило.
– Да, ты отбила меня у них! – воскликнула Абриза. – И ты крикнула мне – беги, доченька! И я побежала! И я с перепугу забежала так далеко, что еле вернулась на место этой стычки! И оказалось, что я там – одна посреди трупов людей и лошадей, без еды и питья, с непокрытой головой под полуденным солнцем, а единственный, кого я застала в живых, был при последнем издыхании, и это Джеван-курд!
– Разве Джеван-курд погиб в стычке? – не поверила Шакунта. – А кто же тогда разъезжал вчера по рынку, набирая ткани и прочие вещи для своего харима? Все купцы сбежались приветствовать его и сделать ему подарки! И все вопили – глядите, вот Джеван-курд, который едет у правого стремени нашего аль-Асвада!
– Ему удалось выжить, о матушка… – недовольно сказала Абриза, потому что спасение курда плохо вписывалось в ту картину бедствий, какой она хотела поразить Шакунту и вызвать ее смущение. – И не будем больше говорить о наших неприятностях. Они окончились, и ничто больше не разлучит нас, и я стану женой аль-Асвада, а тебе мы тоже найдем подходящего мужа!
– Мы непременно должны поехать к Салах-эд-Дину, о доченька! Нельзя, чтобы договор остался невыполненным. Девятнадцать лет жизни потребовалось, чтобы найти тебя, и день, когда я привезу тебя к нему, станет счастливейшим днем моей жизни!
– Опять ты толкуешь мне про эти девятнадцать лет! – возмутилась красавица. – Почему это я должна всей своей жизнью расплачиваться за то, что ты когда-то заключила договор? Почему это я должна идти в жены к старому, скверному, гнусному пьянице?
– Вот и я говорю, что он опустился, и утратил былое величие, и не может провести ни дня без кувшина изюмного вина! – подхватила Шакунта. – Вино диктует ему все его поступки! Но он должен понять, что он – нарушитель слова! И он должен увидеть тебя! И уразуметь, насколько он тебя недостоин! Инжир – не для вороны!
– О матушка, а как получилось, что вы вообще заключили этот договор? – поняв, что тут дело нечисто и ни одна женщина не станет так буйствовать из-за старого пьяницы, осведомилась Абриза.
Ответа она не получила.
Шакунта долго думала, как покороче и потуманнее рассказать эту историю, чтобы не выглядеть в глазах дочери неверной супругой, плохой матерью или вообще той купеческой женой из базарных историй, которую старуха сводит с красивым мальчиком.
– Достаточно тебе знать, что таково было решение твоей матери, – произнесла наконец она.
Абриза надулась.
– Я действительно не могу никуда ехать с тобой, – сказала красавица. – Хотя бы потому, что мой ребенок не найден. Ты искала своего ребенка – а я буду искать своего, и нет мне дела до Салах-эд-Дина! И ты искала ребенка ради соблюдения нелепого договора, а я буду искать его ради его счастья и будущности! Аль-Асвад обещал, что дитя станет наследником царского престола Хиры!
– А какое отношение имеет твой ребенок к царскому престолу? – удивилась Шакунта, и Абриза поняла, что нашла надежный довод.
– Я родила его от младшего брата Ади, от царевича Мервана.
И она вкратце рассказала матери историю о том, как аль-Асвад своей честью поручился за ее безопасность, и что из этого вышло.
– Теперь ты видишь, что мне не до путешествий и женихов, – завершила она, видя, что Шакунта ее не перебивает.
– Так, значит, тебе нет дела до забот твоей матери? И это – твое последнее слово, о дитя?
– Да нет же, о матушка, я готова делить с тобой твои заботы, я только не хочу ехать к твоему Салах-эд-Дину! – с тем Абриза приласкалась к матери, но та сбросила ее руку с плеча.
– Значит, выйдет так, что я не сдержала слова? И девятнадцать лет моей жизни подобны обрывку тряпья или оческу пакли?
– О матушка!.. – Абриза воздела руки к небесам, ибо нет на свете слов, которыми можно разумно возразить на такие глупости.
– Нет, о дитя, нет, о доченька, я своего добьюсь! – приходя в ярость, продолжала Шакунта. – Я привезу тебя к Салах-эд-Дину, даже если придется везти тебя связанной в мешке!
– А чем ты тогда будешь лучше той, что похитила меня и везла в корзине из пальмовых листьев? – дерзко спросила Абриза.
Шакунта вскочила и произнесла нечто длинное на неизвестном дочери языке, и не было в Хире человека, который понял бы эти слова.
Она вывезла из Индии не только куттары и боевые браслеты, но и замысловатые выражения, которые приберегаются для самых отвратительных бедствий.
Высказав на индийском языке все, что она думает о дочери, об аль-Асваде, о Хире и о всех непотребствах этого города, Шакунта развернулась и помчалась к выходу из помещения.
Евнухов, которые вовремя не убрались с дороги, она расшвыряла двумя ударами – левым локтем и правым локтем.
Абриза так и осталась сидеть на возвышении, чувствуя, что наговорила лишнего, но искренне веря в свою правоту.
В конце концов, ни слова лжи мать от нее не услышала.
Как и аль-Асвад, когда решалась судьба Джейран…
Опомнившись, она позвала евнухов и послала их следом за Шакунтой, чтобы узнать, куда та направилась из дворца и каковы ее намерения.
Но оказалось, что Ястреб о двух клювах – птица, умеющая прятаться и заметать следы.
Шакунта не выезжала из ворот Хиры – а между тем ее нигде не могли найти.
И это было крайне подозрительно…
* * *
– А разве можно забыть твою щедрость, о господин? – утирая под изаром глаза, спросила вдова. – Уже два месяца, как муж мой умер, и я скоро дойду до того, чтобы просить подаяния, а нашего сына я отдала в ученики к другому цирюльнику еще при жизни мужа. Конечно же, я помню тебя, но ничем тебе помочь не могу. Был бы жив мой муж – он обрил бы тебя и умастил так, как тебе по вкусу! И сохранил бы те тайны, что ты раскрыл перед ним…
– Прими эти десять динаров, о женщина, – сказал гость, до бровей закутанный в темно-коричневый плащ-аба. – И скажи напоследок, к кому из цирюльников мне лучше обратиться? Есть ли в этом городе среди них хоть один, который был бы разумен и не болтлив, чтобы у меня не треснула голова от его разговоров?
– Когда стало ясно, что мой муж вскоре предстанет перед райским стражем Ридваном, я пошла к его приятелю и сотрапезнику, тоже цирюльнику, и уговорилась, что он возьмет нашего Хусейна в учение, о господин. И мне кажется, что на этого человека можно положиться. Он живет недалеко от новой мечети, на улице Бейн-аль-Касрейн, а чтобы тебе не расспрашивать прохожих, запомни такую примету – в его доме два окна выходят на улицу, и самое большое дверное кольцо, какое только можно представить, и второго такого дома на улице нет. У него живет черная рабыня по имени Суада, и воистину оно ей к лицу, ибо цветом она как закопченное дно котла. Скажи ей так – Шамса кланяется тебе и просит позвать к этому господину ее сына. А если ты уделишь ей от своих щедрот, то это не будет лишним.
– Я уделю ей от своих щедрот, – сказал гость, но голос его показался вдове странным, как будто мысль о вручении стертого дирхема черной рабыне развеселила этого закутанного человека.
– Мой сын – кроткий и молчаливый юноша, он возьмет тебя в дом и все сделает по твоему слову, о господин. Он уже умеет не только брить, но даже пускать кровь! – похвасталась вдова. – Ты останешься доволен, о господин, да хранит тебя Аллах и да приветствует!
– Как вышло, что я никогда не видел в вашем доме твоего сына?
На сей раз в голосе гостя была некая тревога, смешанная, как показалось вдове, с угрозой.
– Он почти не выходил к посетителям, о господин, он стеснялся своего увечья. Но теперь Аллах не оставил нам иного пути – ему пришлось пойти в учение, но это к лучшему, может быть, он хорошо усвоит ремесло, станет помощником Абд-Аллаха Молчальника, а потом даже войдет в дело и станет получать долю доходов.
– Кого это ты назвала Молчальником, о женщина?
– Цирюльника Абд-Аллаха, о господин, его все так называют, Абд-Аллаха, у которого учится ремеслу мой сын…
– Цирюльника? Злые же языки у людей, которые дали ему такое прозвище, клянусь Аллахом!
Из-под изара послышался смешок.
Закрыв за собой дверь дома, где два месяца назад скончался постоянно бривший его цирюльник, гуль Хайсагур задумался. Время было позднее, и человек, который станет ломиться в такое время в дома правоверных, крича, что нуждается в бритье, непременно будет принят за бесноватого. Да вдова и не полагала, что он займется этим, не дожидаясь утра.
Ночная темнота позволила ему откинуть с лица край аба.
Хайсагур пощупал свои щеки.
То, что украшало их, не было бородой, а скорее волнистой шерстью, причем шерсть росла довольно неудачно, начинаясь чуть ли не от глаз, но оставляя середину лица открытой. Хайсагуру же требовалось прикрыть рот – ибо очень трудно при пылкой ученой беседе еще и следить за губами, чтобы не обнажились клыки.
Накладные усы и борода у него, разумеется, давно имелись, длинные густые усы и весьма почтенная широкая борода, искусно сделанные из настоящего человеческого волоса, но по цвету они отличались от его собственной шерсти.
Обернувшись по сторонам, гуль убедился, что никто на него не таращится, как ишак на шайтана, быстро сел на каменную скамью у входа и стащил с себя сапоги.
Он обувался и одевался на человеческий лад лишь когда спускался с гор и навещал, снабженный рекомендательными письмами Сабита ибн Хатема, кого-либо из звездозаконников или иных мудрецов, многие из когорых именовали себя на греческий лад «фалясифы», а науку свою, опять же на греческий лад, – «фальсафа». Самого Хайсагура больше всего интересовали переводчики, и ради них он побывал в Харране и аль-Антакии, а также добрался до Багдада и посетил Дом мудрости, слава о котором гремела в землях правоверных.
Среди переводчиков он чувствовал себя, как равный среди равных, ибо за соседними столами трудились над рукописями христиане и евреи, правоверные и харранские звездопоклонники, попадались даже язычники-маги, верующие в огонь, приезжали даже из Индии и Китая. Но и христиане были какие-то странные, не в ладах со священством аль-Кустантинии, тем более – с приезжим священством франков, и евреи – более свободные духом, чем их собратья, не видящие мира за пределами Торы, и звездопоклонники – склонные исследовать новые религии вместо того, чтобы держаться за свою старую. Этому пестрому обществу для полноты картины недоставало лишь горного гуля, прячущего клыки под накладными усами, – и он являлся, привозя послания от Сабита ибн Хатема, сообщая поправки к звездным таблицам, вносимые ими совместно, добывая новые труды и даже, если не находилось быстро работающего писца, усердно переписывая целые трактаты.
Встречался Хайсагур и с франками, которые решительно ничем не удивили и не обрадовали его, кроме скверной привычки давать городам и селениям новые имена. Он полагал, что священство хранит все же какие-то тайные знания, и был готов выменять их рукописи и книги на свои, имея кое-что, приобретенное как раз для обмена. Но в звездозаконии эти люди намного отстали от мудрецов Харрана, не говоря уж о китайских мудрецах.
На сей раз он пришел в Эдессу не ради книг.
Стянув сапоги и замысловато прокляв того нечестивого, который выдумал и изготовил это орудие пытки, Хайсагур размял ноги. Сапожник, смастеривший эти диковинные сапоги на его огромные ступни, пытался придать им изящество, в котором Хайсагур совершенно не нуждался. Он привык, как и все гули, лазить босиком по горам, и изящество для него заключалось в ловкости, с которой нужно перепрыгнуть через расселину или пройти по перекинутому через пропасть бревну. А для того, чтобы взбираться по крутым скалам, тем более обувь не нужна, ибо шершавости их боков недостаточно, чтобы удержать кожаную подошву, и единственное, чему они покоряются, – так это широко расставленные пальцы ног.
Сапоги Хайсагур надевал, чтобы не утратить уважения людей, ибо человек в большом и дорогом мосульском тюрбане, в длинной фарджии из тонкого полосатого сукна, в белоснежной джуббе поверх нее, не может появиться без обуви – хотя бы потому, что ему для этого пришлось бы взять в хаммаме у банщиц состав, выводящий обильные волосы на ногах!
Хайсагур попробовал когда-то такую мазь, чтобы сводить шерсть со щек, не прибегая к помощи цирюльника. Но он не догадался спросить, чем уничтожают ее дурной запах. Как и положено гулю, он обладал тонким обонянием, и те два дня, пока он плавал по заводям, избавляясь от зловония, запомнились ему надолго.
После чего Хайсагур смирился с тем, что в городе, куда он попадает прежде всего, спустившись с гор, нужно найти скромного нищего цирюльника и платить ему за услуги столько, чтобы молчание сделалось для него выгодным. И он нашел такого человека, и тот брил его, не задавая вопросов, но именно тогда, когда его услуги были нужны срочно, выяснилось, что этот несчастный скончался.
Хайсагур торопился.
Он шел по следу.
Гуль-оборотень еще не знал, откуда этот след ведет и куда устремляется, но вещи, которые он обнаружил в райской долине, навели его на самые тревожные размышления.
Как он и обещал Джейран, Хайсагур вел ее, сколько мог, одновременно добывая из ее памяти сведения, которые подсказали бы, каков для нее может быть путь к спасению. Он бережно спустил девушку по стене башни, провел по остаткам каменных укреплений и затем – по сравнительно безопасному склону, но чем дальше он уводил ее от крепости гулей, тем большего напряжения требовало от него это дело, и последние шаги по пустыне дались и ему, и ей с огромным трудом. Хайсагур знал, что совсем близко – один из тех колодцев, где, по всем приметам, поселилось семейство джиннов, способных вознаградить ее за известие о Маймуне ибн Дамдаме, но, вложив в девушку ощущение правильного направления, он не был уверен, что все обойдется совсем благополучно.
Оставив ее неподалеку от колодца, Хайсагур вернулся в свое мохнатое тело и проделал несколько дыхательных упражнений, изгоняя из легких воздух, не обновлявшийся по-настоящему около суток. Потом он принес снизу пищи и питья Сабиту ибн Хатему (а тот, если и просыпался ненадолго, то снова заснул сном праведника или же младенца, хотя ни тот, ни другой не выпивают для этой надобности по три чашки крепкого хорасанского вина) и занялся делами мнимого рая.
Возможности оборотня не были беспредельны – он покинул Джейран лишь тогда, когда работа с ее покорной плотью из-за расстояния стала уж очень затруднительна. Но за это время – а времени на бегство из крепости и путь по пустыне потребовалось немало – он узнал все то, что запомнилось девушке за недели ее райской жизни.
Картина в голове у Хайсагура сложилась причудливая и странная. Если бы он вселился в тело побывавшего в раю мужчины, то, возможно, узнал бы и больше. Многое из того, что сохранила память Джейран, было не изображением местности или людей, а ее отношением к происходившему. Выяснилось, что ей почему-то особенно отчетливо запомнились возмутительные непотребные песенки, насмешившие Хайсагура до слез.
И перед тем, как спускаться в долину, он задал себе несколько резонных вопросов.
И первым вопросом было: раз там, в раю, ублажают молодых праведников, не жалея на это дорогих одежд, кушаний, вин, благовоний, а также денег на покупку или похищение красавиц и на содержание вооруженной охраны, то для чего это может быть нужно?
А вторым вопросом было: если только деньги на устройство тщательно скрытого от людей рая не свалились прямо с неба, то кто дал эти деньги?
Третьим же вопросом было: почему владельцам долины непременно нужно, чтобы ее принимали за рай, обещанный пророком и населенный гуриями?
Хайсагур охотно бы поймал и принес в крепость горных гулей пленника, который ответил бы хоть на один из этих вопросов, а редкий человек откажется отвечать, увидев оскаленные клыки. Но пленников не было – были только мертвые тела.
Хайсагур попал в долину через несколько суток после того, как по ней пронеслись с луками, стрелами и обнаженными ханджарами Ади аль-Асвад и его всадники, но до того, как Джейран привела туда свое войско.
Тела все еще лежали на дорожках и в цветниках, ибо некому было похоронить их. Впрочем, дикие звери не попадали сюда, так что похороны можно было бы и отложить. Хайсагур, чье обоняние всегда сильно страдало от скверных запахов, понимал, что праведники от долгого лежания на солнцепеке не обретут райского благоухания, и все же отложил тягостный обряд – так ему хотелось поскорее заняться следами…
Хайсагур был первым среди гулей, кому довелось проникнуть в долину. Разумеется, они видели сверху, что там живут женщины, но знали они также, что долину охраняют мужчины, вооруженные луками и стрелами, так что похищение красавиц, необходимых для продолжения рода, могло, напротив, привести к истреблению рода. И потому гуль, любознательный по своей природе, получил подлинный праздник любознательности – если не считать вони от мертвых тел.
Цветы цвели и козочки расхаживали среди кустов так же безмятежно, как тогда, когда в беседках и на берегах ручьев пировали праведники. Цветам и козочкам было безразлично – шумят ли крепко подвыпившие мужчины и женщины, или неслышно проходит по узким тропинкам мохнатый гуль – ведь Хайсагур не стал, собираясь в долину, мучить свое крепкое тело поясом от слишком узкого ему халата.
Живя в крепости, он кое-как одевался лишь собираясь в башню, из почтения к Сабиту ибн Хатему. Тот почему-то придерживался в этом вопросе мнения правоверных – мужчина не должен обнажать перед другими мужчинами то, что оставил ему отец, даже в хаммаме, где случайное падение набедренной повязки – стыд и позор для ее обладателя.
Хайсагур с большим интересом обошел хаммам, где покорно трудилась Джейран, а также все беседки и дом самозванной Фатимы аз-Захры, в котором царил обычный беспорядок, сопровождающий всякое бегство.
Там-то гуль-оборотень и напал на странный след.
Женщина, которая не нашла ничего лучше, как посредством зеленого платья с длиннейшими рукавами и прозрачных покрывал изображать перед простаками дочь пророка Мухаммада, свезла в свое тайное жилище немало дорогих и роскошных вещей. Многие из них невозможно было бы протащить пещерами, даже такими, через которые удавалось провести оседланного коня. Большие каменные скамьи или львы, что, сидя по четырем углам водоема, извергали из пасти воду, требовали усилий не коня, а верблюда. Высокие двустворчатые двери из черного дерева, выложенные полосками червонного золота, тоже, очевидно, прибыли не пещерами, а на кожаном корабле, спрятанном в Черном ущелье.
Чем больше Хайсагур находил больших и дорогих предметов, тем больше убеждался в высоком сане их обладательницы. Когда же на глаза ему попался небольшой сундук из орехового дерева, он призадумался – в таких сундуках хранились книги у тех немногих ученых франков, кого он недавно встречал в Эдессе, она же – ар-Руха.
Сундук стоял посреди комнаты, как будто его собирались вытащить и увезти, но обстоятельства не позволили с ним возиться.
Бродя по брошенному обитателями раю, Хайсагур старался лишний раз не прикасаться к вещам – ибо, хотя человеческий нюх не сравним с изощренным нюхом горных гулей, прикосновение его поросших бурой шерсткой рук могло оставить запах, много чего говорящий охотничьему псу, да и среди людей были обладатели тайных знаний. И если они построили этот рай, а затем, поспешно покинув свой приют, вернулись бы за своими сокровищами, – то вовсе ни к чему было им знать, какой гость тут побывал.
И далее Хайсагура, заглянувшего за водяные часы, так перепугавшие Джейран, тоже ждало нечто удивительное – в занавеске, прикрывавшей ведущую в дальние покои дверцу, в плотной занавеске, сотканной из пряжи тускловатых тонов, да еще подобранных не в лад, он узнал другое творение франков, притом из дорогих – гобелен с большим количеством человеческих фигур, причем по краям шел узор в виде цветочного венка. Насколько оборотень знал, на такое рукоделие мог уйти год работы или даже более.
Хайсагур уж решил было, что хозяйка райской долины – одна из франкских бесстыдниц, но при дальнейших розысках опознал в чаше, стоявшей среди китайского фарфора, сосуд, который франки употребляли для своих богослужений. Такой вещи место было в храме – и, надо полагать, оттуда ее и позаимствовали, не имея намерения возвращать.
Хайсагур еще раз прошел по эйвану и комнатам дома Фатимы, но ничего иного, свидетельствовавшего о христианской вере, не обнаружил.
Тут он впервые подумал о том, что и сундук, и занавеска, и чаша, скорее всего, часть чьей-то военной добычи.
Приподняв гобелен, гуль согнулся чуть ли не вдвое и оказался в коридоре, потолок которого был выше косяка, но вот широкие плечи Хайсагура оказались тут не к месту. Те, кто пробирались этим коридором, обладали обычным для человека ростом, но удивительно щуплым сложением. Хайсагур опустился на колени и обнюхал пол.
Нос его уловил запах, который внушил опасность.
Хайсагур задом наперед выбрался из коридора и озадаченно почесал в затылке.
Он лишь хотел убедиться, что по коридору ходили люди, а не какие-то иные существа. И он действительно ощутил запах человеческих ног, причем это были ноги старца, далеко зашедшего в годах, утратившего прежнее здоровье и вынужденного принимать целыми ритлями такие сильные средства для ослабленных, как хандикун и салмавайха. Проходила коридором также молодая женщина, употреблявшая в качестве благовония дорогой мускус из Дарина.
Он мог бы поручиться, что эти двое – из рода сынов Адама. И все же к запаху их ног примешался иной – змеиный.
Как будто змея кусала этих людей за обувь, оставляя на вышитом сафьяне свой смертоносный яд!..
Теперь Хайсагур с великой осторожностью стал заново обходить мнимый рай в поисках именно этого запаха.
Он хотел понять – заползла ли сюда змея случайно, хотя ее место – пески и камни пустыни, жила ли она здесь в каком-то сосуде, выкармливаемая владельцами рая, или же какой-то враг Аллаха исхитрился подоить змею, забрав ее яд для целей, наверняка подсказанных шайтаном. Кроме того, Хайсагур не мог сказать по запаху, идет ли речь об одной змее или же их тут было много. Если самозванная Фатима обладала подлинным коварством, то она, покидая рай, могла выпустить змей на свободу, чтобы они жалили и губили всякого пришельца.
И оказалось, что многие дорожки и беседки свободны от запаха, а если он и появляется кое-где, так его принесла молодая женщина. И более того – Хайсагур уловил запах скверного растения, именуемого аконит и безмерно ядовитого. Как получилось, что молодая женщина с маленькими ногами, имевшая обыкновение ходить неторопливо, набралась этого запаха, гуль понять не мог. Он подумал было, что этим зельем травили крыс, – но откуда взяться крысам в этой позабытой Аллахом долине?
На всякий случай Хайсагур сломал деревце и, ободрав с него ветки, изготовил нечто вроде копьеца, которым шевелил траву и приподнимал ветви кустов. При необходимости он мог ловким ударом этого гибкого копьеца сбить змее голову. Но Аллах избавил его от такого испытания.
Голубовато-лиловых кистей аконита среди цветов и травы он тоже не обнаружил.
Разумеется, Хайсагур не мог тщательно обследовать все щели и укромные места, где змее угодно пережидать дневной зной. И все же с каждым шагом он все больше убеждался, что понапрасну тратит время. Змеиный запах был неразрывно связан с запахом старца или молодой женщины, сам по себе он не появлялся. Гуль взбирался даже на откосы до той высоты, где начиналась недоступная обычному человеку крутизна. Там он обнаружил разве что запах коз.
Когда наступила ночь, он не стал возвращаться в крепость, здраво рассудив, что Сабит ибн Хатем и без его разглагольствований уснет сном праведника. А сделал он вот что – взяв светильник, спустился в те подземелья под хаммамом, которые так отчетливо запомнились Джейран.
Разумеется, природное любопытство затащило Хайсагура в подпол, где он чуть не застрял между закопченными кирпичными столбиками, подпиравшими пол хаммама, и перемазал шерсть, за которой, как и большинство гулей, следил довольно тщательно.
Уяснив себе, как действует печь хаммама и каким путем проходит горячий воздух, Хайсагур выбрался наружу, оказался в предбаннике – и тут вдруг услышал человеческие голоса.
Двое мужчин переговаривались на другой стороне долины, напротив хаммама, где-то возле дома самозванной Фатимы.
Один из них звал другого, который то ли без нужды сошел с эйвана, то ли без нужды на него взошел.
Хайсагур подобрался и ссутулился так, как это свойственно гулям, подстерегающим добычу. Пригибаясь, он перебежал райскую долину и затаился в тени высокого эйвана, с перил которого свисали дорогие ковры, так что при необходимости он мог под ними укрыться.
– О Гариб, о скверный, я не в состоянии поднять этот сундук, а тебя словно шайтан унес!
– Разве нас посылали за сундуками, о сын греха? – отозвался Гариб из беседки. – Клянусь Аллахом, нам велели взять то, что можно вдвоем пронести в мешках через пещеры, и даже дали целую опись!
– Кому госпожа давала приказание, мне или тебе, о несчастный, чтоб тебя не носила земля и не осеняло небо? – полюбопытствовал человек, не покидавший дома. – Она хочет, чтобы мы принесли вещи из комнат шейха, и еще те, что остались в ее спальне. А если мы чересчур задержимся, то сюда вломится еще какой-нибудь предводитель безумцев, и мы не выполним приказания.
– Разве никто не предупреждал госпожу, что путь через Черное ущелье ненадежен? – спросил Гариб. – Он был хорош, пока нужно было доставлять сюда тяжести, а потом от него следовало отказаться.
– Для тех, кто едет с юга, этот путь – наилучший, – возразил голос из темноты. – И одурманенный банджем верзила – это такая тяжесть, о Гариб, что лучше ее доверить судну, чем человеческим рукам. Мало я разве перетаскал этих несчастных короткой дорогой от причала к первой же беседке? Ведь немногих из них приносили через пещеры.
Хайсагур понял, что речь шла о молодых плечистых праведниках, песни которых запомнились Джейран, но что касается лиц – ее память сохранила лишь красивое лицо горбатого юноши, которого звали то ли Хасан, то ли Хусейн.
Впрочем, лица шейха он в воспоминаниях девушки не обнаружил.
– Поторопись, о Гариб! – продолжал человек, хозяйничавший в доме мнимой Фатимы. – Или мы безнадежно отстанем от людей Джудара ибн Маджида, да хранит его Аллах и да приветствует! И нам придется добираться до Хиры самим, а это дело опасное! Не станем же мы ждать попутного каравана с охраной!
– Вовремя же он прислал всадников к нам на помощь, клянусь Аллахом! – подтвердил приверженность полководцу и Гариб. – Иначе мы бы так и полегли вокруг верблюдов с женщинами!..
А больше ничего он сказать не успел.
Из темноты возникло и приблизилось к нему заросшее бурой шерстью лицо, почти человеческое, над которым возвышались огромные, круто закрученные рога, подобные рогам антилоп.
Изо рта высунулись клыки, белизной соперничающие с верблюжьим молоком, и протянулись вперед на целый локоть!
Огненные глаза, окруженные зеленоватым свечением, воистину глаза посланца шайтана, приникли к его глазам – и душа Гариба улетела…
Хайсагур прежде всего отволок свое мохнатое тело под свисавшие ковры, помянув скверную Фатиму сердитым словом – эта негодяйка могла бы взять себе в слуги мужей более сильных как телом, так и духом.
Всякий раз, вселяясь в чужую плоть, Хайсагур прежде всего удивлялся слабости и неповоротливости людей. О том, что сам он был выше любого человека на голову, да и весил вдвое больше, он в первые мгновения накрепко забывал.
– Но если мы не нагоним войска Джудара ибн Маджида, то лучше нам и вовсе не показываться в Хире, ты же знаешь нрав нашей госпожи! – продолжал незримый собеседник Гариба. – Хотя она и довольна положением дел, но не будем сердить ее понапрасну. Что это ты там копаешься и возишься?
Хайсагур вспомнил, что Гариб, прежде чем рухнуть без памяти, выронил из рук узел с носильными вещами. В чужой памяти уже запечатлелся этот криво связанный узел и, как бы давая ему имя, прозвучало звонкое женское имя «Хайзуран!»
– Хайзуран просила меня позаботиться об ее вещах, о друг Аллаха, – отвечал Хайсагур, еще не зная имени спутника Гариба. И сразу же увидел лицо невольницы, красивое и смуглое, и ощутил волнение чресел, как бы от предвкушения близости. Очевидно, этот скверный Гариб соблазнил невольницу своей госпожи…
Для Хайсагура это ощущение было особенно болезненно – он имел в крепости женщину-гуль, но избегал ее, а к дочерям сынов Адама не приближался, боясь от этого бедствий и для себя и, главным образом, для них. Но звездозаконие не могло заменить любознательному оборотню радости сближения. И он остро осознавал это.
Незримый собеседник Гариба, которому наскучили эти препирательства, вышел на эйван, дав Хайсагуру увидеть себя во весь рост, ибо в комнатах самозванной Фатимы уже горели светильники, а в райской долине, разумеется, было довольно темно.
Хайсагур прищурился, потому что вид лица неминуемо извлек бы из памяти Гариба и имя его обладателя.
Мужчина, которого Фатима, или как там ее звали на самом деле, отрядила подобрать позабытые сокровища, был плотного сложения, с толстой шеей и длинными руками, что свидетельствовало у сыновей арабов о хорошем происхождении. На этом основании насмешник Хайсагур, появляясь в городах, придумывал себе имена, достойные царских сыновей, ибо его руки торчали из самых длинных рукавов, и эти велеречивые изобретения принимались без тени сомнения.
– Мы ничего не сможем тут собрать без факела, о Батташ-аль-Акран, – отвечал гуль спутнику Гариба, при первых произносимых словах еще не зная имени этого толстяка. Оно возникло само, и это радовало – оборотень не только освоился в чужом теле, но и раскрыл ларчик, где хранилась память.
– Ничего и не надо собирать, о сын греха! Довольно того, что оставлено в доме, клянусь Аллахом! Первым делом нужно взять имущество шейха! И сосуды по описи…
– А где же опись, о Батташ-аль-Акран? – осведомился Хайсагур, выговорив имя с заметной издевкой. Он оценил качества и свойства собеседника, который сошел бы за Повергающего богатырей среди людей хилого сложения, но не среди гулей. Очевидно, и остроумцы, что дали ему прекрасное прозвище, были того же мнения…
– А разве ее вручили не тебе, о Гариб? – удивился толстяк, но Хайсагур уже лез рукой за пазуху, причем натолкнулся на рукоять маленькой джамбии.
Он явственно увидел статную женщину, не сближающую на себе краев изара, как велел пророк, а напротив – беззаботно показывающую и оба глаза, и часть щеки, и даже пухлые губы, весьма красивую женщину, которая протянула ему маленький свиток каирской бумаги, и услышал голос Гариба:
– На голове и на глазах, о Сабиха!
Осознал он также, что место этой женщины возле ее повелительницы было из наилучших, что она была хранительницей важных тайн, а также обладала свободой входить и выходить, что было равнозначно позволению вступать в связи с мужчинами. Еще он узнал, что Гариб помышлял и об этой женщине, только его руки не дотягивались до нее, ибо кошелек не позволял делать достойных ее подарков. И при мысли о крутых бедрах и тонком стане вновь возникло волнение чресел…
Хайсагур сгоряча пожелал владельцу чресел жениться на богатой и злокозненной старухе, обремененной неутолимыми страстями. Все, что происходило с позаимствованной плотью, он ощущал так же живо, как если бы сам взволновался при мысли о женщине и сближении. Ему же сейчас нужно было сосредоточиться на образах, возникающих перед внутренними очами, а не усмирять своенравный айр, поднимающий голову при единой мысли о раскрывшемся перед ним фардже!
– Это верно, я забыл про опись, – признался он, не кривя душой. И, продолжая шарить за пазухой, взошел на эйван.
Бумажка была исписана прекрасным почерком несхи, некрупным и округлым, любимым среди переписчиков книг, и сразу же в ушах Хайсагура зазвучал высокомерный женский голос, голос настолько хорошо образованной красавицы, что ее господин позволяет ей вести ученые беседы с сотрапезниками из-за занавески.
– Я обучена писать почерками рика, рейхани, сульс, несхи, тумар и мухаккик!.. – произнес он. – И я воспитывалась в великой изнеженности, и научилась красноречию, письму и счету!
Хайсагур, прежде чем передать развернутый список уже протянувшему толстую руку Батташ-аль-Акрану, быстро оценил отсутствие ошибок, что для женщины было и впрямь поразительно.
Затем Батташ-аль-Акран прочитал его вслух, спотыкаясь и мучаясь на каждом слове.
И оказалось, что самозванной Фатиме для полноты счастья недоставало сундука из орехового дерева, в котором лежали вещи, принадлежащие таинственному шейху, и сосудов с какими-то снадобьями из его комнат, а также пенала, который хранился там же.
Хайсагур подумал, что эта женщина могла бы приказать доставить к ней огромные водяные часы, которые были дороже всех возможных и невозможных сундуков, однако ж не приказала, за что достойна уважения и похвалы.
Он пошел следом за Батташ-аль-Акраном и сложился едва ли не вдвое, чтобы пройти в низкую дверцу за часами, хотя это было вовсе ни к чему – Хайсагур, вселившись в тело Гариба, потерял не меньше локтя своего роста.
Здесь, в коридоре, освещаемом теперь светильником, должно было пахнуть змеями, однако несовершенный человеческий нос Гариба не улавливал этого тревожного запаха, а собственный нос Хайсагура лежал вместе с прочим телом под эйваном, прикрытый краем ковра.
Помещение, которое занимал шейх, было обиталищем человека ученого. Хайсагур узнал знакомые книги, порадовался стопкам белой бумаги, оценил изящный низкий столик, хотя не обнаружил другого столика, предназначавшегося для хранения Корана. Но, как он ни пытался, ему не удавалось добыть из памяти Джейран ничего, что имело бы отношение к загадочному шейху. Ни его имени, ни его лица девушка не знала, да и о существовании престарелого праведника не догадывалась.
Дорого бы дал Хайсагур, чтобы оказаться сейчас тут в своей истинной плоти, вдохнуть запахи и понять, что за премудрый старец тут обитал и каковы его дела со змеями!
Обе комнаты, отведенные ему для жилья, были убраны дорогими коврами и кожаными подушками, но Батташ-аль-Акран, сверившись с описью, направился к нише, возле которой стоял еще один низкий столик, уставленный плоскими шкатулками. В нише на полках выстроились бутылочки и пузырьки, все – с плотно притертыми пробками. У некоторых горло было обвязано шерстяными нитками разных цветов.
Батташ-аль-Акран поднял с ковра подушку и, подцепив острием джамбии нитку шва, распорол ей бок. Вылетело несколько кусочков коричневатого меха.
– Горе тебе, что ты стоишь, как столб посреди пятничной мечети? – обратился он к тому, кого считал своим товарищем Гарибом. – Бери все эти пузырьки и осторожно клади сюда, чтобы они не соприкасались своими боками!
Хайсагур протянул руку к нише. И сразу же получил сильнейший толчок в бок, от которого отлетел, сел на третий столик, у противоположной стены, и своим весом раздавил стеклянную посудину, пристроенную таким образом, чтобы под ее дно можно было подводить масляный светильник.
– О Аллах! – в непонятном ужасе воскликнул Батташ-аль-Акран. – Ты – бесноватый, или твой разум поражен?! Тебе не терпится предстать перед Мункаром и Накиром, чтобы они принялись допрашивать тебя о всех твоих грехах? Тебе не терпится хлебнуть кипятка, которым поят грешников в огненной геенне, или гнойной воды? Воистину, все это ожидает тебя, о несчастный! Опомнись, ради Аллаха!
Хайсагур встал и ощупал тело Гариба пониже спины. Там ощущалась боль. Очевидно, острый осколок, когда полы халата взметнулись, пронзил шаровары и проколол кожу.
– О Батташ-аль-Акран! – обратился он к своему спутнику. – Я разденусь, а ты посмотри, что это со мной стряслось!
– Ты собрался показывать мне голую задницу, о сын греха? – прорычав это, Батташ-аль-Акран уставился на раздавленную посудину и вдруг отступил назад, указывая на осколки дрожащим пальцем.
– Тебе нет спасения, о Гариб, тебе нет спасения!.. Сейчас твоя душа расстанется с телом!..
Посмотрел на осколки и Хайсагур.
Посудина лишь с виду показалась ему пустой, а, возможно, Гариб был близорук. На ее дне засохла тонкой пленкой некая темная жидкость – и толстяк справедливо заподозрил, что она проникла в плоть и кровь его товарища.
– Ради Аллаха, что же нам делать? – забормотал он. – Один я не справлюсь со всем этим грузом! О Гариб, как ты себя чувствуешь? Не кружится ли твоя голове, не улетает ли твоя душа?
Хайсагур еще раз пощупал место, где была царапина.
– Аллах не допустит, чтобы моя душа вылетела из тела через такое место, – сказал он.
Батташ-аль-Акран посмотрел на него с недоверием.
Затем он обернул руку краем занавески и принялся складывать в подушку разнообразные пузырьки, неуклюже беря их по одному и размещая посреди кусочков меха.
Хайсагур прислушался к ощущениям Гариба – и уловил окружившее царапину легкое жжение.
Оно понемногу делалось весьма неприятным.
Но на ощупь болезненное место осталось прежним.
Разумеется, Хайсагур мог в любой миг покинуть тело Гариба и вернуться в свое собственное, но ему требовалось узнать, что за шейх занимался тут возней с сомнительными жидкостями, не говоря уж о прочих вопросах касательно мнимого рая. Поэтому он оставался в неуклюжей, слабосильной и ощущающей боль плоти. И, проделав с другой подушкой то же самое, что Батташ-аль-Акран, он, точно так же обернув руку, складывал пузырьки.
Впрочем, он не имел намерения возвращать их самозванной Фатиме.
Хайсагур уже знал, что ему надлежит сделать.
Следовало просьбами и уговорами добиться, чтобы Сабит ибн Хатем покинул крепость гулей и отправился в Харран Мессопотамский, чтобы показать ученым врачам содержимое кожаной подушки.
Сам же Хайсагур собирался последовать за Гарибом и Батташ-аль-Акраном туда, куда им велено явиться с сокровищами райской долины, ибо ему хотелось посмотреть на шейха, промышляющего ядами.
Царапина между тем творила свое скверное дело.
Плоть Гариба охватил легкий жар.
Хайсагур забеспокоился – по его неловкости ни в чем не повинный человек оказался на краю могилы. Следовало поискать в нише противоядия – пребывая в теле Гариба, гуль не мог сделать этого, а возвращение в собственное тело и обретение собственного нюха было не ко времени – Хайсагур еще не успел проникнуть в память Гариба настолько, чтобы вызвать образ таинственного шейха.
Как это часто с ним случалось, оборотень был чересчур увлечен собственным любопытством – да и какие другие чувства способны были развлечь его, обреченного, при всей своей общительной натуре, на подлинное одиночество и среди гулей, и среди людей?
К тому же он всякий раз забывал о слабости человеческой плоти.
Поэтому Хайсагур дал себе еще немного времени.
Притом же он искренне надеялся, что человек, который занят изготовлением ядовитых настоев, имеет и сильные противоядия, хотя бы на тот случай, что сам случайно поранится, как поранился об осколок Гариб.
Вдруг он обратил внимание на то, что Батташ-аль-Акран, уложив в подушку пузырьки, перебирает прочие вещи в комнате, сверяясь со списком. И в руке у него – старинной работы бронзовый пенал для каламов, хитро устроенный глубокий пенал, из бока которого выдвигается чернильница с привинченной крышкой.
Толстяк открыл это хранилище каламов и пожал плечами.
– Неужели мы повезем с собой эти четыре ритля бронзы ради кучки тростника, о Гариб? – с сомнением спросил он, и Хайсагур понял, что Батташ-аль-Акран заранее предчувствует радости путешествия через пещеры с тяжелыми мешками за спиной.
Он подошел и тоже заглянул в пенал.
– Это самые лучшие каламы, какие только бывают, из Васита, они в меру жесткие, без извилин и с белой сердцевиной, – заметил он.
– Откуда у тебя такие познания, о сын греха? – осведомился Батташ-аль-Акран, и Хайсагур понял, что Гариб не знает грамоты. – И разве нельзя купить в Хире точно такие же чернила, каламы и нейгат, чтобы чинить их? Клянусь Аллахом, я на рынке за динар куплю и точно такой же пенал, и даже более увесистый!
Хайсагур снова пожалел о том, что его нос, обладатель острейшего нюха, лежит сейчас в потемках под ковром. Носом Гариба он мог уловить только слабый запах мускуса, добавленного в чернила ради благовония.
Воистину, что-то с этим пеналом было не так…
На бронзовой стенке его были нацарапаны чем-то острым некие письмена – и, поднеся их к глазам, к несовершенным и слабым глазам Гариба, Хайсагур разобрал кое-какие полустертые слова, кое-что ему объяснившие. Там поминалась вся земля в длину и в ширину, и некий круг небосвода, и предлагалось призвать грохочущий гром…
Что-то уже слышал однажды Хайсагур об этом пенале – или о пенале, похожем на этот, – и о его владельце!
Но это было давно, очень давно…
Вдруг оборотень ощутил, что мысли его мешаются, как будто он уже на грани между явью и сном, так что неизвестно, помнит ли он о существовании пенала в действительности, или же это – пучки пестрых сновидений?
Царапина, о которой он, притерпевшись к слабому жжению, забыл, стала вздрагивать, как будто ее сжимали в кулаке и отпускали. Это причиняло боль.
Силы покинули тело Гариба. И его ноги подкосились.
– Ради Аллаха, что это с тобой?! – воскликнул Батташ-аль-Акран. – Горе мне, он умирает!
И, бросив пенал мимо мешка, он выбежал из комнат шейха.
В тот же миг Хайсагур вернулся в свою истинную плоть.
Сжавшись под эйваном, он убедился, что Батташ-аль-Акран пронесся мимо и исчез во мраке.
Не задумавшись, почему бы это правоверный покинул умирающего товарища, Хайсагур, не утруждая себя бегом к ступенькам, коснулся рукой перил, достигающих его плеча, и взлетел на эйван, исхитрившись на лету и проскользнуть между деревянными колоннами.
В несколько прыжков он пересек помещение, выходившее на эйван, где стояло богатое ложе мнимой Фатимы, и оказался у дверцы. На сей раз он был уверен, что нагнуться придется лишь чуть-чуть, как это сделал бы Гариб, и треснулся лбом о косяк.
Благодарение Аллаху, крепкие лбы гулей имеют свойство выдерживать даже удары летящих камней, но бледные наросты на них, благодаря которым и повелись сказания о людях с расщепленными головами, иногда бывают некстати болезненны.
Хайсагур встряхнулся, прижал пятерней больное место и проскочил в дверцу.
Гариб лежал возле ниши, тихо бормоча.
Хайсагур не знал, осознает ли несчастный его присутствие, и потому пробежал к нише не прямо, а вдоль стены, чтобы Гариб не заметил его.
Шума он не опасался – ведь гули умеют передвигаться бесшумно на своих огромных, косолапо ступающих ступнях.
Приблизив нос к полкам, Хайсагур наконец вдохнул желанные запахи.
Некоторые пузырьки свидетельствовали о том, что в состав зелий, еле видных сквозь тусклое стекло, воистину входит змеиный яд, а также нечто еще более скверное.
Хайсагур уловил омерзительный для всякого гуля запах травы, именуемой «конское бешенство», именно это порождение шайтана, мало действуя на людей, было истинной карой для гулей и лошадей. Однако в смеси с другими травами оно, возможно, тоже могло вредить сынам Адама.
Но противоядий в нише не было. Ни единого.
Если бы они были, гуль сразу же определил бы их по причудливой смеси разнообразных запахов, ибо в них обычно входили травы и минералы полусотни видов, а то и более.
Хайсагур решительно перевернул Гариба на живот, задрал на нем халат и стянул шаровары.
Царапина, как он и предполагал, была невелика, но ее края почернели.
Прокляв свою беспечность и любознательность, Хайсагур вцепился зубами в человеческое тело. Он полагал, что успеет выгрызть и выплюнуть кусок зараженной плоти. А если Гарибу не понравится шрам на столь малопочтенном месте – пусть приносит жалобу повелителю правоверных!
Прокусив кожу, гуль с трудом сомкнул челюсти и, мотнув головой, вырвал кусок жесткого мяса. Рот наполнился горечью – и Хайсагур поскорее выплюнул отраву.
Тут он услышал крик.
Вопил Батташ-аль-Акран, привалившись к косяку.
Из его рук выпал небольшой кувшин и струйка воды, пролившись из горлышка, коснулась ног Хайсагура.
Да и что мог сделать правоверный, как не завопить, увидев мохнатого гуля с расщепленной головой и окровавленной пастью, который уже начал пожирать его несчастного товарища?!
Хайсагур выпрямился, отбросил тело Гариба и, одним прыжком оказавшись возле толстяка, схватил его за плечи.
Едва не касаясь шерстью, покрывавшей края лица, и острыми клыками, его усов и бороды, гуль впился глазами в перепуганные насмерть глаза…
И увидел, что перед внутренним взором Батташ-аль-Акрана стоит вовсе не умирающий товарищ.
Под вопль ярости, исходивший из женских уст, обладательницы которых толстяк боялся не менее, чем свирепого гуля, выплыло, как бы из-за спины женщины, закутанной поверх сверкающих одежд в прозрачное покрывало, лицо старца…
И оно также было знакомо Хайсагуру, только он не мог от волнения вспомнить ни имени, ни каких-либо обстоятельств, связанных с этим худым и малоприятным лицом.
От этих двоих воистину исходила такая опасность, что оборотень пожалел несчастного толстяка, вынужденного повиноваться таким исчадьям шайтана. Тем более, что Батташ-аль-Акран был вовсе не из худших сынов Адама – побежал же он искать в долине ручей, чтобы помочь Гарибу хотя бы холодной водой, а ведь с его сложением он запросто мог свалиться с узкого мостика…
Хайсагур уже ничем не мог спасти несчастного Гариба.
Но несколько облегчить участь толстяка он мог.
Нагрузив руки Батташ-аль-Акрана подушками с их смертоносным содержимым, Хайсагур вывел его покорное тело из комнат шейха, спустил по ступенькам с эйвана, заставил положить ношу возле свисающих с перил ковров, а затем бережно доставил через всю долину к дверям хаммама.
– Я видел страшную змею, – бубнил он при этом, – клянусь Аллахом, я видел пятнистую змею, которая выползла через щель в полу и ужалила Гариба! Горе мне, я ничем не мог помочь Гарибу против этой змеи! А поскольку я не могу появиться с пустыми руками перед своей госпожой, то мне следует, выйдя из пещер, отыскать своего верблюда и верблюда Гариба, но вместо Хиры ехать совсем в другую сторону!
Сунув толстую руку Батташ-аль-Акрана к нему же за пазуху и достав кошелек, Хайсагур обнаружил там всего несколько динаров и дирхемов.
Но, расхаживая по брошенному раю, гуль видел немало брошенной среди травы дорогой посуды.
Подобрав послушными руками толстяка несколько серебряных чашек и небольших кувшинчиков, Хайсагур вспомнил, что в хаммаме хранятся дорогие благовония, о которых, сама того не зная, поведала ему Джейран.
Гуль направил тело в хаммам и, вызвав перед внутренними очами вид полок с чашами, обвязанными сверху чистой льняной тканью, довольно быстро нашел их.
Кем бы ни была самозванная Фатима, а на искусно составленные мази она денег не жалела.
В конце концов халат толстяка с трудом удерживал все, что напихал за пазуху мучимый совестью оборотень.
Обнаружив это, Хайсагур перепоясал беднягу еще и сложенным вчетверо банным покрывалом. Оно надежно удерживало на груди полы халата, вот только в итоге Батташ-аль-Акран, и без того – обладатель немалого пуза, стал похож на беременную женщину, готовую вот-вот разродиться двойней.
Убедившись, что зло, причиненное этому человеку его любопытством, хоть немного исправлено, оборотень покинул его тело и вернулся в свое собственное.
Он сделал все, что мог, для живого, теперь можно было вернуться в помещение, где умирал обреченный.
Хайсагур полагал, что, если бы не появление толстяка, он мог бы еще успеть прижечь кровоточащую рану – а огонь враждует со змеиным ядом, это он помнил твердо. Теперь драгоценные мгновения были упущены.
Прокляв того врага Аллаха, что имеет дело со всякой отравой, но не держит про запас противоядий, гуль нерешительно вошел в комнату, где едва дышал несчастный Гариб.
Он лежал в непристойной позе, кверху задом, не имея силы перевернуться, и шея его оказалась повернута столь неловко, что то жалкое количество воздуха, которое еще могло поступать ему в грудь, проходило через глотку с большим трудом.
Хайсагур опустился на колено и приподнял этого человека.
Гариб был, словно мешок с вязкой глиной.
Но он еще дышал!
Тут Хайсагура осенило – ведь Сабит ибн Хатем имел в роду врачей, знаменитых харранских врачей! Кто-то из его семьи даже возглавлял по приказу халифа пять знаменитых больниц Багдада, а звали его то ли Сабит ибн Синан ибн Курра, то ли Синан ибн Сабит ибн Курра, а халифом тогда был аль-Мутадид… или не аль-Мутадид?..
Он с немалым трудом вынес Гариба, прокляв на сей раз другого врага Аллаха – того, что сделал коридор таким узким. Положив его на ложе Фатимы, Хайсагур придвинул огромные часы с бронзовым трубачом вплотную к дверце, так что она пропала из виду для смотрящего. Раз уж в долину проникли всадники аль-Асвада, устроившие тут такой переполох, то могли забраться и другие люди – а Хайсагур хотел сохранить все, что имеет отношение к злокозненному шейху.
Потом гуль, кое-как поправив одежду человека, перекинул его через плечо и тут только сообразил, что еще нужно каким-то образом повесить на себя подушки с отравой и пенал с обрывками заклинаний. И это оказалось нелегким делом.
Хайсагуру уже доводилось лазить по горам с ношей на плече – обычно он добывал баранов или коз, но Гариб был тяжелее барана. И потому гуль опасался прыгать через трещины. Он с беспокойством поглядывал на звезды – жизнь еще не покинула Гариба, но приходилось торопиться, ведь еще предстояло незаметно пробраться в крепость и внести тело по высокой и крутой лестнице.
Воображаемая линия, соединяющая звезды Мицар с Алькором, мерцающие совсем близко, и звезду Бенетнаш, все более ложилась набок, указывая на запад…
К собственному удивлению, Хайсагур доставил несчастного в комнату звездозаконника еще живым.
Там горели два светильника, а утомленный звездозаконник спал, положив голову на лист, исписанный до середины. И его седая раздвоенная борода была измазана в чернилах.
Разбуженный до наступления утра, Сабит ибн Хатем ворчал, бурчал и призывал в свидетели звезды, все по порядку. Он с большим трудом отринул пестрые пучки сновидений и уставился на положенное к его ногам тело.
– Этого человека необходимо спасти, – хмуро сказал Хайсагур, уставший до того, что забыл прикрыть наготу. – Он многое нам поведает. Его зовут Гариб и он отравлен ядом, который убивает, проникая через рану. Даже если у тебя нет противоядия – то, может быть, ты вспомнишь, одну из тех штук, которым обучили тебя маги?
– Я не могу его спасти, о Хайсагур, – отвечал старый звездозаконник. – Если светила предсказали ему смерть от кинжала, напоенного водой гибели, то все лекари мира будут перед этим бессильны.
– Откуда ты знаешь, что предсказали ему светила? Разве ты составлял его гороскоп? – возмутился гуль. – И неужели светила настолько бестолковы, чтобы позволить ему умереть тогда, когда ему может быть оказана помощь? Я приволок снизу все яды и отравы, какие только обнаружил в конуре того проклятого шейха, и вот принадлежащий ему пенал с каламами, на котором что-то вроде обрывков заклинания! Скажи, о Сабит, разве ты не можешь открыть эти пузырьки, и разобраться в ядах, и придумать противоядие?
– Меня не этому учили, о несчастный, – горестно признался старец, еще ниже опустив голову, хотя, казалось бы, при его круглой спине ниже было уж вовсе невозможно.
– С этими ядами связана некая магия! А ты учился у магов их вредным штукам! Когда тебе взбрело на ум изуродовать лицо девушки, ты живо вспомнил, как это делается!
– Ты говоришь – магия? – окончательно пробужденный от снов настойчивостью Хайсагура, осведомился звездозаконник. Гуль немедленно вложил ему в руку тяжелый пенал.
– В долине жил шейх, обладатель собрания ядов и этого предмета! – быстро сказал Хайсагур. – Посмотри внимательно – вот редкая вещь, скорее сильный талисман, чем обыкновенный пенал! О каком грохочущем громе тут речь? Может быть, в нем – спасение для этого несчастного?
– Может быть, но я не умею пользоваться этим талисманом, – отвечал Сабит ибн Хатем.
– Или ты забыл, как им пользуются?
Хайсагур опустился перед старцем на корточки, и положил ему руки на плечи, и впился глазами в его заспанные глаза до рези в зрачках.
Он увидел загадочный пенал, который лежал на ладони некой руки, очевидно, левой, а другая рука, правая, закрывала его крышкой. Затем пенал был протянут человеку средних лет с сединой в бороде и в усах, а тот взял его с поклоном.
– Когда нужда в нем пройдет, ты сохранишь его для меня или для того, кого я пришлю за ним, о Абд-ас-Самат ас-Самуди, – прозвучал мужской голос. – И будь осторожен, ибо разрушительная сила Грохочущего Грома требует не менее сильных заклинаний власти, повторенных трижды и четырежды, а имя Аллаха тебе тут не поможет.
Гуль-оборотень услышал то, что ему требовалось, – имя владельца пенала!
Он покинул покорную плоть звездозаконника и, качнувшись, сел на пол.
– Ты опять что-то сотворил со мной, о сын греха! – напустился на него пришедший в чувство Сабит ибн Хатем. – Мало того, что ты покидаешь меня три ночи подряд, а это наилучшие из ночей, созданных для наблюдения звезд, так ты еще и играешь надо мной свои скверные шутки! Клянусь небом, обладателем путей звездных, я покину эту башню и поищу себе другое место и другого помощника!
– Кто такой Абд-ас-Самат? – вялым голосом спросил Хайсагур.
– Пусть звезды покарают меня, если я когда-либо слышал это имя! – завопил Сабит ибн Хатем, возмущенный затеями гуля превыше всякой меры. – Ты приносишь мне сюда покойников, и требуешь у меня для них противоядий, и вливаешь мне в брюхо крепкое хорасанское вино в наилучшую для научных занятий ночь! И после этого ты утверждаешь, будто маги обучили меня каким-то штукам, и суешь мне под нос талисман Гураба Ятрибского, и ждешь, будто я сумею с ним управиться!
Хайсагур поднял на звездозаконника глаза.
– Вот он лежит перед тобой, этот владелец талисмана, – проворчал он. – А ты можешь его спасти, но отказываешься. Ведь маги знают способы, как замедлить в человеке течение жизненных сил, так что он делается наподобие мертвеца, и это дает лечащему время…
– Да не бросит солнце на тебя благословения! – перебил его Сабит ибн Хатем. – С чего ты взял, что этот человек – Гураб Ятрибский? Он так же похож на Гураба Ятрибского, как бесноватый гуль – на почтенного мудреца! Гураб Ятрибский, да будет тебе ведомо, отмечен печатью такого разума, что его речения и поступки понятны лишь избранным! Он бы не стал иметь дела с ядами, не позаботившись о противоядиях! Да и вообще он бы не стал связываться с ядами, ибо в его власти более сильные средства!
Хайсагур, у которого от изнеможения глаза уже сами закрывались, понял свою ошибку.
– Ты прав, о шейх, – покорно согласился он. – Я ошибся, этого несчастного зовут Гариб, а ты говорил о Гурабе. А как талисман, принадлежавший Гурабу Ятрибскому, попал к Абд-ас-Самаду?
– Абд-ас-Самад оказался в затруднительных обстоятельствах, и Гураб Ятрибский дал ему этот пенал на время, пообещав вернуться за ним, и это было в Багдаде, когда аль-Бариди захватил там власть, так что повелитель правоверных бежал от него в Мосул, – отвечал Сабит ибн Хатем, приняв как должное, что гуль знает о передаче пенала из рук Гураба Ятртбского в руки Абд-ас-Самада. – Предвидя бедствия, многие умные люди покинули тогда Багдад… Погоди, о чем это ты заставил меня толковать?
– А куда направился Абд-ас-Самад? – спросил Хайсагур. – В Дамаск, в Эдессу, в Харран Мессопотамский, в аль-Антакию? Или еще дальше – в Нишапур?
– Нет, так далеко он не стал забираться, хотя это и имело смысл, – звездозаконник задумался. – Ты прав, он сперва повез свое семейство в Дамаск. А потом собирался еще куда-то… О зловредный гуль, зачем тебе все это?
– Сперва помоги этому несчастному – а потом я объясню тебе, зачем мне все это, – отрубил Хайсагур.
Старый звездозаконник склонился над лежащим без признаков жизни Гарибом.
– А если я помогу ему – ты унесешь его отсюда? – спросил он. – При моих научных занятиях вовсе ни к чему, чтобы рядом стонал умирающий!
– Насколько я тебя знаю, ты до такой степени погружаешься в ученые занятия, что не услышишь ишачьего рева, – возразил Хайсагур.
– Ишачьего рева я действительно не услышу, – согласился Сабит ибн Хатем, причем в его старческом голосе была немалая гордость. – Ну так для чего же тебе потребовались Абд-ас-Самад и его семейство?
– Сперва помоги отравленному, о шейх, – и Хайсагур, уже зная, что любопытство звездозаконника стало залогом спасения Гариба, задрал на том халат и стянул с его зада шаровары.
Сабит ибн Хатем, обладатель спины, подобной колесу, и без того мог, сидя, коснуться носом раны, нанесенной гулем. Но он склонился еще больше, а Хайсагур поднес к пораженному месту один из светильников.
– Горе тебе, ты пытался употребить его на ужин?! – возмутился мудрец.
– Я выгрыз края раны, которые почернели от яда, – объяснил гуль.
– Правильно сделал… Этот яд – из тех, что сворачивают кровь. И его попало в жилы не так уж много, просто у отравленного болезнь сердца, и только из-за нее он лишился чувств, – проворчал Сабит ибн Хатем. – Впрочем, это лишь мои домыслы, больше я ничего не скажу, потому что больше и не знаю. Если мы дадим ему средство для разжижения крови, то она понесет яд по всем жилам. Так что главное для него теперь – лежать, не двигаясь…
– Ты можешь сделать так, чтобы он подольше не просыпался? – осведомился Хайсагур.
– Обыкновенный бандж, о несчастный! – воскликнул звездозаконник. – Вон там, у стены, на ковре, под разноцветной подушкой, в шкатулке черного дерева! И перестань требовать от меня магических штук там, где в них нет никакой нужды!
Хайсагур открыл шкатулку и убедился, что это – как раз тот из пяти сортов банджа, что вызывает мирный и глубокий сон.
Они развели бандж в вине, и гуль стал осторожно, чтобы отравленный не захлебнулся, лить эту жидкость в рот Гарибу. Шея Гариба вздрогнула – он, сам не осознавая, что творит, совершил глоток и другой.
Сабит ибн Хатем в это время приготовил, ворча и перечисляя все грехи племени гулей, повязку на рану – но очищать ее пришлось уже Хайсагуру, ибо звездозаконник не вовремя вспомнил, что возня с ранами не входит в условия его ремесла.
А потом гуль рассказал Сабиту ибн Хатему, какие сокровища обнаружил в долине, показал подушки, набитые кусочками беличьей шерсти и пузырьками с ядом, и спросил, может ли случиться такое, что шейх Абд-ас-Самад и загадочный шейх, обитавший в мнимом раю, – одно и то же лицо?
Звездозаконник задумался.
– Я уже давно не участвовал в собраниях мудрецов и магов, – признался он. – Ты сам видишь, что мне попросту не до них. И не так уж много мне осталось жить, чтобы тратить драгоценные ночи на пререкания…
Тут он вспомнил, как по милости Хайсагура и Джейран упустил время для наблюдений, так что гулю стоило немалого труда вернуть его к теме их беседы. И оказалось, что Сабит ибн Хатем не знает, мог шейх Абд-ас-Самад на старости лет заняться составлением ядов, или же всемогущие звезды не позволили ему такого безумства.
В конце концов Хайсагур под бормотание звездозаконника заснул.
А когда он проснулся, то его ноги и спина были накрыты краем тонкого ковра без ворса, из тех ковров, что так хорошо делают бедуины, перед лицом стояли миска с сухим козьим сыром, накрытым двумя лепешками, а также чашка с водой, куда Сабит ибн Хатем, по примеру древних эллинских мудрецов, добавлял немного вина.
Хайсагур улыбнулся, не стесняясь открыть свои острые клыки.
Очевидно, то, что связывало их со звездозаконником, было сильнее того, что их разделяло.
– Я написал письмо, которое ты отнесешь в Багдад, в большую больницу у Сирийских ворот, – сказал Сабит ибн Хатем. – Ты поищешь там Сабита ибн Синана, а если не найдешь, то ступай в другую больницу, на холме возле Тигра, где раньше стоял дворец Харуна ар-Рашида, если только ее уже построили. Придешь туда ночью, чтобы правоверные не ужасались твоей скверной роже! И проживешь там, пока невольники моего племянника не узнают для тебя все о шейхе Абд-ас-Самаде ибн Абд-аль-Каддусе ас-Самуди, запомнил? Погоди, не спеши! Я не дам тебе письма, пока ты не заберешь отсюда этого несчастного! Донеси его до ближайшего колодца! Я полагаю, он еще совершит в жизни немало грехов.
Вот как случилось, что гуль Хайсагур, побывав в Багдаде, оттуда отправившись по следу уехавшего шейха в аль-Антакию, оказался в конце концов в своем любимом городе – Эдессе, которую дети арабов называют ар-Руха.
И здесь его ожидало немало удивительного…
* * *
– Не думал я, что еще когда-нибудь увижу тебя в Хире, о доченька, – сказал Кабур. – Подожди, я прикажу позвать ад-Дамига, вот уж кто будет рад увидеть тебя! До нас доходили слухи о твоих успехах.
– Я буду рада поклониться ад-Дамигу, о дядюшка! – искренне радуясь встрече, отвечала Шакунта. – Он дал мне больше, чем дали при рождении родители! От них я получила красоту, из-за которой меня преследовали бедствия, а он вложил мне в руки куттары, чтобы я могла обороняться от бедствий.
– Только ли учителем он был для тебя, о доченька? – прозорливо спросил старый купец.
– А разве все остальное было запретно? – лукаво удивилась Шакунта.
Кабур, которого за малый рост и черную кожу арабы прозвали аль-Сувайд, совершенно не изменился за минувшие годы. Уже ко дню первой встречи с Шакунтой он насчитывал не менее шестидесяти весен, а с того благословенного дня прошло почти восемнадцать лет. Но он все еще разъезжал с караванами, торгуя не только дорогим оружием, которое по случаю войны с франками было в особенной цене, но и благовониями, которые его люди закупали на Островах пряностей, и драгоценными камнями с Серендиба, и многим иным.
Собственно, он и явился невольной причиной того, что Шакунта отвыкла от обычной стряпни арабов, так что первые ее опыты после долгого перерыва на этом поприще оказались плачевны. Арабы едят мясо, и оно для них – признак благоденствия, и чем богаче пир – тем больше на нем мясных блюд, и даже породистые кони получают его – правда, сваренным вместе с ячменем или рисом. А индийцы поразили Шакунту тем, что употребляли только растения и злаки с пряностями. Она задала несколько вопросов Кабуру – и выяснила, что индийские жены доживают до преклонных лет, сохраняя статность, свежесть кожи и густые волосы. Вспомнив, на кого делаются похожи арабские жены после тридцати лет, Шакунта решительно отказалась от мяса.
Позднее, старательно изображая стряпуху, она сперва даже не пробовала свои произведения, помня, что много лет назад она готовила точно так же и все ее хвалили. Потом не удержалась, попробовала, ужаснулась – и стала позволять себе несколько кусочков в неделю.
Кабур улыбнулся в ответ и подвинул к гостье блюдо с плодами – сирийскими яблоками, персиками из Омана, султанийскими апельсинами и нарезанным арбузом.
– Наилучшее кушанье – это кушанье, которое сделали женщины, над которым мало трудились и которое ты съел с удовольствием, – произнес он. – Так ведь говорите вы, арабы? Эти плоды разложила женщина, труда они не потребовали, кроме доставки с базара домой, а удовольствие принесут немалое.
Шакунта поблагодарила улыбкой и взяла апельсин.
– Один раз ты оказал мне помощь, о дядюшка, и вот я прихожу к тебе в другой раз, – сказала она. – Знаешь ли, чем окончилось мое дело?
– Я попробую угадать это по твоему лицу, о доченька, – сказал аль-Сувайд. – Очевидно, ты нашла мага, который осведомил тебя о судьбе твоей дочери, и ты отправилась разыскивать ее… и ты ее нашла, но радости это тебе не доставило!
– Она неблагодарна, как… как… – Шакунта не смогла подобрать подходящее слово.
– Как все дети, о доченька, – аль-Сувайд осторожно вынул из ее стиснутого кулака нож, которым она собиралась разрезать апельсин, и сам сделал это. – Вы, женщины, почему-то считаете, что они обязаны быть благодарны, а это не так. И вы страдаете из-за своей ошибки.
Сок спелого плода капнул на мягкую белую рубаху индийского купца. Он поморщился, ибо уважал безупречную белизну одежды, и стряхнул две капельки.
– Получается так, что я не могу выполнить договор! – пожаловалась Шакунта. – И чем же я тогда лучше этого гнусного выпивохи Салах-эд-Дина? Я все ей растолковала, я объяснила ей, что девятнадцать лет своей жизни сражалась за то, чтобы не нарушить верности слову, а она не захотела мне помочь!
– Начертал калам, как судил Аллах, – успокоил аль-Сувайд, протягивая на ладони дольки апельсина. – Если этот договор так много для тебя значит даже теперь, когда ты познала иные радости и иных мужчин…
– А что у меня в жизни есть, кроме этого договора, о дядюшка? – пылко спросила Шакунта. – Мои сыновья выросли без меня, моя дочь не желает меня видеть! А мой внук…
– У тебя есть внук?
– Да, у меня есть внук, мне родила его дочь, и родила от царевича Мервана… – тут Шакунта задумалась.
– Стало быть, он имеет какое-то право на престол?
– Клянусь Аллахом! Ведь именно об этом она мне и толковала! – воскликнула Шакунта и рассмеялась смехом человека, который наконец-то и с большим трудом уразумел для себя нечто важное. – Аль-Асвад поклялся, что мой внук станет наследником престола! Вот теперь все они – у меня в руках!
– Ты хочешь похитить ребенка? – не одобряя, но и не порицая такого решения, спросил купец. – Ведь если он необходим аль-Асваду, чтобы сдержать клятву, то выкуп за него будет огромен.
– Выкупом за него станет моя дочь! Она утверждает, что выйдет замуж за аль-Асвада! Ну так пусть он даст ей развод, и вернет ее мне, чтобы я отвезла ее к Салах-эд-Дину! В договоре, кажется, ничего не было сказано о том, что я должна привести свою дочь невинной…
– Действительно ли этот Салах-эд-Дин такой безнадежный пьяница, как ты его описала?
– Пьяница, гуляка и любитель хорошеньких невольниц, о дядюшка.
– Но какая разумная мать отдаст свою дочь такому человеку?
– А я и не собираюсь отдавать, – усмехнулась Шакунта. – Я только привезу ее и введу в его жилище. А потом уж пусть сражается с ней, как знает! Я полагаю, что она сумеет за себя постоять.
– Так что все дело – в похищении ребенка? – уточнил аль-Сувайд. – Ну, хорошо, у меня найдутся деньги, чтобы ссудить тебе, о доченька, и ты сможешь подкупить его нянек. Но ведь ты ко мне пришла вовсе не за деньгами – иначе бы ты сразу завела о них речь.
– Когда я шла к тебе, я думала и о деньгах, – призналась она. – Но для меня важнее другое. Я хочу кое-что узнать.
– Спрашивай, о доченька.
Шакунта разжевала дольку апельсина.
– Видишь ли, о дядюшка, ребенка во дворце нет. Он уже похищен. И мне нужно отыскать его похитителей раньше, чем это сделают люди аль-Асвада.
– Давно ли это произошло? И каковы были обстоятельства? – подумав, спросил старый купец. – Мне важно знать все это, о доченька, ибо я не могу вкладывать деньги в дело ненадежное.
– Как же ты вкладывал деньги в мое воспитание? – наивно спросила Шакунта.
Аль-Сувайд пожал плечами, развел руками – и стало понятно, что за доставку ко двору индийского владыки будущего Ястреба о двух клювах он получил-таки кое-какие жизненные блага.
Сообразив это, Шакунта задумалась.
– Говори всю правду, о доченька, – подождав немного, попросил купец. – Даже если я не смогу вложить деньги во всю эту историю с ребенком, то все же сделаю тебе небольшой подарок.
– А правда такова… Моя дочь воспитывалась во дворце франкского эмира.
– Ради Аллаха, не называй эти каменные сараи дворцами! – попросил купец. – В Афранджи холодные зимы, но иногда мне казалось, что под открытым небом теплее, чем в этих ужасающих дворцах. Потом я понял, в чем дело. Франки устраивают в огромных помещениях очаги величиной с эту вот комнату, и топят их целыми бревнами, и возникает такая тяга воздуха, что выдержать ее совершенно невозможно. Он прорывается снаружи во все щели, и нет тебе от него спасения кроме звериных шкур, из которых у тебя торчит только нос, о доченька!
– Неужели и Шеджерет-ад-Дурр жила в таких условиях? – Абриза всплеснула руками. – Воистину, вот где истоки дурного нрава! Нельзя быть добрым и сговорчивым, когда испытываешь постоянное раздражение. Но слушай дальше, о дядюшка. Вместе со своей родней она приехала в земли арабов, ведь франки возят за собой на войну все свое семейство, включая грудных детей и дряхлых старцев! Здесь она случайно встретилась с Ади аль-Асвадом и убежала к нему, а он не придумал ничего лучше, как отослать ее к отцу в Хиру ради ее безопасности. И в Хире царевич Мерван хитростью и силой овладел ею. Бедная девочка убежала обратно к аль-Асваду, он отправил ее в город… в некий город, где она родила…
Тут Шакунта прервала свою взволнованную речь.
Она вдруг поняла, что вовсе незачем знать хитрому купцу аль-Сувайду о ее похождениях с фальшивым рассказчиком историй, который был заодно и владельцем хаммама, а также с его учеником, который тоже оказался не тем, за кого себя выдавал.
– Бедная девочка, – кивая небольшой головой в совсем крошечном белом тюрбане, подтвердил тот.
– Аль-Асвад тем временем поднял мятеж, чтобы посадить моего внука на трон, а Шеджерет-ад-Дурр похитили вместе с мальчиком.
– Чтобы повести игру с аль-Асвадом? – осведомился купец.
– Вот этого я и не могу понять! Как рассказала дочка, ее просто понуждали стать распутной девкой и, получается, похитили из-за ее красоты. Ребенок же был средством принудить ее, но она, хвала Аллаху, заупрямилась, а тем временем аль-Асвад напал на место, где ее содержали, и мне удалось освободить Шеджерет-ад-Дурр.
– Он напал, а тебе удалось освободить, о Шакунта? – переспросил Кабур.
– Начертал калам, как судил Аллах, – объяснила она, и других слов не потребовалось. – Но ребенок остался у тех похитителей.
– Как ты полагаешь, они узнали, чей это ребенок и каковы его обстоятельства?
– Боюсь, что они узнали это.
– Значит, они могут прислать к аль-Асваду посредника, чтобы условиться о выкупе.
– Когда я много лет назад жила в Хире, то завела знакомства среди женщин, живущих во дворце, которые могут входить и выходить, о Кабур, и теперь я нашла кое-кого из них, и оказалось, что женщины не слышали ничего о ребенке и выкупе. Очевидно, посредника еще не присылали.
– Теперь, когда аль-Асвад взошел на престол, он может отдать похитителям драгоценных камней и сокровищ по весу ребенка… – задумчиво произнес аль-Сувайд. – Что же они медлят?
– Вот и я не могу понять, что они медлят. Мне нужна твоя помощь, о дядюшка. Если ты желаешь мне добра, дай своих невольников, чтобы я разослала их по окрестным караван-сараям. Эти похитители – где-то поблизости. Когда я, освободив Шеджерет-ад-Дурр, снова потеряла ее, то пошла по ее следу, и оказалось, что она встретилась с мятежным войском, которое возглавлял эмир аль-Асвада, Джудар ибн Маджид, и вместе с ним понеслась в Хиру выручать Ади из беды. Я поехала следом, торопясь, но в меру, и всюду осведомлялась еще и о людях, у которых отбила свою дочь. Понимаешь ли, я, чтобы отнять ее, остановила целый караван! И вдруг этот караван вместе с ребенком куда-то подевался, как будто его унесли мариды и ифриты! Так вот, я расспрашивала владельцев ханов и караван-сараев – и оказалось, что войско Джубейра ибн Умейра, которое захватило Ади и прошло по дороге в Хиру за несколько дней до Джудара ибн Маджида, имело в своем составе некий приблудный караван. И на самых подступах к Хире он пропал! Я же не стала задерживаться в пути ради розысков ребенка, потому что хотела как можно скорее увидеть дочь!
– Боюсь, что игра будет куда серьезнее, чем ты полагаешь, о доченька. Ибо в нее могла вмешаться женщина, которую в городе называют не иначе, как пятнистой змеей. Это – законная жена царя, Хайят-ан-Нуфус, и мать его законного наследника, царевича Мервана. Когда войско аль-Асвада ворвалось в Хиру, из дворца пропали и пятнистая змея, и ее змееныш, и даже сам царь. Народу еще не сказали об этом. Я знаю, что аль-Асвад разослал по всем дорогам, ведущим в Хиру, разъезды, но до сих пор не было гонца с хорошей вестью.
– Ну и пусть бы пропали на вечные времена! – сказала Шакунта.
– А ты подумай, о дитя, что сперва был мятежником аль-Асвад, теперь же мятежниками стали они. Хайят-ан-Нуфус на все пойдет, чтобы трон Хиры получил змееныш. Мне не нравится, что она увезла с собой ребенка. Ребенок Шеджерет-ад-Дурр в ее руках – опасное оружие.
– Как он мог к ней попасть?
– Этого я не скажу, потому что не знаю. Но посуди сама, о доченька, – кому охота возиться с чужим младенцем? Люди из того каравана, у которых на руках он остался, могли сообразить, чей он сын, и сказали себе так: «Горе нам, этого мальчика будут искать, и найдут, и отнимут у нас, и мы пострадаем через него. Не лучше ли самим предложить вернуть его за разумный выкуп?» У них было в таком случае два покупателя – аль-Асвад с твоей дочерью или Хайят-ан-Нуфус. И им следовало очень торопиться. Раз ребенка до сих пор не принесли во дворец…
Кабур замолчал.
– Мне нужен этот ребенок! – сказала Абриза. – Он нужен мне, о дядюшка, мне! И я его отыщу. Потом, когда нужда в нем пройдет, я, разумеется, верну его Шеджерет-ад-Дурр.
– Хайят-ан-Нуфус – опасная противница, – предупредил аль-Сувайд. – Если ты – Ястреб о двух клювах, то она – змея о двух жалах.
– Ястреб хватает змею в когти, поднимается в небо и швыряет ее оземь!
– Она такая же бабка этого мальчика, как и ты, о дитя… – горестно произнес купец. – И это – тот невозможный случай, когда ястреб и змея породнились…
– Раз так – то ее игра становится совершенно непредсказуемой, ибо на ее шахматной доске – два будущих царя, и в один из дней она непременно пожертвует кем-то, чтобы второй занял престол и дал ей возможность наслаждаться властью. Но кем – сыном или внуком?
– Я рад, что ты правильно оценила обстоятельства, – сказал аль-Сувайд.
Дверная занавеска приподнялась.
Вошел человек, по виду которого никто бы не сказал, где его родина и кто его родители. Был он темнокож, безбород, скуласт, раскос, с подобным перекошенной звезде шрамом, стянувшим левую щеку, с чрезмерно длинными руками, словом, не из красавцев.
– О ад-Дамиг! – воскликнула Шакунта, вскочила и бросилась ему на шею.
* * *
Хайсагур рассудил здраво – престарелый ученый, а Абд-ас-Самаду ас-Самуди, по его соображениям, было уже очень много лет, путешествуя в окружении учеников, как удалось выяснить в Багдаде, должен искать пристанища среди себе подобных. А именно – среди шейхов, которые учат в мечетях или в школах, построенных при мечетях.
Он отыскал в Эдессе мечеть, вокруг которой сама собой вырастала понемногу завия – нечто вроде селения, где были помещения для суфийских шейхов-аскетов, их семей и учеников, кладбище, пополнявшееся за счет этих шейхов, а также странноприимные дома для паломников, посещающих кладбище и поклоняющихся гробницам местных святых – все тех же суровых шейхов.
Входить в мечеть и расспрашивать знатоков Корана о приезжем ученом он не решился – один Аллах ведал, каковы были убеждения Абд-ас-Самада, и если он оказался бы среди противников, то его бы изгнали и предали забвению.
Поразмыслив, Хайсагур отправился на кладбище, где едва ль не у каждой гробницы сидели старцы, далеко зашедшие в годах, в серых и коричневатых одеждах из грубых шерстяных тканей, в головных повязках поверх маленьких ермолок, и, судя по лицам, непременно соблюдавшие дополнительные посты, ибо это был наилучший способ проявить бескорыстную любовь к Аллаху.
Иные из них были погружены в размышления, а иные поучали посетителей кладбища, но не толкуя предания из жизни пророка, а рассказывая некие истории с туманным смыслом.
То, что эти люди сидели не в мечети, где велись споры, а снаружи, внушало надежду, что их не слишком волнуют тонкости толкований Корана, и даже более того – они смотрят свысока на мудрствования вокруг слов пророка, полагая, что достаточно строжайшим образом соблюдать то, что сказано ясно, а Аллах лучше знает!
Хайсагур прошел вдоль приземистых, выложенных из неровного кирпича, лишенных всяческих излишеств гробниц в поисках наиболее подслеповатого шейха, ибо он до сих пор не привел в человеческий вид свое лицо и, как ни прилаживал фальшивую бороду с усами, а возле глаз виднелась его собственная шерсть.
И он нашел такого на самом краю кладбища.
Шейх сидел у арки входа, бывшей рослому гулю примерно по висок, на голой земле перед молитвенным ковриком, на котором лежали исписанные листы, брал их поочередно и подносил к самому носу.
– Во имя Аллаха милостивого, милосердного! – негромко сказал, подходя, Хайсагур и поклонился с достоинством.
– Из каких ты людей? – спросил шейх. – Тебе рассказать об усыпальнице и о том, кто в ней лежит? Передать его притчи? Или ты из тех, кто странствует в поисках истины, и уже продвинулся на этом пути?
– О шейх, я ищу человека, который приехал сюда, спасаясь от преследователей! – быстро отвечал Хайсагур, боясь, что его сейчас усадят возле гробницы и принудят к совместным поискам истины. – С ним были престарелая жена, невольница и несколько учеников. Он переезжал из города в город, и добрые люди сказали мне, что несколько лет назад он приехад в Эдессу… в ар-Руху.
– Принадлежал ли он к суфиям или их последователям? – строго осведомился старик.
– Я не знаю этого, – честно признался Хайсагур. – И я полагаю, что он уделял исламу меньше времени, чем полагалось бы в его почтенные годы. Но я должен найти его и известить, что его бедствия окончились, и Аллах сжалился над ним, изменил его положение и облегчил его заботы! Я непременно должен совершить это доброе дело, и я надеюсь, что Аллах, да славится Его имя, даст мне такую возможность!
Возведя к небу глаза при этом восхвалении Аллаха, гуль одновременно выронил динар, который заранее достал из кошелька и держал зажатым в кулаке, под длинным рукавом. Динар с глухим стуком упал на молитвенный коврик, как раз в арку вытканного на нем михраба.
– Как прозвище этого почтенного человека? – уже куда мягче спросил отшельник.
– Его прозвище – ас-Самуди, о друг Аллаха, а имя – Абд-ас-Самад ибн Абд-аль-Каддус, – с удивлением замечая, что динар остается нетронутым, отвечал Хайсагур. – И если ты поможешь мне отыскать его, то я пожертвую десять динаров на ту мечеть, которую ты мне укажешь, или на любое доброе дело, по твоему усмотрению.
– Возьми свой динар, о человек, я не могу помочь тебе, ибо тот, кого ты ищешь, умер, и его жена умерла вслед за ним, а невольница и ученики ушли своей дорогой.
– Велик Аллах! – воскликнул оборотень. – Нет силы и власти, кроме как у Аллаха! Может быть, ты укажешь мне его могилу? Я бы охотно посетил ее.
– Я укажу тебе его могилу! – почему-то на это предложение отшельник откликнулся куда охотнее, чем на прочие просьбы. Он встал, оставив динар лежать на коврике, а Хайсагур тоже не стал ради него нагибаться, чтобы не потревожить бороду.
Гуль решил, что у этого человека в голове – свой список богоугодных дел, в котором указывание заброшенных могил стоит на видном месте, а беседы со странствующими гулями и оборотнями вовсе не указаны. Впрочем, суфии в большинстве своем были людьми с причудами и странностями.
– Если бы мне удалось найти его близких, я бы позаботился о них, – сказал он, неторопливо шагая за отшельником. – Неужели не нашлось лекарства от его болезни? Ведь он был еще вовсе не стар! Я полагаю, что ему было не более семидесяти лет. И он мог бы прожить еще долго, славя Аллаха и совершая добрые дела!
Хайсагур назвал эту цифру с умыслом – отшельнику, по его разумению, было около восьмидесяти. На самом же деле он был убежден, что Абд-ас-Самад куда старше.
– Да, он мог бы прожить еще долго, о друг Аллаха! – с внезапной пылкостью отвечал отшельник. – Если бы не связался с этим несчастным, с этим бесноватым, с этим искателем скрытых имамов!
– О ком ты говоришь, о шейх? – почуяв добычу, быстро спросил Хайсагур.
– Я говорю о цирюльнике по имени Абд-Аллах, коего он вовсе не заслуживает, и по прозвищу Молчальник, которого он заслуживает равным образом!
– А что общего у почтенного шейха с бесноватым искателем скрытых имамов? – искренне удивился гуль. – И почему это цирюльники занимаются у вас такими делами? Неужели некому наставить их на ум и запретить им нелепые мудрствования?
– Вот, вот, те же слова говорят все, кто слышит про этих извратителей Писания! – закивав головой и потрясая руками, воскликнул шейх. – Очевидно, близятся последние времена, раз дровосеки и водоносы принялись рассуждать о том, что нужно вернуть верховную власть потомкам пророка! А этот шиит Абд-Аллах – один из самых зловредных, ибо он часами может говорить о том, что скоро явится на землю скрытый имам из потомства Исмаила, который пропал из мира при халифе аль-Мутадиде! И он сбивает с толку всех, кто его слушает, этот скверный шиит, да не пошлет ему Аллах спасения!
– Но какой же вред мог причинить этот глупец почтенному ас-Самуди?
– Никто не отправил ас-Самуди на это кладбище, кроме Абд-Аллаха Молчальника!
– Но каким же образом, о шейх?
– Ас-Самуди заболел, и врач велел ему сделать кровопускание, и он не нашел ничего лучше, как призвать этого врага Аллаха. Кровопускание было сделано, а через несколько часов ас-Самуди умер, да сжалится над ним Аллах…
Хайсагур задумался.
– Такие случаи бывали, о шейх, – сказал он. – Если больному плохо наложена повязка, он может истечь кровью.
– Вот уж что было сделано на совесть, так это повязка! – возразил старец. – Она была плотная и тугая. Ни капли крови не просочилось из-под нее. Я не удивлюсь, если ас-Самуди и в могилу последовал с этой повязкой. Оно было бы и разумно…
– А зачем правоверному иметь с собой в могиле такую вещь? – всякий раз, беседуя с людьми, излишествующими в своей вере, Хайсагур поражался причудливому ходу их рассуждений.
– А затем, чтобы показать ее Аллаху, затем, чтобы в день Суда она свидетельствовала против Молчальника, – объяснил шейх. – И против всех шиитов, извращающих ислам, разумеется! Они считают, что после Мухаммада были и будут другие посредники между сынами Адама и Аллахом! Сейчас я докажу тебе, почему это невозможно и почему их скрытый имам – лживая выдумка…
Возражать гуль не стал. И за этими пылкими доказательствами они не заметили, как пришли к могиле.
– Хотя правоверным запрещено молиться в присутствии мертвого тела, но ты мог бы сейчас обратиться к Аллаху, – сказал старец. – Если ас-Самуди был тебе близок и дорог…
– Я не знал его вовсе, – отвечал Хайсагур, ужасаясь при мысли, что ему придется сейчас опускаться, как положено, на землю, и прикасаться к ней пальцами ног, коленями, ладонями рук, носом и лбом, соблюдая установления ислама. При этом он рисковал опуститься с бородой, но подняться после молитвы уже без нее.
– А я рассказал ему кое-что из того, что передали мне наставники, и ему понравилось… – в голосе старца гуль уловил страстное желание вызвать у собеседника любопытство к причудливым притчам суфиев. Но Хайсагур был не из тех, в ком приходится будить любопытство.
Тяга к новому и неожиданному была в нем поистине всеобъемлюща и неистребима. Никогда еще женщина не волновала его с такой силой, как волновала загадка. Возможно, это было еще и потому, что Хайсагур, наполовину человек и наполовину гуль, сторонился дочерей Адама, боясь принести им непоправимое зло.
– Какие же истории ты рассказал ему, о шейх? – спросил он.
Шейх, не отвечая, побрел назад к гробнице, как если бы он был твердо уверен, что Хайсагур последует за ним.
Там он сел в тень, оберегая от солнечных лучей свои слабые глаза, предложил сесть Хайсагуру, и тогда уж заговорил.
– Однажды великий Хизр, учитель пророка Мусы, произнес такое предостережение людям: наступит день, когда вся вода в мире, кроме нарочно запасенной, исчезнет, а на смену ей придет другая вода, от которой люди повредятся рассудком. Лишь один человек понял смысл его слов, собрал большой запас воды и спрятал его в надежном месте. В предсказанный день все реки иссякли, все колодцы высохли, и тот человек, удалившись в свое убежище, стал пить из своих запасов.
Шейх перевел дыхание. Хайсагур всем лицом изобразил внимание – но, увы, большая часть его подвижного лица была скрыта под накладной бородой.
– Когда он увидел из своего убежища, что реки возобновили течение, то спустился к другим сынам Адама – и обнаружил, что они говорят и думают совсем не так, как прежде, они не помнят, что с ними произошло, и тем более не помнят о предостережении, – продолжал старец. – Когда он попытался с ними заговорить, то одни проявили к нему враждебность, другие решили, что он повредился умом, и проявили сострадание, но никто не выказал понимания.
Шейх вздохнул – вздохнул и Хайсагур.
– Поначалу тот человек не притрагивался к новой воде, но прошло немного времени – и он решил пить эту новую воду, потому что его поведение и способ рассуждений, выделявшие его среди прочих, сделали его жизнь невыносимо одинокой. Он выпил новой воды – и стал таким, как все. Тогда он совсем забыл о своем запасе иной воды, а окружавшие его люди сказали – вот безумец, который чудесным образом излечился от своего безумия…
Поведав эту печальную историю, шейх, прищурившись ради остроты зрения, посмотрел в глаза Хайсагуру, ожидая вопросов.
Но тот молчал.
Шейх не вовремя напомнил ему о его одиночестве.
– Не хочешь ли ты знать, откуда известно это предание? – осведомился шейх. – Я вижу, что ты встал на путь размышления и познания…
– Нет, о почтенный шейх, я только хочу понять, почему из многих историй, которые ты наверняка поведал ас-Самуди, именно эту ты выбрал для меня, – отвечал Хайсагур.
– Потому что именно ты должен поразмыслить о ней, – неожиданно сказал шейх. – Ты из тех, кто стоит между сосудом со старой водой и колодцем с новой водой, и ты слишком молод, чтобы предпочесть старую…
Вот тут Хайсагур мог бы поспорить с почтенным суфием – они, скорее всего, были ровесниками, только предел человеческого века и предел века гулей не совпадают, и старость приходит к гулям, когда им исполнится полторы сотни лет и даже более.
Если бы шейх знал, в каких странах побывал Хайсагур, с какими мудрецами беседовал, какие книги и трактаты переводил в Багдаде, то сам бы попросил его рассказать вывезенные из Китая или из Индии истории.
Но гуль не стал смущать старца своими похождениями, ибо страстно пожелал понять, что означала притча.
– А разве это история о молодости и старости? – довольно задиристо спросил он. – Я понял ее как противопоставление мирских забот отрешенности, подобающей мудрому. Не принимающий новой воды отрекается тем самым от непонятных ему суетных безумств, но его ошибка в том, что он не позаботился припасти воды и для собеседников.
– Я – суфий, и от многого отрекся, – отвечал шейх. – Ты не найдешь в моем жилище ничего лишнего. Но знаешь, что сказал другой суфий, несравнимо более великий, чем я, которого звали Фудайль ибн Айят?
– Ради Аллаха, передай мне слова Фудайля ибн Айята! – попросил Хайсагур, уже не раз слышавший об этом славном мудреце из Мекки.
– Как известно, повелитель правоверных Харун ар-Рашид посетил однажды ибн Айята, и спросил его, знает ли он человека, достигшего большей степени отрешенности, чем он сам. И Фудайль ибн Айят ответил: «Твое отречение больше моего. Я могу отречься от обычного мира и его соблазнов, а ты отрекаешься от чего-то более великого – от вечных ценностей».
Хайсагур задумался.
Притча повлекла за собой другую, и мысль первой вывернулась наизнанку во второй, и поучение оказалось подобно монете, на которой с одной стороны выбиты одни слова, а на противоположной – совсем другие, как оно, впрочем, обычно и бывает у суфиев.
Но своего шейх добился – гуль вручил-таки поводья удивления во власть размышления.
Он мог бы, по примеру тех же суфиев, пуститься в рассуждения о том, что они оба подразумевают под словами «отречение», «обычный мир» и «вечные ценности». Беседа обещала быть долгой и увлекательной, тем более, что подслеповатому старцу она была бы крайне приятна.
Но любознательность Хайсагура обычно распространялась на вещи, существовавшие в природе, а не в человеческом воображении. И потому он не стал разбираться в причинах и следствиях своего одиночества, которое, если взглянуть с другой стороны, было похвальным отречением от мирских соблазнов, а если взглянуть еще и с третьей стороны – ничего в том не было похвального, ибо совершалось не по доброй воле. Он попросту вспомнил, зачем пришел в эту завию и на это кладбище.
– О шейх, – сказал он. – Не знаешь ли ты, куда ушли ученики ас-Самуди? Я бы хотел отыскать их и сообщить им то, что предназначалось для их учителя. Возможно, они голодают, и мерзнут ночью, и терпят иные бедствия, от которых я мог бы их избавить.
Слова эти означали, что гуль прекрасно помнит о пенале с обрывками заклинаний, и желает идти дальше по следу этого пенала, чтобы выяснить, как он попал в руки любителя змеиных ядов и кто этот враг Аллаха.
– Это благое намерение, – одобрил старец. – Ведь ас-Самуди жил небогато, и после его смерти мало что осталось жене, а уж ученикам и вовсе ничего не досталось.
Но он не знал, куда разбрелись эти люди. Никто из них не приходил к нему и не прощался с ним перед дальней дорогой.
Расставшись с шейхом, Хайсагур вернулся в хан, где обычно останавливался, и для удобства размышлений прежде всего разулся.
Он узнал немного – ас-Самуди умер после кровопускания, сделанного цирюльником Абд-Аллахом по прозвищу Молчальник. И можно было понять, что ас-Самуди и раньше приглашал к себе именно этого цирюльника, яростного шиита, что не нравилось суфийскому шейху, принадлежавшему к суннитам.
А сейчас Хайсагур услышал это имя от вдовы цирюльника, который обычно брил его. Он, Абд-Аллах Молчальник, взял к себе сироту Хусейна, чтобы обучить его ремеслу и дать ему средства к существованию. Это говорило в пользу бесноватого искателя скрытых имамов.
Мальчику было около пятнадцати лет, а в этом возрасте правоверный уже может иметь жену, а не только ремесло.
И еще в этом возрасте он уже присутствует при разговорах старших как собеседник, и задает вопросы, и получает ответы, но еще не обременен подозрительностью, – так что именно Хусейн мог бы рассказать о наследстве ас-Самуди.
Хайсагур со вздохом принялся натягивать сапоги…
Улицу Бейн-аль-Касрейн он нашел довольно быстро, и верную примету – выходящие на улицу два окна и самое большое дверное кольцо, какое только можно представить, равным образом.
Но поблизости от дома он обнаружил франков – не из мужей знания, к которым он всегда хорошо относился, а обычных вооруженных франков, мужчину лет тридцати, молодого человека, не достигшего и двадцати, а также двух подростков. Все они держали в поводу лошадей, а подростки еще и нубийского мула, пегого, со спиной высокой, точно возведенный купол, со стеганым седлом, стременами из индийской стали и бархатной попоной – животное, предназначенное для женщин из богатых домов.
Мужчина и молодой человек негромко переговаривались, поглядывая на дом Абд-Аллаха Молчальника, и Хайсагур понял, что они ждут свою госпожу, которая вошла в этот дом уже довольно давно.
Подростки же перешептывались, и по их веселым физиономиям было видно, что говорят они о чем-то непотребном. Поскольку и эти постоянно косились на двери цирюльника, Хайсагур, обладатель остркйшего слуха, издали прислушался и к ним.
– А потом? – допытывался один, с виду – лет одиннадцати.
– А потом Ангерран проснулся и увидел, что она не ушла, а спит с ним рядом, укрывшись с головой покрывалом! – отвечал второй, не менее тринадцати или даже четырнадцати лет.
– И что же он?
– А что бы сделал ты? Он обрадовался, что она не ушла, забрался к ней под покрывало, и – вперед!..
– Но ведь было уже утро! – испугался за неведомого Ангеррана юный собеседник. – Их могли застать! Разве он не подумал?
– Я бы об этом тоже не думал! – с гордостью юного мужчины отвечал старший. – И он взялся за дело, и поскакал, и проскакал еще одну милю в дополнение к тем трем, что проделал ночью – если не врет, разумеется…
– А она? – восхитился этим куртуазным подвигом младший.
– А она отвечала ему, как подобает – если опять же, он не врет… – первый подросток взглянул искоса на беседующих мужчин, и Хайсагур понял, что герой этой истории – один из них.
– А он? – не унимался младший.
– А он проскакал еще одну милю и утомился. И он сказал ей, что лучше бы им расстаться до ночи, потому что сейчас все проснутся, ведь уже рассвело и пора к молитве…
– А она?
– Она? Она снова заснула – и это мне кажется очень странным, Голтье, как и все, что было потом. Понимаешь, Ангерран врет – и это всем ясно. Он клянется, что ночью к нему пришла девица Элинор, с которой он давно сговорился пожениться. А когда он утром увидел ее, то так заорал, будто напали сарацины, и все вбежали туда, и я тоже, то меня вытолкали!
– А потом?
– Потом он рассказывал, что под покрывалом оказалось чудовище с клювом, как у орла, и волосами, как змеи, с клыками и с когтями, покрытое чешуей, а на задних лапах были копыта, и еще раздвоенный хвост, и пасть, как у лягушки, и уши, как у осла!.. – увлеченно рассказывал старший, к великому изумлению Хайсагура.
– Почему же это чудовище не убили и не сожгли? – чуть ли не дрожа, спросил младший.
– Я не знаю, клянусь всеми святыми! Его почему-то завернули в плащи, вынесли и унесли в покои госпожи. Ты же знаешь, она любит всякие странные вещи.
– Разве оно не сопротивлялось?
– В том-то и дело, что не сопротивлялось!
Гуль усмехнулся – один из собеседников безудержно сочинял, а второй радовался этому вранью, как сказке.
Он подошел к дверям и ударил дверным кольцом. Звук был сильный и гулкий. Но никто не вышел, не осведомился о посетителе и не пригласил в дом, хотя обычно для этой надобности у цирюльников даже сидят у входа на скамейках невольники. Хайсагур ударил еще раз – и с тем же успехом.
Старший из мужчин оставил коня своему товарищу и подошел к гулю.
– О человек, там наша госпожа, – сказал он на языке арабов. – Она там давно. Не беспокой.
– Добрый день тебе, о воин, – отвечал на языке франков Хайсагур. – Мне нужен не сам цирюльник Абд-Аллах Молчальник, а его ученик Хусейн или даже их черная рабыня Суада. Меня послала женщина по имени Шамса, мать Хусейна, и твоя госпожа не потерпит ущерба от моего прихода.
Он ударил кольцом в третий раз. Никто не отозвался.
– Давно ли твоя госпожа вошла туда? – спросил Хайсагур.
– Давно, друг мой, мы все уже успели проголодаться, дожидаясь ее! – незнакомец сразу пожаловал гуля в друзья, но тот не удивился – у франков это было общепринятым обращением, и даже король, подавая милостыню нищему, мог назвать его своим другом.
– Что же она не отпустила вас, назначив вам время прихода? – удивился гуль. – Это было бы разумно.
– А когда женщины что-то делают разумно? С ней стряслась беда… – мужчина помолчал и вздохнул. – Она нуждалась в совете мудреца и мага – а как раз вышло, что именно этого мудреца она разыскивала по всем Святым Землям и выяснила, что он сейчас в Эдессе, в доме цирюльника, и понеслась в Эдессу, взяв нас с собой! Тут с ней и стряслась беда… А все потому, что она бродила по всяким лавкам, и покупала сарацинские вещи, и совала нос в колдовские дела! Если бы она не была теткой моего сюзерена, ее заточили бы в монастырь и заставили смирять дух покаянием!
Хайсагур покачал головой и развел руками, как если бы полностью соглашался с собеседником и сочувствовал ему. Затем он взялся за кольцо и ударил в четвертый раз.
– Даже если эта скверная Суада оглохла, то мог услышать Хусейн и послать ее к дверям, – пробормотал он на языке франков, ибо имел способность, начиная речь на каком-то языке, переходить на него полностью. – Похоже, друг мой, что и в этом доме стряслась беда.
– Если мы попытаемся выбить двери, сбегутся сарацины – и у нас будут неприятности, – сразу же сообразил франк. – Ведь нас – четверо, ты – пятый, а их тут – много сотен.
– Незачем выбивать двери, – сказал Хайсагур. – Я умею лазить по стенам, и если ты позволишь, я заберусь на стену с седла твоей лошади и выясню, в чем тут дело.
– По улице ходят люди, – возразил франк.
– Я проделаю это очень быстро, – пообещал Хайсагур.
И он действительно одолел стену за те короткие мгновения, пока одни прохожие миновали дом цирюльника, а другие еще не показались из-за угла.
Абд-Аллах поселился в рабате – так что кривые улицы способствовали затее Хайсагура, да и высокий франкский конь с седлом, подобным царскому престолу, облегчил его задачу. Гуль соскочил во двор и убедился, что там никого нет. Тогда он вошел в проход, ведущий к воротам, и отодвинул засов.
– Входите, друзья мои, – негромко позвал он. – Я был прав – тут случилось что-то странное. Но не пускайте мальчиков – пусть сторожат снаружи.
Он вошел в дом первым и увидел неподалеку от порога тело черной рабыни. Быстро склонившись и прикоснувшись к ее лицу, гуль понял, что женщина мертва.
– О Абд-Аллах, о Молчальник, где ты, ради Аллаха, отзовись! – позвал он на языке арабов. – Мы не причиним тебе вреда!
Если Абд-Аллах и был в этом доме, то он затаился и молчал.
– О Хусейн, о дитя! – позвал Хайсагур во второй раз. – Меня прислала твоя мать! Она зовет тебя! Где ты, о Хусейн?
Но и Хусейн не откликнулся.
Тем временем вошли двое франков.
– Где наша госпожа? – спросил младший.
– Я не вижу никакой госпожи, – Хайсагур обвел взглядом немалое помещение, где цирюльник принимал посетителей, увидел нечто, смутившее его, но не подал виду, и обратился к франкам: – Судя по всему, в этом доме жила лишь одна женщина – и вот она лежит мертвая у входа. Вы можете обойти весь дом, не опасаясь, что нарушите неприкосновенность харима, и поискать свою госпожу. Возможно, она нуждается в помощи.
– Пойдем поищем, – согласился младший. – Хотя если здешние дьяволы унесли ее, я не удивлюсь. Она давно к этому стремилась… Где бы тут могла быть лестница наверх?
Хайсагур показал – и, стоило этим двум уйти, поспешил к столику, на котором громоздились предметы, наводящие на мысли о магии – позеленевшие сосуды, свитки белого исписанного шелка, круги из красного карнеола и тому подобные принадлежности ремесла магов.
За столом, незаметная для человека среднего роста, но отлично видная от входа Хайсагуру, была продолговатая куча то ли подушек, то ли одеял, а на кучу наброшена мантия явно франкского происхождения – с меховой оторочкой. Очень не понравились гулю ее очертания – и он приподнял край мантии, и сразу же уронил его, и застыл в задумчивости.
Под мантией лежала еще одна мертвая женщина – и кончина ее была ужасна.
Очевидно, это была та, кого безуспешно ждали и сейчас разыскивали франки.
Хайсагур отошел от тела к столику.
Он попал сюда, идя по следу шейха ас-Самуди и бронзового пенала. Значит, следовало обнюхать хотя бы пол, ибо нос мог уловить знакомые запахи. Хайсагур опустился на четвереньки, подобно получившему приказ псу, и стал изучать ковер в тех местах, где к столу явно подходили.
И снова он замер – но на сей раз подобно псу, взявшему след.
Он помнил этот запах – запах змеиного яда!
В памяти Хайсагура он хранился особо – и был неразрывно смешан со старческим запахом. Узнать его гулю было несложно.
Владелец пенала был в доме цирюльника совсем недавно – и исчез вместе с ним и с Хусейном.
Хайсагур вскочил на ноги. В этот миг он всей душой жаждал погони.
И тут он увидел в дверях два лица, одно над другим. Голтье и его старший товарищ, забыв о том, что их оставили стеречь лошадей, проскользнули во двор и заглянули в комнату.
Гулю не следовало в таком состоянии поворачиваться к мальчикам – его рот невольно приоткрылся и вылезли клыки, делающие его похожим на барса в человеческой одежде.
Мальчики исчезли – и Хайсагур услышал топот их ног. Они молча перебежали двор и выскочили на улицу Бейн-аль-Касрейн, а там уж завопили, что было сил. Но вопили они, разумеется, на языке франков, и никто из прохожих не понял, что они обнаружили в доме цирюльника страшное чудовище.
Однако двое мужчин, которых Хайсагур отправил в дальние комнаты, могли выйти на крышу и услышать эти вопли. Понимая, что это может случиться в любое мгновение, гуль заторопился. Снова опустившись на четвереньки, он поспешил по ядовитому следу и оказался у стенной ниши, где на полках стояло имущество цирюльника, и закружил по комнате – но так ничего и не понял.
Вдруг ему показалось, что запах яда был не только на полу, но и исходил от полок. Хайсагур встал и убедился, что это так – благоухали несколько пузырьков и небольшая шкатулка. Гуль открыл ее – и увидел странного вида нож, клинок которого, округлый и с тупым острием, был короче рукояти.
Хайсагур озадаченно уставился на нож – и вспомнил, для чего он нужен. Похожие он видел не раз – и они служили цирюльникам для кровопусканий. Гуль склонился над шкатулкой. Лезвие было напоено ядом…
Он вспомнил, что ему толковал у гробницы шейх о странной смерти ас-Самуди, последовавшей после кровопускания. Шейх сказал также, что покойного, возможно, и похоронили в повязке – так что никто не заметил странных краев надреза. Все сходилось – и, очевидно, неизвестный злодей пошел на убийство ради бронзового пенала, попавшего теперь к Хайсагуру.
Но, ради Аллаха, куда же подевались все обитатели этого дома? И кто убил женщину, покрытую франкской мантией, столь жестоким способом?
Времени у Хайсагура было крайне мало – двое франков могли вот-вот появиться в помещении. А источника сведений у него не было – кроме разве что убитых женщин.
Оборотню еще не приходилось вселяться в мертвое тело. И это было для него опасной затеей – он не мог бы выразить, в чем заключалась опасность, но безошибочным чутьем гуля ощущал ее. Смерть для него была сокровенным таинством, нарушать которое было запретно. Но иного пути он для себя сейчас не видел.
Кто-то совершил два убийства – а убивать беззащитных женщин и арабы, и тюрки-сельджуки, и персы, и индийцы, и китайцы, и даже франки – словом, все, с кем только сталкивался в жизни Хайсагур, считали кто – грехом, а кто – постыдным делом.
– О Аллах, милостивый, милосердный! – прошептал гуль. – Я не хочу отнимать добычу у ангелов Мункара и Накира, я только хочу узнать правду, о Аллах, не карай меня за это…
Хайсагур не был тверд в вере, да и мудрено сохранить эту твердость, прочитав столько книг и узнав столько собеседников. Его самого несколько удивило, с какой пылкостью он, гуль, воззвал к Аллаху. Однако это произошло – и Хайсагур, склонившись над черной рабыней, перевернул ее на спину и впился взглядом в мертвые глаза.
