Читать онлайн Из записок сибирского охотника бесплатно
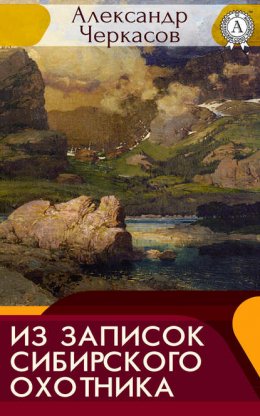
Сломанная сошка
Давно собирался я рассказать о том, что пришлось мне испытать в тайге, но все как-то не мог исполнить своего желания – то служба мешала, то просто руки не доходили. Желание же познакомить читателя с тем, что иногда приходится переносить золотоискателям в Сибири, все-таки взяло верх над всеми препятствиями недосуга, и вот я наконец уселся побеседовать, хотя на душе, что называется, кошки скребут, не потому, что приключилась беда, – нет, беду не воротишь и не исправишь, а скребут потому, что скитания по тайге иногда мало ценятся и еще менее оплачиваются, а нередко эти скитания по сибирским дебрям во всю жизнь впоследствии отзываются каким-нибудь недугом или делают человека уродом, часто в годах цветущей молодости. Многим, конечно, и в голову не придет, что золото, этот всемогущий двигатель и ярко горящий металл, в затейливых брошках и браслетах наших красавиц или причудливых застежках и запонках фатов и шалопаев так тяжело достается и еще тяжелее добывается. Вероятно, многие даже и не знают, что такое тайга, угрюмая сибирская тайга, со всеми онерами отдаленных трущоб необъятной Сибири. Ну и господь с ними! Пусть эти счастливые люди и не знают об этом, а я им тихонько скажу, на ушко, что в Сибири есть такая пословица: «Кто в тайге не бывал, тот богу не маливался».
В 1862 году, в октябре, я был назначен партионным офицером в Амурскую золотоискательную партию, а в 1860 году я только что женился и жил в Алгачииском руднике, в Нерчинском горном округе. Как ни тяжело было расставаться с тихой рудничной жизнью, а делать нечего, надо было частью распродаться и переселиться на Карийские золотые промысла, которые в то время были самым ближайшим пунктом к тому району, где мне приходилось скитаться.
Перебравшись на эти промысла, я оставил семью в очень маленьком домике и, приняв партию, отправился в тайгу на розыски золота, в вершины реки Урюма, выпадающего из отрогов гор, отделяющих систему вод Олекмы, впадающей в Лену, и верховьев Амазара, составляющего приток Амура.
Время я распределил так, что каждый месяц, лишь только появлялась новая лупа, я отправлялся в тайгу и, проездив дней 15–20, возвращался домой. Таким образом я работал до самого последнего зимнего пути и ездил в партию в небольших пошевенках, потому что путь позволял избегать тяжелой, верховой, зимней езды. Последний раз я выехал из тайги уж в начале апреля, так что едва-едва пробрался по горным речкам, покрывшимся полыньями и готовившимися сбросить свое зимнее покрывало, – мою проторенную дорожку, и бурно, бурно покатить свои волны.
Переждав дома весеннюю ростепель, мне пришлось подыскивать вожака, то есть такого человека, который бы знал летний, верховый путь в ту часть тайги, где находилась партия. Дело это оказалось крайне трудным, потому что на Карийских промыслах и в окрестных селениях такого ментора не оказалось, а обещавшиеся орочоны (туземцы тайги) или надули, или не могли выйти за весенним разгальем. Приходилось задуматься не на шутку, потому что мой зимний спутник и сотоварищ скитания по тайге Алексей Костин (ссыльнокаторжный) не знал летнего пути и к тому же, как нарочно, захворал.
Я уже начинал отчаиваться и ругал себя, что согласился быть партионным офицером, в чем была единственной виновницей ничем непоборимая страсть к охоте; как вдруг совершенно неожиданно приехал ко мне мой старый ментор по охоте и закадычный приятель – Дмитрий Кудрявцев, старик лет 60, отставной горный мастеровой и известный по всему округу зверопромышленник.
Увидав его в окне, я выскочил на двор, почти сдернул его с коня, облобызал как родного отца и радостно сказал: «Дмитрий, здравствуй! Куда бог понес? Зачем приехал? Уж не ко мне ли?»
– К тебе, к тебе, барин! Здравствуй, как живешь? – радостно говорил старик.
Напившись вместе чаю, выпив водочки и порядочно закусив, я узнал в беседе, что добрый старик, услышав, что я ищу вожака, приехал ко мне предложить свои услуги, говоря, что урюмскую тайгу он знает как свои пять пальцев, но не бывал только на вершинах Урюма и Амазара; но это ничего – опытность и бывалость доведет хоть и дальше. Переговорив все что нужно, мы порешили на том, что старик Кудрявцев будет моим ментором и в начале мая приедет ко мне, но пока отправится домой, в выселок около деревни Бори, верст сорок за Карой (Карийские промысла), поправится домашностью и приготовится к походу.
Устроив одно, меня грызла другая забота – необходимо было подыскать хорошего нарядчика, который бы знал дело и был надежный человек. И тут судьба помогла мне нанять за хорошую плату унтер-штейгера Федора Маслова, бывшего моего сослуживца по Верхнекарийскому промыслу. Лучшего желать было нельзя, потому что Маслов был человек вполне знающий свое дело и, кроме того, человек грамотный, умный, честный и совершенно трезвый, что большая редкость в промысловом люде. Одна беда заключалась в том, что Маслов никогда не бывал в тайге, не ходил в партиях и, следовательно, был по этой части неопытен и к тому же ужаснейший трус, даже олганьша, как называют в Нерчинском крае. Там это словцо означает такую личность, которая боится всякой и пустяшной внезапности; например, стоит только подоткнуть хоть пальцем сзади и крикнуть, то олганьша уже вне себя от испуга и в такой момент бросает даже все, что держит в руках; так что подверженные этому женщины нередко роняют на пол своих ребят, почему с такими личностями неуместные шутки кончаются иногда весьма плачевно.[1]
Кроме того, каждая олганьша, особенно женщины, в момент испуга выкрикивают по несколько раз какое-либо излюбленное слово, например, «вот-те, вот-те грех», «что ты, что ты, бес» и прочее, а чаще слова эти непечатны. У Маслова была поговорка на этот раз: «фу ты, фу ты, сыч! сыч!» По этому случаю самого Маслова многие школяры звали «сычом», на которого он, бедняга, в этот момент действительно и походил; ибо, испугавшись, как-то особенно вытаращивал глаза и напоминал сыча. Хотя вообще боязливость Маслова и считалась помехой для таежного человека, но делать было нечего, с этим приходилось мириться, да и думалось, что время все перемелет, а обстановка тайги сделает из Маслова храброго человека, но – увы! – вышло не так.
Но вот наступил и май, пришлось и самому приготовляться к таежному путешествию, а у молодой моей жены часто стали появляться «глазы на слезах», как говаривал наш промысловый лекарь Крыживицкий, большой мой приятель и веселый собеседник. День за день проходил, скоро приготовления кончились – все было начеку, как говорится; платье починено, пули налиты, винтовка пристреляна, «харчи» подготовлены, кони выдержаны, – словом, все готово; а вот вечерком, кажется 7 мая, приехал на своем вечном каурке старик Кудрявцев, а за ним и Маслов. Я тогда «жил домом», или, лучше сказать, моя семья, на Нижнекарийском золотом промысле. Весь домик состоял из трех крошечных комнаток и небольшой кухни на дворе. Долго, за полночь просидел я со своими дорогими гостями, перетолковал, кажется, все и порешил так, что через день, совсем управившись, как можно раньше утром выехать в тайгу.
Хотя в начале мая полая вода и высоко еще бушевала в горных речках, но мы эту опасность как бы забывали, – нас тянула в тайгу весенняя охота, ибо в это время еще яро токовали косачи и глухари, свистели рябчики, пролетной дичи было много, а изюбры и козы только что разохотились выходить на увалы и мочажины поесть свежей майской зелени, которая и для лошадей начинала уже служить подножным кормом. Словом, все скорее, скорее манило в тайгу страстного охотника, а короткие ночи, со свистом и гамом пролетной дичи, не давали покоя его душе, наболевшей от зимнего затишья. Одно журчание горных речек уже заставляло забыть душные комнаты и лететь на простор подышать свежим, майским воздухом. Нетерпение наше было так велико, что старик Кудрявцев «истосковался» в тот день, который он без дела должен был провести у меня. «Ну, барин, я думал, что и конца дню-то не будет, а ночь мне уж не уснуть, – точно мурашки по-за коже бродят; так бы скорей и ехал, так бы и летел летом. Вишь, дни-то какие! Солнышко-то словно шубой – так и накрывает; а траву-то, так только не видишь, как она лезет», – говорил старик, собираясь ужинать.
С восходом солнца 9 мая «в вешную Николу», как говорят здесь простолюдины, мы втроем, верхом, ехали уже за промыслом и вступали в пределы тайги. Старик Кудрявцев, с винтовкой за плечами, ехал впереди и был вожаком. Слева, к торокам седла, у него был привязан на цепочке знаменитый его Серко, пес сибирской породы, очень сильная, рослая и свирепая собака. Вторым ехал я, тоже с винтовкой сибирского изделия, но замечательно резкого и далекого боя. Как у меня, так и у старика к винтовкам были привернуты сошки, с которых гораздо вернее стреляется пулей, хотя эти сошки составляют немалое бремя при верховой езде и порядочно увеличивают тяжесть оружия, так что моя зверовая винтовка весила с ними почти 17 фунтов. Последним, сзади, ехал Маслов, но и на нем болтался мой дробовик Ричардсона – на случай и для стреляния уток, рябчиков и других мелких жильцов нашей тайги.
Майское утро дышало особенной прелестью. Свежий, смолистый запах только что распустившейся лиственницы наполнял воздух. Побуревшие в зиму сосны отходили и уже зеленели по-летнему, тоже распуская свое характерное благоухание. Бормотание косачей слышалось со всех сторон и тревожило охотничью душу. Где-то щелкали глухари, но мы к току не заехали, потому что торопились застать вечернюю охоту на увалах, куда в это время, по словам старика, выходило много коз и изюбров, – а это и было идеалом, всем помыслом нашей поездки. Утреннее майское солнце как-то особенно приветливо выходило из-за гор и уже грело по-летнему; правда, оно не освещало причудливых замков, роскошных павильонов, старинных развалин – нет, ничего этого в Сибири не существует; но оно, точно в панораме, освещало превосходные дикие пейзажи, отроги гор с их очаровательными видами и переливами теней. Особенно хорошо выходили скалистые уступы, отдельные сопки (горы) с их причудливо-разбросанной зеленью и тихо стоящие озера, которые, как зеркала, то блестели своей гладкой поверхностью, то еще причудливее и живее отражали отдельные группы гор, зелени, утесов. Ах как хорошо было это майское утро! Как свободно и радостно дышалось ароматным, свежим воздухом; и кто из нас мог не только знать, но и подумать, что такой приятный весенний вечер даст нам другие ощущения, тревожные мысли и тяжелые заботы.
Кудрявцев вел нас без дороги, прямо тайгой, по долинам речек и хребтам, ибо превосходно знал окружающую местность. Нередко мы пробирались такой чащей, что едва пролезали, или забирались на такие хребты гор, что вся окрестность открывалась перед глазами и превосходные картины дали были так хороши, что я, в поэтическом настроении души, набросал на одном перевале, в своей записной книжке, следующие вирши:
- Пред нами даль тайги далекой
- Из глаз терялась далеко:
- В ней нет красавиц с поволокой.
- Иной тут расы молоко.
- Тут орочон в коптелой юрте
- Ведет скитальческий приют!
- Тут иногда изюбры в гурте
- Иную песнь любви поют.
Как ни аляповаты эти строчки, однако ж они доказывают читателю то чарующее настроение, в котором я тогда находился, и не могу не поделиться своим произведением с моими товарищами. «Слушай-ка, Дмитрий, – сказал я Кудрявцеву, – это место, брат, так хорошо, что я сейчас вот сложил песенку», – и тут же прочитал свое стихотворение старику.
– Ладно, – сказал Кудрявцев, – все это верно ты спел, только вот я не возьму в толк, какие такие красавицы – как ты бишь ловко назвал, с наволокой, что ли? А что изюбры вот с Семенова дня действительно поют, в гоньбу, – и так, брат, поют, что инда мороз по коже, словно волоса-то подымаются, таково лестно для нашего брата, промышленника.
Насилу я растолковал Кудрявцеву, что такое красавица с поволокой, и, надо полагать, так удачно растолковал, что старика передернуло, он даже сплюнул и, улыбаясь, как кот, тихо проговорил:
– Фу ты, язви их! Вишь, какие крали бывают.
Я невольно расхохотался, но так замаскировал свой взрыв, что старик не обиделся и не подумал, что я хохотал над ним. Спасибо и Маслову, тот тоже поддержал меня и сказал, что он где-то читал о таких «прелести подобных» созданиях.
Вообще же мы ехали тихо, разговаривая почти шепотом, чтоб не испугать где-либо зверя, что и помогло нам утром же убить жирующую в увале козулю. Но изюбра видели только издали и испугали.
В полдень мы остановились у речки, сварили чаю, закусили, немножко отдохнули и поехали дальше тем же порядком, прямо тайгой и, не предвидя никакой беды, не делали на пути заметок, чтоб в случае надобности можно было выехать обратно той же тропой. Мы надеялись на старика, и нам не приходило в голову засекать, хоть изредка, деревья и примечать местность.
Часов в 5 вечером мы благополучно добрались до излюбленного места Кудрявцева, где он зверовал не один уже раз на своем веку и убивал тут множество козуль и немало изюбров, – это в вершинах речки Топаки, верстах в 50 от Карийских золотых промыслов. Но, отправившись с Нижнекарийского промысла, мы сделали больше и проехали в этот день, по крайней мере, верст 60. Действительно, место, облюбленное стариком, было замечательно как по красоте пейзажа, так по удобству стоянки и зверовой охоты.
Мы остановились на «измыске», который был покрыт лесом, выходил к долине речки Топаки и прилегал к лесистому отрогу целой группы гор. За долиной речки красовались два огромных увала, то есть солнопечных покатостей гор, частью чистых, частью с редколесьем, но сплошь покрытых превосходною майской зеленью, так что издали они показались изумрудными; точно бархатные зеленые ковры, заманчиво покрывали эти чудные покатости гор, на верхних окраинах которых виднелась сплошная масса леса. Вот на эти-то увалы, а равно и в долину речки, на свежую зелень, выходили по утрам и вечерам козы и изюбры. Это-то место и было талисманом нашей денной поездки.
Подъезжая к измыску, Кудрявцев остановился и сказал: «Вот, барин, тут и остановимся, тут отаборимся и заночуем. Вишь, како место! Таких местов, брат, мало по всей здешней тайге. Хоть и рано еще, но первый уповод (денной проезд) делать большой не надо, коням легче будет, да и самим вольготнее ночевать в таком месте; словно душа-то радуется, инда дух захватывает».
– Ладно, – сказал я, – здесь так здесь. Действительно, место замечательное.
Пока я отвечал, старик уже слез с коня и привязывал его к дереву. Это же хотел сделать и я, но, соскакивая со своего Савраски, несколько наподгорь, я пошатнулся назад и ударился висевшей за спиной винтовкой о близ стоящее дерево так сильно, что изломал одну ножку у сошек винтовки и железный наконечник упал на землю. Я, конечно, пожалел в душе о такой пустяшной поломке и только хотел излить свою досаду, как Кудрявцев, заметив изломанную на винтовке сошку, побледнел и как-то таинственно сказал:
– Ну, барин, худая эта примета у нас, промышленников; шибко худая! Не к добру она, вот помяни мое слово – не к добру!
Эта же примета существует и у промышленников Западной Сибири, почему они так и берегут сошки у своих винтовок.
– Полно, ты, дедушка, пророчить! Ну, что за беда, что сошка изломалась. На все у вас приметы какие-то глупые. Вот погоди маленько, всю беду поправлю: возьму нож, обрежу наравне другой конец, и вся недолга, вот и вся штука, только и будет, что сошки станут пониже, – сказал я.
– Ну нет, барин; там хошь верь, хошь не верь мне, старику, а только это примета худая, – настаивал старик и, видимо, запечалился.
Чтоб покончить этот разговор, я нарочно начал что-то спрашивать Маслова и помогал ему отабориваться, потому что он был в этом неопытен.
Так как солнышко было еще высоко, то мы все трое принялись таскать сушняк на дрова и нарочно не тюкали топором, чтоб не производить стука и не «опугать» места, так как время все-таки подходило уже к вечеру и имелась в виду охота на противулежащих увалах. Огонь мы развели тихонько, небольшой и скрыли его за группой больших деревьев. Поправившись табором, я уселся обрезать другую сошку, чтобы выровнять и заострить концы. Кудрявцева, видимо, брало нетерпение, он вскинул на плечо винтовку, подоткнул полы армяка и сказал: «Я пойду на увал, а ты поправляйся скорей да и приходи вон к той лесине, что на отдале-то стоит, внизу, под увалом. Там и сойдемся, покараулим и посмотрим, что делать, коли зверь выйдет; а теперь, брат, весна, он иногда рано выходит на солнце; вот и надо торопиться, чтоб пораньше уйти да не опугать».
– Хорошо, дедушка! Иди с богом, а я вот сейчас поправлюсь и приду, – отвечал я, обрезывая и подгоняя сошку, чтоб вернее надеть железные наконечники.
Кудрявцев ушел и живо скрылся из глаз. Маслов возился около таежных сум, резал мясо в котелок, прилаживал таган, но все это у него как-то не клеилось, выходило неумело, непрактично, почему он затруднялся в самых пустых приемах и со всякой малостью обращался ко мне с вопросами, что отвлекало меня от работы, и я замешкался. Покончив с сошками и приладив их к винтовке, я заметил, что опоздал, потому что солнце уже садилось и освещало последними лучами только одни верхушки гор. Делать было нечего: чтоб не испортить охоты, я решился остаться у табора и помогать Маслову.
Котелок с мясом убитой козули давно уже кипел и возбуждал аппетит. Мы лежали у огонька, тихонько разговаривали и прислушивались – не «стрелит» ли дедушка. Но выстрела не было, и мертвая тишина точно давила окрестность; только в огне потрескивали дрова и шипели сучки, отделяя продолговатые язычки пламени и синеватый дымок. Покуривая трубочку и все еще прислушиваясь ко всякому шороху, я заметил, что лошади, привязанные у деревьев, стали прядать ушами и поглядывать в ту сторону, куда ушел старик; а Серко, тоже привязанный к дереву, поднял голову и тихо замахал хвостом. Время еще было не позднее, заря не догорела, с охоты возвращаться рано, и потому меня удивила чуткость лошадей и скрытая радость собаки. Но оказалось, что животные не ошиблись – маленько погодя Маслов заметил, что по долине плетется Кудрявцев, который то останавливался, нагибался, то снова медленно и неровно шагал, точно его побрасывало во все стороны.
Заметя это, меня бросило в жар и какое-то предчувствие точно подсказывало на ухо – не быть добру! Как ни старался я отделаться от этой мысли, но она не выходила из головы, а сердце как-то щемило, и оно усиленно токало.
Но вот подошел и старик. Тихо поставил он винтовку к дереву и тихо, шатаясь, доплелся до огня и, придерживаясь за мое плечо, сел на разостланный подседельник. Лицо его было и бледно и темно, губы посохли и потрескались, но глаза как-то сухо горели.
– Худо мне, барин; шибко худо! Сам – то горю, то знобит, а сердце – как льдина; да и бьется как голубь, точно выпрыгнуть норовит из-за пазухи. Нет ли горяченького чайку, дай, пожалуйста.
Медный чайник давно уже кипел, я живо заварил чай, налил в деревянную походную чашку и подал старику, но он был уже так слаб, что лег на потник и его начало трясти. Маслов подложил ему под голову мою подушку, накрыл старой шубенкой, а я старался напоить его чаем. Но старика стошнило; он несколько успокоился и немного уснул, но сон был тревожный и с бредом.
Со мной была небольшая аптечка, но я растерялся и не мог сообразить болезни, а потому и не знал, что дать больному.
Разбираясь в аптечке, я нашел хину, слабительное, рвотное – как вдруг старик что-то забормотал, бойко вскочил на ноги и грубо закричал: «Давай спирту!»
Как ни старался я уговорить Кудрявцева, но он не понимал моих слов и требовал спирта. Что было делать с таким пациентом, – я положительно недоумевал. Спирт хоть и был в большой дорожной лаговке, но я боялся дать старику такого снадобья и едва уговорил его лечь. Тогда он пришел в себя и стал объясняться толково. Он жаловался, кроме того, на то, что у него сильно болит голова и что его крепит. Я тотчас дал ему английской соли, а к голове привязал компресс. Надо заметить, что в то время, когда мы возились со стариком, его сердитый Серко бросался на цепочке, грыз ее, лаял и готов был нас растерзать, так что поневоле приходилось оглядываться, но прикрепить его не было возможности, и мы боялись, чтоб он не оторвался. Старик уснул и пропотел. Я уже радовался такому исходу и принялся хозяйничать с помощью Маслова, я отвязал лошадей, спутал и отпустил на траву. Видя, что старик уснул, мы принялись ужинать и, чтоб задобрить сердитого пса, бросили ему косточки, но он не съел ни одной и злобно зарычал.
Не успели мы закусить, как проснулся старик, снова вскочил на ноги и снова стал грозно требовать спирту.
Так как никакие увещевания не помогали, то пришлось воевать, и мы силой положили старика и хотели связать, но он опять пришел в себя и попросил напиться. Затем лег поближе к огню и стал говорить, сначала путаясь и извиняясь в своих поступках, что он узнал из наших слов, а потом начал просить меня о том, чтоб я немедленно ехал на Карийский промысел и послал оттуда лекаря или фельдшера, так как он чувствует, что ему вожаком нашим не быть, а обратно не выехать.
Дело принимало критический характер, и Маслов был бледен как полотно.
Кудрявцев, придя в совершенное сознание, настаивал на своей просьбе.
Было уже за полночь, и тихая, свежая погода предвещала хорошее утро. Мы успокоились и толковали со стариком – что делать?
– Слушай-ка, барин, – упрашивал Кудрявцев, – поезжай, пожалуйста, на Кару, я тебе расскажу, как отсюда выехать, ты поймешь и доедешь, а Маслов заблудится. Он в тайге небывалый, да и разум не тот, пожалуй, не поймет дорогу и, храни бог, сам погинет (погибнет). Он останется со мной, а ты как приедешь, посылай скорее фершала; тебя знают и послушают, а я вот расскажу тебе, как доехать до места.
И старик так отчетливо принялся рассказывать новую дорогу, чтоб ближе выехать прямо на Верхнекарийский промысел, что невольно каждое его слово врезывалось в память. Я успокоил его тем, что, как только начнет светать, я оседлаю коня и отправлюсь, а что ночью по неизвестному пути, пожалуй, собьюсь и заблужусь сам. Это успокоило старика, и он опять уснул, хотя и тяжелым, нервным сном.
Во все время этого рассказа Маслов сидел как приговоренный к смерти и трясся как осиновый лист.
Но заметя, что старик уснул, он нервно заплакал и стал меня упрашивать, чтоб я не ездил один, а взял его с собой и что он один со стариком ни за что не останется.
Сколько мне стоило труда убедить Маслова, что этого сделать невозможно и ехать за помощью необходимо. Оставить же Кудрявцева одного, больного и с такими припадками – немыслимо и грешно. Он может убежать в лес, затянуться в чащу, упасть в огнище, застрелиться, наконец утонуть в речке и прочее, словом, собрал все, что приходило в голову и что может случиться с несчастным больным. Но Маслов не хотел слушать и твердо заявил, что он не останется. Тогда я предложил ехать на Кару ему, так как он слышал, как отсюда выехать, а что я останусь здесь. Но не помогало и это, – Маслов был непоколебим в своем решении. Я уже стал стращать его тем, что если мы уедем оба, а со стариком случится какая-либо беда, то все равно нас не оправдает за это закон, а совесть будет мучить до гроба. Тут Маслов начал убеждаться, но говорил, что он лучше бы поехал, но ему не выехать по рассказу, что он заблудится и погибнет в тайге, не принеся никакой пользы и нам.
Лучше всего подействовало на Маслова то обстоятельство, что больной долго спал без особых проявлений болезни, а я стал убеждать его тем, что бы он сказал и подумал о товарищах, если б такой недуг приключился с ним самим? Что бы было тогда с ним, если б я с Кудрявцевым оставили его одного, больного, среди тайги без всякой помощи? Видя податливость Маслова, я, наконец, решительно сказал ему так: «Слушай-ка, Маслов, ты сам теперь видишь, что кому-нибудь из нас ехать необходимо, а потому положимся на волю божию и нашу судьбу; давай бросим жребий. Кому выпадет, тому и ехать. Согласен?»
– Нет, нет! Ваше благородие, – почти закричал Маслов. – Уж, если так угодно господу, то поезжайте вы, а я останусь; да и теперь, как видно, дедушке получше, а мне не выехать.
Судьба ли, воля ли господа решила этот приговор, только дело было покончено, и – увы! – это решение было преддверием несчастья Маслова, а быть может, и старика.
Коротки майские ночи, так что не успели мы соснуть, хоть на один глаз, как черкнула утренняя заря, а с нею защебетали кой-где по лесной чаще и мелкие птички. Проснулся и старик; но пробуждение его было болезненно, тяжело. Он едва мог проговорить: «Дайте испить; во рту все посохло, губы сгорели».
Мы дали напиться, и я спросил: «Ну что, дедушка, как ты себя чувствуешь?»
– Плохо, барин, шибко плохо, – отвечал Кудрявцев, и с этим ответом он почувствовал действие английской соли. Мы помогли старику, и я душевно порадовался. Ему действительно сделалось получше, и он просил меня пустить ему кровь, зная, что у меня есть с собой ланцет.
Долго не думая, я тотчас достал инструмент и посадил старика на потник, спиною к дереву. Маслов придержал больного, помог обнажить левую руку и что-то набожно шептал. Я снял с себя простой крестьянский чулок, растер руку больного, перевязал поясным ремешком выше локтя и принялся за операцию. Но – увы! – как я ни бился, а крови пустить не мог. Из ранки ланцета показывалась не кровь, а какая-то черная как деготь жидкость; тотчас сгущалась, засыхала и не бежала, как это бывает при кровопускании. То же повторилось и с правой рукой. Словом, как мы ни бились, уже вместе с Масловым, но ничего у нас не вышло, – то ли от нашей неопытности в фельдшерском искусстве, то ли болезнь слишком усилилась, и мы опоздали. Судить об этом не могу и предоставляю на суд читателей, быть может, и доктора. Я утешаю себя тем, что я по своему разуму сделал все, что мог, и совесть моя спокойна.
Больной вообще ужасно ослабел, соболезновал, что мы не могли вскрыть крови и, в свою очередь, утешал нас тем, что «это ничего; это (то есть болезнь) со мной случалось уже не один раз, но бог проносил. Однажды этак-то меня взяло, на промыслу же (на охоте), одного, как есть одного, а к тому же непогодь была, – да я наболтал соли с водой, выпил, вот и полегче стало, а то тоже думал, что у смерти близко, ей оборки топчу», – говорил старик, и – диво! – узнаю тебя, русский серый мужичок! – еще ты пошутил с нами последним словом!..
Вот стало светать. Мы вскипятили чайник, выпили по чашке, но старик отказался и снова просил меня, чтоб немедленно ехал на Кару и послал оттуда фельдшера.
Я успокоил Кудрявцева, что сейчас поймаю коня и поеду, но просил его рассказать еще раз, как выехать из тайги, желая этим проверить и старика, и себя. Кудрявцев сел и снова повторил свой рассказ с такою точностью и наглядностью, что я удивился и вместе с тем убедился в том, что он рассказывает в полной памяти в здравом уме; это обрадовало и успокоило нас, почему Маслов стал повеселее, ибо он видел, что старик вторично передал путь выезда почти слово в слово.
Долго не думая, я тотчас поймал коня, оседлал, взял винтовку, помолился богу и сказал Кудрявцеву: «Ну, дедушка, оставайся с богом; будь здоров, а теперь пока простимся, да благословляй меня в путь, чтоб скорее выехать».
Мы поцеловались. У нас обоих навернулись слезы. Старик крепко, сколько мог, обнял меня за шею, еще раз поцеловал и, благословляя, сказал: «Бог тебя благословит, барин, – путь тебе дорогой. Коль помру, то не поминай лихом да помолись по душе…» Дальше я уже не слыхал, что бормотал Кудрявцев, потому что, поцеловавшись с Масловым, я живо сел на коня, перекрестился и поехал. Слезы меня душили, сердце словно замерло, и я худо видел, куда ехать.
Таежный мой конь, Савраско, обладал замечательно поспешной и покойной иноходной поступью, так что, отъехав версты три, – я несколько пришел в себя от грустных впечатлений прощания и тогда только заметил, что весеннее солнце осветило уже верхушки гор и точно брызнуло золотистыми лучами по росистой зелени, которая каймила верхние окраины, тогда как ниже этой линии кусты и деревья казались темными и точно недовольными тем, что они растут ниже своих собратов. В тайге было так тихо, что я только слышал торопливый «потоп»; коня и журчание близ текущей речки Топаки.
Надо удивляться той способности старика, с какой он передал мне весь новый для меня путь по тайге на расстоянии почти 50 верст. Заметьте путь без дороги, – их в тайге не существует, а есть более или менее тропы, которые пересекают долины и горы во всевозможных направлениях, взбираются на крутые хребты, теряются на каменистых россыпях, сползают под крутые утесы, лепятся по карнизам и точно перепрыгивают чрез речки…
Помня рассказ Кудрявцева, я редко задумывался, потому что мне попадался на глаза непременно тот предмет, на который указывал старик, – либо выдавшийся утес, либо с корнем вывороченное дерево, либо громом разбитая лесина, либо озерко, или локоть выдавшегося кривляка речки, – словом, я знал, где мне поворотить направо или налево, где переехать брод и так далее.
Так я ехал уже несколько часов, ни разу не останавливался, курил на езде, а об закуске и не думал. Душевная истома отняла весь аппетит и даже жажду, несмотря на то, что у меня сохло во рту и все тело горело. В одном месте я соблазнился, увидав бегающих на току косачей. Я слез с коня, выстрелил из винтовки, но промахнулся, и этот промах точно подсказал мне, что теперь не до охоты, и я, заскочив на Савраска, бойко похлынял далее. Проехав уже более половины, я вдруг в кустах услышал шелест и треск. Меня передернуло, и я думал, что не медведь ли тут разгуливает; но оказалось, что шли тропинкой двое беглых, которые, заметив меня, быстро своротили в чащу, а когда я поравнялся с ними, то один из них вышел на дорожку и, сняв шапку, сказал: «Здравия желаю, ваше благородие!»
Меня ужасно поразило то, как этот человек мог узнать меня, так как я был одет уж вовсе не по-благородному. На мне были плисовые шаровары, черная крестьянская шинель (армяк), на ногах простые кунгурские сапоги, а на голове козья охотничья шапочка (орогда, как здесь называют). За плечами же висела сибирская с сошками винтовка. Видимо, что эти люди бежали с Карийских золотых промыслов, на которых я уже не служил около четырех лет.
– Здравствуй, брат, – отвечал я. – Как ты меня знаешь?
– Гм… – сказал бродяга, – знаю; да и кто вас здесь не знает?
– Куда же пошел? Где же твой товарищ?
– Пошел я, ваше благородие, погулять: в деревню Бори пробираюсь, а товарищ, вишь, испугался и утянулся в чащу, – сказал беглый.
– Так в Бори, брат, не здесь ходят, – возразил я.
– Сам знаю, что не здесь, – говорил он, – но там на тракту имают, вот и пошли обходом.
Мы попрощались, и я поехал вперед, а здоровенный Путник вскинул на плечо увесистую дубину, свистнул товарища и, что-то размахивая рукой, потянулся тропинкой.
Проводив глазами путника, я невольно подумал: «Ну, этот видал виды – и должно быть из военных».
Часу в четвертом пополудни я благополучно доехал до Верхнекарийского золотого промысла, на котором был управителем, в то время, мой сотоварищ г. Тир, а поэтому я уже рысью забежал прямо к нему. Немедленно объяснил, в чем дело, и просил его помочь моему горю. Спасибо Эрасту Осиповичу, он тотчас послал за фельдшером, велел приготовить лошадей и позвать ваграньщика (плавильщики ваграночной печи) Выходцева, который был охотник и знал ту местность, где остались Кудрявцев и Маслов. Пока собирались люди, я успел закусить и коротенько рассказал Тиру все свое приключение.
Не прошло и 2-х часов, как добрые люди, выслушав, в чем дело, согласились ехать и, попрощавшись по-походному, явились за приказанием. Хотели им дать еще человека, конюха, бывавшего в вершинах речки Топаки, но Выходцев уговорил нас, что это лишнее и что он сам отлично знает местность.
Снарядив фельдшера (забыл его фамилию) всем необходимым, а Выходцева достаточной провизией на несколько дней, мы просили их ехать немедленно и поскорее, ночевать только в крайности, а достигнув цели, принять все меры возможной помощи и стараться вывезти Кудрявцева в качалке, для чего и дан был запасный конь. Качалка делается так: засёдлываются лошади, ставятся одна за другой на расстоянии 2-х или 3-х аршин; к их седлам прикрепляются с боков две жерди, а на них, посредине, между лошадьми, устраивается переплет сиденьем или лежанкой, куда и помещается больной. На переднего коня садится человек, подбирает повод заднего коня – и таким образом можно привезти кого угодно по самой отчаянной тайге. Конечно, везде требуется навык, сноровка и главное – желание. В хорошо приспособленных качалках, даже с болком или верхом от дождя и солнца, многие дамы, шутя, ездят сотни верст по тайге и находят такой способ передвижения довольно сносным и даже удобным. Тут главная суть смирные и сноровистые лошади.
Часу в 7-м по вечеру наша экспедиция благополучно отправилась в путь, а я потихоньку, разбитый душой и телом, потянулся верхом на Нижнекарийский золотой промысел, домой.
Надо было видеть и радость и испуг жены, которая встретила меня на дворе и не знала, к чему отнести мое скорое возвращение из тайги.
Почти всю ночь я не мог уснуть от наплыва тревожных мыслей и едва прокоротал следующий день, 11 мая, собираясь ехать к вечеру на Верхний промысел, куда могла возвратиться наша экспедиция. Как вдруг, уже после обеда, разнесся слух, а вслед за этим и «прибежал нарочный» от г. Тира, что Маслов «выбежал» из тайги без ума и потому г. Тир просит поскорее приехать доктора, который жил на Нижнем промысле, отстоящем от Верхнего в 9 верстах. Записка была написана второпях, коротенько, и я не понимал сути дела.
Живо оседлали мне коня, и я полетел на Верхний промысел.
Оказалось, что наша экспедиция, состоящая из Выходцева и фельдшера, ночью сбилась с пути, заблудилась, не доехала до места несчастья и на измученных лошадях 11 числа возвратилась на Верхнюю Кару, а несчастный Маслов, живший на этом же промысле, действительно «выбежал» домой, в полном смысле этого слова, и потеряв всякое сознание.
Когда я зашел в избенку к Маслову, то этот несчастный человек лежал на полу, на потнике (войлок) с окровавленными ногами, не узнавал нас и только бессознательно мычал и метался, так что его держали.
Медицинская помощь была необходима, и, слава богу, скоро приехал доктор и принял все меры, чтоб привести в чувство бедного страдальца. Но это последовало не вдруг, и я, прождав до позднего вечера, не мог узнать всей сути второго несчастья. Все мы только догадывались, в чем дело, потому что Серко Кудрявцева прибежал с Масловым и был у него на дворе. Словом, 11 числа я не узнал, что было нужно, и уже поздно вечером, с еще более разбитой душой воротился домой.
Только 12 числа, утром, Маслов несколько пришел в себя и мог кое-как рассказать, что старик Кудрявцев ужасно скончался ночью на 11 число. Но рассказ Маслова был так бессвязен, непоследователен, что трудно было понять, что передал несчастный. Так как Маслов, повещая об этом, бледнел, трясся, пугливо оглядывался и прочее, то доктор запретил спрашивать больного и продолжал лечение, которое не могло возвратить здоровья уже слишком надорванного организма, и Маслов слег нервной горячкой.
Мая 12-го была отправлена новая экспедиция с должной обстановкой, чтоб поднять тело Кудрявцева и забрать все брошенное в тайге. Мир праху твоему и вечный покой, несчастный страдалец! Но как твою услугу мне, так и твою смерть я не забуду до конца своей жизни, а имя твое, Дмитрий, не сойдет с моего языка на молитве, пока он лепечет…
Уже впоследствии, когда поправился Маслов от тяжкой болезни, я слышал от него все, что происходило с ним и со стариком в тайге после моего отъезда. Доподлинно его рассказ я записать не мог, но вот суть того, что пришлось мне слышать.
Вскоре после того, как я уехал, старику стало полегче, и он начал просить Маслова снова попытаться пустить кровь, так как ланцет мой оставался с ними. Маслов, по желанию больного, действовал энергичнее, кровь пошла, но немного, потому что была очень густа и черна, почему она скоро засыхала и переставала бежать. Кроме того, Кудрявцев выпил еще соли с водой. Так как особых припадков днем не проявлялось, то оба они были более или менее спокойны и с нетерпением ожидали вечера, рассчитывая, что я давно уже доехал до промысла и принял все меры к отправке фельдшера, который и может приехать хоть к ночи. Конечно, это было только самоутешением и расчет был неверный, так как не было почти никакой возможности проехать тайгой в один день взад и вперед более ста верст, не говоря уже о времени сборов па промысле.
Но этот-то несчастный вечер и разбил все иллюзии и надежды Маслова, потому что к закату солнца Кудрявцеву сделалось хуже, и он отчаянно боролся со смертью, которая была уже близко и точно пытала свою жертву за ее долгое пребывание на земле и бойкое, самоуверенное скитание по диким трущобам. К Маслову же она была как бы снисходительнее и, то скрываясь, то показываясь при освещении костра из-за кулис ночной тайги, точно давала знать о своем существовании и пробовала его силы. Так бы и спустил тут толстую, тяжелую занавесь, чтоб читатель не мог увидеть той лесной драмы, которая совершалась в действительности в этом мрачном уголке тайги, окруженном исполинскими деревьями, темными кустами и при открытом небе; драме, которую освещал не искусственный полусвет скрытой рампы, а настоящий костер валежника! Да, но, впрочем, к чему же спускать занавесь, когда в натуре не было зрителей, часто плачущих над вымыслом и аплодирующих потрясающим сценам истины. Да, эту драму видел только бог, и он помог по-христиански умереть Кудрявцеву, а Маслову дал силы перенести ее ужасный сюжет.
Когда уже совсем стемнело, несчастному страдальцу сделалось вдруг гораздо хуже. Кудрявцев сначала стонал, метался, потом неожиданно вскакивал на ноги, хватался за топор или за нож и бросался на Маслова, который находил настолько мужества, что избирал какой-нибудь ловкий маневр, как-то: прятался за деревья, за кусты, а улучив удобный момент, подставлял беснующемуся старику ногу или подбрасывал сук; тот падал в изнеможении, а Маслов наваливался на него и связывал кушаком. Через несколько минут больной приходил в себя, узнавал, в чем дело, творил молитву, просил прощения и снисхождения, чтоб развязали руки.
Радуясь улучшению состояния, Маслов развязывал несчастного, отводил на потник, клал на место и подавал пить.
Но не проходило и получаса, как повторялась та же история и растрепанный старик со всклокоченной бородой, дико вытаращенными глазами снова внезапно соскакивал на ноги и так же бросался на своего покровителя, который, заметив периодические припадки болезни, стал припрятывать оружие; но это мало помогало, потому что Кудрявцев хватал толстые сучья, винтовку или старался убежать в чащу леса.
Надо заметить, что в это же время неиствовал и свирепый пес, готовый растерзать Маслова и отстоять своего хозяина. По счастию, этот последний скоро терял силу припадка, а Маслов всегда находился урезонить старика и снова связать.
Такая борьба со смертью у старика и у несчастного Маслова со стариком продолжалась почти до полночи. Наконец Кудрявцеву сделалось будто гораздо лучше; он вспотел, пришел в себя и совершенно разумно начал говорить с Масловым, прося его прежде всего развязать ему руки, – что и было исполнено.
Тогда старик, немного отдохнув, стал молиться, закрыв глаза. Заметив это, Маслов удалился за дерево, сам упал на колени и со слезами молился, но, услыхав призыв больного, тотчас подошел к нему.
– Слушай, – твердо сказал Кудрявцев, – ты мне теперь и мать, и брат, и духовный отец; я слышу, что смерть моя близка, перекрестись и твори молитвы.
Маслов встал на колени, обратился к востоку и начал читать «Верую, Отче, Богородицу» и, как умел, отходную. Старик слушал, стонал и, прервав его, слабо сказал:
– Постой, худо! исповедуй меня скорее!.. – и тихо прошептал: – «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя».
Сначала Маслов не согласился на это предложение, но когда старик грозно сказал: «Я тебе говорю – исповедуй!»
Тогда Маслов помолился, нагнулся к старику, накрылся вместе с ним шинелью и исповедовал умирающего.
После этого старик немного полежал спокойно, как вдруг почувствовал новый приступ припадка, что заметил и Маслов, но больной предупредил и сам почти закричал: «Вяжи меня, скорее!»
Маслов поспешно связал еще лежащего Кудрявцева, но он немного побился, захрипел, потянулся – и замолк.
Серко в это время притих и только сердито царапал землю и лапой выгреб порядочную яму. Когда Маслов, невольно заметив это и окружающую тишину, потрогал старика и хотел что-то спросить, то увидал, что Кудрявцева уже не было на сем свете – он скончался.
– Верите ли, – говорил Маслов, – что в эту минуту мне стало гораздо тяжелее, чем во время припадков старика, и сделалось так жутко, что я «завыл», как ребенок; отскочил от покойника, отыскал потник, накрыл им труп, почти машинально и, не глядя, бросился за дерево и упал на колени.
Помолившись, я бессознательно подошел к Серку и, заметив это, испугался, но не смог сойти с места; как вдруг слышу, что этот свирепый кобель визжит и лижет мне руки.
Я снова испугался и этого; но смотрю и не верю, – ибо вижу, Серко глядит на меня ласково и помахивает хвостом; а нет-нет да лизнет мне опять руку.
Я ободрился, взял отвязал его от дерева и отпустил его на волю. Что ж бы вы думали, ваше благородие, – лишь только я его отвязал, как он бросился к покойнику, спихнул с него потник, лизнул в усы, понюхал, сел на ж… (сибиряки когда что-нибудь рассказывают, то непременно поясняют, на что именно «сял», а если встал, то непременно прибавят на что, то есть «встал на ноги») да как завыл, так по тайге лишь гул пошел. Мне сделалось так тяжело и боязно, что у меня из глаз полились слезы, а за спиной точно ободрало морозом, словно волоса-то подымаются.
Не помню, право, как я и перетерпел это; только, смотрю, Серко, опустивши хвост, подошел ко мне, повизжал немного и лег около моих ног. Я едва насмелился подойти к покойному, чтоб накрыть его опять потником, но сердце мое так стучало, что я боялся, как бы худо не сделалось. Чтоб развлечься от горя и почти не евши два дня, меня позвало на еду, но я поглодал немного сухаря и больше не мог, горло точно сдавило. Я бросил сухарь и Серку, но он только понюхал, а есть не стал.
Лег я на шинелишку, но так, чтоб не видать покойника; думал уснуть, но где, какой тут сон? Лишь только зажмурю глаза, мне и представляется все как было, аж морозом охватит. А как открою их да стану смотреть, мне и кажется, что за деревьями точно кто ходит, а ветки будто кланяются. Вот я начну творить молитву да пододвинусь поближе к Серку, – вот будто и станет полегче.
Ну не знаю, что бы со мной было, если б в эту ночь убежал от меня Серко; я бы, однако, погинул.
Как провел я эти часы, хорошенько не помню. Только смотрю – стало светать, и Серко встал с места, полизал мне руку и пошел туда, куда вы поехали; потом остановился, повилял хвостом и оглянулся. Я испугался, думаю, вот убежит, что тогда со мной будет? Но он воротился, подошел ко мне, опять повизжал и опять лизнул; а потом снова направился на ваш «путик», словно зовет, – дескать, пойдем. Я и догадался, схватил бессознательно винтовку старика, вскинул за плечи, да как был, ничего не надел, ничего с собой не взял, а только для храбрости налил чашку спирту, хватил ее разом и пошел за собакой, которая тотчас же тихонько побежала. Вот я за ней, вот я за ней, а она бежит, бежит да оглянется – тут ли я?
А больше я ничего не помню…
Но вот слышу, – продолжал Маслов, – что мне стало холодно. Я оглянулся. Смотрю, что же? Лежу я между кочками, у озерка, и половина головы моей была в воде. Меня так и ободрало морозом. Вот и стал оглядываться, гляжу, а надо мной сидит Серко, повизгивает и как увидал, что я очнулся, давай меня лизать, давай лизать. Я соскочил да и понять не могу, где я нахожусь? Вот огляделся и вижу, что не более как с полверсты ходят спутанные кони, каурый и сивой, а поправей их, в измыске – дымок идет.
Ну, думаю, слава тебе, господи! Верно, тут кто-то отаборился, – да как посмотрел хорошенько и узнал, что кони-то наши; вон это стариков каурко, а это мой сивко! Повел глазами-то и усмотрел, что и огонь-то мой, а подле, вон и старик упокоившийся лежит, царство ему небесное!
Вот я стал одумываться, перекрестился. Хотел идти поймать коня, оседлать и ехать, но как вспомнил про все, что было, – так, поверите ли, меня просто затрясло, да и собака, смотрю, норовит бежать, как бы одному не остаться, – беда!
Вот я, долго не думая, чмокнул Серка, он побежал на ваш путик, а я за ним. Долго я шел в сапогах, но когда стер ноги до пузырей, то сбросил сапоги и дул уже за собакой босиком.
А далее – не помню; хоть убей, не помню! Как я домой попал, как лечили, как чего было по начальству (то есть как схоронили старика), – верьте, ничего не помню, – заключил Маслов.
И действительно, можно поверить, прибавлю я со своей стороны!..
Как очутился Маслов около озерка – это очень понятно: хватив чашку спирта, не пив совсем вина, да еще на голодный желудок, он, конечно, скоро охмелел и с последним сознанием, завидев озерко, вероятно, отправился к нему, чтоб напиться; но хмель взял свое, и он упал на берег. Что же касается того, что, узнав место и своих лошадей, как у него не хватило мужества воротиться к табору и ехать, – то, господа! Не всякий бы и из нас воротился туда, где виднелась смерть, такая ужасная смерть и при такой нетеатральной обстановке, да еще боясь потерять последнюю надежду спасения – чужую собаку, которая была его вожаком.
Как ни грустно вымолвить, но я должен сказать, что несчастный Маслов, трус по природе, испытав такую ужасную эпопею в своей жизни, сильно расстроил свое здоровье и, прожив еще года полтора, умер на Верхней Каре. Мир праху твоему, Федор!
* * *
Нередко размышляя об этом, давно уже прошедшем случае, мне невольно приходят в голову такие мысли: не было ли бы лучше, если б я дал Кудрявцеву спирта, которого он так настоятельно требовал, хотя, положим, требовал и в припадке своей болезни? Или – не лучше ли бы было, если б я не послушал старика и не поехал бы из тайги за помощью?
Вот вопросы, которые тревожат меня и доныне. Последнее, конечно, имело бы благотворный исход для Маслова. Но, если во всем этом была воля господня или ваша судьба, – то я останавливаюсь на этом и предоставляю судить читателю, лично оставаясь при том убеждении, что на все воля господня.
Култума
Давно уж это было, – «когда еще я был молод и красив собой», – управлял я Култуминской горной дистанцией в Нерчинском крае. Фу, как далеко это место от дурившей и волнующейся Европы, а между тем в нем, этом удаленном уголке «Челдонии»[2], спокойно жили люди, и жили, надо сказать, очень недурно, конечно, относительно и с своеобразной точки зрения. Култуминская дистанция в то время была каким-то отдельным мирком среди общей каторги, если можно так выразиться, потому что в ней не было тюрем, а следовательно, и ссыльнокаторжного элемента. В описываемое мною время был еще обязательный труд и давно приписанные крестьяне к Нерчинскому горному округу числились обязательными горнорабочими людьми, когда-то назывались «бергаерами»[3] и составляли особый мир как по образу жизни, труда, так и по управлению.
В ведение Култуминской дистанции входили собственно Култуминский рудник, несколько горных приисков, расположенных по окрестности, и Култуминский золотой промысел. Серебряный рудник находился на правом, нагорном берегу речки Култумушки, впадающей в реку Газимур, а золотой промысел был расположен по самой речке. В описываемый мною период рудник не работал, был совершенно заброшен, равно как и все окрестные прииски, а в действии находился только один золотой промысел, хотя и незначительный по своей добыче золота, но удовлетворяющий той золотой горячке, которая охватила тогда почти весь Нерчинский край.
Довольно большое селение, где жили горнорабочие, носило название Култуминского рудника, или просто Култумы, и было живописно расположено амфитеатром на возвышенном, левом берегу речки Газимура. Култума достойно и праведно считалась одною из самых красивых мест Нерчинского горного округа, а по мирному и достаточному житью рабочих могла назваться Аркадией этого края, сравнительно с другими местностями заклейменной Челдонии. В окрестностях Култумы весь левый берег Газимура был нагорный и почти сплошь покрыт смешанным лесом, а правый – луговой, на несколько сот сажен в поперечнике; а затем – те же горы и хребты, хребты и горы всевозможных очертаний и направлений, покрытых такою же сплошною массою леса. Из хребтов текут ручьи, небольшие речки, впадают в Газимур и, вырываясь из объятий грозных ущелий, как бы разрезают кряжи гор, образуют долины, группируют возвышенности, рощи и култуки разнообразного леса, а в общей картине местности представляют превосходные дикие пейзажи. Кроме того, на луговой стороне разбросано множество всевозможной формы озер, которые, виднеясь то тут, то там, довершают красоту общего ландшафта. Не знаю, как кому, но мне нравится такая дикая, необделанная природа. В этом смысле тут только недостает швейцарских глетчеров, потому что здешние горы не так высоки и не достигают линии вечных льдов, что, пожалуй, и лучше, так как сибирский климат и без них довольно суров. Что же касается простоты обихода местности, то, право, я не променяю ее на напыщенную чистоту и рукодельную культуру швейцарских оазисов, где, прости господи, и плюнуть неловко.
Култуминское селение, разбитое довольно правильными улицами и переулками, как находящееся на возвышенной покатости берега, видно отовсюду, все как на ладони и, подходя главной береговой улицей почти к самому нагорному обрыву, точно висит над рекой, что придает картине какой-то особый колорит смелости и заставляет невольно обратить внимание на расположение построек, незатейливого быта живущих и своеобразность сибирской архитектуры. Многие дворы, огороды и надворные постройки местами точно сползают по крутому яру к самой воде и нередко висят, в полном значении этого слова, над волнами Газимура, который в полноводье изображает собой порядочную реку и частенько бушует не на шутку. Понятно, что все лучшие постройки расположены на набережной, а следовательно, и дом «пристава» находился тут же, в котором жил и я, ежедневно любуясь превосходным ландшафтом противоположного берега с его несколько удаленными горами.
При утреннем восходе, а особенно при вечернем закате солнца култуминский пейзаж превосходен ив своем роде неподражаем. Одна уже Курлычинская сопка, как бы отдельно поместившаяся за лугами правого берега Газимура, замечательна по своей красоте и вместе с тем дикости природы. Только вьющаяся около нее трактовая дорога напоминала о существовании особой культуры в этом уголке Сибири.
Култумане жили хорошо, привольно, отличались простотой жизни и замечательной патриархальностью. Никаких затворов и замков они не знали, что доказывало честность, а отчасти и беззаботность обитателей этой Аркадии; недоставало только молочной реки и кисельных берегов, но в сущности было и это, потому что Газимур изобиловал рыбой, сенокосных и хлебопахотных мест было достаточно, а окружающие хребты и горы, сплошь покрытые лесом, были наполнены богатой фауной. Весной и осенью пролетной дичи было множество всевозможных пород и видов, особенно водяной птицы, которая частью оставалась тут «летовать» и выводила молодое поколение. В горах же водилось пропасть рябчиков и немало глухарей; тут же жили козы, изюбры, сохатые, медведи, рыси, росомахи, волки и множество хищников мелких пород. Зайцев и лисиц была пропасть. Словом, Култума для страстного охотника была раем и, пожалуй, прибавлю – Магомета, потому что и гурий было немало.
Култумяне, живя в довольстве, отличались представительной наружностью и замечательным здоровьем, а в отдельных субъектах то и другое выражалось геркулесовскими размерами и чудовищной силой. Много семей отличались таким здоровьем, какое ныне трудно встретить, особенно в массе населения. В числе этих счастливцев природы была семья Шестопаловых. Их было, кажется, три брата; все они хорошо жили отдельными хозяйствами и по своему здоровью вошли даже в поговорку у своих же односельчан, которые говорили, что все Шестопаловы родят тридцатифунтовых ребят. Все эти три брата были хорошие охотники и замечательные промышленники. Когда я поступил приставом (управляющим) в Култуминский рудник, или лучше сказать золотой промысел, то, понятное дело, скоро познакомился с Шестопаловыми и сдружился с этими хорошими людьми. Так как в то время был еще обязательный труд и нам, горным офицерам, полагались денщики натурой, то я, пользуясь этим правом, и взял к себе в денщики одного из братьев, а именно Егора Степановича Шестопалова, хотя, – «грех украсть, стыд утаить», – у меня и был уже денщик, тоже страстный охотник, Михайло Дмитриевич Кузнецов, горнорабочий из Зерентуйского рудника. Поэтому Шестопалова я присчитывал к конюшенному цеху, как коновала, чем он и занимался, в сущности же он был моим сотоварищем по охоте, а в свободное время его обязанность состояла в том, что он зверовал или охотничал за мелкою дичью и добытое доставлял мне, но я пользовался только отчасти съедобной дичью, а все меха и шкурки отдавал ему. Тогда я был еще холост, требовалось немного, а потому немалую часть дичи я отдавал и отправлял своим знакомым. Словом, в Култуме мне, как охотнику, жилось хорошо, и я с особым удовольствием вспоминаю доныне то счастливое и, пожалуй, беззаботное для меня время. Вот почему я и посвящаю свои досуги в настоящие тяжелые дни тем воспоминаниям, которые так дороги для меня; они напоминают мне мою молодость, счастливые минуты беззаботной жизни, разнообразную охоту и общую любовь моих подчиненных, а этого достаточно, чтоб радостно потрепетало уже постаревшее сердце и сладостно побаюкало наболевшую в жизни душу. Да, господа! Тогда, часто с одним грошом в кармане, я бывал счастливее самого Креза. […]
Мой нареченный денщик, Егор Степаныч Шестопалов, был в то время лет сорока с небольшим, среднего роста, плечистый, полный мужчина. Умная и добрая его физиономия так и располагала к нему сразу, а бойкая, веселая речь показывала в нем человека, видавшего на своем веку разные виды, и, пересыпанная неподдельным остроумным юмором, невольно заставляла задумываться и нередко хохотать до слез. Таких я люблю и, пожалуй, завидую их способности быть почти всегда веселыми, хотя частенько на душе скребли кошки. Что же касается до остроумного юмора, то удивляешься, право, каким образом неграмотный русский мужичок в кругу своего небольшого миросозерцания может остроумно и бесконечно разнообразно смешить, часто серьезного и образованного человека! Бывало, только появится Шестопалов в дверях и едва покажет свою физиономию, как уже невольная радость является сама собой и губы самопроизвольно смеются, а смотря на его выразительные глаза, замечаешь, что он уже видит тебя насквозь. Егор Степаныч носил только небольшие русые баки, а подбородок и усы брил, что еще более позволяло ему выражать и дополнять мимикой недосказанный или затаенный за пазухой юмор. Он был хороший стрелок, опытный рыбак, смелый конюх и ходок без устали. Словом, приятный сотоварищ и по своему обиходу человек всезнающий, опытный, и никакое дело у него из рук не вываливалось.
Старший его братец, Николай Степаныч, был несколько в другом роде, хотя наружностью и походил на брата, но в размерах превосходил его едва ли только не в полтора раза, хотя роста был такого же. Зато как богатырские плечи, так вся спина и зад, были одного масштаба – все ровно; а что руки, что ноги – тоже не отличишь: как сутунки! Шея была наравне с большой лысой головой, а грудь точно выкована из какой-то корабельной брони. Словом, человек этот был, «хоть неладно скроен, так крепко сшит». Часто, подтрунивая над ним, Егор Степаныч говаривал: «Ты, брат Микулай, словно со дна набит, как свинешный! Идешь – не тряхнешься, поешь – не помнешься, как статуй мунгальский».
Николай Степаныч точно так же был очень веселого нрава, но гораздо серьезнее Егорушки и не обладал такой выразительной физиономией и даром слова, как его счастливый братец. Силищи он был непомерной – что увидал, то и поднял, только бы руками забрать. Сам он говаривал: «Чего разве не вижу, ну – того не осилю!» Он был хороший зверовщик и кузнец по профессии. Его своеделка, винтовка, весила до тридцати фунтов, четвертей семи длиною и чуть не в руку толщиною: била она замечательно и несла в цель на 120 сажен (не шагов)!
Одна повинка была за этим богатырем – он любил иногда выпить; но когда подружился со мной, то пить зачастую бросил и стал накладывать на себя эпитимию, или «зарок», как они говорят, то есть: или не пить совсем, или на известное время. Его «зарок» был годовой, с покрова до покрова; но уж зато лишь только наступало 1-е октября, как Николай Степанович разрешал вовсю и пил не только рюмками, но стаканами и ковшами. Такое безобразие продолжалось обыкновенно несколько дней, и когда уже благоразумие брало верх над страстью, то Николай Степаныч брал последний полуштоф, выливал его в чашку, крошил в вино хлеб и, прикусывая луком, выхлебывал такую похлебку ложкой. Затем, выспавшись, отправлялся в баню, парился до чертиков, выходил на речку, обливался холодной покровской водой – и попойке конец, опять до следующего покрова, что он и соблюдал свято.
Бывало, придет Николай Степаныч после такой встрепки, станет во всю дверь и молчит, только выпучит глаза и вздыхает, как хороший кузнечный мех.
– Ну, что, Николай Степаныч? – скажешь ему. – Сдернул охотку?
– Сдернул, ваше благородие! Тряхнул, и порядочно тряхнул; потешил беса, ну и будет; теперь довольно! Перед образом зарок дал не пить на целый год! И укреплюсь, вот посмотри сам, что укреплюсь.
– Ну, а как прорвет?
– Нет, не прорвет; уверься, что не прорвет. Закреплю, как есть закреплю! – И в это время Николай Степаныч так хватит себя в грудь пудовым кулачищем, что смотреть страшно, только гудит!
В это же время в Култуме жил отставной горный обер-штейгер Павел Елизарович Черемных. Личность знаменательная во многих отношениях. Человек он был очень умный, начитанный и жил хорошо. Пользуясь мизерной пенсией, он вел небольшую торговлю и тем поддерживал свое существование. За ним была своего рода слабость, которая немало его разоряла, – это страсть к разведкам золота. Его мечтой было непреодолимое желание отыскать Калифорнию и там принести еще пользу отечеству и поправить свои обстоятельства, надеясь получить за открытие. Но, увы! Судьба точно смеялась над этим тружеником: золото не попадалось, а силы уходили, и карман пустел с каждой новой экскурсией в тайгу. Павел Елизарович был уже пожилых лет, но видный и еще крепкий мужчина, довольно высокого роста и могучего, выносливого склада. Он был брюнет, с очень умными, выразительными карими глазами. Несколько кудреватые волосы придавали его физиономии представительность и как бы напоминали, что «не под шапку горе голове с кудрями». И действительно, человек этот мало над чем задумывался, был смел и отважен в своих похождениях, а в беседе весел, остер и большой охотник завернуть такое словцо, что насмеешься досыта. Носил он только одни баки, а бороду и усы брил, как старый служака того времени, и был настоящим типом своего звания, вполне понимал свое достоинство и уважал субординацию. «Она необходима, – говаривал он, – без нее и государство не в государство, а человек – тряпка да, пожалуй, еще зазнается и бога забудет».
Павел Елизарыч был семейный человек, но в то время при нем находились только один сын и две дочери, остальные были пристроены и шли своей дорогой. Жена его, уже пожилая женщина, была нрава крутого, но это нисколько не мешало ей жить с мужем дружно, вести хорошо хозяйство и детей в страхе родительском, что несколько влияло на воспитание и отражалось на поступках приглядевшихся к страху ребят. Находившаяся при родителях дочь Наташа была очень красивая девушка. Брюнетка с карими, выразительными глазами, большими вьющимися волосами, она напоминала хорошенькую цыганочку и по своему пылкому нраву вполне соответствовала этой расе. Довольно высокого роста, стройная, грациозная, без кокетства, бойкая на слово и живая в движениях, Наташа была магнитом для многих юношей и справедливо слыла чародейкой по всему околотку. Не одно горячее сердце зазнобила Наташа, что, конечно, видел старик отец и держал ухо востро, да и нельзя было иначе – девушка бедовая, того и гляди, улетит как птичка… «а девушке в 17 лет – какая шапка не пристала»; но я это говорю в ином смысле, потому что сибиряки мастера на «беглые свадьбы» и, действительно, наденут такую шапку, что доченька и мимо проедет, так не узнаешь.
Павел Елизарыч был страстный охотник в душе и на деле. Он был настоящий зверовщик и не трусил в одиночку ходить на медведя. Перебил он их немало и спать не мог, если заслышит, что где-нибудь в окрестности пахнет медведем. Но главный его идеал охоты – это изюбр. Все помыслы старика вертелись на этом звере, и вот почему весною, когда поспевали панты (дорогие рога изюбра), или осенью, когда начиналась изюбриная течка (гоньба) и зверь шел «на трубу», – Павла Елизаровича никогда уже не было дома. Тут он забывал и свою торговлю, и хозяйство, и бедовую Наташу. «Мне душно здесь, я в лес хочу», – говаривал он шутя, и, действительно, отправляясь в тайгу, нередко один-одинехонек, он скрывался там по целым неделям. У него было много искусственных «солянок», на которых он караулил козуль, изюбров и убивал даже сохатых. Подманивать осенью на трубу изюбров он был великий мастерище, а потому частенько убивал их на близком расстоянии.
Конечно, читатель уже догадался, что я, поселившись в Култуме, скоро сошелся с Павлом Елизаровичем, но этого мало: я подружился с ним так, как не был, кажется, еще дружен более ни с кем до настоящего дня. Мы жили, как братья, как истинные друзья. Не было дня, чтоб мы не повидались; исключения были только тогда, как старик уезжал в тайгу один, а мне нельзя было ему сопутствовать. Как скучно проходили такие дни, точно что-то отрывалось от сердца, и я не знал, куда деваться от скуки. Разве Егор Степаныч приходил побеседовать и разгонял мою тоску своими повествованиями и неподдельным юмором. Зато с каким нетерпением я поджидал тот час, когда возвращался мой «дедушко» и я мог дружески протянуть ему руку! Только, бывало, и посматриваешь в окно – не едет ли Павел Елизарович с промысла; не везет ли в тороках свежинки? Да, трудно забыть ту дружбу, которая так искренне, без всяких ширм связывает людей. Можете судить, с каким разбитым сердцем прощался я с этим человеком, когда меня по службе перевели в другое место и я должен был оставить прелестную Култуму. Да, так я прощался с родным отцом только, когда уезжал из России в Восточную Сибирь, по выпуске из корпуса. Но оставим это тяжелое воспоминание и лучше поговорим о том, как мы поживали со стариком в Култуме и как с ним охотничали. Нечего и говорить, что охотничьих случаев была пропасть, так как ездил я с дедушкой очень часто и скоротал не одну ночь с этим замечательным немвродом, под открытым небом.
Действительно, эпизодов так много, что, право, не знаешь, за какой приняться, чтоб поделиться воспоминаниями с читателем.
Но, позвольте, дайте несколько минут, чтоб сообразить, о чем поговорить, что рассказать; а пока потолкуем еще о дедушке, чтоб хорошенько познакомить вас с этой личностью, в тех фазах охотничьей души, которая всюду не оставляет своего призвания и служит своему алтарю во всякую пору, даже и не обыденной жизни.
Рассказывал мне сам дедушко такой случай. Когда еще он был на службе и занимал почетную должность обер-штейгера, то однажды совершенно неожиданно пришел циркуляр, что главный горный начальник едет в объезд по обширному Нерчинскому округу и будет у него такого-то числа, о чем ясно гласило расписание маршрута. Получив такую бумагу, конечно, мой дедушко, тогда еще в настоящем прыску своего бытия, как хороший служака, подготовился во всех отношениях по своему управлению, привел все в порядок и с нетерпением ждал того дня, когда должен прибыть владыко края, – чтоб не ударить лицом в грязь и показать себя. Но вот наступил желанный день; Павел Елизарыч с утра надел форму, застегнулся на все пуговицы, повесил на шею достойно и праведно заслуженную им большую медаль и выехал на грань своего участка, чтоб встретить начальника и отрапортовать по заведенному тогда порядку. Дело это хотя было и не его, а пристава, но тот был то ли в отлучке или хворал, хорошенько не помню, а потому это обязательство и пало на долю Елизарыча, как старшего после пристава. Значит, тем более обязанность была серьезная и требовала внимания. Прождав почти целый день на грани в назначенное число приезда, мой дедушко утомился и уже вечером воротился домой, чтоб отдохнуть и распорядиться по службе, а начальника нет как нет. Настает другой день тревоги – но, увы! Начальника нет. Что за притча, думает Елизарыч; верно, захворал, но отмены Нет, следовательно, надо ждать и завтра. Но и завтра та же история; а между тем Елизарыч все караулил на грани. Изморился он порядочно, и чтоб не было скучно ждать, он брал с собой книги, которые и читал, сидя в устроенном шалаше около дороги, Но на третий день ожидания он взял с собой и винтовку, – так, на случай, потому что был уже куктен (козья течка) и ошалелые козули бегали всюду от назойливого преследования своих кавалеров.
Надо заметить, что встречать начальника на грани своего района управления не было обязательным, особенно когда маршрут просрочен; но это было принято всеми подчиненными, считалось особой вежливостью, а потому и исполнялось служащими.
Проходил уже и третий день томительного ожидания, и Елизарыч думал уже так, что если и сегодня не приедет, то, значит, что-нибудь случилось, и потому завтра он уже не выедет на грань, а только, на всякий случай, вышлет туда «махального», который и даст знать в случае показавшегося поезда. Только что он освоился с этой мыслью, попивая в шалаше чаек из медного котелочка, как чутким ухом охотника услыхал хрипение гурана (дикого козла), а вслед за этим и зов конюха:
– Павел Елизарыч! Ваше почтение! Хватай скорей винтовку да беги сюда; гляди, какой большущий гуранище бежит прямо на нас; верно, потерял подружку, что хлопочет как полоумный.
Призыва этого было достаточно для страстного охотника, и Елизарыч мгновенно выскочил из шалаша, схватил винтовку и бросился напересек к гурану; но второпях выцелил худо и потому не убил, а изломал козлу, в вертлюге, заднюю ногу. От этого несчастное животное потащило зад и кой-как поковыляло в кусты, а ярый охотник за ним, в полной форме и даже с медалью на шее! Долго он бегал за подстреленным гураном, удалился от шалаша и нагнал свою жертву у какого-то озерка, в азарте залетел в небольшую трясину и вымарался в болотной шмаре.
Как нарочно, на беду или притчу, послышались по дороге колокольчики и показался поезд начальства. Напрасно суетился конюх у шалаша Елизарыча, напрасно кричал его во все горло и, совершенно растерявшись, завидя экипаж начальника, вышел на дорогу, махал руками и дико кричал: «Стой, стой, стой!» Понятное дело, что начальник приказал остановиться и, думая, что что-нибудь случилось, вылез из тарантаса и спросил: «Что ты кричишь, что тебе надо?»
– Да вот Елизарыч… Ели-за-рыч, господин полковник! – оторопев, бормотал конюх.
– Какой такой Елизарыч? Что такое случилось? – кричал начальник и передразнивал конюха: «Елизарыч, Елизарыч». Но, догадавшись, в чем дело, и иначе поняв отсутствие Елизарыча и зная свою просрочку, он засмеялся и, подходя к тарантасу, сказал: «Ладно, ладно! скажи ему – пусть явится там, на месте; не ждать же мне твоего Елизарыча, пока он…»
Но в это самое время, обливаясь потом, кряхтя и пыхтя, показался из кустов мой дедушко, вымаранный в болотной шмаре и с диким козлом на плече! Увидав начальника, он совершенно растерялся, бросил гурана на землю, вытянулся и, запыхавшись, едва проговорил: «Господин полковник! Господин полковник! Господин…»
Начальник, как ни крепился, но не мог вынести этой сцены, а потому расхохотался и, зная лично Павла Елизаровича, как хорошего служаку и человека, потрепал его по плечу, посадил с собой в тарантас и приказал ехать, едва сдерживаясь от душившего его смеха.
– Вот он, с…н сын, этот Евлашка (конюх), что он со мной сделал, – заключил Елизарыч. – Охота же ему была кричать, что увидал гурана, – экая невидаль! И па какого черта он, подлец, остановил начальника, когда видит, что я убежал за зверем. Ну и дурак же, ну и дурак же, этот Евлашка! Ну, коли видит, что меня нет, так и молчал бы, окаянный! Начальник бы не заметил его, и только, а то кричит во все горло: «Стой, стой!» Болван! Да и я-то дурак. Как поймал гурана, я слышал колокольчики-то, но думал, что так, кто-нибудь из проезжих, а не дослышал того, что они на месте потенькивают; тогда бы я, пожалуй, догадался и не пошел к шалашику. А каково же мне было явиться к начальнику в таком виде, ну посудите сами! Хорош же я был, надо полагать, когда полковник – дай бог ему царство небесное! – уж на что был серьезный человек, но и тот, видя меня, расхохотался чуть не до истерики и, растерявшись сам, пригласил меня ехать с собой. А потом, когда уже мы прибыли на место, он проехал прямо на работы и я, в таком-то виде, должен был ему докладывать и объяснять на глазах рабочих, моих подчиненных!
– Это он нарочно сделал, – возражал я.
– Какое нарочно! Потом ведь все объяснилось, когда он проголодался и заехал ко мне покушать. Тут он извинился, что так поступил и говорил, что я тогда уже попросох, а лишняя-то шмара пообтерлась да полетела с меня. К тому же он торопился, сделав просрочку. Нет, не нарочно, – утешал себя дедушко.
Расскажу уж и другой случай, который был в мое пребывание в Култуме.
Собрался Елизарыч со своей старухой в гости к сыну, который был давно уже женат и служил на хорошем месте в Сретенске, что на реке Шилке. Дорога из Култумы шла через тайгу, хребтами. Елизарыч с женой поехали верхом, так как этим способом было удобнее переехать тайгу, а сибирские женщины ездят верхом не хуже мужчин. Отъехав от Култумы верст 15, в долине речки Еромая, на ягоднике, дедушко увидел медведя. Зверовая винтовка была с ним, за плечами, а потому он, долго не думая, слез с коня, велел подержать жене, а сам отправился скрадывать медведя, сказав, что он пойдет за козулей. Знаменитая его собака Карамка была привязана на поводке у седла; но старик, заторопившись, забыл сказать жене, чтоб она отпустила собаку, лишь только услышит выстрел. Елизарыч скоро скрылся, прячась за кустики, почти на чистой долине, а старуха, сидя на коне, осталась ждать. Но вот проходит добрых полчаса, а выстрела нет, и Елизарыча не видно. Наконец старуха услыхала выстрел и по пороховому дыму увидала своего мужа, который вместо козули воевал с медведем. Заметя это, она растерялась, вертелась с конем по дороге и сначала не догадалась отпустить со смычка Карамку, который визжал и рвался на помощь к своему хозяину. Наконец она услыхала крик Елизарыча: «Собаку, собаку отпусти скорее!» Тогда она едва слезла с лошади и отпустила Карама, который стрелой бросился к медведю и посадил его на зад. Тут раздался другой выстрел, и старуха видела, как сунулся в ягодник медведь и только чернел своей шкурой, почти что у ног ее мужа. Она молилась и плакала от испуга и радости, но с ней сделалось сильнейшее расстройство, так что потом она с трудом добралась до места.
Дело было так: скрав зверя, Елизарыч выстрелил в него довольно удачно, но раненый мишка тотчас бросился на дедушку, который успел отвернуться, и медведь, не поймав его, задел за сошки винтовки и отломил одну ножку совсем, напрочь. После этого зверь пошел наутек, но скоро остановился и как бы соображал, что делать. В это время налетел Карамка и скоро посадил освирепевшего мишку. Тогда Елизарыч подскочил с другим зарядом и выстрелил в бок, но зверь рыча и с кровью в пасти еще раз бросился на охотника и упал почти у самых ног Елизарыча.
Надо заметить, что у дедушки была великолепная винтовка, – била далеко и очень резко. Ома была хотя и одноствольная, но заряжалась двумя зарядами, – заряд на заряд. Курка два, как у двустволки. Из левого было сообщение с нижним зарядом, а правый бил в брандтрубку, которая сообщалась с верхним зарядом по особому каналу, проведенному в напайке, по правому боку казны. Между зарядами Елизарыч клал всегда небольшой восковой, с сахарной бумагой пыж. Сообщение между зарядами происходило весьма редко, и тогда вылетали оба заряда, получалась посильнее отдача – и только. Но зато, на случай, это вещь хорошая; если выстрелишь верхний заряд, то второй наготове. Впоследствии, служа уже на Карийских золотых промыслах, мне соорудил точно такую же винтовку мастер Ключевской; била она превосходно и была очень порбнна. Имея хороший штуцер, я ходил на охоту преимущественно с ней, особенно туда, где могла встретиться серьезная опасность. Никогда не прощу себе, что я не сохранил эту винтовку как антик и что, уезжая из Восточной Сибири, продал ее за 45 руб., а много она перебила всякой всячины.
Замечательно то, что когда Елизарыч привез домой, воротившись с дороги, свежую медвежью шкуру, то, не слезая с коня, подозвал к себе еще молодого пса, орочонской породы, на которого он питал большие надежды. Тот подбежал на зов хозяина, но, услышав свежий запах зверя, ощетинился и завыл с визгом, а когда Елизарыч сбросил с коня шкуру к ногам Орочонки (так звал он собаку), то она бросилась, как сумасшедшая, из двора в огород и с ней сделалось хуже, чем с бабушкой, женой Елизарыча, так что Орочонка едва не околела от кровавого поноса.
Однажды, в первой половине июня, пришел ко мне Павел Елизарыч и стал звать ехать с ним на охоту, позверовать, как он говорил. Он обещал взять с собой и Николая Степаныча, как опытного и надежного зверовщика. Место охоты предполагалось верст за 25, в тайге, вверх по долине речки Бурокаючи. Там водилась всякая всячина, потому что ездили туда редко, место было не опугано и отличалось суровой, внушающей тайгой. Тут-то, в этой трущобе сибирских дебрей, и были знаменитые зверовые «солянки» (искусственные солончаки) Елизарыча, на которых он убивал много козуль и изюбров. Понятно, что такое лестное для меня предложение задело за сердце и я, конечно, изъявил свое полнейшее согласие, от души поблагодарив дедушку. Одно только мешало мне вполне насладиться удовольствием – это служба. Я мог уехать лишь на одну ночь, ибо отправиться надо было в пятницу с раннего утра, а в субботу к вечеру я уже должен был воротиться домой, так как в этот день отходила почта – раз в неделю, а Елизарыч предполагал пробыть несколько дней. Не успели мы перетолковать, как заявился в нашу беседу и Николай Степаныч. Тем лучше, потому что он был третий охотник, и мы снова обсудили всякую штуку и, натолковавшись досыта, порешили на том, чтобы завтра утром, чуть свет, быть готовыми, собраться у Елизарыча и оттуда отправиться. Кому что брать с собой, было, конечно, на первом плане. Подошел и Егор Степаныч, но у него болела нога, и он ехать не мог, а потому жестоко соболезновал и чуть не плакал от досады, ругая и придуривая над своей ногой.
Подали нам щи, пельмени, поросенка – и мы так закусили в веселой компании, что и теперь завидно, вспомнивши былое; да, невозвратное былое!.. Гости мои разошлись приготовляться, что сделал и я, отправившись на двор мыть свой штуцерок и подладить промыслового коня. Поправившись по службе и приготовив к охоте все, что требовалось, я уже вечерком отправился к Елизарычу напиться чаю, посидеть и побеседовать. Но дедушко только что пришел из бани, был в дезабилье, и входная в сенцы дверь была приперта. Я постучал. Бойкая Наташа – тут как тут, как на камешке родилась, крикнула «сейчас» и отперла щеколду. Я, конечно, обрадовался веселой встрече и тут же, в сенцах, поймал Наташу и сладко расцеловал, но она вырвалась, как птичка, и упорхнула в комнату, где сидел красный как рак Елизарыч и гребнем чесал свою голову.
– Снова здорово, Павел Елизарович! – сказал я, входя.
– Здорово-то здорово, – сказал дедушко, – а уж ты, дружище, успел – подколупнул да лизнул Наташку, – шутил Елизарыч.
– Нет, дедушко! Не подколупывал, а только за спасибо поцеловал ее в щеку, – отвечал я. А какая тут щечка, конечно, в самые губки!..
– То-то в щечку, полно ли так? – говорил чесавшийся дедушко.
Наташа вспыхнула и убежала из комнаты. Фу, да какая же она хорошенькая была в эту минуту!..
Как ни коротка июньская ночь, но я чуть свет напился чаю, накинул на себя штуцер и поехал к дедушке, который жил недалеко от меня, на крутом берегу Газимура. Въехав во двор, я увидал, что конь Николая Степаныча был уже тут, а Елизарыча гнедко стоял совсем готовый и ждал своего хозяина, который «шарашился» в сенцах и укладывал свои пожитки в таежные сумы. В комнате сидел Николай Степаныч и пил чай. Большой самовар пыхтел как паровоз и манил к себе.
– Здравствуйте, господа! – прокричал я обоим, ибо дверь из комнаты была отперта и точно говорила за хозяйку, – мол, «пожалуйте сюда чайку откушать».
– Здравствуйте, здравствуйте! – отвечал дедушко. – Каково ночевали? Проходите, пожалуйста, в горницу, а я вот сейчас поправлюсь и приду чаевать.
Напившись еще раз чаю с горячими ватрушками вместе с дедушкой и Шестопаловым, я заметил, что в горнице не было старушки.
– А где же хозяюшка? – спросил я.
– Бабье ли тут дело, коли собираемся на промысел; вот уедем, благословясь, то и пусть хозяйничает, а то не люблю! – заключил старик.
Солнышко еще не всходило, как мы все трое, верхом, выезжали уже за околицу Култумы и любовались начинающимся утром. Сизый туман лежал по долине Газимура и давал себя знать по сырости воздуха. Только мы спустились под горку, к газимурскому броду, как нам попался навстречу какой-то старик, который вез целый воз хлеба. Поздоровавшись с ним, Елизарыч сказал:
– Ну, слава богу! добрая встреча; да и старик этот, Дербин, славный человек. Вот сколько я замечал, уж пустой домой не приедешь. Зато вот, если встретишь старуху Шайдуриху, – то уж лучше воротись назад, толку, брат, не будет…
– Верно ты сказываешь, – перебил Николай Степаныч, – я, брат, тоже это смечал не один раз на своем веку. Ну и старуха, чтоб ее трафило в широко-то место! Уродится же этакая ведьма. На нее, братец, и глядеть-то страшно, так тебя глазами и вывернет, а сама еще губами-то пошамкает чего-то да заприщепетывает, как сорока. Пфу!..
Разговоров на эту тему было много. Но вот мы переехали Газимур, своротили налево, выбрались на тропинку и поехали друг за другом, в затылок. Впереди ехал Елизарыч, за ним я, а за мной геркулес Николай Степаныч, на котором, как добрый бастрыг, висел за плечами громадный дробовик и, видимо, давил своего хозяина, но он по привычке и своей могуте не обращал на это никакого внимания и забавно рассказывал разные случаи, жестикулируя пудовыми кулачищами и помахивая верховой плеткой.
Ездят по таким тропинкам обыкновенно шагом, поэтому разговаривать было удобно, а неблизкий путь позволил нам перебрать всякую всячину и посмеяться вдоволь. Но надо заметить, что разговоры при таких поездках производятся обыкновенно тихо, смех сдерживается, экстазы дополняются больше жестами, а потому беседы эти имеют свою прелесть, особую соль и как-то пластичнее ложатся в душу и сердце. Бывало, слушаешь, боясь проронить хоть одно слово, или смеешься до того, что слезы бегут градом, а сам не фыркнешь. Несмотря на это, привычный глаз и чуткое ухо промышленника тут же все видит и слышит, так что ничто не провернется от затаенного внимания охотника. Так бы и повторил я эти поездки с близкими сердцу людьми! Но, увы! верно, не бывать соловушке в далекой сторонушке!..
Проехав таким образом довольно долго и не встретив на пути ничего такого, что бы заслуживало внимания, мы в ранний завтрак добрались до одной падушки (ложок, по которому текла речушка), выходившей из хребта, крайне грязной и топкой, остановились, осмотрели путь и, помогая друг другу, едва перебрались на другую сторону.
– Ну и местечко проклятое, – проговорил Николай Степаныч, – сколько тут коней притопили промышленники! Здесь, брат, один не напирай, как раз затрескаешься так, что и не вылезешь. Недаром это место и зовут «чертова няша». Вот бы запихал сюда бабушку Шайдуриху, пусть бы губами-то шлепала; намочила бы их порядочно, вовек бы не просохнули! – продолжал шутить Николай Степаныч.
Отсюда нам уже недалеко оставалось до первого места охоты, где была ближняя козья солянка Елизарыча, а потому, отъехав еще версты полторы, мы выбрали удобное стойбище, разложили дымокур и расположились табором. Так как время было еще рано, то Николай Степаныч остался хозяйничать, варить похлебку, а мы с Елизарычем отправились промышлять на пик козуль, которые в это время года хорошо шли на «пикульку», то есть подманку под пик молодых козлят. Места мы выходили много, но козуль попадало мало, так как был самый полдень, жара давила невыносимо, и животные попрятались, затянувшись в прохладные тайники лесной чащи. Только одна козлушка подскочила к Елизарычу, и он убил ее в нескольких шагах, а по другой промахнулся на ходу и посадил пулю в березу. Порядочно поуставши и обливаясь потом, мы с трудом дотащили козлуху до табора, розняли на части, упали на подседельники, чтоб отдохнуть, а Николай Степаныч принялся жарить печенку. Не помню, право, как моментально я уснул; очнулся уже тогда, когда солнышко пошло на другую половину, а Похлебка почти вся выкипела, потому что моему примеру последовал дедушко и даже наш кухмистер, богатырь Шестопалов. Соскочив с потника, я увидал почти потухший огонь и выпарившийся котелок. Проснулись и товарищи, но, узнав, в чем дело, пошутили обоюдно над поваром и принялись снова варить свежинку, уже из козьего мяса. Есть хотелось порядочно, и мы, все трое, с нетерпением ожидали, когда упреет новая похлебка.
Но вот и время седлаться, чтоб успеть доехать до зверовых солянок. Так как Николай Степаныч предполагал караулить на первой, ближайшей, то он остался пока на таборе, а мы с Павлом Елизарычем поехали вперед. Отъехав версты две, он остановился, повернул коня поперек и, указывая рукою вперед, сказал:
– Вот видишь эту падушку (ложок), вон там, у кустиков, моя любимая солянка – корчага, как я ее называю. Звери на нее шибко выходят. Поезжай вот этой тропинкой, переберись через речку и оставь коня, вон у той большой лесины, чтоб не опугать место, а сам тихонько уйди к тем кустикам, как я тебе говорил; там, в западинке, увидишь сидьбу (караулку) – это и есть корчага. Тут и садись, благословясь; а я поеду поскорее дальше, в вершину; там у меня другая зверовая солянка, на нее и сяду. Ну, ступай же с богом, а то запоздаю.
Мы потрясли руки и распрощались. Я потихоньку поехал к корчаге, а Елизарыч торопливо потянулся дальше.
Едва я пробрался верхом по кочкам и кой-как переехал речушку. Доехав до большой лесины, я остановился, тихонько расседлал коня, стреножил и отпустил на траву, а сам, взяв с собой подседельник и все охотничьи принадлежности, побрел к кустикам, где таилась дедушкина корчага. Прошел я с полверсты, порядочно согрелся и за кустиками увидал заветную сидьбу, которая была опытно скрыта и состояла из вбитых с трех сторон колышков, в пояс вышиной, и горизонтально переплетенных между собою лозовыми прутками. Вся вместимость сидьбы была не более квадратной сажени, что вполне достаточно для того, чтоб постлать подседельник и удобно расположиться в ночной засаде. Корчага, действительно, недаром носила свое название, потому что находилась в такой западнике, что все окружающее было выше ее, отчего самая сидьба и солянка лежали как в горсточке. С правой стороны сидьбы рос большой куст черемухи, который прикрывал также и вход, а слева журчала между кочками какая-то речушка с мелкой береговой кустарной порослью, но тут же стояла и громадная лиственница. Поправее черемухового куста был возвышенный залавочек, на котором растянулся довольно обширный калтус (мочажина, наливная болотина). Перед сидьбой на довольно большое расстояние место было ровное; на нем-то и помещалась солянка, на которую ходили звери. Как видно, дедушко не жалел соли, потому что по всей солянке выступала солонцеватость серо-белесоватыми пятнами, а вся земля была поедена зверями и местами виднелись ямы, выше колена глубиною, что говорило о том, что корчага существует давно, а звери посещают ее часто. Все это взятое вместе радовало мою душу и давало надежду на хорошую охоту.
Приглядевшись к местности и совсем устроившись в сидьбе, я заметил, что солнце уже низко. Тишина царила полнейшая; только кучами сновали комары и пугали своим присутствием, но я закурил трубку (гнилушку), струившийся дымок которой и отгонял длинноносых вампиров. Где-то филин затянул свою песню и его пронзительное «у-уу, у-уу» неприятно и как-то тревожно разносилось по тайге.
Кругом, по всей окрестности корчаги, рос страшный лес, который покрывал почти всю долину, за этой местностью взбирался на все покатости гор, уходил далее на хребты и терялся из глаз, как мохнатая шапка над всем видимым горизонтом. Особенно темная синь леса стояла впереди солянки и как-то таинственно и мрачно виднелась перед самыми глазами сидящего в засаде охотника.
Поправившись совсем, я удобно примостился в уголке сидьбы, поближе к черемуховому кусту, и погрузился в желанные думы. Глаза мои устремились на видимую окрестность, а слух был так напряжен, что я отчетливо слышал жужжание комаров и тихое журчание речушки, которая точно ворковала около меня и напоминала о жизни; только проклятый филин надувал свою песню, то останавливаясь, то с большим ожесточением принимаясь за свое «у-уу»! Но наконец, слава богу, он перестал, и полнейшая тишина снова охватила всю окрестность. Но вот ко мне, на черемуховый куст, прилетела какая-то маленькая пичужка и, должно быть, собралась на нем ночевать. Заметив меня, это маленькое создание начало прыгать и поскакивать по веточкам и как-то тревожно зачиликало. Думая, что она помешает, я ее прогнал. Но она скоро явилась снова и так же суетилась на ветках. Я, нарочно, притих и наблюдал. Пичужка освоилась со мной, стала доверчивее, и ее, видимо, взяло любопытство, потому что она как-то особенно мягко защебетала, прискакала на самые крайние веточки и принялась меня разглядывать. Совсем нагнувшись ко мне, она повертывала с боку на бок головку и пристально всматривалась. Я сидел неподвижно и наблюдал сам, выглядывая вполглаза. Не видя ничего дурного в моей особе, она успокоилась и стала чистить свой носик, – но я снова прогнал ее. Несколько минут спустя, она явилась опять, зачиликала уже тревожнее и за то еще раз была прогнана. Ясно, что этот куст был ее излюбленным местом и насиженным ночлегом. Более она не возвращалась, все затихло, невольная мечтательность овладела всем моим существом, и думы, одна за одной, как грезы, мимолетно проходили в моей голове. Поддаваясь этому настроению, я, как бы нехотя, закрывал глаза, – и меня стало приманивать на сон. Как вдруг, впереди солянки, где таинственно тянулся сплошной массой темный лес, где-то далеко в хребте, послышался треск. Я мгновенно очнулся и стал усиленно прислушиваться. Немного погодя, треск повторился, но как-то глухо, таинственно. Я, что называется, превратился весь в слух и зорко оглядывал опушку леса; но это было пока излишней предосторожностью, потому что снова повторившееся «тррре-сск, тррре-сск» ясно говорило уху, что это еще далеко, где-то в хребте, однако ж слушалось отчетливее и, видимо, приближалось. Я разгадал эту таинственность и понял, из-под чьих ботинок выходит этот треск. Мороз пробежал по моей спине, а легкая козья шапочка (орогда) сама собой стала подниматься на волосах. Сердце мое так затокало, что я его слушал; зато комары и журчание речушки исчезли из моего слуха. Осмотревшись кругом и освоившись со своим одиночеством, среди глухой тайги, я старался быть хладнокровнее и стал принимать меры предосторожности. Топор положил около себя, перенадел новый пистон на штуцере, который был очень невелик как по размеру, так и по калибру, к тому же был одноствольный. Револьвер я оставил дома и потому проклинал себя, что не взял его с собой. Сообразив всю свою обстановку по вооружению, приходилось мириться с той мыслью, что я владею только одним зарядом!.. Ну, а как, храни бог, – осечка! что тогда делать? Эта тяжелая дума заставила меня положить в рот прокатную пулю, приготовить заряд пороха в скороспелом патрончике и вытащить из ножен охотничий нож. Надеясь на свою удалость и верткость, я думал, что в случае нужды ускочу за громадную лесину, которая была тут же с левей стороны сидьбы. Ну! и тогда что будет; творись, воля господня!.. Стану воевать, а уж ретироваться не буду.
В эту самую минуту тяжелого размышления я услыхал сзади себя легкий сеист человека. Я мгновенно оглянулся и увидал, что саженях в пятидесяти, не доезжая до моей засады, сидя на коне, стоит Елизарыч и манит меня к себе рукой.
Внутренняя радость моя была так велика, что я и описывать не стану, но я ее скрыл, подавил в себе и, подумав, что Елизарыч, вероятно, увидал где-нибудь козулю и желает доставить мне удовольствие, чтоб я выстрелил, схватил штуцер и тихонько побежал к нему.
– Ты как попал сюда, дедушко? – спросил я.
– Да чего, батюшка, на моей-то солянке побывали медведи, будь они прокляты, черные немочи! Все изворочали, извертели и сидьбу всю уронили. Такая досада, право; думал-думал, что делать. И придумал, что лучше, мол, ворочусь и поеду на корчагу, к тебе в гости, пока не ушло время, – а я тебе не помешаю и вдвоем сидеть можно, – говорил мой дедушко.
– Вот и отлично! – радостно сказал я. В одну минуту мы расседлали коня, стреножили и отпустили на траву, тут же, где ходил и мой Серко.
Солнышко было уже низко и последними, замирающими, красноватыми лучами освещало только верхушки гор и готовилось сказать нам: «Доброй ночи, господа охотники! Смотрите не спите и будьте настороже».
Помогая Елизарычу собраться, чтоб идти вместе на сидьбу, я машинально взглянул на противулежащий громадный солнопек (увал), откуда приехал дедушко, и увидал на нем двух большущих медведей, которые медленно ходили по увалу и как бы что-то обнюхивали.
Я тихонько подтолкнул Елизарыча, показал пальцем на солнопек и сказал:
– Ну-ка, дедушко, погляди хорошенько, не твои ли это гости разгуливают?
– Должно быть, они и есть, язви их, проклятых! Вишь куда забрались амурничать, теперь ведь гоньба, вот и шарятся парочками, – тихо проговорил старик.
– Что же? Разве пойдем скрадывать? – спросил я.
– Что ты это выдумал; как можно теперь скрадывать! Видишь, солнце уже садится, а ведь заходить надо с виверу (северная покатость горы, покрытая лесом), пока туда залезем, так уж темно станет, а они тут, на чисте, долго не нагуляют, уйдут, – возразил Елизарыч.
Воспользовавшись удалением от солянки, мы немного покурили, посидели и понаблюдали над медведями, которые действительно скоро ушли за кусты и скрылись.
– Довольно сидеть, вставай да пойдем скорее, а то упадет роса и след не обмоет, – подымаясь, сказал Елизарыч.
Захватив с собою подседельник и топор, мы поспешно пошли к сидьбе, в которую разостлали еще дедушкин потник, и уселись в засаде так, что Елизарыч поместился на правой стороне, около черемухового куста, а я с левого бока, к лесине.
Я рассказал Елизарычу, что слышал треск, и указал примерно то место, откуда он раздавался.
– Это зверь (то есть изюбр) ходит, – заметил он.
– Хорош, должно быть, зверь, – возразил я, – которого называют Михал Иванычем.
– Нет, зверь; большие изюбры также ходят, трещат, – отстаивал старик, думая меня надуть, чтоб я не боялся.
– Полно тебе, Павел Елизарыч, уверять меня в том, что это зверь, а не медведь; неужели ты думаешь, что я не понимаю, кто это там гуляет, – сказал я и тихонько передал ему все, что я делал и что перечувствовал.
Не успел я и окончить рассказа, как впереди солянки и совсем уже близко, в густом лесу, так сильно затрещало, что Елизарыч схватился за свою винтовку, положил дуло на прутки сидьбы, а сам встал на коленки и зорко поглядывал вперед. Но треск прекратился, и только изредка похрустывали сухие ветки, которые, вероятно, попадали под широкие ступни дедушкиного изюбра.
Солнце давно уже село, и вечерний сумрак начал окутывать всю окрестность, так что контуры гор потеряли свои очертания, а и без того темный лес казался спустившейся черной завесой. Роса уже пала и матово серебрилась на растительности, давая себя знать на всякой вещи, которую приходилось брать в руки; даже на усах была холодная отпоть.
– Студеная ночь будет, – прошептал дедушко, не сводя глаз с ближайшей окрестности.
– Ничего, ладно, – ответил я тоже шепотом.
– А ты ложись спать да держи штуцер в руке, – не глядя на меня, едва слышно проговорил Елизарыч, тихо показывая рукой, чтоб я лег.
Я, как тать, спустился вниз и прилег в самый уголок незатейливой сидьбы, но, конечно, о сне и не думал, а чутко прислушивался ко всякому шороху, и когда слышался уже мягкий, легкий хруст, то тихонько поталкивал или только нажимал пальцем дедушкину ногу, давая знать, что я не сплю и все слышу.
Елизарыч отвечал на это только едва заметным кивком головы или движением руки, а то просто туже ногу прижимал к моему пальцу.
Прошло около получаса, как не было слышно ни треста, ни хруста, но зато, поправее черемухового куста, в мочажине, которая находилась на возвышенном залавке, почуялось шлепанье и бульканье воды. Звуки эти то удалялись, то приближались к самому кусту, и тогда до нас доносилось пыхтенье и фуканье ноздрей. Несколько раз резко было слышно ширканье чирушки, которая, вероятно, отманивала от своего гнезда косолапого охотника. Один раз она низко пролетела над нами и в ту же минуту шлепнулась на воду. Такая потеха продолжалась не менее полутора часов, – слышалось то же пыхтенье, фуканье, чавканье, пичканье тяжелых лап по мягкой, водянистой почве, тяжелые скачки по воде и редко совершенное затишье, что и было для нас настоящей пыткой, ибо не знали, к чему отнести эти перерывы охоты зверя – то ли он ушел, то ли прислушивается или скрадывает нас, почуяв наше присутствие.
Я все время лежал на левом боку и не сводил глаз в окраины залавка и насторожившегося Елизарыча, который в продолжение всего этого периода не проронил ни одного слова и, кажется, не пошевелил ни одним мускулом. Он весь превратился в зрение и слух и точно замер в одном положении. Но тут-то, в этом манекене, и кипела жизнь, могучая воля и та страсть, которую поймут только истые охотники, а для других она будет безрассудной глупостью или холодным самосохранением. Исполать этим людям!
Лежа под крестьянской шинелью – зипуном, я зорко поглядывал на Елизарыча. Никогда не забуду этой ночи, этой картины, которую изображал собой дедушко; особенно когда с полуночи выкатилась из-за лесу луна и матово осветила его фигуру. Право, сил моих не хватает, чтоб передать читателю то ощущение, которое я переносил в эту ночь! Стоя на коленях и как бы присев на пятки, полусогнувшись и прилепившись к своей длинной винтовке, лежащей на прутках сидьбы, дедушко был неподражаем! И если б я не видал его блестящих при луне глаз, которые двигались и смело поглядывали в сторону, где хлопотал медведь, то я бы подумал, что это великолепное изваяние или замечательно хорошо сделанный манекен.
Во все это время, уже при луне, медведь только один раз вышел из-за черемухового куста, на окраину залавка, и как бы опнулся (остановился) на месте. Спина его точно серебрилась от росы, а ноги казались очень тонкими, вероятно, оттого, что шерсть на них смокла и прильнула к ногам. Только тут дедушка едва поворотил направо голову, подался ко мне спиной и едва заметно повернул дуло винтовки на правую же сторону.
Сердце во мне точно замерло, и я ждал, что вот-вот медведь выйдет на солонец и раздастся громовой выстрел. Но мишка, вероятно, не подозревая засады, скоро зашагал по окраине и скрылся из глаз.
Я подтолкнул Елизарыча и тихо прошептал:
– Что не стрелял, разве тебе не видно?
– Неловко, ждал, что выйдет поближе, – так же тихо отвечал дедушко.
Но вот стало отзаривать на востоке, и поиски медведя затихли. Он ушел. Настала мертвая тишина. Там и сям вблизи начали покрикивать гураны (козлы), но ни один из них не вышел на солянку, а каждый с тревожным ревом убегал в чащу уже показавшегося леса. Проклятый медведь опугал всю местность и испортил охоту.
Наконец сильно заалел восток, и солнце готовилось выкатиться из-за позолоченных уже верхушек нагорного леса, как вдруг раздался громовой выстрел Николая Степаныча и протяжно, как-то глухо покатился по всей окрестности и эхом переходил с горы на гору, звуча все тише И дальше и наконец замер где-то далеко, в хребте проснувшейся тайги.
– Вот так лязнул наш Николай Степаныч! – уже громко проговорил Елизарыч. – Кого это он, сердечный, так ляпнул?
– Кого же, как не козулю. Поди-ка, переломил надвое! – заметил я.
В это время Елизарыч поднялся с насиженного места, долго потягивался, зевал и разминал свои кости, махая руками. Я закурил папироску и подал другую дедушке.
– Пойдем, – сказал он, закуривая. – Теперь ждать больше нечего, а я что-то замерз, вишь, какая ночь-то студеная была. Ну кабы не медведь, уж кто-нибудь пришел бы к нам. Слышал, как козы-то ревели?
Мы собрали свои пожитки, порядочно обовьючились всякой всячиной и пошли к лесине, где паслись лошади. Заслыша нас, они заболтались на треногах, захрапели и зафыркали, что ясно говорило о том, что они слышали близкое присутствие зверя.
– Стой, – сказал Елизарыч, – надо отпрукать, а то напугаются; вишь, как мы обовьючились подседельниками, – и дедушко стал почмокивать на коней и посвистывать.
Солнышко уже взошло, когда мы бережно поймали лошадей, заседлали и поехали потихоньку к старому табору. На дороге нас встретил Николай Степаныч, поздоровался и на вопрос, кого он стрелял, стал рассказывать про свою охоту.
– Ночью я никого не видал, – говорил он, – только вокруг козули шибко гремели. А уж перед утром ко мне заявился медведь, да такой мокрый, ухлюпанный, будь он проклят! Зашел, знаешь, снизу, с подветра, да и уставился за кустом, вот где валежина-то лежит, ты ведь помнишь, Павел Елизарыч! Увидав его близко, я сначала-то оробел да и пожалел, что с собой не винтовка. Ну, да, мол, ничего, проберет и этот (он ткнул пальцем в дробовик), и долго не думал – как хлопнул его, братец ты мой, прямо в морду, сквозь куст. Как он брызнет, да опрокинется назад, а сам зафырсал, заплевал. Я испужался: вот, мол, беда! съест! Давай-ка скорей заряжать жеребьями и столько их напихал, что теперь и стрелять боюсь. Взглянул на куст-то, а его уже нет, – как растаял. Ну и зверь матерый! страсть! Долго я его поджидал, нету; вот я прутьев поломал, поди-ка, полкуста высадил, так дыру и сделал! А ему, проклятому, верно, худо попало, ушел, и крови что-то не видно. Куда он девался – черт его знает! Поди-ка, жаловаться убежал к хозяйке; бабушке Шайдурихе челобитну понес, – заключил Николай Степаныч и завернул за губу добрую понюшку табаку.
Мы рассказали ему про свое сиденье и по общим нашим доводам решили, что к Николаю Степанычу приходил медведь от нас.
– Что же Михал Иванычу надо было в калтусе? Что он там делал? – спросил я.
– А черт его знает, кого он там искал. То ли лягуш, то ли утят промышлял; ведь ты, поди, слышал, как он плюхал да выфукивал носом, – серьезно заметил Елизарыч.
– Он, брат, на это мастерище! Видал не раз я его проказы; откуль чего и берется, словно левизор ехидный – все вышарит, – вставил Николай Степаныч.
Разговаривая таким образом, мы скоро доехали до табора и сварили чай. Так как мне необходимо было ехать домой, чтоб успеть отправить почту, то я просил товарищей помочь мне перебраться чрез топкую падушку, «чертову няшу», по выражению Шестопалова, что они охотно исполнили и переправили меня чрез это худое место. Тут мы попрощались. Они поехали назад, чтоб попромышлять, исправить солянки, где накутили медведи, и посидеть, покараулить на них еще ночи две-три, а я отправился уже один домой, в Култуму.
Не успел я отъехать от них и ста сажен, как увидал между кустами речушки кого-то двигающегося. Я подумал, что это непременно ходит козуля, а потому тотчас соскочил с коня и, не желая отвязывать из тороков треногу, спутал его охотничьей плеткой, у которой и рукоятка была плетеная, мягкая. Захватив за одну ногу плеткой и продев ее в рукоятку, концом обвязал другую ногу, забросил повод на луку седла, снял с себя штуцер и побежал скрадывать мнимую козулю, для чего снял сапоги и отправился в одних теплых чулках.
Подойдя к речушке, долго я выглядывал и высматривал дичину, как вдруг мой Серко, оставшись один и чуя сзади лошадей, сильно заржал. В это время впереди меня, саженях в 70-ти, что-то мелькнуло, выскочило на берег и остановилось. Я притаился за кустиком. Смотрю – и не верю глазам! Вместо ожидаемой козули, на берегу реки, за кустом, поставив передние ноги на валежину, стоит матерый медведь и, видимо, приглядывается, прислушивается. Я, как еврей, чуть-чуть не закричал «ай-вай-вай!» и машинально присел за кустиком. Но медведь скоро окончил свои наблюдения и ускочил опять в кочковатый берег речки. Я, несолоно хлебавши, потихоньку да помаленьку, подобрав полы шинели, отправился назад, конечно, не спуская глаз с того места, где виделся медведь. Но его уже не было.
Добравшись до коня, я едва-едва его поймал, потому что он суетился, фыркал и не давал распутать ноги. Видимо, что он почуял зверя, боялся и рвался домой. Когда же наконец я освободил ему передние ноги, то он вставал на дыбы, бил задом и не давал сесть. Едва-едва укротив своего Серка, я заскочил на него и поехал, но он подхватил и потащил по дорожке к дому. Более полуверсты летел я вмах и невольно забыл про медведя.
Солнышко было уже довольно высоко, когда я, отъехав более половины пути, вздумал слезть с коня и прогуляться. Превосходное утро дышало своей свежестью и манило в горы, почему я опять сел верхом и поехал по кустам, попикивая в пикульку, как вдруг из чащи выскочила козлуха и запрыгала на месте, – то ли от тревожного мнимого писка анжигана (козленка). Недолго думая, я сдернул с себя штуцер и убил матку, выстрелив с коня. Радость моя вознаградила меня за все неудачи и постыдное (а быть может, и благоразумное?) ретирование от медведя. Сняв шкурку и розняв козулю, я привязал убоину в торока, выпил рюмку водки, закусил сухарем, закурил папиросу и уже весело похлынял домой.
Когда я завидел долину Газимура, мне пришла на ум Наташа. Я слез опять с коня, пошел пешком и нарвал два букета превосходных даурских цветов, желая один из них подарить Наташе, а другой поставить в воду, в своем кабинете. Как бережно вез я эти букеты, наслаждаясь их запахом.
Но бот и Газимур. Переезжая нижний брод, я заметил, что далеко впереди, по берегу мелькают чьи-то юбочки. «Не она ли?» – мелькнуло в моей голове. Дорога шла левым берегом Газимура и окаймлялась почти сплошь большими кустами. Тихо подъезжая к верхнему броду, я разглядел, что на том берегу была действительно она – Наташа с меньшой своей сестрой. Заметив, что девушки разувались, подтыкали свои юбочкн и готовились вброд переходить речку, чтоб не испугать их и захватить в живописной позе, я тихонько поворотил назад, отъехал несколько сажен, и, когда увидал, что они, оглядевшись, спустились в речку, я поехал опять вперед и подкатил к броду в то самое время, когда милые путницы, не подозревая ничьего присутствия, неся на головах корзиночки с земляникой, смотрели только на воду, чтоб не замочить юбочки. Наташа подобралась не совсем скромно и бойко шла впереди.
– Здравствуйте, Наташа! – громко сказал я.
Послышалось серебристое «а-ах!», и Наташа, испугавшись, как была, присела в воду.
Я засмеялся, бросил в нее одним букетом и, дав коню шпоры, быстро покатил домой. Сердце у меня так и стучало, но я уж не оглядывался, тут она была лучше, чем в сенцах!..
Через два дня приехали Елизарыч и Николай Степаныч и привезли с собой великолепнейшие панты. Это весенние рога изюбра, которые ценятся здесь очень дорого и сбываются китайцам. На вторую ночь, после меня, Елизарыч сидел на своей знаменитой зверовой солянке и ночью скараулил этого зверя. Пришел он на солонец уже перед утром, и дедушко убил его наповал.
Понятное дело, что с дедушкой я увидался в тот же день приезда. Только что он сходил в баню, после такой удачной охоты, как я был уже у него, пил чай, поужинал, просидел целый вечер и проговорил до полночи. В нашу беседу заявились оба брата Шестопаловы, мой денщик Михайло Дмитрич – ярый охотник, и разговорам не было конца. Я, конечно, передал все свое путешествие, кроме приятной встречи с девушками, подлинно оповестил свое бегство от медведя и как убил козлуху. В свою очередь, дедушко рассказал, со всеми подробностями, свою охоту и похвалил меня за ту осторожность, что я не полез на медведя с одним зарядом и привел в поучение несколько несчастных случаев от подобных встреч. Николай Степаныч, кажется, на десятый раз сказывал о том, как он «пужнул» мишку сквозь куст и т. д. Только мой Михайло слушал с замиранием сердца и ничего не передавал; зато Егор Степаныч посмешил нас вдоволь, придуривая то над случаем, то над братцем, как тот сделал медведя уродом.
– Хорошо тебе зубы-то скалить, – огрызался Николай Степаныч. – Нет, брат, с таким зверем шутка плоха; это теперь-то мы с тобой похохатываем, а там, на солянке, не то было. Как пришел да выставился на валежину, а я как увидал, кто ко мне пожаловал, так нет, братец, Егор Степаныч, мне уж не до смеху было, а начал я творить молитву да призывать ангела-хранителя на помощь. После этого уж, значит, я брызнул его в широку-то морду, – заключил Шестопалов и стал собираться домой, а за ним и мы потянулись, как гуси, от Елизарыча, который начинал уж позевывать.
Во весь этот вечер Наташи я не видал – в горницу она не приходила, должно быть, стыдилась после нашей встречи на броду; только букет мой, стоя в банке от варенья на небольшом комодике, красовался своими полевыми лилиями и напоминал мне серебристое «ах!» и сидячую ванну сконфузившейся девушки…
Нисколько не думая о том, как назовет меня читатель, я сообщу следующие факты.
Уже осенью, в начале сентября, после обеда, сидел я от скуки на высоком берегу Газимура, читал какую-то книжицу и любовался природой. Ко мне подошел мой денщик Михайло и, постояв немного около меня, сказал:
– Чего тут сидеть, барин! Пойдем лучше с ружьями да поищем кого-нибудь.
– Айв самом деле, пойдем. Что-то скучно стало. Иди скорее да приготовь мне охотничьи сапоги, – сказал я.
Не прошло и четверти часа, как мы с Михайлой шли уже по дороге, за околицей Култумы. Не доходя до Наташина брода, – как я стал называть верхний газимурский брод, – нам попался навстречу маленький, согнувшийся старичок, который нес на спине большой пук ивовых прутьев, вероятно для плетения морды (ловушка для рыбы).
– Степан Иваныч! здравствуйте, как поживаете? – сказал Михайло и низко поклонился.
Я сделал то же.
– Здравствуйте, здравствуйте, господа честные! Куда господь понес? Путь вам дорогой и благословение божье! – сказал старичок, тоже низко кланяясь.
Мы прошли.
– Кто такой этот Степан Иванович? – спросил я Михайлу.
– Ну, барин, разве не знаешь? Это старичок Дерябин. Вот испытаем; говорят, он шибко «фортунистый»! – сказал Фома неверный, мои Михайло, который где-то чего-то начитался и ничему не верил: у него не было ни бога, ни черта, ничего решительно, кроме видимого и ощущаемого.
Мы пошли вниз по Газимуру. Подходя к поскотине, я увидал между мелкими кустиками бегущий табунчик каменных рябчиков (серые куропатки). Каменные рябчики здесь живут во множестве, а осенью и зимой попадают в больших табунах. Однажды, уже по снежкам, мне случилось заметить их в большом табуне, который расположился у приготовленных для городьбы жердей. Я ударил вдоль, и мы с Михайлой собрали, с ранеными, девять штук. Побежав за ними, я долго не мог взять на прицел, потому что они бойко удирали и только мелькали между кочками, выбитыми скотом, кустиками. Наконец я выстрелил и бросился к тому месту. Табунчик шумно поднялся и улетел. Подскакивая к кочковнику, я увидал трех бьющихся рябчиков, а четвертого, с подстреленным крылом, поймал Михайло.
Прошли немного далее, как на Михаилу наскочил заяц; тот не прозевал и убил косого.
Мы отправились в кривляки речки, где были старицы. Долго мы ходили и уже хотели воротиться, как вдруг я услыхал голос Михаилы: «Барин, барин! Смотри не зевай – гуси!» Взглянув кверху, я увидел, что два гуся, должно быть остальцы, тихо и низко тянут над кустами. Оба мы присели в кочках. Почти в один залп последовали два выстрела, мой и Михаилы, и один гусь упал в кусты. «Мой», – вскричал Михайло. «Нет, мой», – сказал я.
– Да вы разве стреляли? – спросил он.
– Стрелял, а ты?
– И я стрелял, – радостно сказал Михайло и побежал за гусем.
Мы отдохнули, я закурил, а он положил за губу. (В Нерчинском крае многие простолюдины и даже некоторые местные чиновники кладут за губу, как моряки, простой листовой или молотый табак.)
Выйдя из стариц и кривляков, мы отправились на луг. Долго ходили и никого не нашли. Наконец на плоском, пологом озерке увидали шесть плавающих чирков. Я, как не любитель ползать, сел на выбитую траву, а Михайло пополз к ним. Но чирки заметили его и поплыли к другому берегу. Нечего делать, пришлось ползти и мне, но чирки заметили и меня, дружно поднялись и полетели. Раза два налетали они кучкой на меня, но все неловко. Наконец я выбрал момент и ударил из своего знаменитого «мортимера». Два чирка упали сразу, а остальные просвистели далее, но снова заворотились, и, к удивлению нас обоих, немного подальше, упал третий, а шагов чрез пятьдесят и четвертый. Только два счастливца улетели из глаз и уже не возвращались.
– Вот так ловко! – сказал Михайло.
– Типун тебе! – проговорил я.
Пошли далее, назад к Култуме. В одном кривляке Михайло увидал на песчаной косе сидящую казарку. Не надеясь на свой дробовик, он попросил скрадывать меня.
Отправившись за такой редкой здесь дичыо, я употребил все свое уменье и подполз из-за куста шагов на 80. Ближе подползти было невозможно, а потому я, скрепя сердце, и выстрелил. Казарка захлобысталась и скоро уснула.
Солнце уже клонилось на покой и манило домой. Мы отправились назад, но нас потянуло пройти луговой стороной мимо Култумы, на «грязные озерки». Но так как там мы никого не нашли, то и пошли было к берегу Газимура; вдруг из-под самых моих ног тяжело сорвалась пара косатых уток. Я выстрелил из обоих стволов – одна из них упала, а другая улетела невредимой. Михайло дал промаха по сидячему серому селезню. Только что повернули опять к озеркам, как на меня налетел гусь, должно полагать, тот самый, у которого мы убили товарища, но и я, и Михайло спуделяли.
– Ну, барин, будет! Довольно! Верно, фарт наш кончился; пойдем домой, – сказал Михайло.
– Должно быть, что так! Верно ты сказал. – И мы едва потащились домой. На броду пришлось раздеваться, и я вспомнил Наташу.
Солнце уже давно закатилось, когда мы дотянулись до дому. На крылечке сидел Елизарыч и поджидал нас.
– Ладно же вы настегали почти у дома, в поскотине! – сказал он.
Мы, конечно, передали все до мельчайших подробностей, и дедушко сосредоточенно проговорил:
– Что, Михайло Дмитрич! будешь теперь верить моему замечанию. Я, брат, облыжно никогда ничего не говорю.
Другой случай таков.
Однажды вечером, в начале ноября, пришел ко мне Егор Степаныч, напился чаю и стал звать на лесных рябчиков, говоря, что он нашел их в большом количестве верстах в пятнадцати от Култумы, в «листвягах», а потому охота будет удобная и нестомчивая, так как место ровное. Перетолковав все, что следовало, мы порешили, что завтра, пораньше утром отправимся за ними.
Ярый охотник Михайло выпросился с нами. Мы приготовились с вечера и с нетерпением прокоротали долгую ноябрьскую ночь. Рано утром, почти что на свету, мы втроем выехали из ворот, повернули в верхнюю улицу и потянулись друг за другом. Я ехал впереди и пробовал свой пищик на рябчиков. В это время какая-то старуха вышла из ворот, перешла поперек улицу, почти под мордой моего коня, неся в руках горячую головешку, от которой изредка вылетали красные искры. Я сказал: «Здравствуй, бабушка!»
Но она что-то прошамкала и заковыляла в другие ворота. Так как было еще темновато, то я и не разобрал ее безобразия.
– И откуль ее выпихнуло, проклятую! Ну, что же бы подождать, дать крещеным людям проехать; так нет, язви ее! лезет, как кикимора полуношная, под самую лошадь! – брюзгливо сказал Егор Степаныч и гадливо плюнул.
– Что тебя мутит, что ли? – спросил я. – Что это за ведьма с огнем по селению разгуливает?
– Ведьма и есть, барин! Это бабушка Шайдуриха прошла. Да и куда ее нечистый ведет в такую пору? – отвечал Егор Степаныч.
