Читать онлайн Живопись и архитектура. Искусство Западной Европы бесплатно
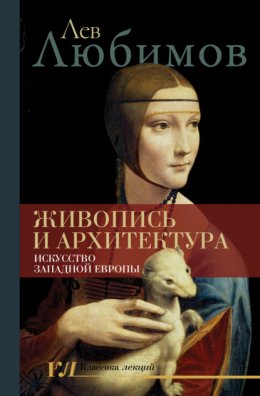
Дизайн обложки Дмитрия Агапонова
Издание подготовлено при участии Сильвы Казем-Бек
В оформлении книги использованы иллюстрации из архива Shutterstock, и находящиеся в общественном достоянии
Фото на обороте обложки из личного архива С. Б. Казем-Бек
Серия «Классика лекций»
© С. Б. Казем-Бек, предисловие, 2021
© Л. Д. Любимов (наследники), 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
* * *
Предисловие
Лев Дмитриевич Любимов, писатель, публицист, искусствовед, переводчик, родился 31 июля 1902 года в Туле в семье известных политических, общественных и культурных деятелей.
Отец, Дмитрий Николаевич Любимов (1864–1942), камергер, помощник статс-секретаря Государственного совета, гофмейстер, Виленский губернатор с 1906 по 1912 год. В качестве статс-секретаря Государственного совета был прикомандирован к Илье Репину для консультаций во время работы художника над известным полотном «Государственный совет». В благодарность за сотрудничество Репин изобразил его рядом с Победоносцевым – молодой человек в раззолоченном мундире над стариком в лентах. Эмигрировал из России в 1919 году, скончался во Франции, в Париже, в 1942 году.
Дед, Николай Алексеевич Любимов (1830–1897), профессор Московского университета, известный политик и публицист, помощник Каткова в «Русском вестнике» и «Московских новостях». Известна его переписка со многими видными деятелями науки, культуры и общественной жизни. Особый интерес представляет переписка с Ф. М. Достоевским и Л. Н. Толстым.
Мать, Людмила Ивановна Любимова (урожденная Туган-Барановская) (1877–1960), в Первую мировую войну пошла служить сестрой милосердия, возглавив санитарный поезд и два отряда Красного Креста. Была награждена за эту деятельность и за работу в окопах во время боев Георгиевскими медалями всех четырех степеней (редчайший случай для женщины). Л. И. Любимова стала прототипом княгини Веры Шеиной в «Гранатовом браслете» А. И. Куприна. В рассказе отражена подлинная история, случившаяся в семье Любимовых, естественно, творчески переработанная Куприным (в частности, трагическая кончина Жолтикова в «Гранатовом браслете» – чистый авторский вымысел).
Л. Д. Любимов учился в знаменитом Александровском лицее (бывшем Царскосельском), в Берлинском университете на отделении искусствоведения философского факультета. Работал журналистом «Возрождения», самой известной газеты в эмиграции, где печатался ежедневно в течение всего существования газеты под собственным именем и псевдонимом.
Сотрудничал во многих французских изданиях, прочитал курс лекций на французском радио, посвященный русской культуре, и особенно деятелям русской культуры в изгнании. После Второй мировой войны принял советское гражданство и в ноябре 1947 года был выслан из Франции. 25 февраля 1948 года вернулся на родину через Германию (через советскую оккупационную зону).
На родине Л. Д. Любимов женился, жил в Москве. Много печатался в периодических советских изданиях (журналах «Новый мир», «Октябрь», «Москва», «Знамя» и т. д.). Умер в Москве в 1976 году.
Сильва Казем-Бек
Средние века
«…Когда же Рим был разрушен и сожжен варварами[1], казалось, что этот пожар и это горестное опустошение вместе со зданиями выжгли и уничтожили само строительное искусство.
Судьба римлян совершенно изменилась, вместо бесконечных побед и триумфов наступили бедствия и страдания рабства. И немедленно же изменилась их манера строить и обставляться, как будто не подобало этим покоренным, самим ставшим рабами, обитать в таких же зданиях и с тем же великолепием, как во времена их владычества над миром. Тогдашний архитектурный стиль представляет с предыдущим такую же противоположность, как рабство со свободой. Согласуясь с их жалким существованием, архитектура римлян лишилась всякой стройности и красоты. Казалось, что вместе с властью люди того времени утратили всякий ум и всякое искусство. И в таком невежестве они пребывали весьма долго…
Эта жестокая и беспощадная буря войны и опустошения разразилась не только над Италией, но и над Грецией, где некогда жили изобретатели и совершеннейшие мастера всяких искусств, и там она породила такую манеру живописи, скульптуры и архитектуры, которая сверх всякой меры плоха и не имеет ни малейшей ценности».
Так в XVI в. (т. е. через тысячу лет после крушения Западной Римской империи) писал великий Рафаэль, полностью выражая вкусы и эстетические каноны эпохи Возрождения.
Итак, победно утверждая идеал красоты, неведомый Средневековью, Рафаэль обращал свои взоры к искусству античного мира, хотя (как мы увидим в дальнейшем) его собственное творчество являло собой по отношению к этому миру уже новую сияющую вершину.
Сугубо отрицательное отношение к искусству, которое мы называем средневековым, пережило Рафаэля более чем на два столетия: его полностью разделяли философы-просветители XVIII в. Ведь писал же крупнейший их представитель Жан-Жак Руссо: «Порталы наших готических церквей высятся позором для тех, кто имел терпение их строить». Неудивительно, что многие из этих церквей были тогда же разрушены.
Художественное течение, получившее в европейской культуре название классицизма, провозгласило эстетическим эталоном образы и формы античной литературы и искусства. А термин «готический», возникший в Италии в рафаэлевские времена для обозначения всего западноевропейского искусства в период от образования «варварских королевств» до эпохи Возрождения, сохранял свое первоначальное значение еще на заре прошлого века, выражая все ту же отрицательную оценку этого искусства, как якобы жалкого наследия разрушителей Древнего Рима – варваров-готов.
…Мы судим иначе. Крушение античной цивилизации и было великой трагедией. Однако ясно, что это крушение явилось следствием не столько варварских нашествий, сколько разложения самой античной рабовладельческой цивилизации, обусловившего торжество варваров. И потому в том, что произошло после их победы, мы ищем прежде всего живительные ростки нового.
Как писал Гоголь, имея в виду Римскую империю в годы ее заката, «самый процесс слияния двух жизней, Древнего мира и нового… это старание, с каким европейские дикари кроят по-своему римское просвещение… самый этот хаос, в котором бродят разложенные начала страшного величия нынешней Европы и тысячелетней силы ее, – они все для нас занимательнее и более возбуждают любопытства, нежели неподвижное время всесветной Римской империи под правлением ее бессильных императоров».
Художники и писатели-романтики, восставшие в первой половине XIX в. против закоснелых норм классицизма, выявили вновь значение и красоту величайших памятников искусства средневековой Европы.
Гениальный французский живописец Эжен Делакруа напомнил в своих записках, что прекрасное не может быть ограничено школой, местом или эпохой, что его нельзя искать только в античных произведениях, что в вариациях прекрасного «человеческий гений неисчерпаем, что задолго до того, как появились античные шедевры… человечество восхищалось прекрасными образами, созданными другими людьми и другими цивилизациями». А в статье о Рафаэле, восторгаясь произведениями искусства, созданными «в великую эпоху, справедливо названную Возрождением», он как раз подчеркивал их двойную преемственность, так как «именно в то время строгий вкус античности сочетался с воображением и смелостью готики».
В этих очерках мы постараемся показать, какими новыми качествами средневековое искусство обогатило европейскую художественную культуру.
Рожденное в упорном и вдохновенном труде всего народа, оно отвечало сокровенным грезам и чаяниям народной души.
Вспомним слова Горького: «История культуры рассказывает нам, что в Средние века ремесленные коллективы каменщиков, плотников, резчиков по дереву, гончаров умели строить здания и делать вещи изумительной красоты, еще не превзойденной художниками-одиночками. Таковы средневековые соборы Европы, таковы вещи, наполняющие музеи… Рассматривая эти вещи, чувствуешь, что они были сделаны с величайшей любовью к труду. «Маленькие» люди были великими мастерами – вот что говорят нам остатки старины в музеях и великолепные храмы в старинных городах Европы».
Победа варваров
«…Погас самый блестящий свет…»
24 августа 410 г. вестготский король Аларих вступил в Рим. Победа варваров, разграбивших Рим, произвела огромное впечатление на правящую верхушку империи, ее охватил ужас. Церковный писатель Иероним так выразил эти чувства: «Когда погас самый блестящий свет, когда отсечена была глава Римской империи и, скажу вернее, целый мир погиб в одном городе, онемел язык мой и был я глубоко унижен».
Победа варваров была не просто победой над римскими легионами. Начиналась новая страница истории. Римские рабы вышли ночью из темных подвалов и с радостью и надеждой открыли ворота вестготам.
«Неудивительно, – писал в те времена марсельский священник Сальвиан, – что бедняки ищут у варваров человечности, потому что они не могут снести у римлян варварской бесчеловечности…»
Западная Римская империя закончила свое бытие в 476 г. Но еще до этого, в 455 г., вслед за вестготами в Риме побывали вандалы. То, что они там совершили за свое четырнадцатидневное пребывание, навечно сделало название этого германского племени нарицательным.
Итак, история средневековой Европы началась с вандализма, с надругательства над культурой, которой она приходила на смену. Но в таком начале не было ничего необычного: победители обычно разрушали до основания храмы, крепости и города побежденных. Начало собственно римской эпохи в истории античного мира было ознаменовано самым постыдным погромом. Цветущий город Коринф, один из главных центров греческой культуры, был буквально стерт с лица земли солдатами римского консула Муммия. Варварский король Гейзерих разгромил со своими вандалами Рим. Аларих, кроме Рима, разорил Афины и тот же Коринф.
…Средневековое искусство Западной Европы – это и продолжение, и антитезис античного искусства. Рабство изжило себя как фундамент социальной системы, но новый фундамент еще не был создан; ко времени, когда восторжествовавшее христианство отвергло те идеалы, которые воодушевляли античное искусство (радость земного бытия, чувственное, любовное восприятие реального мира и правдивое изображение, а главное, изображение во всей мощи и славе человека, осознавшего себя прекраснейшим увенчанием природы), чудесное равновесие между духом и телом было нарушено, было покончено с плавной округлостью форм, гармонической стройностью человеческой фигуры, изяществом композиции, мягкостью моделировки. Ужас перед неразгаданными силами природы, которого не было в древней Элладе (провозгласившей устами одного из своих величайших поэтов, что «много в природе дивных сил, но сильней человека нет»), вновь на закате античной цивилизации пробудился в сознании человека, вселив в его душу тревогу и гнетущие сомнения.
Своим вторжением варвары довели до крайности смятение, царившее в разлагавшемся античном обществе. Они тучами шли с Востока. То было великое переселение народов: в распаде первобытнообщинного строя и при все-нарастающем развитии производства множество племен, особенно скотоводческих, пришло в движение, захватывая новые земли в поисках новых просторов и новых оборонительных рубежей. Людские толпы покрывали в самые короткие сроки сотни и тысячи километров, одно племя теснило другое, которое, в свою очередь, теснило соседнее, мешавшее его движению. В этом водовороте гибли и возникали недолговечные государства, в смешении племен нарождались новые народы, новые культуры. Тесня на запад готские и сарматские племена, гунны ворвались в причерноморские степи, и тогда вместе с гуннами, опережая их или сливаясь с ними, весь мир кочевников, неуемный мир бескрайних степей, обрушился на те земли, где издавна царил «римский порядок». Гунны, дававшие импульс новому завоевательному потоку, все сметали на своем пути, не делая различия между римлянами и варварами: вытаптывали своей конницей засеянные поля, вырубали сады, сжигали города и убивали их жителей.
Недаром «божьим бичом» был прозван царь гуннов Аттила. Однако в 451 г. римляне в союзе с варварами – франками, вестготами и бургундами – остановили Аттилу. Это случилось на Каталаунской равнине близ города Труа (Франция). Более двухсот тысяч воинов пало с обеих сторон. «Завязывается битва – жестокая и повсеместная, ужасная, отчаянная… – писал в следующем веке про эту бойню готский историк. – Если верить рассказам стариков, протекавший… в низких берегах ручей широко разлился от крови, струившейся из ран сраженных».
Могущество гуннов было подорвано. Аттила умер два года спустя. Его тело было положено в три гроба: золотой, серебряный и железный, – причем пленники, делавшие гробы, были умерщвлены.
Со смертью Аттилы гуннская держава распалась.
Сколько страшных воспоминаний связано для Европы с этим, по-видимому, тюркоязычным племенем и его грозным вождем!
Говорили, что там, где пронесся конь Аттилы, траве уже не расти. Но конкретнее такие его слова: «Пусть же с римлянами будет то, чего они мне желают!»
То была борьба не на жизнь, а на смерть. Но что, кроме насилия и ужаса, несли гунны в Европу, только ли ржанием степных коней да победными кликами среди горящих развалин славили они крушение античной цивилизации? В Монголии, откуда они двинулись в свои грабительские походы, к северу от Улан-Батора, наш соотечественник, известный путешественник и исследователь Центральной Азии П. К. Козлов (сподвижник Пржевальского) раскопал в 1924–1925 гг. в урочище Ноин-Ула богатейшие погребения гуннской знати, относящиеся к самому началу нашей эры. В них были обнаружены великолепные ковры, по-видимому, местного производства, с предельно выразительными сценами борьбы фантастических зверей (напоминающие по стилю знаменитые ныне шедевры скифских Пазырыкских курганов на Алтае), ткани с изображениями всадников, зонты, лакированные ложечки.
В других гуннских курганах того же времени на реке Судже, вблизи Кяхты (Бурятия), раскопанных в конце двадцатых годов, были найдены остатки шелковых тканей, лакированных чашечек, бронзовых зеркал, изделий из белого нефрита.
А о том, как жила гуннская знать в пору своего наивысшего могущества, мы можем судить по впечатлениям византийского дипломата и историка Приска Панийского, посетившего Аттилу в его ставке на Дунае.
«Скамьи, – пишет он, – стояли у стен комнаты по обе стороны; в самой середине сидел на ложе Аттила; позади него было другое ложе, за которым несколько ступеней вели к его постели. Она была закрыта тонкими и пестрыми занавесками, для красы, подобными тем, какие в употреблении у римлян и эллинов для новобрачных.
На другой день, – пишет он далее, – я пошел ко двору Аттилы с подарками для его супруги. Имя ее Крека… Внутри ограды было много домов; одни выстроены из досок, красиво соединенных, с резною работой; другие из тесаных и выровненных бревен, вставленных в брусья, образующие круги; начинаясь с пола, они поднимались до некоторой высоты. Здесь жила супруга Аттилы; я впущен был стоявшими у двери варварами и застал Креку, лежавшую на мягкой постели. Пол был устлан шерстяными коврами… Вокруг царицы стояло множество рабов; рабыни, сидя на полу против нее, испещряли разными красками полотняные покрывала, носимые варварами поверх одежды – для красы».
Кочевникам-гуннам было чуждо градостроительство. Более отсталые, чем побежденные и разоренные ими народы, они пользовались их культурными достижениями и заставляли их работать на себя. Так, вероятно, произошло и на Дунае, где жили славяне, издавна славившиеся работой по дереву.
Но кто бы ни были плотники и резчики, воздвигнувшие и украсившие Аттиловы хоромы, кто бы ни были рабыни, раскрашивавшие покрывала для Креки, или создатели изощренных художественных изделий, обнаруженных в могильниках Ноин-Ула, важно, что гунны, осквернявшие и разрушавшие прекраснейшие памятники античного искусства, были по-своему чувствительны к красоте. Однако это еще не главное.
Гуннская кочующая империя включала самые различные племена. Ведь вся степь как бы ринулась вместе с гуннами на Запад. Недаром Приск, как и другие греческие или римские авторы, огульно называет воинов Аттилы скифами. Все потому, что нагрянули они из недр древней Скифии, описанной еще Геродотом. А те толпы, что бежали от них в сторону Рима, тоже были вскормлены степью. Степной завоевательный поток нес с собой порывистое, освежающее дыхание родных для него просторов, в лоне степей возникшую и расцветшую художественную культуру, ту, что переняли готы у сарматов, как те у скифов – в переплетении очень древних традиций, связанных с Месопотамией, Ираном и Китаем.
Постоянным, долго не иссякавшим очагом этой художественной культуры были степи нынешней Украины. Там в скифские времена, в VII и VI вв. до н. э., по соседству с греческими поселениями были созданы шедевры искусства «звериного» («тератологического») стиля (гордость Эрмитажа). То были предметы, украшавшие оружие, одежды и снаряжение и, по тогдашним представлениям, наделенные некоей магической властью, охраняющие человека от таинственных сил природы. Тысячу лет спустя «звериный» стиль все еще царил в искусстве степных племен – в их головных уборах, пряжках, застежках (фибулах) и т. п. Но это искусство постепенно утратило изобразительную мощь: в нем восторжествовало иное начало, в своей декоративности исполненное неудержимого динамизма.
Искусство «звериного» стиля распространилось на огромной территории, какой уже не знало с тех пор ни одно другое искусство: от Черного моря до Балтики и от Великой Китайской стены до Центральной Европы, а после варварских нашествий на Рим – до берегов Атлантического океана и даже за пределы нашего континента.
Это искусство пришлось по душе и населявшим Европу кельтским племенам (так до конца и не романизировавшимся под римским владычеством), радостно пробуждая в них их собственное далекое прошлое: латенскую культуру (VI–II вв. до н. э.), или культуру позднего железного века, в искусстве которой формы зверей и растений уже растворялись в орнаменте.
При этом утверждалось искусство «самодеятельное», декоративно – прикладное, восставшее против профессионального, «фигурного», превыше всего прославлявшего цезарей. В борьбе с римским наследием оно отражало в ту пору буйный протест рабов и освобождавшихся племен, разбивавших статуи своих насильников и поработителей, равно как и богов, благословением которых те оправдывали свое владычество.
Произошло столкновение двух противостоящих друг другу начал. С одной стороны – остатки великой художественной культуры античности, некогда расцветшей в прославлении человека как наиболее достойного объекта всего художественного творчества, светлой в своем восприятии мира и его преображении. С другой – художественное творчество, рожденное не земледельческой цивилизацией (как в Египте или Элладе), а мятущееся, неуемное, подобно самой жизни на степных просторах. В этом творчестве почти отсутствовало изображение человека, ибо главное – это ведь звериный образ, рожденный древней охотничьей темой да страхом перед неотвратимой судьбой. Причем порой этот образ видоизменялся так, что когтистая лапа, клюв или зловещий оскал покорно вплетались в некий ленточный узор без начала и конца, уже ничего не выражающий, кроме собственной взрывчатой энергии, неведомо куда устремленной.
Искусство античного мира нуждалось в обновлении, как нуждался в обновлении сам этот мир. Оно и было осуществлено варварами.
В западноевропейском искусстве раннего Средневековья можно проследить и отголоски античности, памятники которой поражали варваров своим величием, и воздействие древнего художественного наследия кочевников Востока, охотников и рыболовов с его вариациями «звериного» стиля, идущими из Передней Азии, Причерноморья, Западной Сибири, Алтая и даже Китая, равно как радующей варваров яркой декоративности художественных изделий Египта, Сирии, Ирана и других стран Востока, или, наконец, всюду вызывавшей почтительную зависть новой, замечательной художественной системы, разработанной Византией.
В Равенне, некогда столице Западной Римской империи, высится недалеко от морского берега массивная и суровая гробница остготского короля Теодориха, тщетно пытавшегося объединить под своей державой римлян и готов. Хотя зодчий, воздвигнувший ее в VI в., вероятно, и изучал восточные, римские памятники, стройность тут уступила место несколько грубоватой упрощенности, сочетающейся с внушительностью общего облика.
Вместо купола мавзолей перекрыт одним из самых больших монолитов, когда-либо употреблявшихся в строительстве (диаметр – 10,5 м, высота – 2,5 м).
Эта глыба, добытая на противоположном берегу Адриатического моря, в каменистой Истрии, и там выдолбленная для уменьшения веса, была доставлена в Равенну подвешенной между кораблями. Затем монолит был поднят на земляную насыпь в уровень гробницы и установлен.
Среди народов, оседавших на территории бывшей Римской империи, очевидно, еще сохранялись такие строительные навыки.
«Варварское» начало проявилось особенно ярко в обработке металлов, в частности в ювелирном деле. То была стихия орнамента, издавна присущая варварским племенам.
На фибулах в форме распластанных орлов, на золотых рукоятках и ножнах мечей кроваво сверкают гранаты и рубины. В роскошных коронах вестготских королей VII в., обнаруженных в кладе около Толедо (ныне они находятся в музеях Парижа и Мадрида), с гранатами на золотых обручах и причудливыми ажурными подвесками, видно желание похвалиться богатством, насладиться игрой золота и камней.
А чем дальше от тех краев, где некогда был твердо установлен римский порядок, процветала античная культура, тем стремительнее в абстрактном орнаменте преображаются звериные образы и образ зарождающейся христианской иконографии. Это сказалось особенно ярко в художественном творчестве, процветавшем в VII и VIII вв. в Ирландии и Западной Англии (Нортумбрии). Там в монастырях церковные книги украшались миниатюрами, многие из которых принадлежат к самым замечательным достижениям в художественном творчестве раннего Средневековья.
Огромные, величественные инициалы, спирали, раструбы, ленточный орнамент, сложные и самые неожиданные извивы, вплетающиеся в орнамент головы фантастических зверей и фантастические же изображения святых. И во всех этих тщательно выведенных пером причудливых линейных сплетениях, во всей этой головокружительной динамичности, в беспощадно деформированных, чисто узорных образах с их затейливо произвольной раскраской – внутренняя гармония, строго продуманная, нигде не нарушаемая декоративность, единый ритм.
Воздействие этого искусства (ценнейшие образцы которого ныне хранятся в библиотеке Тринити колледжа в Дублине и в Британском музее в Лондоне), искусства, выработавшего свой собственный законченный стиль, было велико и в континентальной Европе.
Абстрактная «звериная» орнаментика расцвела особенно бурно в деревянной резьбе Скандинавии в эпоху викингов. Мироощущение викингов, бороздивших морские просторы, как-то перекликалось с мироощущением племен, бороздивших просторы степей. Здесь та же древняя охотничья тема, та же постоянная борьба с беспощадными силами природы и страх перед неизведанным.
Звери пожирают друг друга, безудержно переплетаются в скандинавской резьбе, развертывая перед нами как бы сплошную стихию ужаса. Это яростное переплетение могло завершиться головой свирепого фантастического чудовища, возвышавшегося на носу драккара – корабля викингов, – являя собой конкретный звериный образ, восхищающий нас выразительной мощью[2].
Возвращение к изобразительной мощи
В своих рассуждениях о различных видах искусства знаменитый римский архитектор Витрувий указывал, что живопись способна передать «то, что есть или может быть», исключая «все то, что, будучи только плодом воображения, не существует, не может существовать и не будет существовать».
Это очень точное определение, выражающее сущность изобразительного искусства античной цивилизации, оседлой, устоявшейся, конкретной в своих устремлениях, воплощаемых в столь же конкретных и ясных образах.
Передать только то, что есть или может быть! Ибо даже самая прекрасная античная статуя таких идеальных пропорций, какие не встречаются в природе, – в основе все же реальность, но доведенная до совершенства, возможность которого как раз и доказывается искусством.
Иным по своим устремлениям было художественное творчество степных кочевников кельтских и германских племен, сокрушивших античную цивилизацию.
Посмотрим на франкские пряжки VII в., очень характерные для искусства эпохи Меровингов (так назывались франкские короли, считавшие себя потомками легендарного вождя Меровея). Тщательное изучение приводит к выводу, что все эти завитки и кривые родились из сцепления фигур фантастических чудовищ-драконов, это всего лишь декоративный узор, геометрическая композиция.
Но проходит немногим более столетия. И вот перед нами бронзовая статуэтка всадника с мечом в руке (Париж, Лувр). Объемная, увесистая и внушительная, несмотря на малый размер. Могучими выглядят и всадник, и его конь. В воинственной фигуре с мечом спокойная и уверенная сила. Никакой деформации или стилизации: весь образ напоминает древние конные статуи римских цезарей. Это Карл I Великий – король франков, новый, в Риме короновавшийся император Запада.
Что же произошло с тех времен, когда были созданы меровингские пряжки с их чисто абстрактным узором?
Возникла огромная держава, первая империя Средневековья, включавшая современную Францию, Южную и Западную Германию, современную Бельгию и Голландию, Среднюю и Северную Италию, Северную Испанию.
Карл был выдающейся личностью, властелином, понимавшим необходимость просвещения и старавшимся распространять его. В школе, основанной им, дети вельмож обучались вместе с его сыновьями поэзии, риторике, диалектике, астрономии. Сам Карл I владел латинским и греческим языками, но в грамоте до конца дней не был силен. Как свидетельствует его современник и биограф историк и зодчий Эйнгард, Карл страстно желал научиться писать: «… для этого возил с собою на постели под подушкой дощечки и листки, чтобы в свободное время приучить руку выводить буквы. Но мало имел успеха труд, начатый не в свое время, слишком поздно». Как бы то ни было, император Запада сумел окружить себя людьми образованными и покровительствовал искусству.
Эпоху Карла Великого иногда называют «каролингским Возрождением»: стремясь возродить в новом облике величие Древнего Рима, империя Карла приобщалась в своем художественном творчестве к достижениям поздней античности.
Конечно, не волнистый плетеный узор, не абстрактная «звериная» орнаментика, а конкретность и ясность форм в передаче того, что есть или может быть, лучше всего отвечали запросам юной государственности, преодолевавшей вековой хаос и заботящейся прежде всего о своей устойчивости. Эта государственность опиралась на религию. В императорских указах читаем, что «живопись допустима в церквах для того, чтобы неграмотный мог прочитать на стенах то, что он не может узнать из книг». Живописи надлежало обрести более изобразительно – повествовательный характер.
Красочны и внушительны, несмотря на некоторую наивность, образы немногих сохранившихся от тех времен монументальных росписей и мозаик.
В резном (из слоновой кости) книжном окладе из Геноэльс-Эль-дерена (Брюссель, Музей прикладного искусства) сцена встречи Марии и Елизаветы (матери Христа и матери Иоанна Крестителя) принадлежит к шедеврам раннего средневекового искусства. Фигуры малообъемны, но сила и согласованность их взаимного порыва, их органическая, подлинно неразрывная слитность, равно как и патетика выраженных чувств, выдают руку вдохновенного мастера, предвещая расцвет оригинальной зрелой средневековой пластики.
Сохранившиеся в большом количестве миниатюры каролингской эпохи – самое для нас значительное в ее художественном наследии. Среди них несомненные шедевры – миниатюры Евангелий архиепископа Эбо и короля Лотаря, в которых виртуозность и динамичность рисунка, унаследованные от англо-ирландской миниатюры, создают могучую выразительность образов.
Ценнейший памятник изобразительного искусства того времени – знаменитая Утрехтская Псалтырь (так названная по месту ее хранения – Университетской библиотеке в Утрехте) со ста шестьюдесятью пятью рисунками, выполненными коричневыми чернилами. Тут сцены охоты, битв, пиров, мирного труда крестьян, холмистые пейзажи, всевозможные архитектурные мотивы. Как правильно было отмечено, такая же живопись, графическая четкость и декоративность, наблюдательность и такая же любовь к миру, окружающему человека, проявляются вновь с подобной силой и мастерством лишь в рисунках XIV столетия.
Империя Карла Великого не была долговечной. В конце IX в. некий парижский монах в таких словах упрекал представителей тогдашней правящей верхушки, развращенных беспримерной роскошью, на которую зарились воинственные соседи империи – норманны, сарацины и венгры: «Твое великолепное облачение держится на застежке из золота. Ты кутаешься в драгоценную пурпурную мантию. Только накидка, сотканная из золотых нитей, достойна твоих плеч, только пояс, усыпанный драгоценными каменьями, – твоих бедер, и только золотые ремешки – твоей обуви».
Вознесшиеся над искусственно объединенными разноязычными народами и племенами правители каролингского государства не могли утвердить на длительное время ни новый порядок, ни новую культуру.
Грозны и разрушительны были нашествия врагов, особенно норманнов. В непрерывных войнах гибли очаги культуры и памятники искусства, расхищались несметные богатства, накопленные во дворцах и монастырях. Феодальные распри ускоряли распад каролингской государственности.
В свой недолгий расцвет каролингское искусство многое возродило из пепла, многое почерпнуло в самых различных культурах, но оно так и не создало новой законченной художественной системы. И все же огромна заслуга этого искусства, ибо его достижения уже предвещали возможность такой системы.
Романское искусство
Вновь обретенный синтез
В середине XI в. французский монах-летописец Рауль Глабер поделился с потомством на искалеченной латыни – таково уж было следствие «варваризации» Европы – своими юношескими воспоминаниями: «Вскоре после 1000 года вновь приступили к постройке церквей, и это почти повсеместно, но главным образом в Италии и в Галлии. Их строили даже тогда, когда в том не было необходимости, ибо каждая христианская община спешила вступить в соревнование с другими, дабы воздвигнуть еще более великолепные святилища, чем у соседей. Казалось, что мир стряхивал свои отрепья, чтобы весь приукраситься белым нарядом церквей».
То была эпоха суровая, тревожная, но и созидательная. Эпоха наивысшего развития феодализма, значит, уже не поиска, а нахождения устойчивых форм социальной организации, эпоха новых государственных образований, уже не искусственных или случайных, а органически народившихся с пробуждением национального самосознания. Это была эпоха нахождения юной Европой некоего синтеза заимствований и традиций, которые воздействовали на мироощущение раннего Средневековья.
Синтез был найден и в искусстве.
Вслед за Элладой Древний Рим рассматривал скульптуру как одно из высочайших искусств и придавал ей совершенно самостоятельное значение. Раннее же Средневековье тяготело к орнаменту, к чуждому объемности линейному узору, и потому достижения каролингской эпохи не могли быть сами по себе долговечны.
Термин «романский стиль» (указывающий на преемственность от Рима) относится к искусству Западной и Центральной Европы XI и XII вв.
В романском стиле орнаментальное и изобразительное начала согласованы. Сущность найденного синтеза – в сочетании образной выразительности и узорной геометричности, простодушной непосредственности и сугубой условности, изощренной орнаментики и массивной, подчас даже грубоватой монументальности.
Зодчество в Средние века стало ведущим искусством, о чем свидетельствует тогдашнее истинно грандиозное храмовое строительство. Храм был призван объединять «человеческое стадо» в молитвенной покорности Богу, как «символ вселенной» олицетворяя собой торжество и универсальность христианской веры.
В раннем Средневековье стены храма часто оживлялись узорным орнаментом, по своей сущности геометрическим и абстрактным. Романское искусство – и в этом заключается совершенный им переворот – дополнило, а иногда и заменило такой орнамент изобразительной пластикой, выполняющей в новом качестве его функции. И вот каменная гладь храма оживилась искусно высеченными человеческими изображениями, часто объединенными в многофигурную композицию, наглядно передающую то или иное евангельское сказание.
Членение фасада, сами архитектурные формы определяют образный строй такой композиции. Вот, например, «Тайная вечеря»: Христос, окруженный за трапезой своими учениками. Композиция развертывается на полуциркульном поле тимпана – аркой обрамленном пространстве над дверями церковного портала. И в том, и в другом случае одновременно, что особенно важно, решены две основные задачи: наглядное возвеличение божества и декоративное заполнение плоскости. Перед нами не штрихи, не завитки, не линейный узор, а человеческие изображения, однако в деталях и в целом построенные подобно абстрактному орнаменту с повторами, чередованиями, скрещивающимися диагоналями, с соблюдением геометрической точности и симметрии. При этом каждая частичная деформация не только способствует декоративности, но и заостряет образную выразительность как данной фигуры, так и всей композиции.
Как прежде абстрактную орнаментику, циркуль и линейка часто регулируют изобразительное искусство, как романское, так и более позднее.
Хоть и относящийся уже к XIII в. альбом французского зодчего Виллара де Синекура (хранящийся в Национальной библиотеке Парижа) с архитектурными мотивами, равно как и набросками людей и животных, чрезвычайно показателен в этом отношении. Схемой каждого изображения служит четко обозначенная геометрическая фигура.
Человеческие изображения естественно главенствуют в романской пластике, призванной запечатлеть в камне евангельские сюжеты. Но образ зверя не исчез в ней. И чаще всего это образ свирепого фантастического чудовища. Кусая и пожирая друг друга, чудовища переплетаются на стенах христианского храма столь же яростно и неудержимо, как на носу дракара или в еще более древнем, чисто «варварском» художественном творчестве. Этому не следует удивляться. Пусть крепко вошедшая в жизнь новая религия проповедует благость Всевышнего, эта религия включает и веру в дьявола. Злое начало пугает человека – нет уверенности в завтрашнем дне ни у рыцаря в его грозном замке, ни у беззащитного закрепощенного крестьянина.
Растущий охват видимого мира в искусстве, равно как и проявление чисто народной фантазии, которая подчас отражала какие-то сомнения, страхи, а быть может, и свободомыслие, смущал церковные круги. Так, один из виднейших церковных деятелей Бернард Клервосский (впоследствии причисленный к лику святых) заявлял с возмущением: «К чему в монастырях перед лицом читающей братии это смешное уродство или красивое безобразие? К чему тут нечистые обезьяны? К чему дикие львы? К чему чудовищные кентавры? К чему получеловеки? К чему полосатые тигрицы? К чему воины, разящие друг друга? К чему охотники трубящие?
Здесь под одной головой видишь много тел, там, наоборот, на одном теле много голов. Здесь, глядишь, у четвероногого хвост змеи, там – у рыбы голова четвероногого. Здесь зверь спереди конь, а сзади половина козы, там рогатое животное являет с тыла вид коня.
Столь велико, наконец, причудливое разнообразие всяких форм, что люди предпочтут читать по мрамору, чем по книге, и целый день разглядывать эти диковинки, вместо того чтобы размышлять над божественным законом».
Церковь опасалась, как бы образы внешнего мира, вольный полет фантазии не ввели верующего в соблазн.
«Огромная каменная симфония»
Итак, зодчество было ведущим искусством.
Вот что пишет Виктор Гюго в своем знаменитом романе «Собор Парижской Богоматери»: «В те времена каждый родившийся поэтом становился зодчим. Рассеянные в массах дарования, придавленные со всех сторон феодализмом… не видя иного исхода, кроме зодчества, открывали себе дорогу с помощью этого искусства, и их илиады выливались в форму соборов. Все прочие искусства повиновались зодчеству и подчинялись его требованиям. Они были рабочими, созидавшими великое творение. Архитектор – поэт – мастер в себе одном объединял скульптуру, покрывающую резьбой созданные им фасады, и живопись, расцвечивающую его витражи, и музыку, приводящую в движение колокола и гудящую в органных трубах. Даже бедная поэзия, подлинная поэзия, столь упорно прозябавшая в рукописях, вынуждена была под формой гимна или хорала заключить себя в оправу здания… Итак, вплоть до Гутенберга зодчество было преобладающей формой письменности, общей для всех народов… До XV столетия зодчество было главной летописью человечества».
И далее еще – о самом соборе: «Это как бы огромная каменная симфония; колоссальное творение и человека, и народа; единое и сложное, подобно „Илиаде“ и „Романсеро“, которым оно родственно; чудесный результат соединения всех сил целой эпохи… То, что мы говорим здесь о фасаде, следует отнести и ко всему собору в целом; а то, что мы говорим о кафедральном соборе Парижа, следует сказать и обо всех христианских церквах Средневековья».
Католическая церковь всеми средствами утверждала свое господство.
Христианство объединило европейский мир против общего врага – сарацин. Церковь к тому же была крупнейшим землевладельцем – около третьей части всех земель принадлежало ей. Церковь была мощной силой внутри феодальной организации. И духовенство практически было единственным образованным классом – в значительной степени именно оно определяло формы мышления.
«Богатое, праздное, воинственное и независимое феодальное дворянство», по меткому определению Г. В. Плеханова, чьим ремеслом и единственным занятием была война, выработало свой особый род поэзии, способный увлекать только его, а не другие классы общества.
Феодал, «когда-то знаменитый своим задором и своими песнями», – это Бертран де Борн, один из самых видных провансальских поэтов XII в., так называемых трубадуров.
Вот образец его поэзии, с непревзойденной откровенностью воспевающей не только радость кровопролития, но и рожденную животным страхом ненависть к закрепощенным крестьянам (вилланам):
- Мужики, что злы и грубы,
- На дворянство точат зубы,
- Только нищие мне любы!
- Любо видеть мне народ
- Голодающим, раздетым,
- Страждущим, необогретым!
- Пусть мне милая солжет,
- Ежели солгал я в этом…
- Ведь виллан, коль укрепится,
- Коль в достатке утвердится,
- В злости равных не найдет,
- Все разрушить он стремится.
Пафос беспощадного феодала, каким был Бертран де Борн, все же не определяет в целом поэтического творчества трубадуров. Среди них встречались и представители мелкого рыцарства, воспевавшие вассальное служение даме сердца в ущерб религиозным обязанностям. Так, один из них заявлял, что благосклонный взгляд его дамы доставляет ему больше радости, чем забота четырехсот ангелов, «пекущихся о его спасении». Антицерковная и антифеодальная сатира проявлялась в творчестве трубадуров, среди которых были и простолюдины. Так что провансальская поэзия тех времен в целом выражает мироощущение достаточно сложное и многогранное.
Вольнодумство вовсе не было чуждо людям того времени. Мы отмечали, что даже сюжеты скульптурного украшения соборов подчас смущали церковь своей вольностью. И недаром тот же Бернард Клервосский обращал внимание папы на то, что «почти во всей Галлии, в городах, деревнях и замках, не только в школах, но и на перекрестках дорог, не только образованные или зрелые, но и юные, простые и заведомо невежественные школяры рассуждают относительно Святой Троицы».
Ереси были тоже повсеместным явлением. В самом раннем упоминании о них, относящемся к рубежу X–XI вв., рассказывается о простом крестьянине из Шампани Летуаре, который объявил народу, что, умудренный «самим Святым Духом», он отверг учение католической церкви. Летуар отказался следовать всему, чему «учили пророки», разбил распятие и, главное, призвал крестьян не платить десятины, чем привлек множество народа на свою сторону. Признанный высшей церковной властью «безумным еретиком» и оставленный испугавшимися приверженцами, Летуар «бросился вниз головой в колодец».
Сто лет спустя, когда ереси стали особенно опасны для церкви, еретиком был объявлен знаменитый Абеляр, крупнейший мыслитель романской эпохи, стремившийся обосновать разумом религиозные догмы и дерзко опровергавший церковные авторитеты.
Равно как и мироощущение того времени, идеал красоты, вдохновлявший романских художников, отражал очень глубокие, хоть нередко и противоречивые, устремления.
Сирийский писатель XII в. Усама ибн Мункыз, знавший франков, отзывается о них как о людях весьма примитивной культуры.
Неотесанные воины феодальной Европы, рыцари-крестоносцы в пернатых шлемах, захватившие в 1204 г. Константинополь (при осаде которого сгорело больше домов, чем имелось тогда в трех крупнейших городах французского королевства), осквернили насилием и грабежом горделивую Византию (как известно, не признававшую папской власти). То были в глазах ее поверженных сынов не благородные паладины с именем возлюбленной дамы на щите и на устах, а разнузданные и беспощадные дикари, не только давившие живого и мертвого, но и громившие великое наследие Эллады и Рима.
Романский стиль подчас наделяли такими эпитетами, как простонародный и даже мужицкий. Конечно, в сравнении с арабской архитектурой, столь же затейливой и тонко продуманной, как и «Сказки тысячи и одной ночи», или же с утонченным, гениально изысканным в своей одухотворенности и роскоши искусством Византии, романский художественный стиль может показаться несколько примитивным, упрощенно-лапидарным. И все же именно этим стилем средневековая Европа впервые сказала подлинно свое слово в искусстве. Слово веское и неповторимо своеобразное.
Перед лицом арабского мира и уже близкой к закату Византии Европа утверждала свою историческую самобытность и в то же время органическую преемственность с художественным наследием античности. Как мы увидим, такая преемственность несомненна, хотя изобразительное начало и приняло в романском искусстве особую форму, во многом рожденную только воображением и, значит, весьма отличную от реальности, как ее понимали Витрувий и даже (в своих мечтах) какой-нибудь мастер каролингской эпохи.
В большом городе или в городке церковь как бы служила увенчанием всей средневековой жизни. Это было видное издали единственное высокое каменное строение во всей округе, отличающееся крепкой и величавой архитектурой. В воскресенье или в иной праздничный день колокольный звон сзывал окрестных жителей в храм. Там, под высокими арками, в обстановке парадной, торжественной, они лицезрели роскошно облаченных священнослужителей, слушали мало кому понятные, но «как медь» красиво звучащие латинские славословия и под звуки органа опускались на колени перед алтарем. Совместное моление, совместное участие в церковной церемонии рождали в этих, в огромном большинстве простых людях взволнованно-сосредоточенное настроение, отвлекавшее их от каждодневных тягот и забот. И, естественно, им хотелось, чтобы этот храм, где все было так отлично от их будничной жизни, где они собирались не для ратных дел и не для подневольной работы, а для общения с Богом, был бы как можно внушительнее и краше. Храм любили как воплощение всеобщего созидательного усилия, им гордились перед соседями, и каждая христианская община (по свидетельству Рауля Глабера) вступала в строительное соревнование с другими.
Юная Европа только еще приобщалась к изысканной утонченности современных ей более древних художественных культур. Бедность и суровый быт были уделом даже малоземельного дворянства, так что, как и в империи Карла, лишь носители высшей светской или церковной власти жили действительно в роскоши. В «Путешествии в Арзрум» Пушкина бедные рыцари, попавшие на Восток во время Крестовых походов, были поражены, когда они «…оставя голые стены и дубовые стулья своих замков, увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы с цветными камешками на рукояти».
В романскую пору юная Европа пожелала украситься в свою очередь, однако по-своему. Так и не достигнув заветной цели – «освобождения гроба Господнего от неверных», – Крестовые походы все же принесли их участникам – набожным, воинственным, но не всегда бескорыстным искателям приключений – богатую добычу, включавшую художественные изделия арабского Востока и Византии, и одновременно значительно расширили рыцарский кругозор. Но, использовав чужие достижения и опыт, Европа сумела отразить в художественном творчестве прежде всего свое собственное, во многом еще неискушенное мироощущение.
Виктор Гюго отмечал, что устройство христианского храма оставалось одинаковым во все Средневековье: «…какой бы скульптурой и резьбой ни была разукрашена оболочка храма, под нею всегда находишь, хотя бы в зачаточном, начальном состоянии, римскую базилику». И он добавлял в подтверждение, что ствол дерева неизменен и лишь «листва прихотлива».
В самом деле, зодчие романской эпохи взяли за образец римскую базилику. Впрочем, по своему названию базилика («царский дом») не римского, а более древнего, греческого происхождения. Да и в Древнем Риме так назывались не храмы, а обширные прямоугольные сооружения, разделенные на несколько частей, где заседали суды и шла торговля. Уже в раннее Средневековье христианское зодчество продолжило античную традицию, использовав структуру именно таких сооружений, однако не для светских, а для религиозных нужд. Что вполне логично, так как эта структура вполне подходила для христианского храма, призванного вместить перед алтарем возможно большее число молящихся.
Пусть и в новом качестве, преемственность, как видим, все же не была нарушена.
Центральный высокий продольный зал, так называемый неф, придает церковному зданию вид могучего корабля. К нему с боков примыкают еще два, а то и четыре более низких нефа. С восточной стороны главный неф завершается полукруглым выступом – апсидой, часто в венце полукруглых же небольших капелл (апсидиол). Поперечный зал, так называемый трансепт, придает зданию форму креста. Высокая башня увенчивает место пересечения, являющееся центром храма. Западный фасад чаще всего двухбашенный.
Таков в общих чертах наружный вид романского храма.
Раннехристианские базилики имели плоское деревянное покрытие. С таким же покрытием воздвигались и раннероманские базилики. Однако пожары, очень частые в лесистой Европе, были пагубны для подобных храмов. Это, в частности, и потребовало введения очень существенного новшества, впрочем, тоже восходящего к Риму.
Есть старая истина, согласно которой то, что обеспечивает прочность зданию и лучше всего отвечает его назначению (мы теперь говорим «его функциональности»), придает ему и наибольшую красоту. В конце XI в. деревянные покрытия стали заменять каменными сводами, чтобы, как писал современник-француз, «охранить здание от пожаров и одновременно придать его структуре больше совершенства». Совершенство, очевидно, как функциональное, так и эстетическое.
Возведение каменных сводов стало делом нелегким. Ведь многие строительные навыки были забыты к тому времени. И тем не менее зодчие юной Европы решили вставшую перед ними задачу созданием цилиндрического свода с подпружными арками в главном нефе. Наиболее характерным достижением явился массивный свод из клинчатых камней.
Внешний облик романского храма и его внутреннее пространство точно соответствуют друг другу. Как снаружи, так и внутри – ясность членений массивных форм, суровая непроницаемость толстых стен, те же строгие соотношения вертикалей и горизонталей, то же нарастание ввысь каменной громады с ее выступами и полуциркульными арками и (одновременно) та же нерушимо уверенная устойчивость ее на земле, в которую, кажется нам, она пустила вечные корни.
Ясность, монолитность, внушительность, возвышающаяся до истинного величия, – вот что характеризует романское зодчество. Суровая сила дышит в нем, как бы выставляющая себя напоказ. В этом, пожалуй, коренное отличие романского зодчества от византийского.
В интерьере византийского храма нет видимого становления противоборствующих сил, ибо сложности архитектурных форм соответствует их плавное распределение. Все едино и нераздельно. В противоположность самой основе античной архитектуры византийские мастера стремились в постоянной текучести как бы растворить видимую материю, сгладить возможно полнее ее осязаемую вещественность.
Не таково романское зодчество. Глядя снаружи на романский храм или вступив под его своды, мы ясно распознаем упрямую борьбу мастера-созидателя с неподатливой стихией камня. Суровая мощь в каждой архитектурной детали, четко выявляющей и свою необходимость, и свою самостоятельность. Объемы друг с другом сопрягаются, но никак не стушевываются в этом сопряжении. Мы знаем, для чего поставлен здесь каждый столб, какую он поддерживает тяжесть, какую службу несет каждая арка над столбами, в окнах или в дверях. Вещественность и устойчивость – как в зодчестве Древнего Рима. И люди, строившие романский храм, как бы говорят нам: вот так, камень за камнем, объем за объемом, мы воздвигали эту громаду, где нет ничего скрытого, никакой загадки, а есть лишь наша созидательная воля.
