Читать онлайн Заметки о России бесплатно
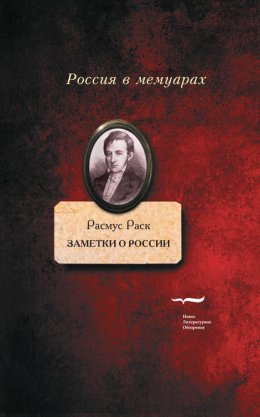
© Л.С. Чекин. Составление, вступ. статья, примечания, перевод с датского, исландского, немецкого и шведского языков, 2018
© О.В. Рождественский. Перевод с датского языка, 2018
© Т.Л. Шенявская. Перевод с исландского языка, 2018
© ООО «Новое литературное обозрение». 2018
* * *
Раск и Россия
Расмус Кристиан Раск (1787–1832) был выдающимся представителем «золотого века» датской культуры, прославленного также именами Адама Готлоба Эленшлегера, Ханса Кристиана Андерсена и Сёрена Обю Киркегора. За пределами Дании Раск известен прежде всего как автор одного из основополагающих текстов индоевропейского языкознания, «Исследования о происхождении древнескандинавского или исландского языка». Парадоксально, что масштаб его дарования становится более ясным в последнее время, когда индоевропеистика перестала быть мейнстримом лингвистической науки и истории культуры. Подобно волшебной лампе хранившегося в его дорожном сундуке эленшлегеровского «Аладдина», гений Раска привел его на порог величайших лингвистических открытий и обобщений; Раск задумывался о сравнительно-исторической классификации всех языков мира и приходил к выводам о древнейшей истории человечества и его будущем. Яркий взлет творческой биографии Раска связан с его жизнью в России, где датский лингвист оказал значительное влияние на развитие нескольких областей филологии и истории. Но известно об этом только в общих чертах, в частности потому, что большая часть оставшихся от российского периода писем Раска прежде на русский язык не переводилась, а дневниковые записи не издавались даже в оригинале.
Публикация «Исследования…» в начале 1818 г. принесла Раску звание профессора и датскую королевскую стипендию, позволившую ему предпринять экспедицию в Южную Азию для изучения индоиранских и других языков. Выехав в конце февраля из Швеции в Финляндию, он прибыл в конце марта в Петербург и жил там до середины июня 1819 г., после чего продолжил свое путешествие на юг через Москву, Коломну, Рязань, Тамбов, Сарепту, Астрахань и Моздок. После четырехмесячного пребывания в Тифлисе (ноябрь 1819 – март 1820 г.) Раск отправился далее в Персию, Индию и на Цейлон.
В общей сложности на территории Российской империи, к которой в то время уже относились и Великое княжество Финляндское, и почти вся Грузия, Раск пробыл более двух лет. Заметки и письма этого периода содержат не только научные наблюдения, обобщения и гипотезы и не только замечательные портреты его российских знакомых. Они также по-новому открывают Россию александровской поры. Нам кажется, что эта эпоха хорошо известна. Но мы обычно смотрим на нее глазами привилегированного сословия. Взгляд Раска – это взгляд разночинца в то время, когда у наших разночинцев еще не появился свой особый взгляд и голос.
Расмус Кристиан Нильсен Раск[1] родился в семье портного в селе Бреннекилле, к юго-западу от города Оденсе на острове Фюн. О своем отце, Нильсе, Раск писал, что он «дважды был солдатом», на армейской службе выучился грамоте, арифметике и немецкому языку[2]. В мирное время помимо своей профессии он занимался врачеванием, был начитанным человеком, любителем истории, географии и карт и сам дал своим детям начальное образование. По воспоминаниям Раска, отец о его способностях был очень невысокого мнения и только благодаря настояниям матери отдал его в 1801 г. в школу в Оденсе.
Через год после поступления Раска школа, получившая наименование Кафедральной, радикально изменилась в связи с новыми веяниями в образовании, и 1802–1807 гг. Раску посчастливилось провести в уникальном учебном заведении, где во главу угла ставились независимое мышление и способность делать собственные выводы. Его учителя словно специально собрались там, чтобы раскрыть его филологический талант[3]. Так, древнегреческим и датским языками Раск занимался у С.Н.Й. Блока, автора трудов по греческой грамматике и датскому правописанию; математику ему преподавал К.Ф. Деген, будущий профессор математики Копенгагенского университета и иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук, который кроме того занимался этимологией и знал несколько языков, в том числе русский. В школьные годы Раск был представлен и одному из своих в будущем главных покровителей, Й. фон Бюлову, знатному вельможе, который интересовался датскими древностями и тратил большую часть своего состояния на поддержку исследователей. Продолжил свое образование Раск в Копенгагенском университете в 1807–1812 гг. Там он познакомился с двумя другими руководителями и покровителями, которые сыграли ключевую роль в его жизни и письма которым составляют значительную часть публикуемого в данной книге эпистолярного наследия Раска, – профессором богословия П.Э. Мюллером и директором университетской библиотеки Р. Нюэрупом. Раск намеревался изучить богословие, что могло бы дать должность пастора и надежный доход. Но его мучили религиозные сомнения, да и занятия языками не оставили времени на формальное завершение богословского образования и сдачу государственного экзамена.
Еще в школе с 1804 г., поощряемый своими удивительными учителями, Раск начал самостоятельно изучать древнеисландский язык, разбирая текст изданных к тому времени Г. Шёнингом трех томов «Круга земного» – сборника саг о норвежских королях, составление которого приписывается Снорри Стурлусону. Не имея под рукой ни грамматики, ни словаря, Раск сравнивал текст с датским и латинским переводами, анализировал различные контексты, в которых встречалось то или иное слово, и составлял парадигмы. Этим кропотливым трудам он посвящал все свое свободное время, и именно так он начал вырабатывать свой единый метод грамматического описания, который затем применил ко многим разнообразным языкам. Первая его книга – «Руководство по исландскому или древнескандинавскому языку» – была издана в 1811 г.[4]
В 1812 г. он путешествовал с Р. Нюэрупом по Швеции и Норвегии, причем деньги на эту поездку были выделены датским правительством с целью прояснить настроения и планы шведов в отношении Норвегии, все еще находившейся под властью короля Дании и Норвегии Фредерика VI, иными словами, это была разведывательная миссия «под прикрытием» научной экспедиции[5]. Потерю Норвегии двум ученым предотвратить не удалось, но Раск в этой поездке занимался как скандинавской, так и финно-угорской филологией и завязал важные знакомства, особенно в научном мире Стокгольма.
Свои познания в исландском Раск усовершенствовал во время двухлетнего пребывания в Исландии в 1813–1815 гг. Благодаря «Руководству…», которое он впоследствии переработал для издания на шведском языке (1818), Раск завоевал репутацию ведущего исландиста своего времени. С именем Раска связаны многие издания исландских памятников; он был инициатором создания Исландского литературного общества (1816) и одним из основателей Скандинавского общества древней письменности, в России известного, по кальке французского варианта названия, как Общество северных антиквариев (1825). Понятия «исландское» и «древнескандинавское» для Раска были синонимичны; как отметил Ф. Грегерсен, он признал необходимость их различения в исследовательских целях только во втором датском издании книги 1832 г.[6]
Во время пребывания в Исландии Раск завершил ту работу, которая считается его главным трудом по сравнительному языкознанию, «Исследование о происхождении древнескандинавского или исландского языка». Работа была написана на конкурсную тему, объявленную 10 июня 1810 г. Королевским датским научным обществом (Академией наук) и сформулированную следующим образом: «Исследовать с помощью исторической критики и проиллюстрировать подходящими примерами, из какого источника можно наиболее достоверно вывести древний скандинавский язык; объяснить природные свойства языка и взаимные отношения, в которых он находился как со скандинавскими, так и с германскими диалектами; а также точно определить правила, на которых следует основывать все выведения и сопоставления в этих наречиях»[7]. Раск сначала сопоставил исландский язык с другими скандинавскими и германскими языками (ниже будет объяснено, почему для Раска термин «германские» не включал скандинавские). Затем он последовательно разобрал гренландский, кельтские, баскский, финский, саамский («лапландский»), славянские, балтийские («леттские»), греческий и латинский языки и наконец признал источником исландского «древний фракийский язык», самыми ранними наследниками которого являются греческий и латинский и к «ветвям» которого также относятся славянские и балтийские языки.
Сопоставляя языки, Раск уделял основное внимание их структурным характеристикам, выявляя как лексические, так и грамматические соответствия. Свой метод, позволивший укрепить научную базу под гипотезой о языковом родстве, Раск выработал почти одновременно с другим основоположником сравнительного индоевропейского языкознания, Ф. Боппом. Раск завершил и отослал свой текст в Королевское научное общество из Исландии летом 1814 г., получил премию в 1815 г., а опубликована книга была только в начале 1818 г. На титульном листе книги Боппа «О системе спряжения санскритского языка в сравнении с таковым греческого, латинского, персидского и германского языков» обозначен 1816 г.[8] Поэтому защитники приоритета Раска предпочитают датировать его «Исследование…» 1814 г. либо используют двойную дату – 1814/1818.
Влияние Раска на ход индоевропейских исследований за пределами скандинавского языкового ареала было ограничено, так как писал он (в отличие от Боппа) на датском. Тем не менее были и ключевые фигуры в развитии индоевропейского языкознания, которые Раска читали, прежде всего Я. Гримм. В частности, Гримм обратил внимание на продемонстрированные Раском регулярные соответствия между смычными согласными в греческих и латинских и исландских словах. Например, между начальными π и f в греч. πλατύς, «широкий» и исл. flatur, «плоский»; тот же переход (Overgang) наблюдается при сопоставлении слов πατήρ и faðir, «отец»[9]. Другой видный лингвист, владевший датским языком, Й.С. Фатер, перевел соответствующий раздел расковского «Исследования…» на немецкий и опубликовал его в 1822 г. в своей антологии новых лингвистических материалов[10]. Но в 1822 г. было также опубликовано важнейшее для развития исторической лингвистики второе издание первого тома «Немецкой грамматики» Гримма, где наблюдения Раска были существенно дополнены и детализированы[11]. Впоследствии этот феномен получил название первого германского передвижения согласных, или «закона Гримма», и стал самым известным фонетическим законом в сравнительно-историческом языкознании. Название «закон Гримма» преобладает в литературе до сих пор, несмотря на все усилия датских лингвистов, настаивавших на его переименовании в «закон Раска» или по крайней мере «закон Раска – Гримма»[12].
В своей классификации языков Раск сделал существенную ошибку, которую очень скоро исправил, во время пребывания в Петербурге, а именно то, что он не признал кельтские языки родственными ни исландскому, ни другим, которые мы называем «индоевропейскими» (Раск их в разное время будет называть кавказскими, сарматскими и яфетическими). Другим недостатком книги, который Раск хорошо осознавал, было отсутствие в ней самостоятельных разделов о древних языках Персии и Индии, и этот недостаток не уравновешивался тем фактом, что Раск первым привлек славянские (русский и польский) и балтийские (в основном литовский) языки. Знание санскрита было огромным преимуществом Ф. Боппа, так как этот язык обладал аурой древности и восточной мудрости, считался ключом к индоевропеистике и был в то время в моде по всей Европе (в том числе и в России, где он, по словам митрополита Евгения, «помутил ныне всем чудакам головы»[13]).
Именно необходимость расширить свой труд за счет восточных языков определила дальнейшую исследовательскую программу Раска и побудила предпринять экспедицию в Южную Азию.
Свое большое путешествие он начал, отплыв в Швецию в ноябре 1816 г. Там он провел полтора года, изучая языки, в том числе русский, и размышляя, как найти достаточно денег на продолжение пути. Среди нескольких выпущенных в это время книг была и новаторская грамматика древнеанглийского языка (1817), и издания скандинавских памятников, что, впрочем, не очень нравилось его покровителям в Копенгагене: политическое соперничество Дании и Швеции затронуло и академическую сферу. Один из серьезных кризисов так описывается в путевом дневнике Раска: «Афцелиус и другие мои покровители много говорили о том, что они хотели бы оставить меня в Швеции – либо в Королевской библиотеке в Стокгольме, где хранятся исландские рукописи, либо в качестве профессора Упсальского университета. Я особенно на это не отвечал, но не мешал им говорить. Все же я, возможно, принял бы одно из этих весьма лестных и выгодных предложений, если бы они серьезно занялись их осуществлением. Однако все оставалось пустой болтовней, тем не менее до Лунда и Копенгагена дошли слухи, и в результате у меня произошел неприятный обмен письмами с Б[юло]вом и проф. П.Э. Мюллером, которые сочли меня предателем отечества, и это в то время, когда я из-за недостатка денег и средств для продолжения путешествия думал о том, чтобы пойти в подмастерье к типографу и путешествовать в качестве подмастерья»[14]. К этому периоду относится единственное прижизненное изображение Раска – гравюра, помещенная в издании «Старшей Эдды». Таким он, по-видимому, был и во время своего пребывания в России.
Звание профессора, выхлопотанное для Раска в начале 1818 г. вместе с королевской стипендией, не предусматривало соответствующей должности. После возвращения он мог пока рассчитывать только на свое место «второго библиотекаря», то есть помощника библиотекаря Копенгагенского университета. Но во время путешествия это звание хорошо дополняло его заслуженную репутацию языковеда-энциклопедиста.
После пересечения российско-шведской границы первую значительную остановку Раск сделал в городе Або, нынешнем Турку, где тогда помещалось единственное в Финляндии и одно из старейших в Российской империи высших учебных заведений – Абоская академия. Подробное описание библиотеки и университетских залов в путевом дневнике Раска представляет особую ценность, потому что здание академии пострадало во время пожара 1827 г., после чего она была переведена в Гельсингфорс и преобразована в Александровский (ныне Хельсинкский) университет.
В Або Раск общался с цветом финской науки – филологами и естествоиспытателями. Вот как воспринял этот визит будущий петербургский академик, основоположник российского финноугроведения и кавказоведения А.М. Шёгрен, который в то время оканчивал курс и не надеялся быть представленным заезжей знаменитости: «То, что я слышал о знаменитом лингвисте Раске, который сейчас пребывает здесь, произвело на меня глубочайшее впечатление» (запись от 11 марта 1818 г.). Завидуя магистру Савениусу, которому Раск предложил поехать с ним до Кавказа, Шёгрен восклицает: «Вот бы я был на месте Савениуса!» На следующий день запись: «Заслуги Раска были моей первой мыслью ‹…› после я пошел к Савениусу, где хотя бы увидел расковское “Руководство по исландскому языку” с различными рукописными пометками»[15].
Прибыв в Петербург, Раск с энтузиазмом занялся пропагандой скандинавской литературы и науки. В.В. Похлебкин и И.В. Дмоховская уже отмечали, что с приездом в Петербург Раска был связан рост в России интереса к исландской литературе[16]. Это наблюдение находит подтверждение в замечательно полном библиографическом указателе, составленном Б.А. Ерховым, в котором перечислены выходившие в России переводы, а также публикации, посвященные исландской литературе. Указатель показывает всплеск интереса к древнеисландской литературе в России именно в период 1818–1821 гг. Если за первые 28 лет, отраженные в указателе (1778–1805), зарегистрировано всего восемь публикаций о памятниках древнеисландской словесности, а в 1806–1817 гг. – ни одной, то за четыре года (1818–1821) этих публикаций было десять[17]. Речь идет не о многочисленных стихотворных переложениях песен Гаральда Храброго и Рагнара Лодброка у русских сентименталистов и романтиков, а именно о научных заметках, статьях и брошюрах – как переводных с немецкого, так и оригинальных, посвященных исландским сагам и скандинавской мифологии.
Пропагандируя скандинавские языки и литературу в Петербурге, Раск продолжал свою давнюю борьбу с «немецким духом» и немецкими взглядами. Еще за девять лет до приезда в Петербург Раск подверг жестокой критике вторую часть «Митридата, или Общего языкознания» (1809) И.К. Аделунга. В труде, в котором систематизируются все языки мира, протест Раска вызвали ошибки в характеристике скандинавских языков, разделение всех германских языков на «верхние» и «нижние» да и сам термин «германские» в качестве общего наименования группы[18]. Покойный автор характеризуется Раском как «самый ярый в Германии противник всего скандинавского»[19]. О пренебрежительном отношении Аделунга к скандинавским языкам Раск не забывал и позднее. В датированном 30 июня 1818 г. предисловии к антологии исландской литературы он говорит о литературной войне между героями-патриотами, которые утверждают древность и исконность исландского языка (Торфеус, Шёнинг, Сум и Ире), и их противниками, которые менее сведущи в этом языке, но которыми якобы движет чувство зависти (Шлецер и Аделунг)[20].
Вскоре после приезда Раска принял Ф.П. Аделунг, бывший в то время наставником великого князя Михаила Павловича. Отмечая в письме Р. Нюэрупу от 3 (15) мая 1818 г. оказанный ему искренний прием, Раск ждал, когда Аделунг «соберет горящие угли на мою голову, если узнает о моей полемике против его отца…». На деле Аделунг был племянником великого немецкого лингвиста, но Раск был недалек от истины, назвав его сыном – с двенадцатилетнего возраста Аделунг-младший воспитывался у дяди в Лейпциге и сформировался как специалист по сравнительному языкознанию прежде всего под его влиянием. «Горящих углей» на голову Раска Аделунг отнюдь не собирал, а, напротив, оказывал датскому ученому дружеские услуги, в том числе помогая в пересылке его стипендии после отъезда Раска из Петербурга[21]. В письме К.Ф. Дегену от 18 февраля 1819 г. Раск писал, что Аделунг – «превосходный человек, который ученость и трудолюбие сочетает с воспитанностью и добрым сердцем»[22]. Раск пользовался расположением и других немецко-русских академиков – Х.Д. Френа и И.Ф. Круга.
Будем надеяться, что он имел в виду не их, когда в публикуемом в настоящем издании письме Нюэрупу от 12 октября 1818 г. писал, что большинство его знакомых немцев-профессоров «задирают носы так высоко, что я боюсь за потолочные балки». Обидой на немцев проникнуто и саркастическое письмо П.Э. Мюллеру от 5 августа 1818 г. Раск сообщает, что именно из-за немцев в России «совершенно не было представления о том, что в Дании или Швеции существует какая-либо литература и едва ли было известно, что на севере есть какой-то язык, кроме варианта нижненемецкого».
Но в этом же письме Раск делится хорошей новостью: наконец ему удалось завести знакомство с русскими учеными (не немецкого происхождения). Своего главного адепта он нашел в лице И.Н. Лобойко, по представлению которого «Эразм Христианович Раск» 9 июля 1818 г. был избран членом-корреспондентом Вольного общества любителей российской словесности. В приводимых в приложении отрывках из воспоминаний Лобойко говорится об «упоении блаженства», которое он переживал после занятий с гениальным лингвистом. Под руководством Раска Лобойко освоил датский язык, а в 1821 г. опубликовал первый в России оригинальный обзор древнеисландской литературы, где показал ее значение для изучения древнерусской истории[23]. Помимо достоинств этого обзора, звание «ученика бесподобного Раска» повысило его престиж в Румянцевском кружке[24]. Правда, Лобойко, получив в январе 1822 г. место профессора российской словесности в Виленском университете, с тех пор мог уделять скандинавистике только ограниченное время[25].
В том же письме П.Э. Мюллеру Раск говорит и о «немногих других», в которых ему удалось пробудить «живую и искреннюю любовь к литературе Дании и Исландии…». Кто же были эти «другие» внимавшие Раску ученые? Вероятно, среди них был И.А. Гарижский, о занятиях которого датским языком Раск упомянул в путевом дневнике. Несомненно, к ним относится и финляндский пастор А. Гиппинг, один из ближайших петербургских знакомых Раска. Вместе они разрабатывали планы научного книгообмена между Россией и Скандинавией и пропаганды финско- и шведскоязычных трудов, публикующихся в Российской империи. Вероятно, Раск подсказал ему тему научной работы – исландские саги; до печати Гиппинг ее, по-видимому, не довел[26], а вместо того написал, среди прочего, статью об А.Б. Селлии, библиографе и историке датского происхождения, и направил ее П.Э. Мюллеру. После прочтения статьи на одном из заседаний Гиппинг был избран в Скандинавское литературное общество[27].
Раск был тепло принят в Петербурге графом Н.П. Румянцевым. Граф играл в научной жизни России роль, сопоставимую с ролью Йохана фон Бюлова, датского вельможи, покровительствовавшего Раску. Он расходовал свое огромное состояние на снаряжение экспедиций и на издание ученых трудов; его дом был важнейшим центром научного и литературного Петербурга. Собравшийся вокруг графа неформальный Румянцевский кружок включал наиболее значительных историков, филологов, специалистов по древностям. Одним из основных направлений их деятельности была работа по собиранию источников по истории Древней Руси. В первые же дни пребывания в Петербурге Раск начал подготавливать рекомендации по пополнению скандинавского книжного собрания Н.П. Румянцева и сбору выписок из древнескандинавских источников[28]. В пока полностью не опубликованных письмах Ф. Магнусену Раск от лица Румянцева задает ряд вопросов о русско-скандинавских отношениях в Средневековье (15 апреля и 3 мая 1818 г.), просит приобрести собрание исландских рукописей, в которых говорится о Руси (12 октября 1818 г.), и выслать «Сагу о Стурлунгах» (20 ноября 1818 г.)[29]. Просьбы о высылке книг и рукописей для Румянцева содержатся в письмах Раска и другим адресатам.
В собрании Н.П. Румянцева в отделе рукописей Российской государственной библиотеки (ф. 256) сохранились рукописные материалы по древней скандинавской истории. До приезда Раска эти материалы ограничивались переводами исследовательских работ со шведского языка на русский и французский и переводами исландских саг с латинского языка на русский[30]. После приезда Раска в собрании Румянцева появились и рукописи на исландском языке; по всей вероятности, именно в результате его запросов не позднее 1821 г. поступил список впоследствии знаменитой в России «Эймундовой саги» (№ 610)[31]. Он был переписан с «Книги с Плоского острова», хранившейся в то время в Копенгагене[32].
После ее очередного издания в Копенгагене в 1833 г. в России вышло два перевода, и «Эймундова сага» («Прядь об Эймунде и короле Олафе») стала одним из важнейших скандинавских источников по истории Древней Руси[33]. Это событие оказалось ключевым в развитии отечественной скандинавистики, в частности, благодаря лингвистическому гению О.И. Сенковского, который овладел исландским языком чуть не за два месяца и впервые осуществил перевод на русский с исландского оригинала[34]. Возможно, интерес Сенковского к исландским сагам возник не случайно и гораздо раньше 1833 г. Следует помнить, что он еще с 1819 г. общался с Румянцевым, который поддержал его рекомендательными письмами, а позднее привлек в качестве ориенталиста к подготовке к изданию Дербентской летописи[35].
Помимо «Пряди об Эймунде» в собрании Румянцева нам удалось обнаружить сборник исторических материалов (№ 609), где под примечаниями на полях стоит подпись самого Расмуса Раска. Из дневника Раска мы теперь знаем, что эти материалы были заказаны Л.Г. Гартманом для Румянцева и что Раск передал их Гартману вскоре после приезда в Петербург, 30 марта 1818 г.[36] Всего в сборнике четыре текста.
Во-первых, «Сага о Ярлмане и Германе», относящаяся к категории «рыцарских», или «лживых», саг, созданных по образцу западноевропейских рыцарских романов. В рукописи сага приведена на исландском языке с параллельным датским переводом. Каждая страница разделена на два столбца: во внутреннем дается исландский текст, во внешнем – датский перевод. Приведена архивная ссылка «Cod. Chart. fol. № 56», что соответствует известной рукописи Королевской библиотеки в Стокгольме[37]. Раск закончил ее переписывать в Стокгольме до 12 октября 1817 г. Отметим, что в то время в библиотеке работал шведский антикварий Ю.Г. Лильегрен, который вскоре опубликовал «Сагу о Ярлмане и Германе» в переводе на шведский язык во втором томе своих «Скандинавских героических саг о древних временах»; этот том, начинающийся с «Антикритики» в адрес Раска, пришел в Петербург, когда Раск находился в пути на Кавказ[38].
Во-вторых, сборник содержит новеллу на исландском языке (Lítit æfintýr þat bar til í Hólmgarði at þar í einn smiðjuhúsi þénuðu tveir ungir menn…), действие которой происходит в Хольмгарде и персонажами которой являются два подмастерья-кузнеца и два богатых старика с молодыми женами. Новелла дана без перевода (для которого оставлен внешний столбец) и без ссылки. В-третьих, в сборник входит текст на шведском языке о международной дипломатии Петра I во время Великой Северной войны[39]. Приводится архивная ссылка «№ 64 fol. (31)». Наконец, в-четвертых, в сборнике содержится текст на латинском языке «О московских монетах»[40], где на полях (л. 56 об.) дается подписанное Раском толкование древнескандинавского термина «sira» («отец», слово, употребляемое перед именем священника). В дневнике Раска автором этого текста назван известный нумизмат конца XVII – начала XVIII в. Н. Кедер, но среди трудов Кедера такого трактата разыскать не удалось[41]. Все эти тексты заслуживают дальнейшего изучения и идентификации.
Из дневника мы узнаем, что Раск навел порядок в скандинавской части румянцевской библиотеки, за что получил от графа золотую табакерку, оцененную в 225–250 рублей серебром; для Раска это была честь, но и единственная, кроме книг, его ценная вещь[42]. Раск также поддерживал рекомендациями и советами А.И. Гиппинга, который занимал в 1820–1823 гг. должность библиотекаря, и А.М. Шёгрена, который в 1823 г. стал преемником Гиппинга. Таким образом, он сыграл некоторую роль в становлении будущего Румянцевского музея и возникшей на его основе Российской государственной библиотеки.
Высокий авторитет, которым Раск как специалист по скандинавским древностям пользовался среди сотрудников Румянцева, отразился в трудах одного из младших членов Румянцевского кружка П.И. Кёппена (1793–1864). Кёппен был принят у Ф.П. Аделунга, а с петербургским другом Раска И.Н. Лобойко он был хорошо знаком еще по совместной учебе в Харькове[43]. К сожалению, дневники Кёппена за период пребывания Раска в Петербурге не сохранились. Раск неоднократно упоминает Кёппена в дневнике и в письмах; он оставил пространную автобиографическую запись в альбоме Кёппена, ныне хранящемся в Пушкинском Доме[44]. Согласно дневнику Раска, расстались они хотя и друзьями, но без полного взаимопонимания[45], однако Кёппен этого тогда не почувствовал. В 1822 г. он опубликовал свою знаменитую работу «Древности северного берега Понта»[46], позднее вышедшую отдельной книгой в переводе И.Н. Среднего-Камашева. Рассуждая о древнейших миграциях из Азии в Северную Европу, Кёппен упомянул о «друге Раске»[47], который, «после почти трехлетнего пребывания в Исландии, теперь предпринял путешествие в Ост-Индию и которого главным желанием было преследовать норманнов до самых первобытных жилищ их». Кёппен писал и о древних сообщенных Константином Багрянородным названиях днепровских порогов, в германском происхождении которых его особенно убедили словесные разъяснения Раска[48].
Кёппен рано проявил себя как разносторонний исследователь, способный оценить состояние и перспективы целых областей науки. В 1822 г. во время своего путешествия по Центральной Европе Кёппен опубликовал статью «Об этнографии и страноведении в России»[49]. В статье Кёппена рассказывается о текущем состоянии и задачах исследования российских древностей. Эти древности подразделяются на пять категорий: классические (доэллинские, греческие и римские), скандинавские, славянские, немецкие (в Ливонских землях) и восточные[50]. Помимо этих категорий упоминаются чудские древности (финско-эстонские), литовские (литовско-леттские) и бьярмские (пермо-югорские). Таким образом, скандинавистика оказалась вынесена в особую рубрику, хотя материала для ее наполнения было немного – Кёппен упомянул о работе над сагами пастора Гиппинга и об обзоре Лобойко, примеру которого «многие последовали».
Кроме того, Кёппен счел необходимым заметить, что «до сих пор на русском Севере не было найдено никаких рунических надписей», добавив, что он «сам их понапрасну искал в 1821 г. по сю сторону Невы, на Ладоге и далее до Тихвина»[51]. Направление поиска было задано правильно, однако первой находки рунической надписи в Старой Ладоге – деревянного стержня с записанной рунами стихотворной строфой – оставалось ждать почти 130 лет![52]
Поездка 1821 г. вверх по Неве, на Новую и Старую Ладогу, а затем в Тихвин была предпринята Кёппеном, по-видимому, по поручению графа Румянцева «за справками о разных надгробных камнях и других древностях»[53]. Это не единственное свидетельство интереса как Кёппена, так и Румянцева к рунической письменности. В январе 1822 г. Кёппен обратился к Лобойко с просьбой помочь в расшифровке рунической надписи на шесте, хранившемся в Кременецком лицее[54], а в июле 1823 г. Кёппен описывал в путевых заметках фрагмент шведского рунического календаря из Цибелле (Нивицы) в кабинете древностей при университете Бреслау[55]. Румянцев в 1824 г. пытался читать надпись на круглом медальоне из меди, найденном в Псковской губернии: «…надпись вокруг, сказывают, отчасти готическая, отчасти руническая»[56].
Можно предположить, что поиски рун в 1821 г. были предприняты не без влияния Раска, автора нескольких работ о рунических надписях. В обзоре, написанном Лобойко – учеником Раска, мы читаем и о том, что руны «вошли в Север вместе с Одином с берегов Азовского моря», и о том, что «на многих рунических камнях означено: такой-то принц, ярл или скальд скончались в России»[57]. В пояснении к опубликованному им письму Кёппена Лобойко пишет, что язык скандинавских рун – «сегодняшний исландский», при этом сходные звуки (такие, как «в», «б» и «п») обозначаются одной буквой. Для прочтения надписи он решил обратиться к коллегам в Копенгаген, так как «даже в самом Стокгольме» никто хорошо не знает исландский язык[58].
Записи и публикации петербургского периода показывают, что Раск был настроен на волну Румянцевского кружка. В одном из публикуемых писем Раск смело объединяет скандинавскую этимологию слова «русь» с роксоланской[59]. В датированной 20 марта 1819 г. рецензии на первый том «Скандинавских героических саг о древних временах» Ю.Г. Лильегрена он оспаривает выведение топонима Гардарики из второго элемента в древнескандинавском названии Новгорода Хольмгард. По мнению Раска, «Гардарики», «царство городов», происходит из более раннего обозначения Руси Гардар, а Хольмгард – из русского имени Холмогоры, где второй элемент значит «гора»[60]. Там же он возражает против постулируемой Лильегреном связи слова «русь» с топонимом «Рисаланд» (страна великанов в сагах о древних временах), а в другой написанной в Петербурге работе в связи с перечислением шведских диалектов отмечает: «Также в маленьком округе Руслаген в Упланде есть свой особый диалект, который достаточно отличается от окружающих, однако не до взаимонепонимания. Изучение и точное описание его были бы очень интересными, поскольку оттуда можно было бы вывести древнюю русь (варягов, которые имя “русь” принесли в Гардарики)»[61].
Граф Румянцев в то время увлекался идеей о древнефризском происхождении руси. После смерти в 1793 г. Фридриха-Августа, принца Анхальт-Цербтского, сестра принца и российская императрица Екатерина II унаследовала Еверское княжество (северная часть нынешнего района Фрисланд в земле Нижняя Саксония, включающая город Евер). Княжество принадлежало российским императорам до 1807 г. и затем вновь в 1813–1818 гг. В 1814 г. Г.Ф. Голльман, ректор и профессор провинциальной школы в Евере[62], услышал от герцога Ольденбургского мнение графа Румянцева о том, «что, может быть, варягоруссы из наших стран». Граф опирался, в частности, на идентификацию летописного князя Рюрика и Рорика из франкских анналов. Восприняв это мнение как социальный заказ, Голльман написал трактат о древнейших известиях о Евере, в котором имя «русь» увязывалось с названием исторической области Рустрингии (часть ее включило в себя Еверское княжество)[63]. Бросается в глаза параллель с недавней теорией о происхождении Рюрика с территории Калининградской области, также задуманной для привязки эксклава[64]. Но ставки не были столь высоки – к выходу в свет русского перевода книги Александр I отказался от всех прав на княжество в пользу Ольденбургского дома.
Граф, однако, был «очень доволен» выпущенным за его счет переводом сочинения[65], самой невыгодной стороной которого была лингвистическая. По мнению Голльмана, скандинавские языковые свидетельства в древнерусской истории уравновешиваются словами «старого фрисландского» происхождения и не столь существенны, так как древний шведский язык якобы есть наречие немецкого языка. Сам Рюрик с братьями – не шведы, хотя они, конечно, могли и поселиться на какое-то время в шведском Руслагене[66]. Иными словами, новая теория, как надеялся Голльман, не противоречила накопленным к тому времени материалам норманистов. Завершается книга призывом: «Да процветает Рустрингия, отечество российского народа!»[67]
Раск успел ознакомиться с этой работой в немецком варианте и оценил ее как «дрянную и в корне неверную». Однако он, по-видимому, не донес свою оценку до графа, поскольку отзвук увлечения фризской гипотезой сохранился в письме Румянцева Раску от 24 сентября 1824 г. В ответ на сообщение Раска о подготовке им грамматики фризского языка Румянцев пишет о своем интересе к фризскому языку, в котором рассчитывает найти слова, заимствованные русским благодаря варягам[68].
В Петербурге Раск продолжал заниматься финно-угроведением, излагая свои наблюдения в основном в письмах к Р. Нюэрупу. В одном из пространных писем он изложил свои впечатления от поездки по Финляндии, обобщил свои наблюдения над финским языком и рассказал о новых финских публикациях. В другом письме Раск сформулировал основные принципы сравнительного языкознания и, основываясь на русскоязычных исследованиях, разработал свою классификацию финно-угорских языков. Фрагменты этих писем были опубликованы Нюэрупом[69], а затем, в немецком переводе, венским литературным ежегодником[70]. К этому же корпусу текстов следует отнести письмо Нюэрупу, возможно неоконченное и неотправленное, со сведениями о прибалтийско-финских народах[71]. Классификация Раска оказала влияние не только на развитие лингвистической науки. В частности, на нее ориентировался П.И. Кёппен при составлении первой этнографической карты Европейской России, сыгравшей огромную роль в формировании этнического пространства и национальной идентификации в Российской империи[72]. В 1904 г. К.Ф. Тиандер заявлял, что «группировка финских говоров Раска еще до сего дня может считаться непоколебленной»[73]. Заслуга Раска перед финским языкознанием и в том, что он убедил графа Румянцева взять на себя финансирование подготовки и издания фундаментального словаря Г. Ренвалля; предметом особой гордости Раска было принятие Ренваллем расковской системы финских падежей и их наименований[74].
Один из интереснейших эпизодов петербургской жизни Раска был связан с возвращением из кругосветного плавания брига «Рюрик» под командованием О.Е. Коцебу. В августе 1818 г. «Рюрик» пришвартовался напротив дома графа, на чьи средства он был снаряжен более трех лет назад. Раск познакомился с капитаном и другими славными путешественниками (Л.А. Хорисом, А. фон Шамиссо, И.Ф. фон Эшшольцем), но наибольшее впечатление на него произвел один из алеутов, привезенных на «Рюрике», Маркел. Поговорив с Маркелом, Раск впервые в науке сделал вывод о сходстве гренландского и алеутского языков[75].
Многообразные научные и организационные занятия, которые Раск описывает в письмах и дневниках, – налаживание научного сотрудничества и книгообмена между российскими и датскими учеными, пропаганда скандинавской и финской литературы, помощь графу Румянцеву и членам его кружка в изучении русско-скандинавских связей, в разработке программы собирания и издания древнейших скандинавских источников по истории Руси, в историко-лингвистическом изучении Российской империи – отвлекали его от основной задачи – подготовки к дальнейшему путешествию. Но в Индию Раск и не спешил. В сентябре 1818 г. он, узнав, что в Копенгагенский университет от Н. Валлиха поступило собрание индийских книг (и немедленно сообщив об этом российским коллегам[76]), собирался изменить первоначальный план. Он хотел вернуться на год в Копенгаген, чтобы сначала составить там санскритскую грамматику, а уже потом отправиться в Индию морским путем. Копенгагенский покровитель П.Э. Мюллер следующим образом отреагировал на эту идею: «Если Вы сейчас вернетесь [в Копенгаген] или не уедете из Петербурга, то я буду сильно скомпрометирован, так как доносил неправду и королю, и правительственным ведомствам, а Вы – еще в большей степени, так как будет казаться, что Вы решили под ложным предлогом воспользоваться поддержкой, которой иначе не смогли бы получить. ‹…› Я должен признаться, что мне бы больше хотелось, чтобы Вы вместо усилий по пропаганде датской литературы в Петербурге, в принципе достойных, конечно, похвалы, занимались исключительно собственной целью Вашей поездки, поскольку цель эта столь велика, что требует от человека полной самоотдачи»[77].
В конце 1818 г. Раск предложил графу Румянцеву план экспедиции по изучению финно-угорских народов, которая задержала бы его в России еще на полтора-два года. Граф уже с 1816 г. думал о том, чтобы снарядить подобную экспедицию[78], но, несмотря на все свое уважение к датскому ученому, он не очень хорошо продуманный план Раска отверг. Возможно, граф понял, что Раск не создан для полевой работы. В результате тому ничего не оставалось, кроме как продолжать путешествие, на которое были выделены средства из королевской казны, то есть ехать на Кавказ и далее в Азию.
Раск отправился на юг 13 июня 1819 г., с длительными остановками в Москве (где он отвлекся на классификацию шведских архивных материалов и провел две с половиной недели, с 24 июня по 10 июля) и в Астрахани (где он плодотворно занимался изучением восточных языков в течение полутора месяцев – с 13 августа по 1 октября).
Четырехмесячным пребыванием в Грузии (ноябрь 1819 – март 1820 г.) Раск завершил свое длительное знакомство с языками и лингвистической наукой Российской империи. Из посмертно опубликованных трудов тифлисского периода следует назвать набросок конца 1819 г. «Исследование о родстве древнескандинавского или исландского языка с азиатскими наречиями», в котором Раск изложил сведения об изученных во время поездки языках и соображения об их взаимосвязи. Как предполагал издатель, Л. Ельмслев, этот текст должен был составить новый заключительный раздел «Исследования о происхождении древнескандинавского или исландского языка»[79]. Однако Раск отказался от идеи подготовить дополненное издание своего знаменитого труда. Это значило бы «вливать новое вино в ветхие мехи»: ведь он теперь задумывался о классификации всех языков мира и, в частности, вырабатывал идею «скифской» общности, которую он противопоставлял «сарматской» (индоевропейской) и которая объединяла финно-угорские, самодийские, эскимосские, тунгусо-маньчжурские, монгольские, тюркские, грузинский и другие языки[80].
Другой набросок тифлисского периода, оформленный как черновик письма Р. Нюэрупу от 20 декабря 1819 г. (возможно, неотправленного), содержит рассуждение о желательной «европеизации» грузинского письма, которая позволит «сравнительно маленькому народу», у которого «два очень различных, можно даже сказать, три алфавита», с большей легкостью включиться в мировую культуру. «Но прежде всего надо обдумать, какое лучше выбрать письмо, русское, греческое или латинское». Раск склонялся к модифицированному латинскому письму[81]. Орфография и транслитерация были для Раска важными темами, в частности потому, что унификация алфавитов облегчала сопоставление данных разных языков; для русского языка он также пытался выработать новую систему транслитерации, но остановил эту работу из-за возражений академика Круга[82]. Любопытно, что рассуждение о европеизации грузинского письма написано на смеси датского и немецкого языков. По-видимому, Раск формулировал эти мысли в беседах с немецкоязычными знакомыми в Тифлисе. В немецких фразах наброска мы слышим отголоски бесед за столом у губернатора Р.И. фон дер Ховена, у которого Раск нередко обедал (и, в частности, познакомился с А.С. Грибоедовым).
Этот набросок свидетельствует не только об идентификации Раска с немецко-российской культуртрегерской программой, но также об отмеченном С.Н. Кузнецовым расширении «лингвистической парадигмы» Раска за счет новых задач, вставших перед ним во время путешествия. Задачи эти уже не сводились даже к всеобъемлющей классификации языков, прояснению их связей и древней истории говоривших на них народов. Новые созидательные задачи включали в себя и построение новых письменностей, и проект по конструированию нового общечеловеческого языка, «экстраполирующий прошлую историю в будущее и соединяющий ретроспективу с перспективой в единую линию исторического развития»[83]. Связанный с этим проектом и дописанный в конце путешествия текст, известный под условным названием «Трактат о всеобщем языке», – одно из немногих произведений Раска, существующих в русском переводе. Необходимость создания единого языка для всего земного шара аргументируется российским опытом: «Какого труда стоит молодому человеку, например, в России выучиться немецкому или французскому языку настолько, чтобы понимать профессора или наставника и по этому узкому пути быть введенным ими в царство науки! И как мешает отличие языка и письма простым людям в России учиться у живущих среди них иноземцев!»[84] Первый публикатор трактата А. Сакагучи выделяет петербургский период жизни Раска, когда он знакомился с выходившими в России сравнительно-лингвистическими трудами, как ключевой для формирования идеи о всеобщем языке[85].
После отъезда из Тифлиса самая сложная, азиатская часть путешествия великого датского лингвиста только начиналась, но один из лучших периодов его трудной жизни, когда он еще не знал пределов своим силам и возможностям, подходил к концу.
В середине июня он «сильно заболел» в Ширазе, и после этого в дневнике часто встречаются жалобы на здоровье. Из города Бушир на побережье Персидского залива он морем добрался в конце сентября в Бомбей, где был обласкан губернатором, историком М. Эльфинстоном, нашел все необходимое для серьезного изучения хиндустани и санскрита, был принят в Литературное общество Бомбея. В то же время он страдал от нарыва на правой руке; в ноябре добавились неприятности с вороватыми слугами, от которых приходилось избавляться. Из Бомбея Раск выехал 21 ноября вглубь субконтинента, 4 января 1821 г. добрался до Бурханпура, оттуда направился прямо на север, перевалил через горы Виндхья и 24 марта прибыл в Агру. В описании этого маршрута еще встречаются интересные заметки о природных и культурных памятниках; Раск пару раз ездил на слоне, размышлял о тождестве Будды и Одина[86] и, конечно, продолжал учить языки.
Из Агры Раск отправился по реке Джамне, и на судне началась цепь неприятностей, которые, возможно, объясняются тяжелым обострением психической болезни – мании преследования. Раск подозревает прислуживающих ему солдат в воровстве, а затем и в желании его отравить. Он вслушивается в их разговоры, но точно понять не может – даже его лингвистическим способностям есть предел. Конфликты не прекращаются, в дневник заносится такая, например, запись: «…солдат настолько невыносим, что я его ударил»[87]. В таком состоянии Раск прибыл 1 мая 1821 г. в датскую колонию Серампор близ Калькутты, где поселился в доме доктора К. Мундта. И там Раск продолжал ощущать угрозу своей жизни, на этот раз со стороны слуг доктора. Предпринятое полицмейстером расследование не помогло; Раск спокойно работать в доме доктора не мог[88].
Наконец, он нашел попутный корабль, на котором 25 июня отплыл, а 26 июля прибыл в Мадрас. Оттуда 17 октября Раск проследовал в Транкебар (где пробыл с 25 октября по 5 ноября) и затем на Цейлон. Через некоторое время после прибытия в Мадрас он почувствовал себя лучше; перелом ознаменовался новым открытием: возможно, он первым заметил сходство между дравидийскими и уральскими языками, причислив их к единой «скифской» общности[89].
30 ноября Раск поселился в Коломбо, где, вернувшись к одной из своих излюбленных тем, разработал для местного литературного общества систему передачи индийских языков латинскими буквами[90], напечатал брошюру на датском языке о сингальской письменности, изучал рукописи на пальмовых листах в библиотеке методистской миссии и собрал коллекцию таких рукописей для Копенгагенской университетской библиотеки[91]. В Коломбо он вспомнил своих российских знакомых и отметил в дневнике, что 10 января 1822 г. передал «письма фон Ховену в Тифлис, Мазаровичу в Тавриз и Уиллоку в Тегеран»[92].
Физически он, по-видимому, оставался слаб и в феврале 1822 г. был готов к возвращению домой. Попытка отплыть в Копенгаген 30 марта кончилась неудачей, так как судно 5 апреля потерпело крушение близ берега. Наконец, он покинул Коломбо 19 августа, проследовал вдоль восточного побережья Индостана с остановками в Транкебаре, Мадрасе и Калькутте. 1 декабря Раск сел на корабль, взявший курс из Калькутты на родину. Была длительная стоянка в Порт-Луи на Маврикии, после чего судно обогнуло южную оконечность Африки и 25 апреля прибыло в Дувр. 5 мая 1823 г. Раск уже в Копенгагене, где он поселился у Р. Нюэрупа и поставил точку в своем путевом дневнике.
От ученого-путешественника ждали трудов и ярких рассказов о дальних экзотических странах, его подвигу первопроходца были готовы поклоняться – вспомним повсеместное поклонение А. фон Гумбольдту, на которого Раск ориентировался в начале своего пути. Но вернулся Раск «с отвращением ко всему азиатскому»[93], что, конечно, не могло не разочаровать его друзей и доброжелателей. В мемуарах Н.К.Л. Абрахамса излагается характерный эпизод: после возвращения Раска Абрахамс с другими молодыми людьми пришли в дом Нюэрупа в надежде услышать о приключениях славного путешественника. Надежда эта не оправдалась. «Раск собственно ничего не говорил, робел и забивался в угол, и когда мы ‹…› пристали к нему с вопросами, то смогли из него только вытянуть, что он однажды ездил на слоне и что однажды, когда он спал в татарской палатке, по его лицу пробежала большая зеленая ящерица; возможно, ящерица приняла его скучное лицо за камень. Раск ездил за границу за языком и, по-видимому, не смотрел ни направо, ни налево»[94]. Конечно, Раск и в лучшие дни не был внимателен к фауне, которую он почему-то был вынужден описывать во время этой встречи[95], но какое разительное несоответствие между Раском российского периода, автором искрящихся юмором писем, собеседником, приводившим в восторг своих новых знакомых в Або или Петербурге, и этой жалкой и скучной фигурой, жмущейся в угол в гостиной у Нюэрупа.
Первой крупной работой Раска, изданной после возвращения из Азии, была написанная по-датски грамматика, но не санскрита, а… испанского языка[96]. За ней последовали грамматики фризская, итальянская, саамская, английская[97]. Как-то он познакомился с Ф. Дёвунной, носителем языка акра (га), прибывшим из Датской Гвинеи (ныне часть Ганы), и с его помощью составил грамматику этого языка. Это единственная книга Раска, которая издана в переводе на русский язык[98].
Из работ, основанных на южноазиатских материалах (которых прежде всего от Раска ждали и его покровители, и научная общественность), Раск издал большую статью о древнеперсидском и авестийском языках. Ее он написал по-английски (закончил в Мадрасе 11 октября 1821 г.) для публикации Литературным обществом Бомбея. Этот английский оригинал был опубликован М. Эльфинстоном уже после смерти Раска, но Раск переработал статью и издал на датском языке в 1826 г.; в том же 1826 г. вышел немецкий перевод[99]. Однако работу над грамматикой санскрита он так и не завершил.
Ко времени возвращения Раска в Копенгаген индоевропеистика продвинулась вперед благодаря «Системе спряжений» Боппа и второму изданию «Немецкой грамматики» Гримма. Согласимся с Х. Педерсеном в том, что не могло быть и речи о простом продолжении его труда по сравнительно-историческому языкознанию; имела смысл только «совершенно новая и более подробная переработка материала». За оставшиеся ему девять лет жизни Раск этого выполнить не успел[100].
В работах, посвященных последнему периоду жизни Раска, нередко ощущается та же неудовлетворенность, с которой к творчеству Раска относились его покровители и некоторые коллеги. Он много отвлекался, не мог сосредоточиться на том, что – со стороны – представлялось его главной задачей. Результаты его «факультативных» занятий нередко опережали свое время и просто не могли быть по достоинству восприняты современниками, что, конечно, не способствовало его научной карьере. Положение его долго было неустойчивым. После смерти Нюэрупа в 1829 г. он унаследовал его должность университетского библиотекаря, а место экстраординарного профессора восточных языков Копенгагенского университета он получил только в декабре 1831 г. (уже чувствуя приближение своей смерти от чахотки, он сказал по поводу этого назначения: «Боюсь, слишком поздно»[101]).
После возвращения из путешествия Раск много времени и сил отдавал проблемам датского правописания, о котором издал считающийся ныне классическим труд[102]. Страстной пропагандой орфографической реформы он нажил врагов и насмешников. Один из них, К. Мольбек, писал 10 июля 1826 г. Я. Гримму: «Вообще-то здесь у нас удивляются, что этот ученый, путешествия и исследования которого обошлись государству в колоссальную сумму[103], все еще не предъявил никаких плодов своей российско-азиатской поездки, кроме варварского правописания и орфографической теории для датского языка. Также всем, помимо прочего, известно, что наш король как-то соизволил выразить удивление, что он пока не видел никаких других результатов многолетнего путешествия Раска, кроме нуля над буквой А»[104] (имеется в виду буква å, за введение которой вместо диграфа aa ратовал Раск и которая была введена в датский алфавит только в результате орфографической реформы 1948 г.).
Новым увлечением Раска была древнеегипетская и древнееврейская хронология. В его лингвистических трудах сравнительная составляющая могла быть заметнее исторической, но мотивом этих трудов еще со школьных времен был интерес к происхождению и началу истории сперва древних скандинавов, а потом и человечества. Теперь же к своим грамматической и орфографической системам он задумал прибавить хронологическую[105].
В работе о еврейской хронологии мы встречаем одно из редких воспоминаний Раска о его большом путешествии. Подтверждая историчность библейского рассказа о Ное, Раск заметил, что «как раз Грузия и окрестные земли и есть тот регион, где произрастает дикий виноград, что я сам видел. ‹…› Поэтому в высшей степени вероятно, что Ной у армян получил и попробовал (высушенные) виноградины…»[106]. Возможно, личный опыт также лежит в основе его попыток найти в рассказе о первых днях творения свидетельства о древнейших миграциях с «Кавказских или среднеазиатских гор» в южные страны. Согласно Раску, слова Библии о создании зелени и травы на третий день могут свидетельствовать о разительном отличии южного пейзажа от северного высокогорья, «где, например, Арарат покрыт вечным снегом». «Может быть, даже первые два дня, когда разделились твердь и воды, напоминают о древнейшем переселении с более высокогорных мест, где небо, особенно в сильную метель, кажется слившимся с землей»[107].
Что же касается собранных во время путешествия кавказских лингвистических материалов, то к ним Раск вернулся в последний год жизни. Получив наконец постоянную профессорскую должность, Раск написал и опубликовал «программную» работу в преддверии торжественного собрания Копенгагенского университета 10 ноября 1832 г., в котором он уже не смог принять участие. Она, по-видимому, оказалась одновременно как первой публикацией грузинских материалов, так и последней прижизненной публикацией Раска, умершего 14 ноября (напечатана она была между 1 и 10 ноября). В этой работе Раск разобрал вопрос о транслитерации грузинских и армянских текстов «европейскими буквами», то есть латиницей, в целях этимологических и компаративистских изысканий[108]. И одно из последних воспоминаний о Раске также связано со вновь пробудившимися в нем кавказоведческими интересами. Его друг, филолог-классицист Р.Й.Ф. Хенриксен (1800–1871), застал Раска занятым грамматическими изысканиями «примерно за месяц до его смерти ‹…› насколько помнится, с грузинской Библией перед ним»[109].
Сохранилась переписка Раска с российскими учеными, с которыми он познакомился во время своего большого путешествия. Узнав о возвращении Раска из Индии, П.И. Кёппен обратился к нему как к своему близкому другу и передал новости об общих знакомых, в частности о И.Н. Лобойко, которого Раск «сделал скандинавом» и который получил должность профессора в Вильне[110]. Во втором сохранившемся письме, от 8 (20) мая 1824 г., Кёппен выразил недовольство, что после путешествия Раск вместо ожидавшихся от него трудов по языкам Азии опубликовал испанскую грамматику – в отличие от Ф. Боппа, работавшего над грамматикой санскритской. Вдобавок он дал дружеский и опять-таки некорректный совет: «Я, однако, хотел бы надеяться, что Вы в Вашем издании зенд-авесты не сопроводите текст на языке оригинала одним лишь датским переводом. Все же позаботьтесь о том, чтобы и чужеземцу не пришлось ломать себе голову»[111]. По-видимому, с Кёппеном своими чувствами по отношению к немцам Раск не делился… Возможно, на этом их переписка и закончилась.
Переписка с Лобойко также не была продуктивной, но не по причине уязвленного самолюбия или патриотических чувств. Раск ему написал первый, вспомнив о нем, по-видимому, благодаря письму Кёппена, и просил ответить на немецком, так как русский он подзабыл, а Лобойко будет трудно писать по-датски[112]. Лобойко ответил подробным письмом о работе в Виленском университете, о городском обществе, об этнической и языковой ситуации в Виленской губернии, об общих петербургских знакомых (в том числе о графе Румянцеве и о П.И. Кёппене), наконец, о том, как он дорожит воспоминаниями о знакомстве с Раском, который для него предстал «благотворным существом, присланным с небес дабы усилить и облагородить ‹…› наслаждение науками»[113]. Второе письмо Раска содержит известия о личных обстоятельствах и о научных новостях и даже описание некоей проживавшей в Копенгагене у поэтессы Ю.М. Йессен небогатой, но благовоспитанной девушки из Швеции, которую Раск прочил Лобойко в невесты[114]. Оно осталось без ответа. Через полтора года Раск написал Лобойко в третий раз, послав ему свою «Фризскую грамматику» и посетовав, что с момента возвращения получил от него только одно письмо[115].
К. Вернер, опубликовавший переписку Раска с Лобойко, мог только гадать, почему Лобойко прервал общение со своим датским другом и учителем[116]. Среди материалов Лобойко в Российской государственной библиотеке сохранились черновики дружеских, по-видимому неотосланных, писем. Один датирован 16 августа 1827 г., другой написан около 1830 г.[117] Они свидетельствуют о том, что Лобойко Раску ответить собирался, только очень сильно затянул с этим, то есть поступил, в общем, согласно своему характеру – как добрый, увлекающийся, но разбрасывающийся человек с обширными невыполненными планами. Среди тех же бумаг хранится и запрос из Копенгагена за подписью К.Ю. Томсена о скандинавских древностях на территории Польши и России, который был прислан Раском приложением к его второму письму[118]. Томсена, в частности, интересовали рунические надписи, а также орнаменты, похожие на перерисованные им образцы бронзового века[119], и надписи на древнейших скандинавских монетах с «расщепленными на концах» буквами[120].
В 1823–1824 гг. Раск переписывался с графом Н.П. Румянцевым (запросы и поручения которого содержатся и в письмах Кёппена и Лобойко)[121]; со своим знакомым по Петербургу и Москве В.С. Караджичем, также недавно завершившим трудное путешествие[122]; с академиком Х.Д. Френом[123]. Опубликовано письмо Раску А.И. Арвидссона, который сообщил о репрессиях царского правительства, закрывшего его газету «Або моргонблад» и уволившего Арвидссона из Абоской академии[124]. Письмо Раску А.Д. Гиппинга от 18 июля 1824 г. пока не издано. Он сообщил о денежных делах Раска, попросил дать распоряжение по поводу хранившейся у него румянцевской золотой табакерки, рассказал о переменах в своей карьере и о научных новостях[125].
А.М. Шёгрен – единственный из российских корреспондентов Раска, который с ним так и не увиделся лично. Но влияние Раска Шёгрен в конечном итоге испытал в наибольшей степени. Переписка продолжалась всю жизнь. Шёгрен советовался с Раском по поводу своей экспедиции к финским народностям России, делился филологическими новостями из Петербурга, сообщал о своих находках[126].
О влиянии Раска Шёгрен писал в автобиографии, недавно опубликованной на русском языке[127]. Она переведена с финского перевода[128]; шведский оригинал никогда не издавался[129]. Краткий вариант автобиографии (где, как и в полном варианте, Шёгрен говорит о себе в третьем лице) включен в напечатанный анонимно как на русском, так и на шведском языке некролог М. Кастрену[130]. Такое необычное решение – включение в некролог младшему коллеге описания собственного жизненного пути – Шёгрен оправдывал сходством научных судеб, а также тем, что считал свои покровительство, рекомендации и советы «главным двигателем славы» Кастрена. Но оба они, и Шёгрен, и Кастрен, были «воспламенены» к занятиям лингвистикой Расмусом Раском.
В некрологе говорится, что сначала Кастрен «намеревался было готовиться в пасторы и, кроме исторических и философских наук, изучал греческий язык, а особливо языки восточные, – но после обратился к родному своему финскому языку в связи его с другими чудскими наречиями, быв воспламенен к тому, как сам рассказывал, чтением одного сочинения Раска, где знаменитый датский филолог указывает на великую важность подробнейшего исследования всех этих языков и наречий.
‹…› Тот же знаменитый филолог Раск, совершавший, в 1818 году, через Або, где находился еще Финский университет, ученое путешествие в Россию, Персию и Индию, живым примером своим воспламенил молодого еще студента Шёгрена переменить направление любимых его упражнений и пробудил в нем первую мысль посвятить себя такому же путешествию для чудских языков, какое совершал Раск для скандинавских и германских. Об этой своей мысли Шёгрен, будучи все еще бедным студентом, решился, весною 1819 года, писать к Раску в С. Петербург, где путешественник этот пробыл долгое время. Раск не медлил отвечать Шёгрену письмом, в котором расхвалил славную его мысль и всячески поощрял его приложить все возможное старание к осуществлению ее, что Шёгрен и исполнил со всею энергиею финна»[131].
Основываясь, по-видимому, на неизданных дневниках Шёгрена, Х.П. Дюггве считал, что в 1832 г. «по предложению Шёгрена Раск был 26 ноября избран в Академию наук, но об этом отличии он так никогда и не узнал: Раск умер 14 ноября»[132]. В автобиографии Шёгрен писал об этом предполагаемом избрании несколько иначе: «Ш[ёгрен] ‹…› по собственной инициативе в Петербургской академии наук в декабре прошлого 1832 г. предложил Раска в иностранные члены-корреспонденты Академии, каковым он и был единогласно избран, хотя на общем собрании 29 декабря 1832 / 10 января 1833 г. [его имя] более не оглашалось, так как газеты незадолго до этого принесли новость, особенно горестную для Ш[ёгрена], о неожиданно ранней смерти Раска уже 14 ноября 1832 г.»[133]. В списках персонального состава Академии наук имя Раска так и не появилось.
С утратой Раска его значение стало все больше осознаваться датской общественностью, не уменьшалось и стремление идеализировать его научный подвиг, заставив его наконец соответствовать тем ожиданиям, с которыми Раска встречали после путешествия в Азию. В 1842 г. на его могиле был сооружен красивый памятник, на котором нанесены надписи на четырех языках (арабском, санскрите, исландском и датском) четырьмя разными алфавитами (арабским, деванагари, руническим и датским). Как с горечью констатировал О. Есперсен, подбор алфавитов продемонстрировал эрудицию комиссии, которая заказала памятник, но противоречил идеям Раска, считавшего разнообразие систем письма помехой на пути просвещения и международного общения[134]. Надпись на санскрите, языке, который, в общем, навязывался Раску его благожелателями, также свидетельствовала о непонимании жизни и трудов великого ученого[135]. К этому же времени Д. Монис, в начале его карьеры портретиста датского «золотого века», создал и литографированный портрет Раска; в качестве основы использовалось единственное прижизненное изображение 1818 г., но были внесены некоторые поправки[136]. Главная из них заключалась в том, что теперь вместо простонародной одежды Раска решено было представить в парадном костюме, более приличествующем профессору Копенгагенского университета. Этот портрет стал наиболее популярным изображением Раска и неоднократно копировался.
Надпись на надгробном камне на датском языке была взята из письма, в котором Раск в 1825 г. отказался от предложенного ему места библиотекаря в Эдинбурге: «Каждый обязан дать своему отечеству все, на что он способен»; эти слова, впоследствии, к столетию со дня рождения ученого в 1887 г., вырезанные и на мемориальном знаке на месте его родного дома в Бреннекилле, оказались самой знаменитой фразой Раска, а его самого сделали выразителем датской национальной идеи[137]. Характерно, что эти слова сходны с формулировкой из письма П.Э. Мюллера («каждый из нас ‹…› всем обязан отечеству»), который в бытность Раска в Стокгольме упрекал его за слишком обширные научные и издательские планы, связанные со Швецией[138]. Если бы не было помощи отечества, – справедливо, хотя и достаточно высокомерно вопрошал тогда же Мюллер, – то каким бы образом «сын крестьянина из Фюна мог читать лекции в Стокгольме и прославить свое имя в ученом мире?» Итак, Раск и при жизни, а еще в большей степени после смерти был коллективным проектом датского научного сообщества, которое воспитало его и старалось не выпускать из жестких рамок своих требований и ожиданий.
Наследие Раска определило выдающуюся роль датчан в развитии мировой лингвистики, в том числе сравнительно-исторического языкознания и в особенности индоевропеистики. Готовя в начале XX века обзор достижений лингвистики для истории датской литературы, создатель фундаментального словаря датского языка В. Далеруп заметил, что «влияние Раска на современников и будущее было так велико, что почти каждый серьезный языковед в Дании [XIX] столетия либо прямо, либо опосредованно является учеником Раска»[139]. Ту же мысль недавно высказал нынешний профессор датского языка Копенгагенского университета Ф. Грегерсен: «Осознают они это или нет, все датские лингвисты – ученики Раска»[140]. Те, кто «осознает» свою зависимость от Раска, являются также и расковедами, издателями его трудов – начиная со школьного друга Раска, Н.М. Петерсена, ставшего в 1845 г. первым профессором скандинавских языков Копенгагенского университета.
Некоторые из наследников и толкователей Раска были выдающимися авторитетами и для русских и советских лингвистов; достаточно назвать имена В. Томсена, К. Вернера, Х. Педерсена, О. Есперсена, Л. Ельмслева. С Томсеном связано оживление интереса к «норманнской» проблеме и к этимологии слова «русь»; эта часть расковского наследия остается предметом российских научных дискуссий и по сей день[141]. Крупнейшее, хотя все еще и весьма спорное достижение советской лингвистики – ностратическая теория, разрабатывавшаяся В.М. Илличем-Свитычем и А.Б. Долгопольским, – опирается на идею, вышедшую из расковской традиции и сформулированную Педерсеном[142].
В многообразном творчестве Раска каждая эпоха находила свое, выделяя наиболее актуальные, магистральные для мировой науки темы. Когда датская лингвистика в основном сосредотачивалась на индоевропейских исследованиях, Раск прежде всего воспринимался как индоевропеист, а задачей историков науки было отстаивать его приоритет в открытиях, делавшихся в период бурного развития дисциплины в первой трети XIX века. Теперь эта задача не столь актуальна, прежде всего из-за того, что индоевропейское языкознание за последние полвека в силу целого ряда причин отошло на второй план[143]. Но в наследии Раска исследователи постоянно открывают новые аспекты, обращая внимания на те работы, время которых при жизни ученого еще не пришло, – такие, как грамматики, созданные по единому плану, а также трактат о всеобщем языке. В Раске с удивлением видят и предшественника структурализма, и философа истории языка[144].
Письма и заметки о России также показывают Раска с новой и неожиданной стороны. В основном из-за тягостного опыта Раска в Южной Азии о нем сложилось впечатление как о человеке, «путешествующем в своем кабинете», далеком от мира вокруг него. Это впечатление проецируется на всю поездку Раска[145]. Но Раск российского периода другой – это дружелюбный и наблюдательный человек. Причем смотрит он на Россию совсем не глазами привилегированного сословия. Перед ним не стояла дилемма пушкинских героев: ехать из Петербурга на почтовых или на своих – оба варианта для него были слишком дороги. Он, возможно, единственный человек той поры, который и обедал с канцлером Российской империи, и посетил театр вместе с крепостным крестьянином. В результате ему удалось увидеть и донести до нас не вполне привычный образ александровской России.
Путевых записок от Раска ждали не в меньшей степени, чем трудов по санскриту; Р. Нюэруп, в частности, просил у него материалов для своего «Журнала для путевых наблюдений». Выполняя просьбу Нюэрупа, Раск подчеркивал, что не собирается ни описывать свое путешествие, ни заниматься статистическим или художественным описанием посещаемых стран. «Моя единственная задача в том, чтобы изучать языки в различии их строения и множестве взаимосвязей и выносить из этого суждения о переселениях, родстве и возникновении народов, особенно если они могут быть родственны скандинавским или оказывали на них влияние». Кроме того, по словам Раска, у него не было возможности изучать записки путешественников, проезжавших по тем же местам ранее, и он ограничился только собственными живыми впечатлениями, которых никто, «путешествующий с открытыми глазами», не может избежать, «как бы он этого ни желал»[146].
Тем не менее отшлифованный литературный стиль писем, в особенности адресованных Нюэрупу, значительно отличается от сырых фактов и эмоций, зафиксированных дневниковыми записями. Судя по публикуемым текстам, у Раска были и литературные амбиции, и живой интерес к литературе, хотя модной сентиментальной школы он не принимал (и в дневнике критиковал Н.М. Карамзина за «приторные словеса и кривые мысли»). В письмах Раск прежде всего ориентировался на литературные путешествия, создававшие его путевым заметкам героико-комический контекст; Раск сопоставлял себя с героями «Педера Порса» и «Подземного путешествия Николая Клима» Л. Хольберга, «Жития Думбума» Ю.Х. Чельгрена, «Акселя Тордсена и прекрасной Вальборг» П.Х. Фримана. Цитировал Раск обычно по памяти; Хольберг был, несомненно, его любимым автором.
Следуя скандинавскому литературному канону и в особенности Хольбергу, письма Раска иногда приобретали звучание социальной сатиры, заставляя Раска сокращать для обхода почтовой цензуры некоторые ключевые слова, такие как «Россия» или «рабы». Поняв, что ему, возможно, придется возвращаться через территорию России, Раск безуспешно пытался остановить печатание своих писем.
Взлет литературного таланта Раска продолжался недолго; характерное для российского периода оптимистическое настроение покинуло его в Южной Азии и больше уже не возвращалось.
В первой части книги представлены избранные письма, во второй – дневниковые записи Раска; большинство из этих материалов ранее на русский язык не переводилось, а путевой дневник не опубликован и в оригинале. В приложении даны воспоминания о Раске его петербургского друга И.Н. Лобойко. За помощь в создании книги составитель благодарен О.В. Рождественскому и Т.Л. Шенявской, которые разделили с ним труд по переводу писем; А.И. Рейтблату, взявшему на себя редактуру книги; Датскому фонду искусств, который помог составителю посетить Бреннекилле, Оденсе и Копенгаген и оплатил часть издательских расходов; Х. Басбёллю за истолкование трудных мест расковских текстов; Н. Минар-Тёрмянен за помощь в комментировании финляндской части путевых записок Раска; А.Б. Рогачевскому, организовавшему лекцию о Раске в Арктическом университете Норвегии; датским, российским, финским и шведским коллегам, вклады которых отмечены в соответствующих местах в комментариях.
Леонид Чекин
Часть I Письма с дороги
Выборг, 24 марта 1818 г. Р. Нюэрупу[147]
Выборг в Финляндии, 24 марта 1818 г.
Наконец я отъехал более 10 миль на восток от бывшей шведской границы[148]. Здесь говорят на всевозможных языках и диалектах, так что я сейчас могу сказать чуть не на более чем десяти языках «a maa la mej te» и проч.[149] В доме, где я живу, служанка говорит по-фински, дворник – по-шведски, портье, он же одновременно и слуга, по-немецки, а хозяин – итальянец[150]! А когда они сходятся вместе, удовольствие удваивается. В остальном Выборг – маленький грязный город, его можно сравнить с Корсёром[151], но он много больше и не столь плотно застроен. Здесь есть гимназия и старый замок, который теперь служит тюрьмой. Профессора не очень бы развлекло описание остальных городских великолепий, так же как и моего последнего перегона, когда я более четырех часов потратил на две с половиной шведских мили, хотя я благоразумно приобрел в Або кнут[152]. Впрочем, поездка моя через Финляндию была приятной и в высшей степени интересной. Я проложил маршрут через Тавастгус[153] и Вильманстранд[154], чтобы увидеть и услышать самых настоящих финнов, хотя мне и советовали (даже в Тавастгусе) поехать вдоль побережья, где большинство говорит по-шведски. Но я в своем решении не раскаялся, хотя вскоре и был к этому близок, когда однажды поздно вечером моим кучером был неопытный мальчишка, совсем ребенок[155]. Лошадь испугалась, опрокинула нас и рванула; сундук упал на мое левое колено, ударил его и вывихнул так, что я думал, что у меня нога сломана. Я был в десяти шведских милях от Тавастгуса и пятнадцати от Выборга, и никто в этом краю не знал ни слова по-шведски или по-немецки. Но, к счастью, травма была не столь большой, как мне это показалось. На следующий день я проехал еще десять шведских миль и теперь почти вернулся в свое прежнее состояние. В Або[156] я положил все жизненные силы на изучение финского, и крестьяне удивляются моим навыкам в этом языке (которые в общем не столь велики), особенно когда слышат, что я датчанин, что, впрочем, им объяснить сложно, так как они не знают, что такое Дания. Вместо этого они говорят Juutin-maa (т. е. Ютландия). Как-то вечером, когда я рассказывал моей хозяйке, которая была порядочной и словоохотливой женщиной, из какой я приехал страны и спросил ее, много ли до меня у нее было гостей-датчан (ютов), она ответила по-шведски: «Åh, jo vist kommer här ibland tocke der Judar och Italienare»[157]! Я поразился ее знанию шведского и спросил, не был ли ее муж шведом, на что она ответила: «Да, мой муж был на этом свете немец, он был из Смоланда[158]». Но даже и образованные не очень сильны в географии, например, одного пастора я спросил, до каких пределов на востоке говорят по-фински и живут финны и кто обитает между Финляндией и Белым морем, финны, лапландцы или русские, и проч. На это он ответил: «Не знаю, кто там живет рядом с Камчаткой». Впрочем, финны чрезвычайно порядочны, добры и скромны. В Або я также познакомился с человеком, который был очень силен в финском, а именно с лектором Ренваллем. Он давал мне уроки в течение 14 дней каждый вечер с пяти до девяти или десяти. Мне бесконечно польстило, когда я обнаружил, что система финских склонений и спряжений, которую я предложил в своем конкурсном труде, была целиком и полностью принята и применена в рукописном проекте новой грамматики, который он мне показал и одолжил. Я занимаюсь тщательным изучением языка и обычаев финнов для исследования феннских[159] народов в России, и особенно происхождения гренландского языка, о чем, возможно, со временем написал бы работу. Возможно, профессор помнит мою идею, высказанную по этому поводу в конкурсном труде; здесь я нашел для нее дополнительные подтверждения.
P.S. Так как у меня не было возможности ни осуществить мой план в Выборге, ни дальше заниматься финским языком, то я после трех дней пребывания там поспешил уехать из этого дорогого[160] и неприятного города. Поэтому я не отправил это письмо и могу сейчас сообщить, что счастливо прибыл в Петербург, где сижу за своим письменным столом, по уши погрузившись в русский язык.
Петербург, 3 мая 1818 г. Р. Нюэрупу[161]
- В России месяц май, день третий, старый стиль,
- Прошло уж семь недель, как корни Р[аск] пустил.
Был я в здешнем Немецком театре[162], видел «Невидимку», а также «Эфрозину и Корадина», grosse Opera aus dem Französ. übers. и т. д. и т. п.[163] и так позабавился, что хочется немного об этом рассказать моим добрым друзьям. Это учреждение, мне кажется, все-таки дало бы фору немецкому театру в Оденсе под началом г-на Франка и комп.[164] Я сидел во втором ряду галереи (один рубль)[165] и уверяю, что ни на каком сеновале так дико не посидишь. У меня имелся прекраснейший в мире вид на спину суфлера; это был довольно приятный человек, особенно он изящно смотрелся, когда уставал стоять и убирал в сторону фалды своего фрака, чтобы присесть. Но тут я также и напугался, так как дирижер, находившийся очень близко от него, казалось, всякий раз целил своей палочкой в его голову; порой он также оборачивался, когда чувствовал, что в оркестре дела шли слишком скверно, и тогда я думал: «Все, наша карта бита». Но он делал хорошую мину при плохой игре, и все успокаивалось. Листы у него были в прекрасном порядке, иногда он клал их перед собой на сцену, а иногда держал в руках; то он показывался целиком, то наполовину, то его почти не было видно:
- точь-в-точь улитка, то в свой домик ускользает,
- то, расхрабрившись, вновь наружу вылезает[166].
Однако, хотя фендрик умеет размахивать знаменем[167], он все же остается младшим офицером. Было не менее интересно наблюдать и за одной из главных героинь большой оперы, а именно Эфрозиной. У нее была такая милая короткая талия и такие широкие красивые груди, что руки у нее, казалось, торчали из-под грудей, как ножки у трехногой табуретки, что смотрелось вполне привлекательно за исключением тех моментов, когда она делала резкий жест, адресованный толпе[168], которая не желала повиноваться неопытной героине и привычно ждала указаний от героев-мужчин!
Dütsche Sprache[169] в операх тоже довольно приятно слышать, по крайней мере местный диалект. Согласно тексту пьесы, Корадин пришел от ревности в такое неистовство, что велел отравить Эфрозину, однако она спаслась, так как лейб-медик оказался более человечным; но когда он, не зная этого и раскаявшись в своем приказе, спросил о ее состоянии и медик ответил, что она, по-видимому, уже мертва, он воскликнул: «doht»[170]?! таким тоном, что я разразился громким смехом. Так что зрелище это было весьма жалкое, хотя и забавное. В то же время там была очень хорошая, хотя и порядочно старая певица, чей муж также довольно хорошо играл. Nil est ab omni parte beatum! Sed hæc hactenus[171].
Мне здесь достаточно хорошо и приятно, хотя я и живу совершенно замкнутой жизнью. Немцы, шведы и прочие оказали мне сердечный прием, особенно статский советник Аделунг, который соберет горящие угли на мою голову (если узнает о моей полемике против его отца[172] из другого источника кроме шумихи, поднятой Рюсом[173]). Я накупил книг на несколько сот рублей, так как в библиотеке брать нечего, и мне попались некоторые большие лингвистические редкости, напр., оба издания большого Всеобщего словаря, первое из них крайний раритет, и Аделунг говорит, что такого у него нет и что он не мог раздобыть экземпляр за 100 рублей[174]. Я также предполагаю, что меня время от времени обманывают, ut fere fit[175]. Я пока не знаком ни с одним русским в собственном смысле и беспокоюсь по поводу своей поездки вглубь страны, но поживем – увидим. В книготорговле здесь никакой жизни нет, и русские книги лучше всего покупать по случаю, с иностранной книготорговлей тоже большие сложности из-за цензуры на границе и проч. Ни в одной библиотеке нет книг на датском (насколько я смог заметить). Однако словарь Б. Халльдоурссона[176] попал сюда к профессору Кругу. – Надеюсь, что я, несмотря на все сложности, добился кое-каких интересных достижений в мире науки и что могу примерно предвидеть их результат; я напишу об этом профессору Мюллеру при следующей оказии, чтобы это полностью не исчезло, если пропаду я сам. Я надеюсь, что профессор Магнусен доставил ему оба мои письма[177] и что мое доверенное лицо Ларсен поспешит отправить экземпляры моего конкурсного труда и исландского словаря[178], гренландских книг[179] и т. д. и т. п., которые я давным-давно заказал[180]. Мой адрес следующий: The Reverend Mr. Paterson, Bible-society-house, St. Petersburg[181]; я там не живу, но мой собственный адрес менее надежен[182]. Как письма, так и деньги и проч. могут также отправляться г-ну пастору Гиппингу, законоучителю Императорской гимназии в Санкт-Петербурге; я получил два письма от Ларсена, в одном из них был небольшой вексель; больше ничего из Дании я не слышал. Будьте теперь здоровы, дорогой г-н профессор, привет всем добрым друзьям, не забывайте обо мне. Вечно Вам преданный
Р. Раск
[Адрес получателя: ] An Seine Hochwohlgebohren Hrn. Prof. R. Nyerup Oberbibliothekar und Probst auf d. Regenz. Coppenhagen fr[anco] Hamburg[183].
Петербург, 11 июня 1818 г. П.Э. Мюллеру[184]
Петербург, 11 июня 1818 г.
Наконец я достаточно сориентировался здесь в городе и в стране, а также составил более или менее ясное представление о моем путешествии, которое может осуществляться согласно двойному плану. Поэтому я без дальнейших отсрочек сообщу Вам о нем, господин профессор, в надежде услышать Ваше мнение об этом плане и, что для меня очень важно, получить Ваш добрый совет и поддержку при его выполнении. Но прежде всего я вкратце изложу результат моих выполненных к настоящему времени исследований и трудоемких изысканий. В схематичном виде, без обстоятельных доказательств, большого интереса он, возможно, не вызовет, но поскольку он стоил столь дорого и отечеству, и мне самому, мне бы очень не хотелось, чтобы в случае моей смерти он совершенно пропал. Он представляет собой следующее, насколько я знаю, совершенно новое открытие.
(1) Исландская поэзия, особенно форнюрдислаг[185], в том, что касается слогового размера (см. мою «Англосаксонскую грамматику»[186]), восходит к фракийским языкам[187] (гекзаметр); но рифма начальных букв (аллитерация) – к феннским[188] языкам (руны). В обычных финских рунах (римах, висах[189]) она совершенно не совпадает с исландской, но их старая система, когда после полной стихотворной строки (двух стихов по исландскому счету) следует половинная с той же аллитерацией, вполне совпадает со старым размером форнюрдислага из шести строк, из которых каждые три и три строки связаны аллитерацией[190], и оттуда она, по-видимому, распространилась на другие размеры. Олафсен этого не знал[191].
(2) Не только феннская общность народов (см. мой конкурсный труд[192]) родственна гренландцам и эскимосам, но и все татарские народы явно принадлежат той же расе, таким образом можно объяснить родство между лаппо-угорским[193] и турецким[194]! Если монгольский и манчжурский относятся к той же группе, что татарский (см. «Митридат» Аделунга, т. 4, с. 509, 510, примечание Шерера[195]), что я нахожу вероятным, то монгольская и полярная людские расы сводятся к одной, которая столь же велика, как и кавказская, и столь же разнообразна в своих различных частях. Так что у древних было полное право назвать ее общим именем скифов[196].
(3) Все жители Кавказа (за исключением осетинов и дигорцев[197]) относятся к скифской (не кавказской[198]) общности, как и грузины, черкесы и т. д., что ясно доказывают их языки; но армяне относятся к персидской или, как я бы ее назвал, иранской группе кавказской (нашей) расы и также близкородственны грекам. То, что жители Кавказа теперь столь поразительно различны по языку, нас удивлять не должно, если мы, например, представим, как бы выглядел север, если бы он никогда не объединился: северная часть принадлежала бы лопарям, восточная – Швеции, западная – Шотландии, южная – Дании, горцы посередине были бы независимы, каждая часть пользовалась бы своим алфавитом и т. п., так что наблюдался бы тот же феномен, а именно более 50 племен, постоянно воюющих между собой, различных по языку, вероисповеданию, обычаям и т. д. Но скифские народы на Кавказе на деле также произошли от очень разных скифских племен. Многие из них татары, некоторые (хунзахи[199]) гунны; грузины, вероятно, старейший в этом регионе скифский народ и т. д. Все эти народы скифские и не сходны с нами ни в малейшей степени.
Ганг, Аму[200] (Окс), Кура, Дон, Двина, кажется, были древними границами нашей расы. Эту (нашу) расу я разделяю на следующие общности или группы народов и языков: деканскую, индостанскую, иранскую (персидскую, армянскую, осетинскую), фракийскую (греческую и латинскую), сарматскую (леттскую[201] и славянскую), готскую (германскую и скандинавскую) и кельтскую (бретонскую и гаэльскую)[202]. Восточные сюда совершенно не относятся, скорее они принадлежат скифской расе, так как санскрит и исландский более сходны друг с другом, чем арабский с персидским, если абстрагироваться от очевидного смешения. Также сюда, скорее всего, не относятся баскский и албанский (или арнаутский).
Таким образом, я думаю, что у меня на основе изучения языков составилось четкое представление о следующих человеческих расах: (a) кавказская (наша); (b) скифская (гренландская); (c) малайская (австралийская); (d) китайская (серская[203]). Сюда можно с достаточной уверенностью добавить (e) нигритийскую[204]; (f) американскую; но очень вероятно, что могли быть и многие такие, которые частично распались и погибли в результате природных катастроф или войн, частично смешались и стали неузнаваемыми; таким образом, возможно, баскский является малым остатком большой человеческой расы, которая погребена в Атлантическом океане или смешалась и, подобно реке со слепым устьем, исчезла в пустынях Северной Африки[205].
(4) В греческом (так же как и в армянском, персидском и индийских языках) есть татарские (или скифские) элементы, например окончание θεν (ουρανοθεν) является обычным послелогом ден, «из» в турецком, татарском и проч.; θι, де[206] также обычный послелог со значением «в», например на моем татарском Новом Завете стоит на титульном листе هدسرق (Карас-де), т. е. «напечатано в Карасе[207]», ср.: Αθεναςδε и т. п. Как и χειρ или старая форма χερ в татарском и финском[208] языках, ker, khel, käsi, käde и проч. В этом некоторые различия между греческим и латинским. Известно, что в сарматские и готские языки вошло много скифского, но в отношении греческого я не знаю, заметил ли это кто-нибудь. Я только видел в шведской диссертации Ире, что турецкое ден является греческим θεν, но без дальнейшей аргументации или выводов.
(5) Ваны, о которых рассказывают Снорри и Эдды, были славянами (по-фински vennelaiset[209]), и Белбог (белый бог), о котором рассказывается у Антона[210], бог утренней зари, кажется, то же, что и наш Хеймдалль[211] (Hvítastr ása, vissi hann vel fram, sem Vanir aðrir[212]); его девять матерей, возможно, девять ночных часов; жилище его было у Биврёста[213] (утренняя заря?). Роксоланы[214] были нашими предками-скандинавами в своих южных обиталищах (у финнов до сих пор ruotsalainen значит «швед»). Варяги (Рюрик и проч.) были шведами и сохранили то имя, которое им дали финские и эстонские племена (т. е. ruotsi, ruossi), среди славян, которые узнали о них от финнов; от них имя ruossi (русь) распространилось на славян, над которыми они господствовали, и таким образом укоренилось на старой территории роксоланов[215].
Имя svíar[216] не изначальное, но принадлежит, собственно, древнему феннскому населению, которое было скифами, пришедшими из Скифии (Sviþjóð in mikla[217]), и было после придано новым пришельцам[218], которых назвали по занятой ими земле. Danir[219], возможно, также было феннское имя, поскольку древние поэты-язычники упоминают bergdanir[220] вместо berg-risar[221] и поскольку Hálfdan[222] было распространенным в Норвегии и Швеции именем, которое, следовательно, означало то же, что и Hálf-tröll[223], показывая на происхождение, с одной стороны, от ётунского[224], с другой – от готского рода; довольно сильное смешение до времен Одина[225] привело к тому, что Danr, Finnr и проч. не приобрели какой-либо негативной коннотации, которая после войн Тора[226] окрасила все ётунское или финское.
Исконное старейшее (асовское) название Дании, кажется, было Готланд, впоследствии оно стало обозначать только Ютландию[227], от него произошло также наименование Коданский залив, т. е. Готский[228], а ни в коем случае не co-danus, «у датчан», что является абсурдным домыслом Снеедорфа[229]. Danir, Danmark, конечно, не раньше эпохи короля Дана[230] стало использоваться в качестве общего имени народа или страны, так что оно также не пришло на север вместе с населением, но, как и в случае со svíar и nordmenn, было ему после переселения произвольно придано вместо старого общего имени роксоланов[231] (среди которых асы, возможно, составляли особое племя). Кое-что на эту тему я сказал в моем конкурсном труде, но хотя основные идеи не новы, они у меня все же прояснились только во время моего последнего пребывания в Швеции.
Здесь я видел небольшую работу на немецком[232], которая выводит русьварягов из Рустрингии, работа эта дрянная и в корне неверная[233]. Имена всех князей, послов и проч. доказывают, что мнение Шлёцера достоверно и неопровержимо.
Я прошу Вас, г-н профессор, простить мне эту смесь всякой всячины, она пока еще «словно выкидыш»[234], но если я буду жив и ее доработаю, то, возможно, в мире науки она сойдет за небольшое достижение.
Что касается моего путешествия, то, по-видимому, я прежде всего и очень скоро еду в Астрахань в Татарии; но оттуда я могу либо (a) проехать вдоль Каспия, через Кавказ, Крым, через Венгрию и Германию, либо (b) через Персию или Хиву в Индию, а именно в Аву[235] по ту сторону Ганга, где властвует религия Будды и язык пали! Первый маршрут может быть интересным, но также опасным и дорогостоящим и малорезультативным по сравнению с тем, что я уже выяснил; второй должен надежно привести к источникам нашей древней языческой религии и к языкам, санскриту и пали, которыми обоими, как я предполагаю, никто в Европе не владеет*.[236] Религиозные книги Будды и Веды также не известны в Европе, вот цель, ради которой стоит ехать, она прекрасна и велика, полезна для наук и почетна для отечества! Я также чувствую, что у меня есть силы и бодрость, чтобы предпринять путешествие, и знания, чтобы прийти к счастливому исходу. Но в этом случае мне было бы нужно на следующий год удвоить мою стипендию и в этом удвоенном размере (800 специев[237]) продлить еще на два года; тогда на текущий, 1818 год, я удовлетворюсь 400-ми и останусь в границах России; на 1819–1821 гг. включительно я получу 800 в год и надеюсь побывать в Аве (Бирма) и вернуться. И еще мне хотелось бы испросить рекомендательное письмо от самого короля (или с его подписью) ко всем датским консулам или купцам на случай ограбления, пленения, болезни, <возвращения по морю или отсылки домой важных книг или бумаг и т. п.>[238] или подобных непредвиденных неприятностей, а также общий заграничный паспорт на латинском языке. Эти два документа мне хотелось бы иметь в любом случае. Оставляю это на Ваше доброе усмотрение и попечение, но хотелось бы, чтобы это письмо было пересказано профессору Нюэрупу (и никому больше). <Но, возможно, я также напишу Бюлову об этом расширенном плане, который мне больше всего нравится>. Вы оба[239] хорошо приняли мои три пока опубликованных опыта научных изысканий, оба проявили ко мне бесконечно много дружбы и столь разнообразными способами содействовали моей работе; Вы оба также лучше, чем кто-либо другой, знаете, какого уровня мои способности и каково мое усердие к предмету, который меня одушевляет. Я жертвую свою жизнь на это исследование и очень хотел бы, чтобы она оказалась как можно более полезной (и достойной!). Письма мне, а также паспорт и особую рекоменацию или аккредитив и проч. следует отправлять на адрес The Reverend Mr. Paterson, Bible-society-house St. Petersburg[240] или г-ну пастору Гиппингу, законоучителю в Императорской гимназии. С большим приветом добрым друзьям, наилучшими пожеланиями и совершенным почтением, Ваш
Р.К. Раск
Петербург, 5 августа 1818 г. П.Э. Мюллеру[241]
Петербург, 5 августа 1818 г.
Некоторое время тому назад я послал Вам, г-н профессор, письмо через Швецию о моем плане путешествия и его расширении. Я надеюсь, что письмо благополучно попало Вам в руки и что при возможности я увижу от Вас пару строк в ответ. На этот раз у меня приятная для нас обоих просьба другого рода. Я наконец познакомился с некоторыми русскими учеными и особенно сблизился с одним, по фамилии Лабойкоф (Лобойков)[242], молодым человеком с открытым характером, с сильной страстью и стремлением к истине и добру. Мне, кажется, удалось пробудить в нем (и в немногих других) живую и искреннюю любовь к литературе Дании и Исландии, а также уважение к ним. Он получил представление о датском, и я пытался найти возможные способы ему помочь, давая письменные задания, проводя уроки на дружеских началах без оплаты и откровенно рассказывая о наших преимуществах и недостатках. Он уже немного понимает по-датски и попросил меня связать его с некоторыми датскими литераторами, чтобы получить справки и ссылки на те или другие литературные события. Я назвал ему Вас, а также Нюэрупа и книготорговца Дейхмана; и я рекомендую его чистосердечно и искренне для Вашей дружбы и руководства. До настоящего времени немецкая литература среди ученых господствовала почти единовластно, и так как немцы всегда показывали скандинавов в неблагоприятном свете либо вовсе замалчивали наши работы и достижения, то в этой стране доныне совершенно не было представления о том, что в Дании или Швеции существует какая-либо литература и едва ли было известно, что на севере есть какой-то язык, кроме варианта нижненемецкого. В крупнейших библиотеках города мне не попалось ни одной датской книги и проч. Таким образом, Вы легко поймете, что работы здесь много. У немцев я не мог добиться какого-либо внимания или достичь самого малого. Как только речь заходила о каком-либо основополагающем труде по теме, разговор всегда продолжался так: In welcher Sprache ist es geschrieben? – Es ist dänisch! – ah![243] Когда я говорил о легкости и простоте нашего языка, я слышал в ответ: Ja es wird wohl übersetzt werden, Rühs hat es ja wohl gekannt und benutzt[244] и т. п. Однажды беседа с одним ученым немцем-аристократом пошла приблизительно следующим образом: Die Dänen haben doch etwas in der Litteratur geleistet, man hat ja schon einige Sachen in Deutscher Uebersetzung, glaub’ ich, und einige wie Baggesen haben ganz gut Deutsch geschrieben. – Das sind aber unsere Hauptverdienste nicht, wir haben in den schönen Wissenschaften, in der Geschichte und auch in den strengern Wissenschaften Meisterstücke von allgemein erkanntem Werthe. – Aber warum schreiben sie nicht Deutsch? – weil wir keine Deutschen sondern Dänen sind! – Mein Gott was ist das doch für eine Idee, einen solchen Dialect, der kaum von 1 Mill. gesprochen wird zu Büchersprache ausbilden zu wollen, was kann daraus kommen? – Es wird uns bey unpartheyischen Richtern desto gröszere Ehre machen je weniger wir sind, wenn es uns doch gelungen hat unserer Sprache eine Bildung zu geben die den Sprachen zehnfach zahlreicher Nationen gar nicht nachsteht. – Allerdings, Sie sind ja germanischen Ursprungs also aus gutem Stamm, aber was ist es doch für eine Nationalitet, und für ein Streben sich von dem groszen Ganzen abzusondern? – Die Dänische Nationalitet ist ungefähr das nähmliche als die Deutsche, auch haben wir uns von keinem groszen Ganzen getrennt sondern den Standpunkt, den uns die Natur anwies, nur behauptet, und werden ihn noch eine Zeit behaupten wie ich hoffe[245]. И т. п. Нет никакой надежды на справедливое отношение немцев к нашему языку и литературе. Я считаю, что тем важнее, чтобы сами мы показывали себя в выгодном свете. Я, конечно, не смог этого Лобойкова познакомить со всей нашей литературой, и он, возможно, нередко будет задавать незначительные вопросы и давать обременительные поручения, но я надеюсь, что на первые Вам отвечать не будет в тягость, а вторые можно было бы передавать Дейхману, т. е. Вы могли бы просить Дейхмана быстро их выполнять (не писать в ответ, что ему по этому поводу надо обратиться к такому-то и к такому-то, и в результате оттолкнуть его от себя). Я посоветовал ему «Грамматику» Рабека[246], «Датско-норвежскую историческую библиотеку» Бадена[247], «Ученые известия»[248], которые он намеревается выписывать с 1 января 1818 г., и «Указатель скандинавских книг» Нюэрупа[249]; кроме того, множество других книг. Но ориентироваться в иностранной литературе не так-то просто, так что ему не раз потребуется руководство и консультации. Все, что каким-то образом затрагивает российскую историю, ему, конечно, интересно вдвойне. Также его интересуют наши школьные учебники, так как я ему сказал, что у нас много хороших, и он думает о том, чтобы на их основе улучшить русские. У Вас теперь есть представление об этом человеке и его пожеланиях, и я уверен, что большего добавлять к его рекомендации мне не нужно. Только одно еще было бы очень хорошо, если бы он был принят членом-корреспондентом в Скандинавское общество[250], и в этом я надеюсь на Ваше сердечное участие. Как первый и единственный русский, который занят изучением и распространением нашей литературы в своем отечестве, он, конечно, достоин этой чести, и я знаю, что это несказанно его вдохновит. Он думает и о том, чтобы, возможно, как-нибудь самому приехать в Копенгаген.
Когда будете ему писать, то вполне можно по-датски, так как я планирую подарить ему перед моим отъездом все три части немецкого словаря Бадена[251], но непременно латинскими буквами, так как другие[252] здесь почти не известны и не употребляются[253]. Мне бы очень хотелось, чтобы Вы поговорили о нем с Дейхманом, чтобы, например, тот ему бесплатно прислал свой каталог, был точен в выполнении поручений и проч. Здесь цензура проверяет все ввозимые иностранные книги. Поэтому лучше будет все посылать в переплетенном или сброшюрованном виде и маленькими бандеролями, чтобы можно было подниматься на борт и постепенно выносить в кармане по паре штук. Здесь живет неграмотный датчанин по фамилии Вейнсанг[254] (на Васильевском острове, 1-я линия), к которому часто ходят датские и норвежские шкиперы. У него можно оставлять подобные вещи.
Все-таки лучше всего будет, если Дейхман по почте сообщит, что послано и с кем, и приложит счет. Только чтобы он, когда будет писать по-датски или по-немецки, употреблял латинские буквы. Он, наверное, если понадобится, сможет и выполнить то или иное поручение в Христиании[255], Лунде[256] или северонемецких городах[257].
Также прошу Вас передать большой привет профессору Нюэрупу и подготовить его к тому же: я не знаю, будет ли у меня время написать ему особо. Я написал много писем: три Ф. Магнусену, два Нюэрупу, несколько моему доверенному лицу с заказами многочисленных книг (которые можно адресовать шведскому генеральному консулу Стерке[258], получателем назвать законоучителя Императорской гимназии г-на пастора Гиппинга, а мое имя в адресе упоминать не обязательно) и проч., но я совершенно ничего и ни от кого не получил с родины в ответ ни на одно из моих писем. Все, что я здесь получил, – это два одновременно посланных старых письма от моего доверенного лица, которые долго шли, и одно письмо из Комиссии по древностям[259]. В остальном я живу хорошо и, вероятно, скоро поеду дальше, а также очень жду присылки денег (через Германию?) моему здешнему доверенному лицу пастору Гиппингу в виде сначала первых, затем также вторых экземпляров векселей, иначе здесь получить по ним наличные деньги сложно. Мое доверенное лицо ведь еще не обанкротилось?
Извините за многочисленные поручения, будьте здоровы и вспоминайте преданного Вам
Р. Раска
«Библиотека саг» г-на профессора здесь произвела очень хорошее впечатление[260]. Она ведь скоро будет закончена? Профессор, должно быть, видел у профессора Магнусена мое издание «Саги об Одде Стреле» в исландской хрестоматии? Эта хрестоматия будет скоро закончена; мне не верилось, что удастся ее издать, но тем не менее это произойдет[261]. Всего доброго! Возможно, письмо Лобойкова не отправится вместе с этим. Ведутся разговоры об учреждении скандинавского общества и проч. Подробности сообщу позже.
Петербург, 28 сентября 1818 г. А. Ларсену[262]
Петербург, 28 сентября 1818 г.
Дорогой друг!
Не стоит удивляться, что я позволил себе усомниться в твоей обязательности; откровенно говоря, я скорее даже был совершенно уверен прямо в противоположном, учитывая тот факт, что, несмотря на все те многообразные поручения, крайне важные для моего пребывания здесь, о которых я столь часто тебе писал, я на протяжении полугода не получал от тебя ни единой строчки. Вчера я получил твое последнее письмо <разумеется, получен и вложенный вексель>[263], а предыдущее датировано еще 5 апреля! Не могу также взять в толк твою беспечность: ты так и не поставил меня в известность сообщением – переданным с каким-либо судном или же иным способом, – что отправляешь мне посылку. В конце концов, ты мог позаботиться о том, чтобы получить какое-нибудь подтверждение о ее доставке от этого достойного господина, который на поверку, как выясняется, оказался просто-напросто мошенником, ибо видя, что его пребывание в Кронштадте затягивается на все лето, он по меньшей мере был в состоянии отправить мне письмо по почте. Так обычно происходит с теми, кто вовсе не руководствуется в своих поступках словами Господа нашего, a достаточно вспомнить, что сказано в последних четырех стихах главы 13 Шестой книги Моисея:
Нередко может командир забыть,
Как важно перед боем тыл прикрыть[264].
Весьма прискорбно, что тебе попался именно такой человек. И дело здесь даже не во мне и не в том, что весьма ценные книги эти могли просто-напросто пропасть – ведь шкипер этот так и не был в Петербурге, а только доставлял контрабанду в Кронштадт, и посылка легко могла затеряться или же быть им продана. Нет, все это досадно прежде всего с точки зрения литературы и развития книготорговли. Я приложил немалые усилия, чтобы сделать Копенгаген центром книготорговли в Скандинавии, и это должно было стать началом осуществления данной идеи. Однако теперь все мои друзья говорят: нет, мы не можем вкладывать в это деньги, на такой торговле ничего не заработаешь, так что уж пусть лучше все, как и прежде, делается через Германию. И что я им должен на это ответить? К великому сожалению, получается, что я лишний раз посодействовал национальному позору, поскольку здесь и так хватает наших соотечественников, которые своим предосудительным поведением дают пищу к различного рода отрицательным суждениям и насмешкам, благодаря чему в последнее время о датчанах ходят многочисленные постыдные слухи и отзывы, тогда как прежде они удостаивались самых высоких оценок. К этому следует добавить сложности с получением посылок, отправляемых морским путем. Речь идет о самых разнообразных привходящих обстоятельствах, включая сюда разные расходы и временные затраты. Например, в данном конкретном случае мне пришлось заниматься получением посылки целый день с восьми часов утра до девяти часов вечера. Сначала я побывал у Гиппинга и обо всем с ним договорился, затем у датского консула[265], который живет на острове примерно в миле от моего дома. Он не датчанин и не говорит по-датски; тем не менее он предоставил мне требуемые сведения, однако не преминул заметить в своей речи, что не находит для себя возможным вмешиваться в дела упомянутого господина и советует мне выбрать день и самому совершить небольшое путешествие в Кронштадт! Потом я снова вернулся к пастору Гиппингу и обо всем его проинформировал, после чего он отправился к генеральному консулу Швеции Стерки, проживающему на том же острове, однако несколько ближе. Тот стал утверждать, что посылка не могла быть адресована ему, ибо строжайше запрещено оставлять у себя недоставленными вещи, направленные на адрес какого-либо консула, на срок, превышающий восемь дней. Гиппинг продолжал настаивать на своей правоте, и консул потребовал у него коносамент[266], а поскольку такового не имелось, воскликнул: «Это какое-то безумие заниматься подобным делом!» Тем не менее он все же отправил слугу на таможню, расположенную на расстоянии приблизительно в четверть мили, с запиской к своему знакомому с просьбой узнать, фигурирует ли нечто подобное в бумагах шкипера. Они прождали его (человека) около часа, но он так и не появился! Между тем у пастора были свои весьма срочные дела, не терпящие отлагательства, и дольше оставаться он не мог. Я же тем временем пошел домой, где меня встретил незнакомый человек, также заказывавший книги из Копенгагена и пришедший ко мне, ибо он случайно услышал, что мне пришли письма. Разумеется, мне пришлось пересказать ему всю историю. После этого я составил письмо на немецком языке вице-консулу в Кронштадте[267], чтобы избежать поездки туда. Затем пришел пастор Гиппинг и рассказал о результатах своего визита к консулу. Потом я отправился к поверенному в делах Дании в России[268] с целью посоветоваться с ним; он живет в противоположном от консула конце города. Дома я его не застал, так что мне придется снова идти к нему завтра, а Гиппингу – к сотруднику таможни, и т. д. и т. п. Результатом сегодняшних моих действий явилось лишь то, что мы знаем теперь, что злополучный шкипер сидит под арестом в Кронштадте. Как вам это нравится? Однако довольно, перейду теперь к тому, что предстоит делать далее. Итак, впредь тебе необходимо будет позаботиться о следующем:
1. Отправлять все последующие посылки лучшим и более надежным способом – пусть это стоит столько, сколько скажут, лишь бы было поскорее и вполне законно, чтобы можно было доказать право собственности на груз и, если потребуется, отстоять свое имущество даже в судебном порядке. И не забывай делать то, о чем я так часто тебя просил: как только ты что-то отправляешь, посылай мне соответствующее уведомление по почте, причем лучше через Швецию – это и короче, и, по-видимому, надежнее.
2. Раздобыть и как можно скорее переслать сюда законное свидетельство в двух экземплярах (через Швецию и Германию) о том, что данный пакет с книгами и письмами действительно послан такому-то по такому-то адресу с капитаном такого-то судна тогда-то со следующей целью. Данное свидетельство можно получить в таможенной службе Копенгагена, где вполне отработана выдача подобных сопроводительных бумаг, и оно вполне может быть оформлено в виде некоего документа <на гербовой бумаге?>, имеющего законную силу.
3. Что касается письма моей мачехи: запрашиваемые ею 100 ригсдалеров вполне могут быть ей выделены под залог недвижимости, а именно усадьбы Фрюдендаль[269] в Рюдскове[270], при условии законной регистрации данной закладной и точного соблюдения всех формальностей. При этом в мои намерения входит контролировать действия любезного г-на Педера, за которого моя мачеха имела несчастье выйти замуж после смерти моего отца и который беспрестанно предпринимает попытки опустошить наш дом, распродав все имущество, и даже продать само здание, что, несомненно, приведет мою мачеху да и его самого к полному краху. Я намерен сам написать ей обо всем этом через Германию. Проценты с данной суммы ты, разумеется, получать с нее не будешь, если это не будет необходимо при законной регистрации документа и т. д. Если же это паче чаяния потребуется, то все действия должны быть произведены строго в соответствии с законом[271].
Если представится такая возможность, вышли еще срочно парочку экземпляров <лучше 5> моей конкурсной работы, так как отправленных с Ниссеном ждать придется долго. Позаботься, чтобы, если состояние моих финансов потребует этого, растянуть имеющиеся деньги до Нового года. В любом случае пусть лучше подождет книготорговец, нежели моя мачеха.
Всего тебе хорошего. Просьба с первой же оказией прислать пару слов верному и преданному другу твоему
Р. Раску
Не сочти за труд забрать у профессора Нюэрупа письма ко мне и титулярному советнику Лобойкову и вложить их в послание, которое ты собираешься переслать мне через Швецию.
[Адрес получателя: ] Достославному г-ну Ларсену, торговцу колониальными товарами, проживающему на углу улиц Студиестрэде и Ларс-Бьёрнсстрэде в Копенгагене.
Петербург, 12 октября 1818 г. Р. Нюэрупу[272]
Петербург, 12 октября 1818 г.
Проф. Нюэрупу.
Дорогой, добрый г-н профессор!
Два Ваши последних и единственных письма, которые я получил в этом городе, сильно обрадовали и ободрили меня и тем, что убедили меня в Вашей неизменной благосклонности и дружеском отношении ко мне, и тем, что содержали интересные известия[273]. О том, что они в большой степени подействовали на меня и на план всего моего путешествия, Вы, несомненно, уже узнали от профессора Мюллера, если до него дошло мое последнее письмо, отправленное через Швецию[274], или в любом случае при нынешней оказии[275].
Лобойко делает хорошие успехи в датском и сейчас переводит на русский вступление к моей англосаксонской грамматике, чтобы напечатать его в журнале, который издается здесь так называемым Вольным литературным обществом[276]. Вольное общество значит общество, труды которого и предприятия можно свободно рецензировать, так как у него нет статуса императорского, потому что все с этим статусом неприкосновенно, каким бы абсурдным, бессмысленным и совершенно безумным оно ни было[277]. Это самое Вольное литературное общество меня также, благодаря дружбе с Лобойко, почтило званием своего члена-корреспондента[278]; общество, конечно, незначительное по сравнению со Скандинавским, но в высшей степени яркое и всегда интересное, как любой прудик в песчаной пустыне.
От профессора Дегена я ничего не слышал и не видел с моего отъезда из Копенгагена и поэтому не посетил никого из его друзей-математиков. Хотя я думал о том, чтобы самому сходить к Шуберту, но все мои знакомые единодушно описывают его как странного, строптивого и нудного вельможу, с которым невозможно иметь дело. Однако я познакомился с другим человеком математического склада ума, а именно надворным советником Пантцнером. Он, несомненно, является человеком редкой эрудиции во многих областях, особенно в естествознании, но вряд ли знаком Дегену, иначе я бы очень просил передать привет от него, так же как и от меня самого. У меня есть и еще один привет, путешественнику Вормшёльду от художника Хориса с корабля «Рюрик», в случае если я не обременил этим проф. Мюллера в предыдущем письме[279]. Я почти не искал других знакомств, так как большинство здесь не из моего мира; все глаза следят за nervus rerum gerendarum[280] или в любом случае за благодетельной богиней, которую воспел Тройель[281]. Если бы я должен был здесь часто посещать солидные собрания, то я бы в три или четыре раза больше разъезжал и ничем не занимался. Несколько немецких профессоров составляют самый важный круг моих знакомых, но большинство из них задирают носы так высоко, что я боюсь за потолочные балки. Трое французских ученых, которых я повстречал, еще меньше мне по вкусу, хотя у них и нет такой варварской (беспардонной) заносчивости, как у немцев, но с ними обстоят дела так, как француз в Швеции выразился о винной бутылке, когда его попросили налить себе самому: «Внутри – никого», сказал он и показал на донышко[282]. В общем, здесь ни у кого многому не научишься, все надо исследовать собственными трудами, ибо здесь в обществе совсем нет уважения к науке. Если профессор получил мое первое письмо из Петербурга о немецком театре, то с небольшими поправками Вы можете применить его к Большому Императорскому Русскому театру[283], в котором я теперь также один раз побывал, чтобы увидеть «Ифигению в Авлиде», гранд-оперу и т. д.[284], а после этого – оригинальный русский фарс, «Угор и Марфа»[285]! Так как Клитемнестра[286] хотела бежать за своей дочерью и ее спасти, стражник вытянул шпагу из ножен и приставил ей к талии. Греческие воины были одеты как лопари в леемовском описании Финнмарка[287]. Щиты точь-в-точь соответствовали шаманским бубнам и так далее[288]. Каждое действие неизменно сопровождалось аплодисментами; помимо того, троих из актеров в конце криками вызвали на сцену. Извините меня за эти пустяки и вспоминайте вечно преданного и благодарного Вам
Р.Р.
Большой привет Грёнланду. Я с сердечной радостью и весельем посмотрел его шведские мелодии и поразился его правильному шведскому, подобного которому я пока еще у иностранца никогда не видел, также гравировка была выполнена достаточно хорошо[289].
Чтобы не показаться небрежным, ниже перечисляю письма, которые я получил: два от Вас, вложенные в два от Ларсена. – Одно от проф. Мюллера с заграничными паспортами[290] – отослан ответ. – Одно от г-на Эгильсена, ответ отослан через Швецию[291]. – Одно от Комиссии по древностям вместе с одним от Томсена, на оба отосланы ответы, а в Комиссию послано собрание редких гравюр на меди с изображениями древностей из здешней Кунсткамеры[292], через датское посольство. Ни от каких других датчан или исландцев я не получал ни писем, ни какого-либо рода известий. Точно ли дошли большое письмо от Пантцнера и от меня профессору Эрстеду, а также конференц-советнику Вормшёльду от неизвестного, оба посланы с корабельной оказией?
Петербург, 20 октября 1818 г. К. Мольбеку[293]
Петербург, 20 октября 1818 г.
Высокочтимый г-н секретарь[294]!
Покорно прошу извинить меня за то, что решился побеспокоить Вас этими несколькими строчками, в общем-то не собираясь сообщить Вам никаких особо интересных новостей. Дело в том, что канцлер Румянцев попросил меня узнать, нет ли в книжных собраниях Копенгагена славянских или русских рукописей или же других неизданных материалов, касающихся непосредственно истории России или каким-то образом связанных с данной темой. Если таковые найдутся, ему понадобятся краткие сведения об их содержании, времени написания и т. д. – разумеется, если раздобыть их не составит особого труда, – ибо он впоследствии, по-видимому, намерен, в зависимости от обстоятельств, заказать их списки или даже издать эти материалы. Полагаю, что в университетской библиотеке ничего подобного не отыщется, однако что касается Королевской библиотеки, то, помнится, я видел там как-то одного господина, работавшего с достаточно объемистыми русскими документами. Думается, там также могут отыскаться те или иные материалы относительно старых связей датчан с прибалтийскими провинциями нынешней России. Раздобыв краткие и четкие сведения по данному вопросу, Вы бы дали ход новым исследованиям, укрепили графа и прочих в плодотворности тех идей по поводу Дании и датских ученых, которые я пытаюсь донести до них, а также оказали лично мне существенную помощь в моей работе на благо скандинавской и в особенности отечественной литературы, в чем я и по сей день не имею ровно никакой поддержки Копенгагена. В связи с вышеизложенным хотел бы попросить Вас заняться данным делом, которое, несомненно, может обернуться всем нам во благо.
Искренне преданный Вам
Р. Раск
Секретарю библиотеки г-ну Мольбеку
P.S. Вы вполне можете лично направить данные сведения по адресу графа и передать их в российскую дипломатическую миссию в Копенгагене; если они к тому же будут на немецком или французском языке, граф сможет сам ознакомиться с ними без помощи переводчика. Как бы то ни было, желательно, чтобы эти сведения были записаны латинскими буквами, ибо иные здесь не могут быть прочитаны никем, кроме урожденных немцев, – причем в печатном виде, не говоря уже о рукописном. Большая просьба передать привет проф. Верлауфу и прочим нашим общим знакомым. Если Вы увидитесь с моим комиссионером, торговцем колониальными товарами г-ном Ларсеном, или с профессором Нюэрупом, прошу сообщить им, что я до сих пор так и не получил ни одной книги из тех, что просил прислать после моего прибытия сюда. Между тем я уже писал им обоим, равно как и профессору Мюллеру и прочим, с позапрошлой почтой через Германию, и надеюсь, письма эти достигли адресатов. Один из здешних русских ученых, заказавший прислать ему «Ученые известия»[295], весьма удивлен, что не получил никакого ответа. Нет ли возможности раз в месяц отправлять их через российскую дипломатическую миссию в Копенгагене в адрес российской миссии в Стокгольме и оттуда в датскую миссию в Петербурге? Ведь доставка их по почте представляется чрезвычайно дорогим делом. Вероятно, неплохо было бы обсудить эту возможность с Мюллером или Нюэрупом. Ведь коль скоро сюда не доходит ничего из Копенгагена ни посуху, ни по морю, то о какой связи может идти речь? В таком случае лучше прямо написать об этом пару строк и переслать письмо по почте, чтоб никто не мучил себя напрасными ожиданиями.
Петербург, 27 ноября 1818 г. П.Э. Мюллеру[296]
Петербург, 27 ноября 1818 г.
Высокочтимый г-н профессор!
Полученное мною Ваше послание от 30 октября искренне порадовало меня своей ясностью, основательностью и назидательностью, тем более что здесь у меня совсем нет друзей либо доброжелателей, на чьи советы в делах я мог бы полностью положиться. Между тем из отправленного мною позже письма Вам станет, надеюсь, понятно, что я лишен каких-либо колебаний в намерении осуществить мой план и что я испытываю лишь неуверенность, выбирая лучший из способов претворения его в жизнь. Различие между ними заключается в следующем: в то время как по морю вполне можно добраться до Ост-Индии, я не знаю никого, кому удалось бы проделать этот путь по суше. Из Калькутты и Мадраса морем в Бирму можно провозить с собой что угодно, однако доставить то же самое туда из Петербурга – это все равно, что из Лабрадора в Буэнос-Айрес. Имея при себе свои книги, ученый везде чувствует себя как в своем рабочем кабинете, без них же он – как кузнец без молота и наковальни. Просмотрев индийские материалы в университетской библиотеке, я смог бы получить представление обо всей индийской литературе, а также понять, что уже изучено, а что требует дополнительного освещения; с этого я как раз и собирался начать по прибытии в Индию. Однако стоимость морского путешествия вполне может быть настолько высока, что его осуществимость для меня либо для кого-либо более достойного окажется в высшей степени проблематичной. В этом случае, в соответствии с Вашими пожеланиями и тем, что продиктовано состоянием дел в Копенгагене, мне [придется отказаться от морского пути], ссылаясь на то, что ultro posse nemo obligatur[297]. Вы совершенно правы, указывая, что не должно писать книги в дороге, однако Вы бы меня извинили, вспомнив, что данная моя поездка является лингвистической и записки о ней станут своего рода грамматикой (или же чем-то вроде нее). Я накопил изрядное количество мелких изменений и усовершенствований к классическим и систематическим описаниям большинства европейских и некоторых азиатских языков, благодаря чему их истинная природа и взаимное соответствие становятся гораздо более очевидными, нежели до сих пор. Боюсь, правда, что данные усилия могут пропасть втуне, если мне не удастся самому осуществить окончательную правку всех моих записок; доктор Бресдорф[298] во всяком случае смог бы лучше других составить из них что-либо полезное – своего рода Раскиану. Беда в том, что мне не удастся захватить с собой мои словари арабского и персидского языков (Голиуса и Хопкинса)[299]. Также весьма важны для меня были бы мои татарские, финские, венгерские и лапландские материалы, равно как и большинство моих рукописных тетрадей. – Тем не менее я весьма сомневаюсь, что смогу взять все свои вещи с собой в данное путешествие, когда вопрос о нем решится окончательно. Об этом, дорогой г-н профессор, я позабочусь самостоятельно; при этом уверяю, что испытываю самое искреннее стремление доставлять Вам и прочим моим благожелателям как можно меньше хлопот и разочарований. Я не могу сообщить Вам точной даты своего отъезда: день отправления был определен еще летом, я уже был полностью готов к путешествию, однако меня подвели предполагаемые попутчики. Теперь же мне предстоит обсудить некоторые вопросы с графом Румянцевым, уклониться от чего решительно невозможно, не скомпрометировав себя лично и все наше Отечество, которое я здесь в известной мере представляю[300]. Кроме всего прочего, это может иметь необычайно большое значение для предстоящего путешествия. Надеюсь, однако, что у Вас в связи со всем этим не закрались сомнения в моем твердом намерении осуществить данную поездку. Почти каждый понедельник я регулярно бываю у него с Аделунгом и Кругом и, используя свое влияние, пытаюсь убедить его осуществить доработку и печатание нового полного Lexicon Fennico-latino-germanicum[301], над составлением которого уже полным ходом трудятся в Або и для которого разработаны многие новые буквы. В приватном общении с автором данного труда Густавом Ренваллем я предложил новую систему организации падежей и склонений с их новыми обозначениями, которую он и взял за основу грамматического введения к словарю, несмотря на то что она находится в явном противоречии с изданными им прежде работами (диссертациями) на данную тему. Я надеюсь, что это будет воспринято как необычайно важное и полезное открытие с точки зрения науки и послужит делу прославления нашего Отечества. Мои труды по продвижению датской литературы можно отчасти назвать невольными, ибо я как датский ученый и профессор был просто не в состоянии не посодействовать этому; но не могу отрицать, что данные усилия неизменно приносят мне великую радость. Между тем эффект от них увеличился бы десятикратно, если бы книготорговля и обмен корреспонденцией соответствовали бы моему энтузиазму, а также желанию и настрою некоторых здешних ученых. Число их невелико, и особым влиянием они не пользуются, однако ведь надо с чего-то начинать. Среди них следует выделить наиболее значимого – титулярного советника Лобойко, а также наиболее энергичного – пастора Гиппинга, законоучителя в Императорской гимназии, финна по рождению, человека, обладающего превосходным характером. Он приложил немалые усилия для учреждения здесь некоего скандинавского общества, однако не особо в этом преуспел, ибо направления деятельности подобного общества весьма ограничены. Сознавая это, он не далее как сегодня побывал у меня с тем, чтобы обсудить свою новую идею. Необходимо (сказал он) наладить линии связи с Данией и Швецией, организовать регулярный обмен письмами, чтобы мы здесь знали, что там происходит, и, в свою очередь, сообщали туда, что происходит у нас и в Финляндии. Для этого желательно было бы создать небольшое общество, которое, даже если бы ничего не издавало, могло бы вести рукописный обзор литературы, которая, с точки зрения членов данного общества, могла бы заинтересовать иностранцев. Краткие выдержки из данного обзора, а в случае проявления заинтересованности те или иные заметки в полном объеме могут направляться за рубеж с целью последующей их публикации в соответствующем издании. А сюда равным образом могли бы поступать подобные материалы для публикации их на шведском либо на русском языке. Это общество представляется мне в качестве своего рода филиала Скандинавского общества; также в этой связи я думаю и о скандинавском библиографическом указателе[302], который должен, наконец, включить в себя и финскую литературу, то есть все то, что печатается на шведском (и финском) языках в Финляндии, а также в Петербурге, ибо именно здесь место встречи скандинавских и германских литератур, а также живет множество финнов, которые уже совершенно ошведились. Сейчас их литературные труды остаются неизвестными прочему миру, и включение их расширило бы указатель и усилило интерес к нему. Я писал об этом Нюэрупу и Дейхману, но не получил по этому поводу ответа. Можно было бы задуматься и о том, чтобы на основе данного указателя делать периодический обзор зарубежной литературы. Досадно, что в Скандинавии нет ни одного научного издания подобного рода. Причем выходить оно должно, вне всякого сомнения, в Дании, как в стране, которая находится в непосредственной близости к зарубежью[303] и язык которой целиком принадлежит двум странам и наполовину – третьей и четвертой[304] (я включаю сюда также и Финляндию, которая расположена всего в нескольких милях от Петербурга и при этом обладает собственной конституцией, имеет собственный университет, а также множество гимназий и школ, где основным языком является шведский, а датский – нельзя сказать, чтобы был полностью неизвестен). Если бы я постоянно находился в Копенгагене, у меня наверняка возникло бы желание объединить свои усилия с деятельностью молодых ученых и попытаться осуществить нечто подобное. Как бы то ни было, мне хотелось бы рекомендовать Вам рассмотреть идею пастора с целью ее применения и реализации. Я попросил его изложить соображения по данному поводу на шведском языке и, быть может, несколько позже возьму на себя смелость переслать их Вам. Полагаю необходимым, чтобы он и советник Лобойко стали членами-корреспондентами Скандинавского общества, ибо я сомневаюсь, чтобы удалось отыскать лучших и более значимых кандидатов на данные должности. Именно пастор подписался на «Записки»[305] Скандинавского общества, из которых, правда, получил лишь полтома. Я рекомендовал Дейхмана, кроме них двоих, также коллежскому советнику и библиотекарю профессору Френу, однако последний – урожденный немец и ученый-востоковед – желал бы получать из Копенгагена и Лунда лишь латинские и немецкие материалы. Я рекомендовал Дейхмана и многим другим, но эти трое могли бы быть крайне важны для развития литературы и книжной торговли.
В завершение хотелось бы поздравить Вас с Рождеством и Новым годом и пожелать Вам всего наилучшего.
Искренне Ваш
Р. Раск
По-видимому, Вы наслышаны о том, как протекает путешествие Гумбольдта, а также о том, сколько он получил на осуществление своей поездки[306]. Организованное таким образом предприятие просто не может не увенчаться успехом! NB. Не будете ли Вы столь любезны прислать мне точное описание дара Валлиха библиотеке?
Петербург, 1 февраля 1819 г. А. Ларсену[307]
Дорогой и любезный Ларсен!
Вот уже кончился январь, но вплоть до сегодняшнего дня (1 февраля) я так и не получал от тебя никаких известий. Поверь, что мой кошелек столь же нуждается в твоих вливаниях, сколь трубящий олень, разыскивающий воду для питья. Я вынужден был отказаться от возможности продолжить свое путешествие, ибо нынешнее мое состояние – точнее, состояние кошелька – не позволяет мне отправиться на другой конец света. Так что если тебе дорого мое благоденствие, прошу тебя изо всех сил поторопиться. Пока ты получишь данное письмо, закончится февраль! Ответа от тебя я смогу дождаться не раньше конца марта, а к тому времени я уже должен был бы быть весьма далеко отсюда! В настоящий момент было бы неверным сказать, что я нахожусь в стесненных обстоятельствах, однако, поскольку я собираюсь отправиться в Индию, нынешних средств моих на это явно не хватит. Я беру уроки персидского и армянского языков, а на это нужно много денег – на покупку книг и на все прочее, так что если бы я не ограничивал себя во всем, то давно бы уже был на мели. А ведь за все то время, что я нахожусь в этой стране, я не покупал себе ничего нового, кроме пары перчаток к Рождеству, большого количества книг и тому подобных вещей, траты на которые невозможно предусмотреть. Не буду повторять все то, что ты и сам сможешь узнать из вложенного (незапечатанного) письма моего профессору Мюллеру. Боюсь лишь, что мои письма Магнусену, Мюллеру, Торстейнссону и в Исландское общество[308] снова пропадут – я посылал их также через Швецию, однако по почте. Если профессору Мюллеру удастся, как он планировал, раздобыть для меня еще средства и даже увеличить выделяемую сумму, незамедлительно вышли мне эти деньги, чтобы я смог обеспечить себе тылы и безбоязненно отправляться в путешествие.[309] Если все образуется, не стоит ожидать, что твои письма – кроме ответа на это мое послание – застанут меня в этом городе; тем не менее, прошу тебя, не забывай, как и прежде, время от времени, в особенности если случится что-то важное, присылать мне сообщения об этом, как и прежде, на адрес пастора Гиппинга. Говорят, что все письма, отправляемые отсюда за границу и получаемые из-за границы, вскрываются. Однако мне не известно, запрещена ли пересылка векселей обычным письмом без указания вложения, так что остается лишь надеяться, что, в свете сказанного выше, с ними ничего не случится. Будь также любезен сообщить Дейхману, что я убедил здешнего датского консула Герике[310] принимать пересылаемые книги и платежи за них, которые Дейхман будет получать в копенгагенской «Рюберг и комп.». Ему лишь надлежит составлять разборчивые счета-спецификации латиницей в двух экземплярах, один из которых должен прилагаться к посылке, а другой направляться по почте. Посылки лучше всего направлять на адрес датского консула, а также делать пометку П.Г. (пастор Гиппинг), а письма, написанные по-датски латиницей, необходимо направлять непосредственно на адрес последнего. Попытайся также с помощью профессора Нюэрупа достать опись индийских, персидских и арабских книг и документов, поступивших в университетскую библиотеку из Калькутты от Валлиха. Это не составит особого труда, ибо в большинстве своем все заглавия английские. Для меня важны точные указания года и места издания, а также чтобы данная опись была составлена на хорошей бумаге и не была особо объемной. Засим не стану утруждать тебя на этот раз ничем более, кроме как просьбой передать многочисленные приветы твоей милой семье, а также прочим нашим любезным друзьям, в особенности исландцам. Всего тебе самого доброго, дорогой и верный мой друг!
Искренне преданный и любящий тебя
Расмус Раск
Петербург, 18 февраля 1819 г. К.Ф. Дегену[311]
Петербург, 18 февраля 1819 г.
Проф. и д-ру Дегену.
Высокоуважаемый господин профессор!
Меня немало поразило Ваше хорошее послание, и особенно то, что оно написано по-русски. Мне бы следовало ответить на том же языке, но хотя я говорю на нем каждый день, все же мне не очень легко говорить на нем или писать. Кроме того, я ежедневно говорю на немецком и шведском, часто на английском, иногда на датском и латинском и занят изучением такого же количества азиатских языков. Чтобы все их не смешать и не запутаться в них, я принял за правило все соотносить с родным языком, который кроме того есть и всегда останется моим любимым и которым я пользуюсь всегда, когда это приемлемо и возможно. К тому же русский представляется мне достаточно скудным и жестким для общения, так что я действительно удивляюсь профессору, который столь многого в этом языке достиг. Однако ближе к делу[312]: я, действительно, побывал у Шуберта и Фусса; то, что они якобы напрасно пытались меня разыскать, – неправда, к которой эти добрые господа прибегли, чтобы приличным образом оправдаться, ведь я столь часто бывал у Круга, Аделунга и других немецких профессоров и академиков, что они, если бы хоть слово им сказали, смогли бы получить обо мне сведения либо передать мне, что они желают меня видеть. В то же время не стоит их слишком строго судить, так как они заняты столь разнообразными делами и живут в совершенно ином мире. Фусс – его превосходительство, а Шуберт – старик, увешанный орденами[313] и т. д. Но кажется, что Wenn irgend nun ein Rang, wenn Gold zu steifen Hals dir gab и т. д.[314] не является его девизом. Ни одного из них не может хоть как-то заинтересовать моя персона – грамматика! чернильница! перо! pedantus, pedanta, pedantum![315] Кроме того, господин профессор никоим образом не может по самому себе судить об иностранных ученых в России; здесь, по сути, ученых нет, но господа и р[абы][316] – это те два класса, к которым должно отнести каждого. Вообще-то с Шубертом я, не будучи с ним знакомым, был в обществе у Аделунга. Фусс со мной обошелся довольно любезно; а впрочем, самый важный из наших разговоров состоял в том, что он выразил удивление по поводу прекращения выхода «Записок» Датского общества наук[317]. Вы видите как это учтиво и приятно для меня Сказанно[318]. Я его уверял, что они продолжают выходить, но он не поверил по той причине, что сам очень аккуратно высылал русские acta[319], но в течение семи или восьми лет датских не получал. Он осведомился о секретаре, и я сообщил, что Эрстед был последний, о ком я с уверенностью могу сказать. Хотя я теперь не знаю, имеете ли вы отношение к Обществу, но я бы все-таки попросил бы Вас поговорить об этом деле с профессором Эрстедом и проследить, чтобы он в конце концов не забыл уладить его. Раз уж я здесь начал давать Вам поручения, не мог бы я обеспокоить еще одним к Эрстеду. Тут есть один превосходный немецкий ученый, надворный советник Пантцнер, душа Минералогического общества[320], который желал бы получить некоторые минералы из Исландии. Чтобы продвинуть дело, я написал по-исландски хирургу Свейну Паульссону в Исландию[321], который достаточно разбирается в естествознании, а кроме того пару слов проф. Эрстеду, чтобы порекомендовать ему посредничество, наконец и Пантцнер, который был с ним знаком лично, также написал письмо и приложил устав Общества, и все это было послано с оказией по морю, но никто из нас с тех пор так и не получил в ответ ни слова, и мы не знаем, дошли ли эти послания или нет[322]. При том что и связь ненадежная, и наша литература здесь незнакома, тем не менее был бы крайне желателен более систематический литературный обмен там, где его возможно завязать; и хотя бы слово или письмо от Нюэрупа или моего доверенного лица[323] о том, что вещи прибыли и что-то было предпринято, чтобы исполнить требуемое, было бы нам обоим крайне интересно и приятно.
Аделунг, насколько я могу судить, превосходный человек, который ученость и трудолюбие сочетает с воспитанностью и добрым сердцем. Он рябой на лицо и, кажется, у него несколько повреждены глаза, но в остальном он хорошо сложен и в целом привлекателен; он занимается лингвистикой и многого бы добился, если бы жива была Екатерина II[324]. Вообще же здесь достаточно много делается в плане сочинений по лингвистике, недавно был здесь напечатан монгольским наборным шрифтом монгольский трактат о[325] христианстве[326], и здесь же готовится к печати китайско-манчжурско-монгольско-русско-латинский словарь (в тематическом порядке), китайская часть литографически, остальные наборными шрифтами[327]. Чего здесь не хватает, так это ученых, которые бы понимали, как надо себя вести, когда хочешь внести вклад в науку, и у которых было бы время и настроение этим заниматься. От описания Шуберта и Фусса я попросил бы меня уволить, но могу сказать, что живут они день за днем в радости и блеске своего великолепия и, вероятно, проснутся только at the shock tumbling down in the ocean of oblivion[328].
Сейчас я вторично собираюсь уезжать в Азию[329], и я надеюсь, что теперь это осуществится, так что прощаюсь с первым моим сердечно дорогим учителем и благодетелем. Позвольте мне добавить новое определение – с другом, а также уверить, что Вас, находящегося среди Вашей счастливой милой семьи, постоянно и дружески вспоминает вечно
преданный Вам
Р.К. Раск
Петербург, 25 апреля 1819 г. А.Ю. (А.М.) Шёгрену[330]
Петербург, 25 апреля 1819 г.
Хотя во время моего пребывания в Або у меня не было случая лично познакомиться с Вами, мне тем не менее довелось неоднократно слышать хвалебные отзывы о Вас и, если не ошибаюсь, даже однажды увидеть Вас в библиотеке, так что получить от Вас письмо было для меня особым удовольствием и честью; хотелось бы иметь возможность как-то оправдать оказанное мне доверие. Мои знакомства здесь немногочисленны и не блистательны. Так как здешнее изящное общество для меня чересчур великолепно, ни кошелек, ни время не позволяют мне каким-то образом общаться с кем-либо кроме немногих (в основном немецких) ученых. Таким образом, мои рекомендации не имеют большого веса; и хотя все, что я могу предложить, – это пустые советы, но я буду бесконечно рад, если они все же не окажутся совсем бесполезными.
От того, чтобы получить место домашнего учителя, я могу Вас изо всех сил только отговаривать, так как, если это будет более или менее хороший дом, потребуется знание светской жизни, полное владение новыми языками и проч., и при этом почти не будет ни времени, ни случая для собственных занятий. Граф Румянцев финансирует сейчас несколько больших проектов, которые обходятся невероятно дорого, напр., 1) описание кругосветного плавания на корабле «Рюрик»; 2) продолжение «Scriptores Byzantin[i]», которые печатаются в Париже[331]
