Читать онлайн Граф Безбрежный. Две жизни графа Федора Ивановича Толстого-Американца бесплатно
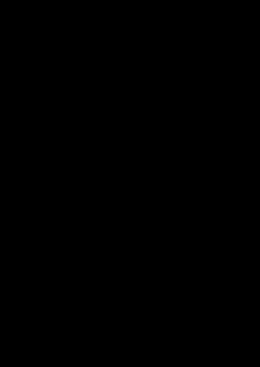
© Алексей Поликовский, 2018
ISBN 978-5-4493-4398-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Могилы его я в тот мой давний визит на Ваганьковское кладбище так и не нашел. Я полдня бродил по аллеям, выискивая старые каменные кресты и утонувшие в земле плиты со стершимися буквами. Протискиваясь между тесно стоящих оградок, я никак не мог постигнуть логику этого места. Декабрист Бобрищев-Пушкин покоился неподалеку от генерала Баранникова, члены ВКПБ соседствовали с действительными тайными советниками. Логики тут никакой не было, времена смешивались, хаос жизни переходил в хаос смерти…
Гудели машины на близкой улице, сквозь густую листву иногда начинал накрапывать мелкий дождь. За церковью Воскресения Словущего, в месте, тенистом настолько, что сюда не попадал ни солнечный свет, ни дождь, я сел на корточки у обширной плиты и читал выбитые на ней слова, скользя по почти исчезнувшим буквам пальцами. Это была могила генерала-лейтенанта Ираклия Моркова, во время войны 1812 года награжденного за храбрость золотой шпагой с алмазами. Этот человек был сосед графа Федора Толстого по времени и наверняка был знаком с ним: Толстой во время войны против Наполеона служил в ополчении, которым Морков командовал. Оглянулся, обошел все могилы по соседству – ни одной из девятнадцатого века рядом не было.
В существовании могилы не было никаких сомнений – она упоминалась во многих книгах, посвященных московским некрополям. Позднее, бродя по кладбищу с путеводителем в руках, я ее, конечно, отыскал. Но в тот раз, впервые плутая по этим аллеям, я словно попал в заколдованный круг: надгробные камни и оградки сменяли друг друга, но нужной мне могилы все не было. Я зашел в контору кладбища, к смотрителю – мужчине с мобильным телефоном в руке, по имени Виталий. «Я ищу могилу одного человека. Не могли бы вы помочь мне?» – «Какого года захоронение?» – «1846». Вздох, почти стон вырвался у него из груди – он не ждал такой даты, как не ждут удара ниже пояса. «Нет. Это невозможно. Что вы. Такие старые могилы нельзя тут найти…», – почти испуганно сказал он. – «Этот человек – граф Федор Толстой, по прозвищу Американец», – пояснил я. – «Американец? Да, я слышал что-то о нем… Американец…», – пробормотал он и дернул ящик стола. Там лежала книга о московских кладбищах. Он листал её с растерянным лицом человека, который заранее знает, что дело безнадежное.
Дом Федора Толстого в Пречистенской части я даже и не искал – знал, что не существует. Когда-то этот небольшой, в один этаж, деревянный, на каменном фундаменте с небольшим мезонином дом стоял на углу Сивцева Вражка и Калошина переулка. Дом, построенный после пожара 1812 года, в тогдашней Москве не имел никакого исторического или архитектурного значения: одна из многочисленных новостроек, типовой проект безвестного архитектора, воплощенный безвестным же прорабом, руководившим артелью орловских или серпуховских мужиков. Картинка сохранилась: невысокая крыша, десять узких окон по фасаду – ничего в этом доме нет ни гордого, ни широкого, ни удивительного. Он обычен, как калач в ряду калачей, он уютен, как старая разношенная одежда – посмотришь на него, и приходят мысли о небольших, жарко натопленных комнатах, о теплом халате, об утреннем кофе, о вечернем чае, об огромной печи, о большом самоваре и длинном зевке, раздирающем хозяину рот… Это обычный московский особнячок, со службами на задах, может быть, с садом, в котором прячется беседка, может быть, даже с курятником: должны же графу откуда-то ежеутренне нести свежие яички!
Здесь, на Пречистенке, на Остоженке и в переулках вокруг них, жили друзья и приятели графа Федора Толстого. Выйди из этого несуществующего уже особнячка светлым днем какого-нибудь 1828 года – и за час-другой пешей ходьбы обойдешь целый русский пантеон. Денис Давыдов, партизан 1812 года, жил по соседству с Федором Толстым, в одноэтажном доме на углу Арбата и Староконюшенного переулка. Соседство двух этих неудержимых людей что-то да значило: легко представить их вечерние встречи то в одном особнячке, то в другом, пышущие дымом длинные изогнутые трубки, громкие голоса и гулкие удары ладоней, вышибающих пробки из бутылок. Потом Давыдов, поменяв пару мест жительства, влетел в одну из обычных своих историй – взял да и купил огромную домину на Пречестинке. Зачем он этот дворец с колоннами купил – герой-партизан вряд ли мог сказать наутро после покупки. Денег содержать дворец у него не было, и он тут же стал искать, кому бы его тысяч за сто продать… Жил тут неподалеку и городской прокурор, любитель хорошей словесности и сытных обедов Степан Петрович Жихарев, было тут неподалеку и нарышкинское гнездо – большой дом сенатора и обер-камергера Ивана Александровича Нарышкина, сына которого граф Федор Толстой убил на дуэли. Жил в этих местах и Павел Воинович Нащокин, человек с круглым открытым лицом, ведший самый безалаберный во вселенной образ жизни. Пушкин у него не раз бывал в гостях. Пушкин, впрочем, у всех здесь, на Пречистенке, бывал в гостях – и у Жихарева, и у Давыдова, и у Нарышкина. И в маленький дом Федора Толстого тоже заезжал.
История – сплошная потеря. Тех людей давно уже нет, их могилы неизвестно где, их письма сгорели в каминах и печках, любимые ими вещи сгнили на помойках, их слава потеряла свой полноценный, гулкий звук и звучит теперь далеким слабым эхом. Живая жизнь превратилась в туман, в котором теряются все концы. Вот газета «Московский Ведомости» в номере 6 за 1801 год – номер вышел января 19 дня в субботу – публикует объявление о господине, ехавшем на извозчике в Пречистенскую часть. Может быть, это кто-то в гости к Федору Толстому ехал? «Сего Января 15-го, обронена Господином, ехавшим на извощике из Пресненской в Пречистенскую Часть, золотая круглая табакерка, а борты разного цветного золота; есть ли кто оную найдя принесет к самому Господину, квартирующему Пресненской части квартира под номером 78, в доме Госпожи Ртищевой, тому будет дано награждения 50 рублей». Занятная история, а если вдуматься – так и захватывающая. Ехал на извозчике господин с усами, вез табакерку с бортами цветного золота ценой в тысячу рублей – ну так и тянет начать детектив, в котором будут воры, сыщики, нищие и принцы, озабоченные судьбой ценной штучки! Но кто был сей господин, к кому ехал, с какой целью, во что был одет, действительно ли имел усы, носил ли шляпу, вернул себе пропажу или нет – от нас скрыто. О судьбе прекрасной табакерки мы не узнаем уже никогда.
Глава I
Федор Толстой в молодости. Автор и год неизвестны
Итак, ничего не осталось от графа Федора Толстого, прозванного Американцем – ни дома, ни вещей, ни писем, ни пистолетов, – кроме памяти. Память осталась, да ещё какая! Это-то и удивительно. Своевольный граф никаких правил не признавал, со всем и всеми обходился так, как ему захочется – и с историей тоже обошелся на свой лад. Все человеческие пути к бессмертию он презрел – романов и стихотворений не писал, битв во главе армий не давал, политических замыслов не имел, философских трактатов не сочинял, денег не копил, банков не основывал, а все-таки вошел в историю почище иных писателей и министров. Он, частный человек, не занимавший никаких должностей, никогда не думавший о том, как осчастливить человечество, в историю даже не вошел, а вломился, широким плечом и ударом ноги чуть не вышибив дверь, ведущую в прекрасные поля бессмертия – и расположился там, в этих субтильных полях, со всеми своими безумствами, широко и привольно, на своем собственном месте. Полководцы в истории теснятся толпами, дипломаты отталкивают друг друга локтями, писателей в истории пруд-пруди, и все они спорят меж собой о том, кто из них для человечества дороже – а граф Федор Толстой не спорит ни с кем и не имеет конкурентов. Он такой один.
Он такой один, хотя оригиналов, самодуров, героев, запойных пьяниц, дуэлянтов, растратчиков, картежников, обжор («едунов» на языке тех лет), сплетников («вестунов», как тогда говорили) вокруг него уйма. То время просто кишмя кишело крупной рыбой. В те времена люди не походили на фабричную продукцию, не представляли собой куска мяса, облитого глянцевой карамелью, с головами, в которых просверлено по две дырки – для двух мыслей. Я люблю эту эпоху и её людей – людей, остановивших Бонапарта, про которого ещё сухонький старичок Суворов за пятнадцать лет до 1812 года сказал: «Далеко идет, пора унять молодца!». Я люблю смотреть на их лица на старинных портретах с темным фоном – высокий лоб надменного Барклая, румянец на щеках отчаянного Милорадовича, веющий чуб партизана Давыдова, написавшего бессмертную фразу «Жомини да Жомини, а о водке ни полслова!», спокойные глаза Дохтурова, который, кстати, при небольшом состоянии был большой филантроп и помогал деньгами нуждающимся. При всей разности их личных судеб, положений, темпераментов, во всех них, когда глядишь на их портреты, чувствуется какое-то одно, общее настроение. Эти современники Федора Толстого – люди, не расколотые рефлексией, люди с сильной волей, люди, знающие себе цену. У них хорошо вылепленные, властные лица, их высокие, расшитые золотом воротники упираются в крепко сжатые скулы, у них густые, исполненные витальной силы бакенбарды.
Это были другие люди – не такие, как сейчас. Это и понятно – они принадлежали к несуществующему теперь сословию, были теми, кого сейчас нет: дворянами. Этот класс людей исчез со всеми своими представлениями, привычками и идеалами – исчезло безвозвратно то сплетение качеств и черт, что и составляло благородного человека начала Девятнадцатого века. Быть дворянином означало тогда, прежде всего и выше всего, личную свободу. Это был великий, драгоценный дар в стране, где подавляющее большинство состояло из крепостных рабов. Дворянин мог служить – а мог и не служить; мог вступать в службу прочих европейских государств, союзных России, и мог выезжать по своему усмотрению в чужие края; все его права в тот самоуправный век были гарантированы законом, в пяти следующих одна за другой статьях которого стояло, что «без суда да не лишится благородный дворянского достоинства, чести, жизни и имения». Дворянин был полновластным хозяином жизни, то есть мог покупать людей, собак и деревни, иметь фабрики и заводы по деревням, так же, как дома в городах, и при любых своих оплошностях и преступлениях был лично гарантирован от насилия: «телесное наказание да не коснется благородного». Сам же он – как хозяин своих людей, как их царь и бог – телесные наказания мог накладывать. Эта широкая, почти ничем не ограниченная свобода и эти жизненные права создавали характер: в лучшем своем варианте это был характер решительный, добродушный, лихой, властный и смелый. В худшем – злобный, вплоть до садизма, тупоумный и ограниченный. Что касается Федора Толстого, то он и тут не уложился в схему, и тут оказался сам по себе. Его характер не лучший и не худший, не добрый и не злобный – особенный.
Благородство, утвержденное законом, в русском дворянине действительно присутствовало – среди этого сословия встречаются люди, способные на поступки в духе Дон Кихота. Генерал Милорадович в Киеве в 1810 году устроил бал и одновременно праздник в саду для солдат Апшеронского полка, которым он командовал в итальянском и швейцарском походе Суворова. Солдаты, привлеченные сиянием сотен свечей, громом музыки и блеском туалетов, столпились у стеклянных дверей дома – Милорадович, заметив это, приказал пустить свой любимый Апшеронский полк в комнаты, к оркестру, к кавалерам и дамам. Сцену эту стоит себе представить: солдаты с красными лицами, уже принявшие в саду водочки, в изумлении разбредаются по комнатам, скользят на непривычных ногах по покрытому тонким слоем воска паркету, пялятся на дам с брильянтами и обнаженными плечами, берут с подносов у официантов в белых перчатках крюшон и слушают в недоумении французский язык. Поняв, что сделал что-то не то, генерал мог бы рыкнуть зычным голосом и выставить Апшеронский полк из покоев вон, но благородный и наивный Милорадович не таков – приглашая воинов выйти в сад, он произносит нелепо-возвышенную фразу: «Чистый воздух есть стихия русского воина!». Это – пример благородства именно в духе Милорадовича, то есть благородства лубочного, наивного, милого. Были и другие люди с другим, более напряженным, резким благородством. Один из них – князь Сергей Волконский, который, будучи бригадным генералом, вызвал на дуэль губернатора, за то, что тот повелел выставить рамы в квартире, где жила семья бедного чиновника – эта квартира понадобилась губернатору за какой-то надобностью. Такой низости князь перенести не мог. И дуэль состоялась, и оба стреляли (и промахнулись).
Ширь души, размах деяний что в подвигах, что в пьянстве, что в благородстве, что в глупости были русскому дворянину привычны. Это были размашистые люди. Отец героя 1812 года Дениса Давыдова, Василий Денисович Давыдов, командир полка, был особой сенатской комиссией уличен в исчезновении из полковой кассы ста тысяч рублей – огромной по тем временам суммы. Но эта сумма сама по себе вряд ли способна удивить – в России воровали и похлеще. Удивляет другое: командир полка не смог толком сказать комиссии, на что деньги ушли: сто тысяч растворились, как дым – гусар растратил их на веселые попойки, на ярмарочные забавы, на цыган, на дрессированного медведя, на французские вина да на пиры. Буйство в забавах, неумеренность в еде и питье и самовластие, которое иногда лучше назвать самодурством, – все то, чем так прославился граф Толстой – были родовыми чертами русского дворянства. Федор Толстой был из самых известных и знатных самодуров, но далеко не единственный. Эти качества немыслимо сгущались, например, в семье курских помещиков Ширковых, слава о непотребствах которых шла по всей России. Запойное многодневное пьянство было самым малым грехом этих отчаянных людей, которые могли в приступе гнева выпороть исправника или пырнуть ножом соседа – в остальном они славились дикими насилиями всех родов, кровосмешением и разбоем. Люди подобного типа часто бывали на руку скоры – дать оплеуху или засветить нижнему чину в глаз было для них пустяком. Генерал Винценгероде, хоть и немец, а был в поступках горяч и на расправу крут. Однажды он разгневался и ударил солдата. Гнев генералу застил глаза – солдат оказался не солдатом, а офицером. Из чего следовала дуэль, которую тут же предложил генерал. Офицер отказался, прося в виде компенсации «не обойти его чином». Тут, в этой сценке, все видно насквозь, до конца – смесь благородства и рукоприкладства, хамское самовластие одних, унижение других, тупость сильных мира сего, слабость и подобострастие малых…
Век был воистину наивный – отцы в помещичьих берлогах, затерянных на берегах Волги или Камы, называли дочерей Платонидами и Клеопатрами1, а собак Амурами. Наивность простиралась до такой степени, что девице Гулич, просившей об определении её ко двору на место прачки, отказывалось не как-нибудь тайно и келейно, а официальным образом, через газету «Московские ведомости». Молодые люди – в том числе офицеры – объедались вареньем и конфектами и играли в комнатах в воланы, которые представляли собой вид мягкого мяча. Барышни резвились с офицерами, а вечером ехали в оперу, где давали «Негритянку, или Силу любви и благодарности». При всей своей наивности, век был жестокий, и даже не в том смысле, что Наполеон убил пять миллионов человек – а в том вечном смысле, который предполагает равенство всех времен в их равнодушии к слабым, сирым и убогим. Это великие и умные оставили мемуары и сами отразились в мемуарах, а малые, которые в любой жизни составляют большинство и образуют фон, ушли в небытие без слов – их лица и обстоятельства их жизни мелькают нам мимолетным краешком, за который не ухватить. Тут-то, со страниц тогдашних газет, и сквозит нам жестокость века. Вот Александр Первый, благословенный царь, которого искренне любили многие его благородные подданные, который краснел от стыда, плакал от людской жестокости и молился Богу – в один из дней на заре своего царствования отчего-то отказывает маиору Рейнгольту, ротмистру Матвееву и подпорутчику Самогулову, просившим в бедности монаршего воззрения. Что с ними после этого стало, с этими бедняками? Мы не знаем и уже никогда не узнаем – история, как римский паяц, тут снова забирается на котурны, она любит пышность, геройство, эффектные сцены, батальный жар, а пропитание нищего подпоручика Самогулова её не волнует. И действительно странно: что же этот безымянный Самогулов так оплошал и не поднялся выше подпоручика? И отчего же он, вслед за нами, не почитал газету и не нашел там очень полезного объявления о том, что «в большом доме Князя Сибирского против Театра, Французский повар, Мишель, держит у себя стол в два часа пополудни. Особы, кои пожелают сделать ему честь кушать у него, могут заказывать все то, что будет им угодно. Цена всему положена будет умеренная». Или то, что французу Мишелю кажется умеренным, для нищего и голодного подпоручика неумеренно?
Сначала – внешность: описание её оставили нам несколько мемуаристов и два художника. Граф Федор Толстой был роста среднего, широк не только в плечах, а во всей своей тяжелой и грузной фигуре. На одном из двух дошедших до нас портретов он изображен в фас – лицо у него круглое, глаза черные, шея короткая, бакенбарды имеют ужасающий размер – эти брутальные бакенбарды в ладонь шириной простираются до середины толстых щек. Дорогая рубашка с волнистыми оборками расстегнута чуть ли не до пупа, обнажая могучую и несколько жирную грудь.
Тайны характера этот реалистический портрет не раскрывает – демона тут нет, исчадия ада не видно. А он ведь был в глазах многих посланцем черта на земле – черные буйные волосы и красные от бессонных картежных ночей глаза поддерживали это впечатление. Граф умел молчать и часто молчал со значением, вперив свои красные глаза в чужую переносицу. Людям от этого взгляда и молчания становилось не по себе. Говорить остро и точно он тоже умел, попасть под его злословие было столь же неприятно, как под его пистолет. «Тетушка сливная лохань», – вот пример его злых характеристик; так он выразился о своей престарелой родственнице, которой слуги за столом подносили то, что не доели гости. Дамы в гостиных, робея и дрожа, просили его показать татуировки – он, усмехаясь, раздевался до пояса и демонстрировал красно-синюю птицу, сидящую в кольце на его груди. Он был путешественник, разбойник, бретер, шантажист, картежный вор, – самый скандальный персонаж русского Девятнадцатого века.
Федор Толстой. Рисунок Пушкина на полях черновика второй главы «Евгения Онегина», конец 1823 года
Эту его дикую, отчаянную суть уловил в своем быстром рисунке Пушкин, который по наитию понял, что Американец не фас, а профиль. То, что есть в этом человеке сверх обычного русского барина, сверх самодура и обжоры – дает нам рисунок, сделанный одним движением пера, небрежно брошенный на лист среди других, на которых женские головки, ножки и скачущие лошади. Вот он, Толстой-Американец, каким увидел его Пушкин, который одно время готовился стреляться с ним и для укрепления руки ходил с тяжелой тростью: профиль сильный и грозный, как у римского императора, который ещё при жизни закалил себя до твердости бронзы.
Те немногие факты его биографии, которые дошли до нас, странным образом не совпадают друг с другом, не стыкуются, не выстраиваются в одну линию, которую можно было бы назвать линией судьбы. Его, сына калужского помещика, прирожденного жителя русской равнины, родители отдали учиться в Морской корпус. Отчего это? Проявлял ли он в юные годы интерес к морским путешествиям, строил ли на пруду в отцовском имении плоты и пускался ли на них в плавание к другому берегу, представляя себя капитаном русского корвета в Тихом океане? Мы не знаем. Закончив Морской корпус, он не пошел служить во флот, а был принят в Преображенский полк. Тут опять непонятно. Какой смысл восемь лет изучать галсы и узлы, постановку парусов и карты акваторий, чтобы затем послать все эту умную науку к чертовой матери и стать сухопутным офицером? Если бы мы писали биографию обычного человека, то стали бы искать здесь событий, подвигнувших Федора Толстого так резко изменить свой жизненный путь – или хотя бы внезапного душевного переворота. Но никаких внезапных событий, никаких умных резонов тут нет: он пошел учиться в Морской корпус, потому что так ему взбрело в голову, и всю морскую науку он послал к черту, потому что так ему захотелось, и в Преображенский полк он записался просто потому, что так он решил.
Вот он, характер молодого Федора Толстого, которого тогда ещё не звали Американцем: решительность в поступках, на сторонний взгляд никак не связанная с размышлениями. Захотел – и сделал, решил – и сотворил. В своих поступках он свободен от всего, включая соображения собственной выгоды и пользы. Он – живое воплощение свободной воли, которая, конечно, вовсе не «осознанная необходимость». Скажи кто-нибудь такое определение свободы Федору Толстому, он бы долго смеялся. Он никакой необходимости не знал – какая необходимость в том, чтобы плыть на край света, драться на дуэлях и просаживать в карты безумные деньги? – а действовал по своей необузданной воле, которая могла занести его направо и налево, в лес и в степь, на поле и на море, на дуэль и на войну, в постель к графине, пахнущей духами, и в постель к туземке, пахнущей салом. Он совершал столь разнообразные и столь несвязные один с другим поступки, что именно в их бессмыслии и крылся их смысл. Смысл простой: графу нужен был поступок как таковой. Что хочу, то ворочу – это про него.
В сентябре 1798 года граф Федор Толстой вышел из Морского кадетского корпуса и был зачислен в Преображенский полк. Мы ничего не знаем о том, как он учился в корпусе наукам, но зато знаем о том, что шестнадцатилетний граф превосходно освоил все виды оружия, доступные офицеру. Он фехтовал так, что вставать с ним в пару боялся знаменитый учитель фехтования Севербрик, у которого брали уроки русские аристократы; рубка на саблях – занятие, требующие ловкости и силы – доставляла ему большое удовольствие; из пистолета он стрелял так, как будто родился с ним в руке. С парой пистолетов он, бывало, не расставался целыми днями – перебрасывал их из руки в руку, клал дулами на плечи и внезапно опрокидывал вперед, целя точно в глаза собеседнику, но не прекращая спокойной и учтивой беседы. На идиллических прогулках с друзьями по Царскосельским садам он постреливал: сшибал с веточек вишни, доставал с верхотуры груши, перешибая пулями их черенки. Он успевал снять грушу выстрелом и быстрым движением подставить под неё ладонь. Вот она, тяжелая и теплая, нагретая солнцем, лежит в его ладони, и вот он вгрызается в её сочную сладкую плоть крупными белыми зубами – зубами зверя.
Шестнадцатилетний офицер вошел в жизнь со скандалом, суть которого сейчас уже невозможно установить. С подобными лакунами в биографии нам придется встречаться и впредь: граф Федор Толстой ничего не делал, чтобы сохранить о себе память, а история, как дворник, вымела из шкатулок и архивов почти все его письма. Известно только, что едва вступив в службу, молодой человек тут же из неё чуть не вылетел. Что было причиной? Возможно, он, увлекшись стрельбой, в азарте прикончив пяток пчел и двух бабочек-капустниц, затем в шутку сшиб пулей шляпу с головы товарища и потом искренне не понимал, за что его корят: подобно Вильгельму Телю, он был уверен в точности своего выстрела. Может быть, он с утра выпил бутылку французского вина – черное непрозрачное стекло, узкое длинное горлышко, терпкий вкус винограда – а затем пьяный заступил в караул и послал взвод солдат в ресторацию за закуской. Как бы то ни было, полковой командир граф Карл Андреевич Ливен 1-ый подобного нарушения дисциплины перенести не смог и отослал молодого шалопая в провинцию, в заштатный город, в скромный полк2: а ну-ка, граф, остынь, приди в себя, послужи там, где нет театров и рестораций, а на плацу гуляют тощие русские козы…
Но то, что генерал-лейтенанту графу Ливену 1-ому казалось наказанием, графу Толстому виделось удовольствием. Полковой командир рассчитывал, что граф привязан к условиям своей жизни и боится лишиться их, но граф был легок на подъем и ни с какими внешним условиями не связан. Что Санкт-Петербург, что Тьму-Таракань, что балерины императорского балета, что тощие козы – ему все равно. Он вышел из дома к поджидавшему его возку с коробкой пистолетов под левой рукой, с салфеткой, заткнутой за воротник, с надкушенной французской булкой в правой. Румяные щеки и черные кудри довершали картину. Возможно, он и по пути, свисая с возка то вправо, то влево, дожевывая булку с беконом, стрелял из своих пистолетов по всему, что попадалось на глаза: падали в лесу птицы, с треском валились в ещё не стаявший снег отстреленные ветки и разлетались вдребезги пустые бутылки, которые граф одной рукой выбрасывал из возка, а другой, вооруженной пистолетом, расстреливал. Так, весело проводя время, он прибыл в город N, в Вязмитинский полк, к месту своей первой в жизни воспитательной ссылки.
Ссылка продлилась три мартовских дня, с 16 по 18 марта. Здесь снова в его биографии лакуна, дыра: мы не знаем, отчего он был отослан из N в столь краткие сроки. Федор Толстой наверняка успел представиться командиру полка, наверняка обошел город, озирая домики с приплюснутыми крышами, покосившиеся заборы с калитками и вросшие в холмы церкви – сонная Россия глядела на него с этих крыш, с куполов церквей, с низкого мокрого неба, в котором, зычно крича, парили вороны. Тут опять фантазия заменяет нам документ: может быть, столичный граф, любитель французских вин и стрельбы из пистолетов, в первый день подружившись с каким-нибудь поручиком или майором, во второй день поссорился с ним насмерть и уже готов был стреляться на третий, но тут, во избежании смертоубийственной чепухи, мудрым командиром полка был срочно послан обратно в Санкт-Петербург с пакетом или поручением. И поехал по весенней грязи обратно, по той же унылой дороге меж высоких прозрачных лесов, где ещё белели на стволах деревьев раны от отстрелянных им веток.
Это бессмысленное катание на возке по грязи – сотня верст туда, сотня верст сюда – человека, занятого делом или стремящегося к оседлому уюту могло бы раздражить, но граф Федор Толстой никаким делом никогда, во всю свою жизнь, занят не был. Его единственным делом в жизни была сама жизнь. Приехав в столицу, он вручил предполагаемый пакет командиру полка – тут мы снова возвращаемся из возможности в реальность, из фантазии на твердую почву факта – и тут же вызвал полковника Дризена на дуэль. Это была первая дуэль в его жизни.
Кто был этот полковник Дризен – установить сейчас трудно. В истории русской армии известны два барона Дризена, Егор Васильевич и Федор Васильевич. Это переиначенные немецкие имена Георг Вильгельм и Фридрих Вильгельм. Из них, в свою очередь, более известен Федор Васильевич. Его портрет висит в Военной галерее Зимнего дворца. В начале 1797 года его привез из Пруссии в Россию отец и зачислил прапорщиком в Преображенский полк. Он был при Аустерлице и Фридланде, в 1808 произведен в полковники, командовал Виленским мушкетерским полком, а в 1810 назначен шефом Муромского пехотного полка. При Бородине этому немцу, всю жизнь прослужившему в русской армии, ядром оторвало ногу. С ним стреляться Федор Толстой не мог – в момент дуэли он, четырнадцатилетний, на два года младше Толстого, никак не мог быть полковником. О его брате Егоре Васильевиче известно гораздо меньше. Он, видимо, тоже служил в Преображенском полку и даже дослужился до чина полковника и командира лейб-гвардии Преображеского полка. Он командовал полком с сентября 1810 по сентябрь 1812. Его командование закончилось 13 сентября, а 19 ноября он исключен из списков умершим. Скорее всего, – так складывается по датам – этот Дризен, как и брат, участвовал в Бородинской битве, был ранен и от ран скончался. Он тоже никак не мог быть полковником Дризеном, с которым стрелялся Толстой, хотя бы потому, что полковником стал лет на десять позже дуэли. Может быть, стоит предположить, что Федор Толстой стрелялся с их отцом, прусским офицером, переехавшим в Россию, отдавшим сыновей в русскую армию и тоже служившим в Преображенском полку?
