Читать онлайн Чезар бесплатно
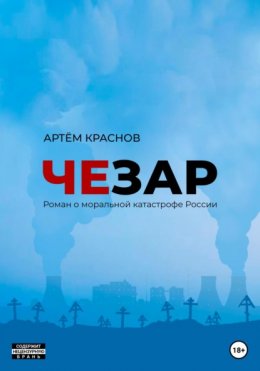
Глава 1. Митинг
От жары затихли даже надоедливые мухи. Ефим, стоя рядом со мной в тени берёз, утверждал, что чёрные машины в такие дни нагреваются до ста с лишним градусов, и кто-то из его знакомых в Средней Азии жарил на капоте яичницу. В подтверждение своих слов он набрал полный рот воды и выплюнул её на капот, ожидая, видимо, что тот зашипит словно утюг, но вода растеклась ленивым пятном и превратилась в мутный отпечаток.
– Ты зачем мне машину обхаркал? – удивился я.
Ефим глядел тупо, обескураженный превратностями физики.
– Не получилось, – бесхитростно признался он. – Так в Азии ещё жарче.
Митинг протекал в сонном режиме. Толпа, состоящая наполовину из челябинских активистов, наполовину из местных башкир, ждала команды. Отсутствие главного заводилы Эдика не давало людям раскочегариться, и свои самодельные плакаты они пока использовали как веера.
– Вот что за человек? – ворчал Ефим. – В такую жару народ согнал, а сам где? У людей, поди, огороды поливать надо.
– Да, не похоже на него, – согласился я и с удовольствием подумал, что Эдик просто запил или, ещё лучше, попал под машину. Лежит сейчас где-нибудь безвредный, тихий, почти приятный человек в гипсе. И если так, через полчаса этот шапито свернётся.
Ефим, угадывая мои мысли, спросил:
– Михалыч, ну, а долго ждать-то? Без него не начнут. Погундят да разойдутся.
– Час ждём, – сказал я. – Убедимся, что поезд проехал, и по домам.
– Ладно, – угрюмо согласился Ефим, опёрся было на капот машины и тут же отскочил: – Ай! Я тебе говорю, яйца прижигает! Ты потрогай!
– Да знаю я. Трогал уже.
В сотне метров от нас кучковалось человек сто протестующих – немало, учитывая погоду и удалённость от города. Эдик неплохо поработал, но почему-то не спешил воспользоваться плодами своих организаторских усилий и рисковал утратить инициативу. Люди отрешённо глядели по сторонам, утомлённые жарой и друг другом, и мне вдруг показалось, что они обнимутся и разойдутся, и все мы рассядемся по кондиционированным машинам, разбежимся в разные стороны и запьём эту душную субботу холодным пивом.
Будь тут Подгорнов, он бы столкнул людей лбами, и всё закончилось бы задержаниями. Но потому и послали меня: нам задержания ни к чему. Зачинщики этого протеста только и ждут, что мы проявим свою звериную суть и наградим их мученическим ореолом, но они не дождутся. Жара выпустит их протестный пар раньше, чем дойдёт до провокаций. Нужно просто ждать и надеяться, что Эдик действительно умер.
Вдруг толпа глухо заворчала, словно смутившись бездействия, и запустила свой однообразный внутренний диалог, долетавший до нас фразами:
– Конечно! Деньги, деньги, деньги им давай! Понаехали вон, машин понаставили! А раньше знать про нас не хотели!
– Вы с кем воюете? – кричал кто-то в сторону росгвардейцев. – Это же ваш народ, вы защищать его должны! Полицаи!
– Уфалейские отвалы им нужны, вот что им нужно! Всё по области растащат!
– Граждане, жители, я сам из Аргаяша, не дайте им разнести эту дрянь! Тут детям нашим жить, внукам! У меня вон, смотрите, экзема от выбросов ихних! Они по ночам прям оттудова таскают! – мужик в тонких трико с куполами коленей тыкал в сторону забора, отделяющего зону.
– Иван Матвеич, ты своим плакатом чуть мне глаз не вышиб! – слышался высокий голос Чувилиной. – Ну, осторожнее!
На плакате, который её потревожил, гуашью был нарисован кривой противогаз с надписью: «Им деньги, нам могила!»
И где-то на фоне слышался монотонный, приглушённый голос:
– Рыбалить там можно. Дорога нормальная, нормальная, тебе говорю!
Кому что: одних вон уфалейские отвалы беспокоят, других только рыбалка. Но всё равно ведь пришли для массовки, черти полосатые.
Росгвардия стояла чуть в стороне. Бойцы поснимали шлемы и сидели в тени автозака, упревшие в своих панцирях. Кивнув на них, Ефим сказал:
– Пацаны говорят, усиление к ним идёт серьёзное. Где-то в двадцатых числах будет. Со всех регионов к нам сгоняют: и ОМОН, и спецназ, и вообще всех. Что-то назревает, Михалыч, а? Может, эти митингёры чего-нибудь задумали? Может, провокацию готовят?
– Да нет, – отмахнулся я. – Когда у военных учения, силовиков всегда сгоняют. Мы же приграничный регион, стратегический. Плюс обстановка.
Я велел Ефиму ждать и пошёл вдоль ограждения зоны в обход толпы, чтобы оглядеться и получше рассмотреть лица наиболее активных митингующих.
За почти тридцать лет с момента катастрофы я никогда не был так близко к зоне и никогда не задумывался, как она огорожена. Мне представлялся глухой бетонный забор высотой метров семь, этакая великая уральская стена, позади которой – бурая земля и одинокие знаки радиационной опасности, как суслики в поле.
Но вместо забора вдоль границы зоны тянулось примитивное ограждение из колючей проволоки, провисшей, косой и расхристанной, которая угрожала уже не шипами, а ржавчиной на них. Позади проволоки не было ничего необычного: трава, заросли паразитного клёна, чертополох да полынь. Я остановился и принюхался: к ароматам трав как будто примешивался инородный медицинский запах, хлора или спирта, но, скорее всего, это ощущение было фантомным – травматическая реакция памяти на образ зоны, который являлся ко мне во снах. Щёки у меня покалывало от пота, и легко было представить, что я ощущаю облучение зоны, хотя никого облучения давно нет.
Мне хотелось сделать шаг от ограды, но, поймав себя на этом малодушии, я подошёл вплотную и коснулся проволоки, которая завибрировала и посыпала ржавой перхотью. Почему тебе страшно, Шелехов? Что это за животные спазмы воли, словно дикий зверь пугается костра? Тебе хочется не просто отойти подальше от периметра, тебе хочется отойти и забыться, и в этом всё дело. Тебе просто не хочется думать о трёх тысячах квадратных километрах, на одном из которых, возможно, лежит истлевшее тело твоего отца или разгуливает его беспокойный дух.
Я тряхнул головой. Избегая контактов с зоной, я мифологизировал её и превратил в своей фантазии чёрт знает во что. Вон она зона, Шелехов, трава да кусты, парк развлечений для сталкеров, безмятежная чёрная дыра, куда теперь возят экскурсии. Попроси Рыкованова устроить тебе персональный тур, он не откажет. Съезди в Кыштым, в Касли, к саркофагу, переболей и успокойся.
Хорошая терапия, но сложная, страшная. Надо обдумать спокойно.
Я переключился на толпу, где мелькали знакомые лица. Госпожа Чувилина двадцать лет назад преподавала физику в университете и поэтому считалась специалистом по всем разделам экологии, от выбросов металлургических производств до утилизации радиоактивных отходов. К пятидесяти годам она оставалась бы красивой женщиной, если бы не вечная маска крика на её лице.
Экоблогер Прохор не расставался с камерой на длинной селфи-палке, безостановочно снимая себя. Крикливым голосом он сообщал подписчикам, что те наверняка умрут и что причина тому – не господь бог, сделавший человека смертным, а мы, чезаровские свиньи.
Был тут и старик Галатаев, бывший ликвидатор, поборовший рак поджелудочной и выживший из ума лет двадцать назад. Он был зациклен на идее превратить очаг зоны в искусственный водоём и любой разговор сводил к рассуждениям о целебных свойствах воды, о её аномалиях, о Ph-балансе, об ионном обмене.
Я дошёл до ворот, которые косо висели над железнодорожными путями, как крылья подбитой птицы. На воротах висел старый знак радиационной опасности. Толпа ещё не решалась подойти к путям, как бы обозначая, что апогей митинга с киданием добровольцев на рельсы ещё впереди.
До катастрофы эта железнодорожная ветка соединяла Челябинск с Верхний Уфалеем и дальше уходила на посёлок Полевской в Свердловской области и Екатеринбург. После взрыва на АЭС почти девяносто километров пути оказались внутри периметра зоны, и движение поездов остановилось на 27 лет.
Дорога не была электрифицирована, и раньше составы здесь таскали тепловозами, что облегчало задачу по её реанимации. Рельсы приобрели бурый оттенок и искривились, и, когда ведёшь вдоль них взглядом, начинается морская болезнь.
Сейчас «Чезар» готовился перезапустить движение грузовых составов через зону в направлении Полевского, где нам удалось отбить у дягилевских трубопрокатный завод. Это позволяло соединить Полевской с Челябинском напрямую, избавляя «Чезар» от транзита через Екатеринбург, вотчину Дягилева. Мы не удивились, когда дягилевцы натравили на нас Эдика с его экологической кодлой, что было в равной степени предсказуемо и бесполезно: транзит поездов через зону волновал лишь жителей нескольких близлежащих селений, но не челябинцев в своей массе.
За воротами пути изгибались влево и уходили за кроны низких кусов. Там была заброшенная станция Татыш, рядом с которой лет семьдесят назад стоял посёлок, где жили наработчики первого металлического плутония в СССР. Само предприятие, завод «В», по моим расчётам, находилось внутри зоны в двух километрах от нас к северо-востоку. В момент катастрофы в его цехах уже располагалось гражданское металлургическое производство.
Позвонила Ира.
– А ты не дома, – сообщила она, и я услышал щёлканье дверного замка. Значит, позвонила с порога.
– Я знаю. Малыш, мне ещё полдня нужно. Вернусь часа в четыре.
– Я сейчас распахну все окна, не ругайся. В твоей квартире очень душно.
«Твоей», «моей»… Три года вместе, но она до сих пор не сжилась с этой квартирой и различает, где чья территория.
– Конечно. Кондиционер включи. А вечером поехали в ресторан.
– А вечером я не могу. И в понедельник я улетаю. А твоя работа в выходные обычно плохо заканчивается. Ты на этом митинге? Поехал всё-таки?
– Ну, прости, я не мог отказаться, Рыкованов лично просил за Эдиком присмотреть. Но у меня хорошие предчувствия. Эдик даже не приехал, так что вместо митинга получилась овсяная каша. Заедешь завтра?
– Посмотрим, – мягко ответила она и сбросила вызов.
Но Эдика я сглазил. Когда я поднял глаза, он быстро шагал от парковки, держа в руке своё главное оружие – мегафон. Выглядел он не так свежо, видимо, хорошо провёл вечер пятницы, но всё же был более боеспособным, чем если бы, допустим, его переехал самосвал.
Эдик, конечно, был уникальным дерьмом, потому что выглядел, как конфетка. Он выделялся ростом и красотой чернобрового лица, его длинные волосы раздувались на ходу, его взгляд был всегда по-орлиному сосредоточен, и женщины смотрели на него заворожённо. Да я бы тоже засмотрелся, если бы за два года наблюдений не знал его паскудное нутро. Помимо жены он спал с бабой из министерства экологии, имел нарциссическую натуру, мечтал о политической карьере, но при этом был ещё и довольно труслив, а потому изворотлив. Его бизнес-модель заключалась в том, чтобы отрабатывать дягилевские деньги, не давая Рыкованову разозлиться всерьёз. Эдик хорошо чувствовал грань, где спектакль переходит в жизнь, и поэтому был даже удобен: при всей своей трухлявости, он хотя бы не нарушал законов жанра.
Мегафон в его руках захрипел и издал протяжный свист. Толпа затихла, внимая звукам, как волшебной дудочке. Эдик мог говорить о теории плоской Земли, его бы всё равно слушали запоем.
Заметив меня, он отвёл глаза. Он вряд ли знал меня в лицо, но почувствовал идейного врага совсем другого калибра. Теперь своей похмельной башкой он прикидывал, сколько нас, каковы наши намерения, можно ли нас вывести из себя и не слишком ли это рискованно. Его место силы было у памятника «Вечному студенту» возле главного корпуса ЮУрГУ, сюда же его направили дягилевские, и он понимал, что находится на территории Рыкованова, и что здесь грань между спектаклем и жизнью чуть тоньше обычного. Да, Эдик, ты умный парень, ты всё понимаешь. Начинай уже.
Но Эдик медлил, переговаривался с кем-то из помощников, мял в руках бумажки. Сценарий, похоже, забыл.
В толпе всплыл неряшливый плакатик с надписью «Нет войне!», но сконфуженно пропал – неразборчивому активисту объяснили, что экологический митинг не стоит подрывать теориями заговора. Среди протестующих полно любителей сеять панику по любому поводу.
Пока Эдик собирался с духом, появился министр экологии Нелезин. Он спешил ко мне сбоку, опасливо огибая толпу. Растения вымазали пыльцой кремовые штанины его брюк.
– Как жарко-то! – воскликнул он, утираясь платком.
– Давно приехали, Иван Алексеевич? – я сжал влажную нелезинскую ладонь.
– Только что, – он встал рядом, щурясь на солнце, напоминая потного китайского божка. – Утром-то на дачу поехали, а тут ваши звонят, так, мол, и так, надо.
– Это я распорядился. Извините, придётся поработать.
– Да, я понимаю. Хорошо, недалеко был. А места тут хорошие, чудо места! Край ста озер, как говорится…
Он заговорил о рыбалке, придвинулся и перешёл на вкрадчивый полушёпот, словно его способы прикормки лещей представляли коммерческую тайну. Весь этот необязательный разговор был его способом не думать о толпе, с которой он скоро будет объясняться.
Я прервал его пассаж о достоинствах кукурузы в качестве наживки:
– Иван Алексеевич, вы готовы выступить?
– Конечно, – быстро отрапортовал он, но по движению его головы было понятно, что готов кто-то другой.
– Что? – зацепился я за этот жест.
– Там человек из «Росатома» приехал, специалист, – кивнул Нелезин. – Вон, вон он. Это же, как говорится, их епархия. Мы то что? Мы же в Минэко радиацией-то никогда особо… Это же федеральная история.
Человеку из «Росатома» было лет тридцать. В брюках и светлой рубашке, похожий на менеджера по продажам, он стоял в тени недалеко от парковки, прижимая к себе тонкую папку, припотев к ней. Почувствовав наш интерес, парень распахнул папку, нахмурился и углубился в чтение.
– Нет, – отрезал я. – Выступите вы. Технические подробности никого не убедят. Это эмоциональный протест. Вы свой, вы местный: нужно максимально просто объяснить, что опасности нет, ясно?
– Конечно, конечно. Да какая опасность-то? – закачался он сразу всем телом. – Поезд обычный проедет, что страшного-то?
Эдик снова куда-то пропал. Я оставил Нелезина, который злил меня бестолковым соглашательством, и зашагал вдоль путей. Слева от меня на поляне стоял жёлто-оранжевый шатёр, украшенный цветными ленточками, которые змеились на слабом ветру. У шатра бесновался раздетый до пояса парень. В руках у него была пластиковая бутылка, которую он использовал наподобие бубна. Он кривлялся, извивался, делал нелепые финты ногами, бил в пластиковый бубен и выкрикивал что-то вроде «О-шш! О-шш!».
Я включил рацию и прошипел:
– Денис, блин, что за цирк у меня тут? Где! На поляне у забора. Это цыгане или кто?
Денис наблюдал за мной из машины. Рация выдавила шершавый звук:
– Кирилл Михалыч, да это дети, мы проверили.
– Дети?
– Подростки, паганы, как их… праноеды или типа того.
– Секта?
– Ну, да … Они в обход дороги пролезли ещё с вечера, палатку поставили. Шугануть?
– Не надо. Пусть жарятся. Отбой.
Когда я снова повернулся к шатру, его обитатели стояли у входа, насмешливо разглядывая меня. Им было лет по двадцать. Бесноватый продолжал свой танец. Ещё один парень, светловолосый, с немного детским лицом и острым носом, похожий на зверька, сидел на пне и задумчиво строгал палку.
Две девушки в длинных платьях под самое горло двинулись ко мне через поляну. На головах у обоих были картонные кольца с орнаментом. В паганских культах я пока не разбирался, но из-за обострения внешнеполитической ситуации скоро мне придётся освоить и эту науку. Язычники были плодотворной средой для антиправославных идей.
– Чезаровский? – крикнула мне одна из девушек, но я не ответил.
Обе остановились метрах в пяти от насыпи. У кричавшей девицы было узкое худое лицо и жидкая чёрная причёска, словно налипшие водоросли. Картонное кольцо, прижимая волосы, делало её голову ещё более вытянутой и придавало сходство с афганской борзой.
– Зачем же вы шпионите? – не унималась она, хитро подмигивая мне.
Вторая девица была симпатичнее: её круглое безмятежное лицо напоминало разбуженного кота. Пышные волосы непокорно выбивались из-под картонного колечка. В её лице было меньше яда. Она смотрела на меня с любопытством и даже лёгким восторгом, как смотрят на опасных хищников в зоопарке.
Я усмехнулся и хотел уйти, но борзая добавила ровным голосом:
– Можно было прийти и познакомиться, мы же не прячемся.
– Времени не было, – ответил я таким же усыпляющим тоном. – Вы отдыхаете, я на работе.
– Нравится быть рыковановским псом? – спросила борзая всё также мирно, но глаза её дерзко блеснули.
– Не меньше, чем тебе нравится жить среди полоумных.
– А на войну пойдёшь? – губы её изогнулись, как сарматский лук.
– Не будет никакой войны. Учения идут, понятно? У страха глаза велики.
– Тебя и не позовут, – ответила борзая, теряя ко мне интерес. – Ты старый уже.
Наверное, я переменился в лице, и девицу это возбудило: она выставила запястья, одно из которых украшала татуировка дельфина, и, хлопая глазами, спросила:
– Может быть, арестуешь меня? Я попала под дурное влияние. Мне теперь антинародные мысли в голову лезут, и вся ваша чезаровская кодла кажется мне сборищем конченных дегенератов.
– Что касается дегенератов, ты оглянись вон, – кивнул я в сторону бесноватого танцора. – А будете мешаться, арестую.
– Арестует он! Да ты в отставке! – заголосила борзая, хохоча. – Тебе же только охранником быть! Гав-гав!
Эта дура что-то знала обо мне. Может быть, мои данные засветились в одном из паганских пабликов.
Вторая девушка опешила от напора подруги и стояла слегка смущённая. Она теребила дешёвые самодельные колечки на пальцах. Заметив мой взгляд, она приободрилась и тоже посмотрела с вызовом.
Я неспешно достал смартфон и снял их лица крупным планом, на что обе девицы отреагировали живо, принялись обниматься и позировать. Смартфон распознал их лица и нашёл в соцсетях – эти бестолочи даже не скрывались. Темноволосую ведьму звали Марина Ерофеева. Вторую, похожую на смущённого кота – Екатерина Османцева. Фамилия показалась мне знакомой. Османцева, Османцева…
Я собрался уходить, когда услышал ядовитый голос Ерофеевой:
– Анатолий Петрович будет очень доволен вашей доблестью и выдаст вам что-нибудь вкусненькое.
– Даже не сомневайся, – ответил я и кивнул в сторону шатра: – Вы своему эпилептику попить дайте, а то до обморока недалеко.
Поймав волну экстаза, парень с пластиковым бубном исполнял что-то вроде брейк-данса. Синтетические наркотики – штука страшная. Я видел, как люди от них в открытое окно выходят.
– До свиданья! – выкрикивала Ерофеева. – Привет Рыковаше и братцу Пикулю! Пусть почешут вас за ушком!
Одними губами я прошипел «Сука!» и обещал себе на неделе заняться этими наркоманами-паганами. Язычники, хиппи, праноеды становятся проблемой, как и предсказывал Рыкованов.
Когда я вернулся к толпе, Эдик разогревал её срывающимися голосом. Мегафон перемалывал его фразы и делал слова почти неразборчивыми, но в проповеди важнее подача, напор и артистизм, а с этим у Эдика проблем нет – во время выступлений он похож на греческого бога, чья мать согрешила с арабом.
– …здоровье ваших детей! – доносилось до меня. – Эти изотопы распадаются миллионы лет! Им нужен не Полевской, им нужны уфалейские отвалы! Им нужны новые Ferrari!
Скотина, узнал же про Ferrari! Пикулев, конечно, не мог найти более удачного момента, чтобы засветить свою обновку, и теперь Эдик будет три месяца склонять нас, цепляясь за этот Ferrari, цена которой ничтожна на фоне состояния Рыкованова и Пикулева. Народ не понимает, что Ferrari, дворцы, частные самолёты – это вообще меньшие из их проблем.
– Нам стронций, им Ferrari! – горланила толпа.
Эдик рассчитал всё довольно точно, и едва он размял толпу своими лозунгами, как появился поезд.
Я почувствовал его приближение по напряжённости рельса, на котором стоял, по глухим стонам промасленных шпал, по гудению костылей. Казалось, поезд не ехал по рельсам, а мял их, выгоняя из-под себя металлическую волну.
Он показался из-за поворота, дрожа в горячем воздухе. Из-за противорадиационной защиты он напоминал бронепоезд и выглядел грозно, так что на какую-то секунду я тоже уверовал в исходящую от него угрозу.
Скоро стало понятно, что это даже не один поезд. Впереди катилась машина с манипулятором, которую железнодорожники называли «прэмка», а за ней ехал синий тепловоз с вагоном и двумя платформами, на которых стояли трактора защитного цвета. Окна всех машин закрывали грубо наваренные листы, придавая сходство со слепыми ископаемыми чудовищами. В передней части тепловоза, как таран, торчал какой-то агрегат, вроде скребка для снегоочистки.
Я включил рацию:
– Денис, зачем они такие танки присылают? Только народ накручивают! Будто Третья мировая началась! Через пять минут это всё в соцсетях будет! Нельзя было обычный тепловоз пустить?
Рация щёлкнула и проговорила:
– Кирилл Михалыч, это к «Росатому» вопрос. У них такие правила.
– Ясно. Твои люди всё на видео снимают?
– Да, всё. И менты ещё с машин записывают. Не волнуйтесь.
Толпа отреагировала не сразу: некоторое время люди заворожённо смотрели, как синие бока тепловоза скользят через берёзовую листву. По хриплому окрику эдиковского мегафона все бросились к путям.
– Денис, Денис, – сдерживая голос, заговорил я в рацию. – Машинистам передайте, чтобы остановились. Люди на путях! Они в броне не видят ничего. Сейчас кого-нибудь укоротят.
Но протестующие прониклись уважением к надвигающемуся металлу и встали у ворот почтительны полукругом. На рельсы они вышли, лишь когда надрывно заскрипели тормоза и тепловоз замер, выпустив облако чёрного дыма. Пахло гарью и мазутом.
Но идущая первой инженерная машина медленно катилась в сторону толпы. Я подскочил и трижды ударил в её звонкий борт.
– Да стой ты!
Машина замерла, зашипела, издала зловещий скрежет, будто машинист затянул ручник. Какое же это архаичное дерьмо, подумал я, глядя на её щербатую окраску, вспученную от ржавчины. Аристократ Пикулев мог бы и раскошелиться на какой-нибудь немецкий аппарат, чтобы люди в самом деле поверили в его педантизм. Машины выглядели тяжёлыми и печальными, как старые слоны, которых ведут на убой.
Прохор со своей камерой скакал так и сяк, размахивая селфи-палкой. Он напоминал муху, которая нашла лужу мёда и от счастья не знает, с какой стороны её пить. Он снимал то людей, то «прэмку», то совал камеру в нос одному из моих людей, требовал представиться и рассказать, по какому праву тот снимает «частную жизнь активистов».
Светлая причёска Чувилиной мелькала среди голов. По жестам активистки было понятно, что лекция об основах радиационной безопасности в разгаре.
Министр Нелезин нелепо стоял посреди поляны на полпути до рельсов. Я махнул, чтобы он подходил ближе.
Эдик надрывался:
– Запуск грузовых составов на Полевской – это предлог! Пикулева и Рыкованова интересуют ресурсы зоны! В девяностых они уже таскали оттуда радиоактивный металл! Смотрите, полицию согнали!
– А мы не боимся! – крикнули из толпы.
– Мы ничего не нарушаем! – поддакнул кто-то.
Эдик хрипел на верхней из доступных ему нот:
– Рыкованов сделал состояние на продаже облучённого металла! 20 лет назад, при Ельцине! Теперь ему снова дают карт-бланш! Остановим его сейчас! Мы ликвидировали зону! Мы знаем угрозу! Не дадим втянуть наших детей в новый виток радиационного геноцида!
Эдик, Эдик… Зону он ликвидировал! В 1992 году тебе, Эдик, было… сколько же тебе было? Полгода, наверное. А Рыкованов, которого ты ненавидишь, работал в зоне с первых дней, и выгоды от ельцинской власти он получил в обмен на своё здоровье и здоровье своих детей – обе дочери Рыкованова умерли от генетических дефектов в раннем детстве. Тебе ли, Эдик, судить его?
Убедившись, что спектакль идёт по плану, я отошёл к стоянке, где ко мне подскочил возбуждённый Ефим:
– Михалыч, там менты спрашивают, им приступать?
По его горящим глазам я видел, с каким удовольствием он отмудохает Эдика, если тот окажет сопротивление.
– К чему приступить? – нахмурился я.
Ефим закипал от жары.
– К разгону провокаторов, – заявил он, сухо сглатывая и кивая в сторону.
Там возле забора дремали два сиреневых «Тигра» с надписью ОМОН. В тени между ними дремал экипаж. Надрывы Эдика заставили их напрячься в ожидании приказа. Сейчас, в плюс тридцать, они выглядели не оплотом правопорядка, а главными пострадавшими это мыльной оперы. Но Рыкованов чётко сказал: никакого насилия.
Я сказал:
– Фима, повторю: винтим, если вразнос пойдут. Пока убивать друг друга не начали, не вмешиваемся.
– Когда убивать начнут, поздно будет, – проворчал тот. – Глянь, как разжигает бес!
У Фимы была какая-то личная претензия к Эдику. Если он и мечтал сейчас о чём-то кроме кувшина кваса или холодного пива, так это загнать Эдику его мегафон в глотку. И сделать это в прямом эфире, который запустил Прохор, скакавший вокруг Эдика с камерой.
– Падла, – шипел Ефим. – Кирилл Михалыч, с огнём ведь играем. Он их накрутит, а нам разгребать. Давай в сторонку его оттащим и легонько прессанём. А чё? Менты вон с нами!
– Фима, да успокойся ты! Челябинский протест – как газировка. Потрясёшь, откроешь, оно забурлит и тут же выдохнется. Нашему энерджайзеру заплатили за полчаса, отработает и успокоится, вот увидишь. Я не первый месяц за ним наблюдаю. Ты иди, водички попей. Только на капот больше не плюй.
– Американцы нам такую подляну готовят, надо сплотиться, надо о Родине думать, а у нас в тылу такие ублюдки: за деньги готовы мать родную продать! – ворчал Ефим, отступая к машине.
В патриотическом порыве Фима, кажется, осуждал и меня. Обо мне он говорит так: Шелехов – циник и прагматик, но дело знает. А что циник – это плохо.
Всё кончилось даже раньше, чем я прогнозировал. Минут через десять Эдик куда-то пропал, и толпа утратила воинственный настрой. Кто-то отошёл в куцую тень столбов, кто-то с любопытством разглядывал железнодорожных монстров. Чувилина кричала о периоде полураспада стронция – тридцать лет, целое поколение, и это только половина, а ещё через тридцать лет останется четверть, а ещё через тридцать – одна восьмая, а это, считай, целый век! Жители Ишалино и Бижеляка, среди которых было много башкир, смотрели на неё понимающе и устало. Кто-то предложил ей кумыса. На голову мадам повязали светлый платок.
Я нашёл Нелезина:
– Давайте, Иван Алексеевич, ваш выход. Тезисы помните? – я взял его за рукав и проговорил ещё раз: – Никакие ресурсы внутри зоны «Чезар» не интересуют. Составы пойдут транзитом без остановок. На обоих КПП будут бесконтактные мойки и радиационный контроль специалистами «Ростатома». Грунт вдоль путей дополнительно отсыпят. И главное – зона начинает оживать. Прошло почти тридцать лет. Пора возвращать земли в оборот, оживлять их. Мы делаем первые осторожные шаги. Всё запомнили? Давайте, удачи. Поувереннее только.
Нелезин двинулся к людям, но я догнал его:
– Росатомщика возьмите. Эй! Иди сюда, – махнул я парню с папкой. – Пусть скажет, что проект одобрен и прошёл экспертизы.
Некоторое время я наблюдал, как Нелезин, вытянувшись, словно на докладе у генерала, повторяет заученную речь под прицелом смартфонов и едкие смешки толпы. Смотреть на это было также больно, как на забой беззащитного скота. Зато его тихая сбивчивая речь заставляла толпу прислушиваться и в конце концов вогнала в гипнотический транс.
Я постучался в «прэмку» и попросил загорелого машиниста показаться людям и ответить на вопросы. Гнев толпы обычно спадает, когда они видят по ту сторону баррикад таких же работяг.
Когда я вернулся к протестующим, Нелезин стоял, оттёртый вбок людьми, потный и обескураженный, будто перенёсся сюда из собственной гостиной минуту назад. Вниманием толпы завладел росатомовский паренёк, жестами объясняя, как именно мигрируют изотопы. Как ни странно, люди его слушали и даже задавали вопросы, на которые тот реагировал правильно, предваряя каждый ответ фразой: «Очень верный вопрос!».
Молодёжь из шатра растянула по ту сторону путей плакат: «Рыкованов, оставь зону в покое!» Помимо двух девиц, Еврофеевой и Османцевой, плакат держали трое парней, включая оклемавшегося шамана и парня с лисьей мордой. Мои люди сняли каждого из них крупным планом.
Пора было кончать балаган. Я велел машинисту «прэмки» идти к воротам и отпирать замок. К тому тут же подлетел с вопросами Прохор: «А что вы делаете? Что вы делаете?!». Он тыкал в машиниста камерой, но тот не растерялся и с подчёркнутой значимостью произнёс:
– Что делаю? Замок вот открыть хочу.
Его прямота ненадолго оглушила Прохора, ведь его коньком было обвинять всех во лжи, а машинист говорил правду. В конце концов, пережив это фиаско, Прохор заверещал:
– Он замок отпирает! Он дальше ехать хочет!
Но его вопль лишь слегка колыхнул толпу, всё ещё зачарованную лекцией росатомщика.
Машинист тем временем воевал с заржавевшими воротами, и пара башкир пришла на помощь: крестьянская натура не могла спокойно смотреть, когда городские бестолочи берутся за работу.
Без Эдика толпа рассеивалась. Росатомщика оседлал старик Галатаев, предлагая с помощью ядерного взрыва создать на месте зоны воронку, забетонировать её и залить водой. С другой стороны на паренька наседала Чувилина, задавая вопросы невпопад. Росатомщик отважно держал удар, тем самым сковав значительные силы неприятеля.
Когда инженерная машина тронулась в створ открытых ворот, отреагировала только Чувилина, пытаясь ухватиться за борт и крича:
– Они лгут вам! Ваши дети задохнутся в пыли! Они уже Кыштым угробили, Аргаяш будет следующим!
Ефим с парой бойцов нежно оттащили её в сторону. Я слышал его голос:
– Какие права мы нарушаем? А вы тоже нарушаете! Вы нарушаете правила железнодорожной безопасности. Находиться у путей нельзя. А я вам говорю нельзя!
Бойцы вели её бережно, как пара санитаров. Чувилина покорилась их мягкому напору, но всё ещё прядала головой в белом платке и выкрикивала:
– А сами-то где жить собрались?! Вы же всё в пустыню превращаете! А деньги все где? На Кипре деньги!
Но без Эдика и его мегафона она вдруг превратилась в обычную вздорную тётку, не способную увлечь толпу. Шоу кончилось. Тепловоз лязгал броней и высекал из рельсов длинный протяжный звук, словно неумелый скрипач елозил по струнам смычком. Глядя, как он продвигается в воротам, люди потихоньку расходились, сетуя на засуху, на разбитые дороги, на мор рыбы.
Но всё-таки, куда делся Эдик? Не в его характере было бросать роль тамады на полпути: обычно его выступления завершались на пафосной ноте. Он предсказывал появление нового поколения челябинцев, которые выгонят из области всю рыковановскую кодлу и установят новый экологический стандарт. Без этого напутствия я чувствовал себя обманутым зрителем, да и Ефим стоял растерянный, потому что кроме Чувилиной обезвреживать оказалось некого.
Я зашагал к дальней части парковки, где разбили штаб активисты. До катастрофы на этой поляне к югу от Татыша располагался дачный посёлок, от которого уцелел лишь один неряшливый дом из кусков фанеры и грубого профнастила – это, видимо, и спасло его от мародёров.
В тени дома я и обнаружил Эдика, который сидел у стены в окружении двух женщин, смачивающих лоб страдальца влажной тряпкой. Его смуглое лицо приобрело цвет горчичника, а роскошные брови казались теперь накладными.
– Что с ним? – спросил я, опускаясь на корточки.
Эдик вяло посмотрел на меня. Сначала я подумал, что до него всё-таки добрался Ефим, но побоев не увидел.
– Удар солнечный хватил, – пояснила одна из женщин. – Говорят, воду солёную надо дать. У вас нет соли?
– Зачем солёную? – удивлялась вторая. – Лучше зелёный чай. И пакетики на веки положить. А ещё лучше лёд.
Эдик окончательно сдался и закатил глаза. Его, по-моему, тошнило.
– Вставай-ка, – подцепил я его под локоть. – Здесь госпиталь есть военный. Поехали, поехали.
Женщины закудахтали, что ему нужен лёд, что больница есть в Аргаяше, что у него, наверное, низкий сахар. Впрочем, Эдика они отдали с видимым облегчением и пошли прочь, причитая.
Я хотел перепоручить пострадавшего Ефиму, но потом передумал и решил везти самостоятельно. Личная неприязнь Ефима к нашему младореформатору могла сыграть злую шутку, а Рыкованов снимет с меня голову, если бледнеющее лицо челябинского протеста получит в рыло без его приказа, исподтишка.
До Анбаша, где находился госпиталь, было километров десять. Съезжу и сразу домой: может быть, успею застать Иру.
Эдик шёл покорно. Его вырвало. Он безропотно отдал мне ключи от своей машины, и я вручил их Ефиму, велев отогнать к госпиталю, а сами ключи передать охране.
– Тошнит, – хрипел Эдик, пока я усаживал его в свой автомобиль, на капоте которого ещё виднелись следы Фиминых экспериментов.
– А не надо было без панамки ходить, – проворчал я, запихивая его ноги в салон. – Перепил вчера? С похмелья бывает.
– Не пил я, – одними губами ответил Эдик.
* * *
Когда салон продуло кондиционером, Эдик слегка ожил и попросил воды.
– Кипяток, – скривился он.
Бутылка стала мягкой от жары.
Мы проехали мимо КПП «Татыш» налево в сторону Новогорного, свернули на временную дорогу под линией электропередач, которая выводила на трассу к КПП «Анбаш-2».
Я посмотрел на Эдика. Он сидел тихо, прижавшись щекой к стеклу. Его глиняное лицо начало понемногу розоветь.
– Что же вы, Эдуард Константинович, не бережёте себя? – спросил я. – Так можно и до инсульта допрыгаться, на общественных-то началах.
Он сделал ещё глоток и спросил, подозрительно косясь:
– Вы кто?
– Зови меня Кирилл Михайлович.
– А фамилия?
– Шелехов.
– А-а, тот самый… – уныло протянул он и стукнулся головой в боковое стекло.
– Что, страшная фамилия? – усмехнулся я.
Говорить ему, очевидно, было тяжело, но какая-то сила заставила Эдика выдать сбивчивый речитатив:
– Это вам с рук не сойдёт. Вы не понимаете, с чем связались. Не надо было зону трогать… Полевской – это прикрытие. Там другая игра. Думаете, вы тут власть, а там власть пострашнее… Вы нас используете, они вас. Серьёзные люди. Зря вы залезли. Ваш главный уже понял…
– Эдик, кончай! – оборвал я. – Ты перед кем выступаешь? Шоу кончилось. Ты мне хочешь за нашу зону объяснить?
– Она не ваша. Там другой интерес…
Он задохнулся и замолчал. Я знал теорию заговора о том, что Пикулеву и Рыкованову якобы нужны отвалы уфалейского никелевого комбината, чтобы извлекать из них остаточный металл. Это было чушью: «Чезар» просто не располагал технологиями такого уровня. В эту аргументацию Эдик обычно приплетал ситуацию с Северным Казахстаном, важным поставщиком сырья для ферросплавов, пугая свою паству готовящейся войной, которая временно отрежет нас от рудных баз.
На самом деле, всё было проще. Эта чёртова дорога на Полевской была нужна Пикулеву не ради экономических выгод. Он, как любой император, хотел связать свои протектораты единой сетью дорог, так что им двигало то же самое тщеславие, что подтолкнуло его к покупке итальянского суперкара. Это был просто имиджевый проект и способ досадить Дягилеву.
До КПП «Анбаш-2» мы доехали молча. Здесь в сосновом бору на берегу озера Малая Акуля располагался госпиталь. Я остановился у шлагбаума. Дежурный в камуфляжной форме не спеша подошёл к машине и посмотрел на нас без интереса.
– Человеку помощь нужна, – кивнул я на Эдика, протягивая «чезаровское» удостоверение.
Дежурный долго перетрескивался с кем-то по рации, потом заглянул в салон и пристально уставился на Эдика. Тот от волнения ожил и слегка покраснел.
– Что с ним? – спросил дежурный. Его лицо было загорелым и матовым, словно утратило способность потеть.
– Удар солнечный хватил. Прокапайте его там или укольчик поставьте.
Дежурный нахмурился и ответил в рацию:
– Нет, жизни не угрожающее.
Рация ответила разражённой тирадой. Дежурный кивнул и обратился к нам:
– Сюда нельзя. Больница в Аргаяше, – он махнул рукой, показывая направления.
– Ты номера машины видел? – разыграл я последнего козыря.
– Видел. Но я вам не подчиняюсь, – он помолчал, выдерживая мой взгляд, и добавил уже мягче: – Приказ у меня. Гражданским нельзя. Здесь режим.
Мы двинулись в сторону Аргаяша. Я с тревогой поглядел на Эдика, который тихо сидел в углу, играл желваками и словно терпел зубную боль. Вентиляция работала на всю катушку, издавая гул самолётных турбин, и воздух в салоне потяжелел от влаги.
– Эдик, ты как? – спросил я.
– Терпимо, – ответил он. – Голова болит. И тошнит.
Как-то в Аргуне одного из молодых бойцов хватил тепловой удар, но я не помнил, чтобы мы с ним особенно церемонились: его оттащили в тень, дали воды, и через полчаса он уже был в форме.
До поворота на Кузнецкое мы ехали молча. Эдик несколько раз прикладывался к бутылке, мочил внезапно покрасневшее лицо и подставлял его под струю воздуха. Постепенно силы к нему вернулись.
– Не нужно было, – сказал он хмуро и неприязненно. – Меня бы мои увезли.
– Да твои бестолочи тебя бы катали по округе, пока ты ласты не склеишь.
– Вам, типа, не всё равно?
– Живой ты для нас – мелкое неудобство, а мёртвый – проблема, – я всмотрелся в него. – Что, дягилевские внушили тебе, какой ты опасный? Как все хотят тебя убить? Эдик, да расслабь булки. Ты не опасный. Ты клоун. Челябинску плевать на твои манифесты. Плохо, что ты это делаешь за деньги, а говоришь, что за идею. Обман, получается.
– Кто бы говорил про обман, – фыркнул он. – Уже два года катаете броневой лист и танковые дизели сверх плана, а сейчас ещё с зоной это затеяли… Думаете, никто не понимает, к чему всё идёт?
– И к чему всё идёт?
– К войне.
– К войне! – передразнил я. – Эдик, ты если народу всякую чушь задвигаешь, то хотя бы сам в неё не верь.
– Увидим, – проговорил он вяло. – А Челябинск вы ещё раньше добьёте. Теперь у вас все козыри на руках.
– Ты бы поменьше дягилевских балаболов слушал. Челябинск за счёт нас живёт. Знаешь, какова была цена Челябинску после катастрофы? Отрицательная. Потому что тогда здесь пахло не прибылью, а радиоактивным йодом, оттоком населения и рабочими бунтами. И если бы Сумин не уговорил Рыкованова взять на себя эти предприятия, знаешь, что бы было?
– Была бы конкуренция.
– Кого с кем? Всё бы скупили иностранцы за копейку и продали по частям. И не было бы у Челябинска заводов, а была бы одна сплошная экология, которой некому насладиться. Без «Чезара» город бы умер.
– Не умер бы. Это вам так выгодно думать. Вы до сих пор ужасы зоны людям пересказываете, чтобы образ Рыкованова-героя создать. Старо уже…
– Что?! – вспылил я. – Да что ты знаешь о зоне! Когда это случилось, тебе сколько было? Полгода? Ты видел зону сразу после катастрофы? Ты знаешь, какие тут настроения были?
– Не видел, – пробурчал Эдик, снова затухая. – А вы, насколько я понимаю, тоже ликвидатором не были.
Я не ответил. Мы мчались по дороге от Кузнецкого к Аргаяшу. Гаишники, увидев госномер, деликатно отворачивались.
Я действительно не был ликвидатором, но, в отличие от Эдика, хорошо помнил понедельник 17 февраля 1992 года, когда мы впервые узнали о случившемся.
Я учился в десятом классе. Первым был урок географии, но Ирина Николаевна долго не появлялась, и пока её не было, мы кидались тряпкой, засыпав парты меловой пудрой. Потом многие вспоминали, что в воздухе был странный запах, но я его не заметил. Ирина Николаевна вошла в класс внезапно, как обычно собранная и неприступная. И всё же в её лице было что-то новое – какая-то обескураженность. Она оглядела класс и велела всем отправляться домой, потому что школу закрывают на санобработку.
Дома я застал мать. Её тоже отправили в отгул. На кухне стоял таз с марганцовым раствором, в котором она вымачивала занавески и вешала их на окна прямо так, мокрыми и розовыми.
– На заводе что-то случилось, – сказала она. – Какой-то вредный выброс. Сказали, закрыть все окна.
Она протирала марганцовкой пол и мебель, и с тех пор этот запах вызывает у меня приторное чувство тревоги.
Вечером мы стояли с ней у закрытого окна и смотрели на кусок улицы Сони Кривой, и нам казалось, что его заволакивает светящийся туман. Отец потом смеялся и называл нас сказочниками, потому что никакого радиоактивного тумана не было и быть не могло. С завода он вернулся только ночью, оживлённый и тревожный, убеждал нас, что ничего страшного не случилось – рядовая авария, и не у нас, а где-то далеко, под Свердловском. Через три дня его вызвали в военкомат.
В зоне отец отработает месяц, с начала марта по начало апреля 1992 года. В 1996 году его здоровье ухудшится, он будет много пить, а потом исчезнет. Просто уйдёт из дома искать свою умиральную яму и найдёт её, видимо, в зоне, в окрестностях которой его увидят в последний раз.
Я не помню, в какой последовательности мы узнавали о катастрофе. Информация просачивалась по крупицам и складывалась в шаткие картины версий и гипотез, которые оформились во что-то цельное лишь через десять или пятнадцать лет после аварии.
На Южно-Уральской АЭС использовался новый тип атомных реакторов на быстрых нейтронах БН-800 и БН-1000, где цифры обозначали электрическую мощность в мегаваттах. В начале 80-х такой реактор, но менее мощный, БН-600, запустили на Белоярской АЭС под Свердловском (сейчас Екатеринбургом), и опыт признали удачным. В реакторе на быстрых нейтронах в качестве агента охлаждения использовалась не вода, а жидкий натрий, и такой реактор, объясняли нам, не только безопасен, но и позволяет сжигать почти любое ядерное топливо, в том числе обеднённый уран и смеси с плутонием. Это открывало невероятные перспективы – на Урале были накоплены тонны отработанного топлива, которое теперь можно было использовать повторно.
После чернобыльский событий, когда на Украине едва не взорвался реактор на тепловых нейтронах, станции на быстрых нейтронах стали приоритетным направлением атомной энергетики. Считалось, что натрий с температурой кипения под 900 градусов способен охлаждать реактор даже при полном отключении циркуляционных насосов. Южно-Уральскую АЭС должны были запустить в 1992 году, но сроки сместили, и первый реактор БН-800 был пущен в мае 1991 года, а вскоре заработал второй – БН-1000. Позже эту спешку назовут одной из причин катастрофы. Реактор на быстрых нейтронах мощностью 1000 мегаватт был имиджевым проектом позднесоветской России, которая старалась таким образом создать альтернативу реакторам РБМК-1000 в Чернобыле, мощным, но ненадёжным.
Позже много говорили о том, что опыт несостоявшейся аварии в Чернобыле не был учтён в полной мере, что катастрофы под Челябинском можно было избежать, дав инженерам время на доработку реакторов типа БН. Говорили о необходимости внедрения некой натриевой полости для отвода избыточных нейтронов, о дополнительных стержнях, об аварийном расхолаживании реактора, о защите из карбида бора… Мы не понимали смысла этих фраз, и не особо в них верили. Что было – то было. У истории нет сослагательного наклонения.
Натриевый пустотный коэффициент реактивности – вот единственное, что мы усвоили из этой катастрофы. Об этом коэффициенте говорили круглосуточно несколько лет подряд. Его положительное значение в реакторе БН-1000 привело к тому, что когда при испытаниях на 80-процентной мощности возник локальный перегрев, натрий вскипел и стал пузыриться, из-за чего запустился порочный круг: больше пузырей, больше реактивности, ещё больше пузырей и так далее. Реактор расплавился и выбросил в атмосферу тонны радиоактивного топлива.
Это произошло в нескольких километрах от места аварии 1957 года, когда на комбинате «Маяк» взорвалась одна из ёмкостей с радиоактивными отходами. Только в этот раз всё будет хуже. Озерск, Кыштым, Верхний Уфалей, Касли будут расселены и превратятся в города призраки. Челябинск не пострадает от радиации, но рабочих с местных заводов будут массово привлекать к ликвидации, отправляя на самые опасные работы – мой отец окажется в числе таких полу-добровольцев. Многие из ликвидаторов сгорят от болезней, алкоголизма, психических расстройств.
В те годы взойдёт звезда большого брата Анатолия Рыкованова, бывшего крановщика Челябинского металлургического комбината. В дни после катастрофы он возглавит один из рабочих отрядов ликвидаторов и вскоре станет неформальным управляющим зоны – человеком, которому федеральные власти доверят ликвидационные работы. Рабочие пойдут за ним в пекло, и в награду он получит негласное право вывозить из зоны радиоактивный металл и другие ценности.
К середине 90-х Рыкованов сколотит начальный капитал и мягко перехватит контроль над родным ЧМК: сначала через ваучерные схемы, в 1995 году – через залоговые аукционы. Позже, по настоянию губернатора Петра Сумина, Рыкованов получит в нагрузку ряд других предприятий умирающего Челябинска. Так сформируется холдинг «Чезар».
Его младший брат Альберт Пикулев, начинавший бухгалтером ЧМК, вскоре превратится в бессменного главу «Чезара», постепенно оттеснив Рыкованова на второй план. Так они и будут править: один – мозгами, второй – характером.
Само слово «Чезар» Рыкованов выведет из названия своего первого предприятия, «Челябинской заводской артели». Но Пикулев придумает другой смысл: «Чезар» = Cesar = Цезарь. Они многое будут воспринимать по-разному.
Я посмотрел на Эдика. Он прижался лбом к стеклу. Когда машину дёргало на кочках, голова его издавала глухой неприятный звук.
– Эдик! – позвал я. – Не спи!
Он взглянул на меня сонно, и я вдруг понял, почему его лицо, формально красивое, всегда казалось мне отталкивающим – это было лицо запойного человека. К тому же он пользовался косметикой, и глаза его были слегка подведены, а кожа навощена до парафинового блеска.
К районной больнице Аргаяша мы прибыли около полпятого. Я передал Эдика заведующему терапевтическим отделением и вышел с ощущением, что Эдик заразил меня своим недугом: от жары разболелась голова, словно в районе затылка скручивалась пружина. Я поехал домой, размышляя, что лучше поможет от боли: литр пива или таблетка анальгина. Или всё сразу и рюмка коньяка.
Я уже был на полпути к Челябинску и проехал Ишалино, когда позвонил Ефим. Его человек отогнал машину Эдика к аргаяшской больнице, но врачи наотрез отказались пускать его или принимать ключи.
– Ну, и чего твой парень растерялся? – удивился я. – Пусть зайдёт потихоньку в палату да положит на тумбочку.
– Так не пускают, – фыркал Ефим.
– Куда не пускают? Это больница, не тюрьма. Бахилы наденьте, улыбнитесь и всё получится.
– Михалыч, ну, я тебе говорю: не пускают. Эдик на четвёртом этаже за дверью с круглым таким окном. А врачи вообще не берут! Даже говорить не хотят!
– Ладно, у охраны оставьте, – прошипел я и сбросил вызов.
Но вскоре Фима позвонил снова.
– Киря, там кипиш какой-то. Требуют человека, который Эдика привёз. Говорят, только у него ключи примут. Слушай, вернись сам, разрули. Ну, на кой нам эти ключи? Потом скажут, что мы его обобрали.
Я выругался. Боль запульсировала в ушах.
– Фима, вы как дети малые! Пусть ждут!
От духоты и усталости меня затягивала дымка сонливости, и, чтобы взбодриться, я гнал как ненормальный.
Выскочив из машины, я на ходу выхватил у фиминого подручного ключи и зашагал к четырёхэтажному зданию, на которое он мне указал. Женщины в регистратуре были воинственны и заявили, что ценные вещи пациентов не принимают, требуя прийти в часы посещения. Когда я назвал фамилию Эдика, они внезапно умолкли и принялись куда-то названивать. Мне протянули огрызок бумаги с парой закорючек и велели подниматься в кабинет 410.
В кабинете я застал хмурого коренастого врача с тяжёлым взглядом. От него шёл слабый запах алкоголя и валерьянки. Я почувствовал, что он настоен хитрить и вымогать деньги, и решил дать ему тысяч пять на капельницу для Эдика и сигареты.
– Присаживайтесь, – указал он на кресло. – Родственник Самушкина?
– Нет. Я доставил его.
Врач без особого интереса взглянул на раскрытое «чезаровское» удостоверение.
– Ясно, – кивнул он. – Так вы с какой целью интересуетесь?
– Ключи от машины ему передайте, – вытащил я из кармана связку.
Врач шумно выдохнул и отодвинул папки с края стола, освобождая место:
– Ну, кладите ваши ключи.
Под ключи я молча засунул пятитысячную купюру, на которую врач посмотрел равнодушно. Я хотел идти, но тот остановил жестом:
– Вы подождите. Сядьте, сядьте. Вы хоть не родственник, но, как я понимаю, участвуете в его судьбе, поэтому уведомляю вас, что Самушкин Эдуард Константинович скончался… – он заглянул в бумаги. – В семнадцать часов ноль три минуты 8 июля 2019 года.
– Что?
– Примите соболезнования. Мы сделали всё, что могли.
– Да от чего он скончаться мог? У него солнечный удар был!
Врач заговорил назидательно как лектор, неприятно растягивая слова:
– У него был не солнечный удар, и от чего он скончался, установит вскрытие, а делать поспешные выводы не нужно, – я поймал его слегка надменный взгляд. – Наши сотрудники сделали всё зависящее, но время было не на нашей стороне, и привезли вы его поздновато, шёл отёк лёгкого. Чудес не бывает.
– Я привёз поздновато? – огрызнулся я.
– Я не к тому. Но и мы не волшебники.
Обозначив границу врачебной гордости, он смягчился и добавил:
– Ключи ваши мы приобщим к вещам умершего и передадим родственникам, не волнуйтесь. А в остальном… Ну, жизнь такая – не вечная. Тяжело, неожиданно, я понимаю. Может быть, выпить хотите? Корвалолу?
– Я могу увидеть его?
– Кого? Тело?
– Да. Я работал следователем.
– Ни в коем случае! – запротестовал врач. – Мы всё оформим и выдадим тело в установленном порядке.
Я вытащил ещё две пятитысячные купюры, но врач замотал головой:
– Нет, нет, вы как юрист должны понимать… Что вам там смотреть? Ну, умер он, умер. Не вернуть.
Я молча вышел из кабинета. Коридор упирался в массивную дверь с парой круглых иллюминаторов. Глядя на этот отвратительный серый заслон с надписью «Интенсивная терапия» я не мог представить, чтобы кто-то оттуда возвращался. «Душегубы чёртовы!», – подумал я, обещая себе разобраться с этой аргаяшской богадельней и одновременно понимая, что если врачи и совершили ошибки, то вряд ли настолько грубые, чтобы уморить его.
Какая же ты сука, Эдик! Не мог умереть до митинга? Всё как назло!
* * *
Экстренное совещание на «Чезаре» назначили на утро понедельника, когда Рыкованов вернётся из заполярного Харпа.
По голосу Рыкованова, с которым мы созвонились в субботу вечером, я понял, что от меня требуется сидеть тихо, пока сами командиры не сообразят, что делать. При таких исходных данных сидение тихо оказалось медленной пыткой. Мысли были навязчивы, как ощущение липкой от арбуза шеи. Я зацикливался, строил версии, придумывал развязки. Я брался за смартфон, перебирал фамилии знакомых следователей, но так никому и не позвонил: сказали не лезть, вот и не полезу.
В воскресенье мысль о смерти Эдика вытащила меня из тревожного сна часов в пять утра, когда город уже залила серая утренняя дымка. Мой разум пытался представить всё как злую шутку, которую ещё можно переиграть. Но переиграть не удастся: новости о гибели Эдика наверняка уже гуляют по соцсетям, а значит, Пикулев будет в ярости.
Я выпил виски, надеясь заснуть, но алкоголь подействовал как кофе, сердце застучало и ещё больше разогнало кровь и мысли об Эдике. Это или убийство, или невероятное совпадение. Какого чёрта, Шелехов, ты потащился с ним в больницу? Но мог ли ты бросить его там, в обществе двух бестолковых наседок? Не мог. Рыкованов велел присмотреть за ним: что мне ещё было делать?
Между домов поднялось жгучее солнце и запуталось в плотных портьерах – оранжевый морской ёж. Кондиционеры устали за ночь и обильно мироточили конденсатом, отстукивающим по соседскому козырьку. Воздух в квартире стал полосатым: где-то ледяным, где-то липким от жары. Застойная лужа теплоты образовалась над кроватью, с которой я лениво следил за мельканием телевизионных каналов.
По телевизору рассказывали о новой Орде, которая подступала к нашим южным границам, как приливная волна, охватывая всё новые области Казахстана. Теперь ордынцы стояли в двухстах километрах от Челябинска на территориях Северного Казахстана, который, объяснял диктор, исторически был частью России.
Идеология Орды началась с теории казахских псевдоинтеллектуалов, изложенной ими в статье 2004 года. Казахи в ней провозглашались наследниками древнего воинственного народа – сарматов, которых позиционировали чуть ли не прародителями европейской цивилизации. Теперь эти «новые сарматы» требовали заслуженного места Казахстана на геополитической карте мира. Подпитываемые западной русофобией, они готовились взять силой даже исконно русский Северный Казахстан, не понимая, что становятся орудием в чужих руках. Они верили, что сарматом был мифический король бриттов Артур, как и большая часть лидеров раннего Средневековья, и, если послушать их языческих проповедников, вообще всё хорошее в мире шло исключительно от сарматов. Эта смесь мифов и вывернутой наизнанку истории перестала восприниматься карикатурой, когда сарматы перешли от слов к делу, когда начались военно-патриотические игры, алфавитные чистки, бунты против русскоязычных администраций и захват мелких поселений.
Но это не было противостоянием казахских радикалов с Россией. Шла борьба византийской цивилизации со сторонниками Атлантизма, провозгласившими себя расой господ, которые использовали сарматов как таран.
Наши геополитические враги стремительно переписывали историю. Стояние на Угре, символизирующее для россиян окончание 250-летнего монгольского рабства, в западных источниках называлось не подвигом, а пассивным ожиданием, которое ничего не изменило. Западные идеологи отрицали подвиг Козельска, героизм битвы при Алексине, изгнание поляков в конце смуты. Этому потоку лжи Россия противопоставляла усиленное изучение истории XIII-XV веков, о которых в последние 15 лет говорили больше, чем за предыдущие пятьсот.
Военная обстановка на границах России ухудшалась, и мы с Рыковановым сходились во мнении, что превентивный удар нашей армии решил бы многие проблемы, но он маловероятен – Россию, как и весь мир, поразил вирус соблюдения внешних приличий, абсолютно чуждых самому Рыкованову.
Каждый выпуск новостей начинался с рассказа о новых завоеваниях сарматов. Несколько лет назад, после бархатной революции 2013 года, они укрепились в южных и западных, более диких областях Казахстана. Теперь они в устрашающих темпах продвигались на север и до конца года могли выйти на рубеж Актюбинск-Кустанай-Петропавловск – линию в сотне километров от границы с Россией. Эксперты сходились во мнении, что Челябинская область станет эпицентром первого удара: нас возьмут в клещи с трёх направлений – от Орска, Магнитогорска и Кургана. Кочевники постараются расселиться по диким местам Башкирии, Урала и Сибири, чтобы создать новый Улус.
Телевизор показывал кадры оперативной съёмки российской разведгруппы, которая обнаружила на территории Жезказгана завод для производства грязных бомб. Бочки с радиоактивными отходами, нелегально вывезенные с погибшей Южно-Уральской АЭС, стояли в длинном ангаре, ожидая своего часа. На каждой бочке был символ в виде жёлтой стрелы и буквы S – эмблема сарматов. Камера тряслась, слышалось дыхание разведчика и сбивчивый голос:
– Здесь тонны, тонны радиоактивных веществ… Вот, смотрите… Всё это могло полететь на ваши головы…
Дикари-коневоды не могут противостоять нашей армии в честном бою, поэтому в ход пойдут все запрещённые приёмы, включая химическое и биологическое оружие. Но ближе всего к реализации грязная бомба, которая будит в челябинцах воспоминания о 1992 годе, когда другая «грязная бомба» круто изменила наши жизни.
Города не интересуют сарматов. Степняки привыкли жить в вихре больших переселений, поэтому готовы отравить все наши мегаполисы, чтобы занять пространство между ними.
Незаметно я заснул, а когда проснулся, солнце уже жарило всерьёз. Бутылка виски на тумбочке была отпита на треть. Болела голова. Я отравлен алкоголем, отравлен этим городом, отравлен новостями… Я смертельно устал. Я устал так сильно, что у меня нет сил даже выспаться, ведь сон – процесс созидательный и творческий, а что во мне осталось созидательного? Я бреду, как навьюченный ишак, к очередному хребту, за которым мне мерещится долина, а оказывается лишь новый душный перегон. Когда мираж окружает тебя со всех сторон, не так-то просто найти из него выход.
Здесь некуда скрыться. Город смотрит на меня глазами Рыкованова, смотрит через дымку заводов и ядовитый утренний озон. Алкоголь и друзья больше не спасают. Друзья, пожалуй, тяготят сильнее всего. Теперь я предпочитаю одиночество.
Я не могу сбежать от Челябинска, потому что тянусь к нему, как ртутная капля тянется к ртутной луже. Что такое Челябинск? Это вахта, это срок, который нужно перетерпеть, а потом валить в тёплые страны, пока его молох не искрошил тебя в мелкую пудру. Но потом оказывается, что идея «валить» растворилась в его мути, и ты уже насквозь пропитан главной добродетелью, которую мы сами воспитываем в челябинцах – смиренностью.
Но я вырвусь. Рано или поздно я сбегу. Я сорву этот ошейник. А если начнётся война, всё станет даже проще.
Ира появилась поздно, около шести. В спальню сначала заглянул её цветочный запах, затем проникло шуршание бумажных пакетов и появились сами пакеты, которые она держала на двух пальцах, подчёркивая лёгкость. С Ирой пришло ощущение свежести. Я похлопал по кровати возле себя, но она села у зеркала, растирая лодыжки:
– Ноги отекли. Ты не выходил? Там чудесный день, но жарко и пахнет.
– Нет, я телек смотрел.
– Надо проветрить, – сказала она торопливо, но я помотал головой. Не надо. Не хочу слышать город. Не хочу ничего о нём знать.
– Нужно было ехать на природу, – заметила она. – Зачем тебе такой классный коттедж, если ты проводишь выходные в этой могиле? А там озеро…
– Там не озеро, там пруд. И он в эти дни цветёт.
– Ну и что? Там воздух и тишина.
– Да, – согласился я. – Нельзя уезжать, могут вызвать. Утром совещание. Пикулев из Ниццы едет, Рыкованов из Харпа.
– На оленях? – хмыкнула она ядовито. Ира не любила Рыкованова и разговоры о нём.
– И на оленях тоже. Знаешь, где Харп? Это Полярный Урал. У нас там хромовые рудники, а рядом – самая строгая тюрьма России, «Полярная сова». Полгода туда вообще не проехать.
Я снова похлопал по кровати. Ира приблизилась, растрепала мои волосы, но от объятий увернулась:
– Пить ужасно хочу.
Когда я зашёл на кухню, она шарила по шкафчикам, так и не сменив светлую блузку и розовые брюки на домашнюю одежду. На неё это не похоже: к вещам Ира относилась бережно.
Она всыпала в стакан пакетик какой-то муры и зажмурилась:
– Кайф. Вкус детства. Только сладко очень.
Я посмотрел на неё с недоумением. Она не успела прийти, но уже торопилась. Я достал из холодильника бутылку вина, но она замахала руками, звеня браслетиком.
– Нет-нет. Мне ещё ехать.
– Куда тебе ехать? Седьмой час.
– Мы же завтра улетаем. Надо выспаться, привести себя в порядок. Я только за вещами заехала.
Я сел, перекатывая холодную бутылку в ладонях. На ней зрели спелые капли конденсата. Меня охватило упрямство: я открыл вино, налил в первый попавшийся стакан и кивнул ей, но она лишь замотала головой.
– Зачем тебе это обучение? – спросил я. – Чего ты ещё в своём банке не знаешь?
– Я не хочу всю жизнь провести в кредитном отделе.
В августе Ире исполнится тридцать, и это пугает её. Она движется на лодке к водопаду, убеждённая, что если всё сделать заранее и правильно, если провести время плодотворно, если надеть спасжилет из бесконечных тренингов, в час тридцатилетия она будет спасена. Она хочет войти в четвёртый десяток правильно, словно после этого можно будет успокоиться и спокойно ждать следующего юбилея.
Наверное, она просто благоразумна. Свою красоту она расценивает как капитал, подверженный инфляции, и стремится инвестировать его. На моё сорокалетие она убеждённо заявляла, что жизнь только начинается, но когда я напоминаю об этом, говорит: у мужчин всё по-другому.
Она сидела на краю стула, прямая и строгая: наверное, так она и сидит в своём банке, привораживая клиентов и сотрудников. Мой взгляд начал увязать в её красоте. Я позвал:
– Иди сюда.
Я протянул руку и коснулся её браслета, но она неловко отдёрнулась и пролила немного розовой жидкости на стол.
– Блин! Кирилл!
– Что?
Я всмотрелся в неё, внезапно трезвея. Она сидела, сжимая бокал и тыча в розовое пятно на столе скомканной салфеткой, но мысли её были далеко. Она не хотела встречаться со мной взглядом, поэтому я спросил прямо:
– Значит, и Харитонов едет?
Люди, которые не умеют врать, убеждены, что умеют. Им кажется, что, если они замрут, не расслышат, посмотрят пристально и оскорблённо, подозрения рассеются. Ира фыркнула, всё также глядя в стол:
– Он же руководитель.
– Да знаю я про вас, – сказал я негромко. – И про букеты его знаю, и про ужины. И как ты не сдаёшься знаю. Я ценю это. Но сейчас, кажется, ты уже решила?
Она теребила пальцами браслет.
– Кирилл, не знаю… Я давно собиралась поговорить…
– И про это я тоже знаю.
– Вот! – вспыхнула она, переходя от растерянности к ярости. Она часто нуждалась в гневе, чтобы сказать трудные слова – особенность всех деликатных людей.
– Вот это меня пугает в тебе: ты всё знаешь! – возмущалась она. – От тебя невозможно ничего скрыть. Ты знаешь, но ты ничего не делаешь! Ты бываешь жутким, жутким!
– Да почему жутким? – удивился я.
– Потому что ты знал и просто наблюдал. Ты человек вообще?
– Я ещё и виноват? По-твоему, нужно было закатать твоего Харитонова в бетон за его шоколадки? Я знаю, таких людей как Харитонов…
Ира сделала гримасу: «Ну, ещё бы!», но я продолжил:
– Харитонов нормальный парень, порядочный и образованный. Он не переходит границ и не способен украсть чужое, тем более взять силой. У него, наверное, к тебе сильное чувство, раз он вообще рискнул.
– Да-да, в людях ты разбираешься! – ядовито заметила Ира.
– Просто я в тебе не сомневался.
– Не сомневался?! И что это значит? Что я должна хранить тебе верность всю жизнь? Я уже не та девчонка! Мне недостаточно встреч! Недостаточно вот этого всего!
Она потрясла рукой с браслетом, который, наверное, подарил я. Вещи она выбирала самостоятельно, но всегда признавала мои имущественные права, что порой раздражало. Она трепетно относилась к вещам и финансам. Она так и не признала мой бюджет своим, и, может быть, поэтому теперь всё рассыпалось.
Она же оставляет тебе шанс, Шелехов. Она зачем-то пришла сюда, зачем-то спорит с тобой, бьётся. Скажи ей, что думаешь. Дай определённость.
Мне не хотелось говорить. Я мог бы выцедить из себя слова и даже правдивые, я мог бы дать ей надежду, но что-то ослабляло меня, что-то говорило, что это как минимум не честно. Хочет ли она идти по этой топи ещё год, два? Есть ли смысл в отношениях, которым каждые полгода нужен диализ, чтобы очистить их кровь от яда сомнений? Надо жениться на ней. Да надо… Это наверняка изменит её, но не изменит меня: вот в чём проблема.
Мне не плевать. Просто именно сегодня я не способен любить. Сегодня город, «Чезар», Рыкованов стоят передо мной стеной и заслоняют обзор. Меня поймали в низшей точке, на том дне, которое и есть наша форма стабильности.
– Что ты молчишь? – спросила она почти жалобно. – Мне что делать? Идти?
– По-моему, ты уже решила, – ответил я устало. – Харитонов – это хороший подарок к юбилею. Пусть будет и от меня тоже.
Она вспылила:
– А чего ты ждал-то? Не могу я всю жизнь вот так…
– Как?
– Вот так! Тебя или убьют, или посадят! Я боюсь за тебя, боюсь за себя. Я всех твоих Рыковановых боюсь!
– Чего ты боишься? Рыкованов давно не тот. Я сотрудник юридического отдела.
– Юридического? Ты в службе безопасности! Ты – решала, который подметает и подтирает за другими.
– Да что на тебя нашло?
– Я войны боюсь, – прошептала она вдруг.
Она подняла стакан, прижалась к нему, и его край стукнул по её зубам.
– Войны? – не понял я этой резкой смены курса.
– Мне кажется, скоро будет большая война.
– Прекрати! Ничего не будет. Кто в XXI веке будет развязывать войну? У нас ядерное оружие есть. Никто не рискнёт.
– Вот такие как Рыкованов и рискнут! Для вас жизнь ничего не стоит. А этот мальчонка: что он вам сделал? Может быть, он и неправильно говорил, но разве можно так?
Я недоуменно смотрел на её раскрасневшееся лицо. Она готова была заплакать.
– Какой мальчонка? – удивился я.
– Эдик ваш. Зачем вы его? – губы её дрожали. – Ему всего двадцать семь было.
Ах, Эдик… Узнала же. Наверняка уже весь город гудит. Начиталась ерунды в интернете и смотрит теперь жалобно, точно лань – ненавижу этот кроткий взгляд. И не статей начиталась, а комментариев от анонимов, которые выдают себя за инсайдеров и несут всякую чушь. И чем она безумнее, тем больше в неё верят.
А задело её не само происшествие, а тот факт, что бедолага Эдик не доскрипел до юбилея. Двадцать семь лет, подумать только! Вот было бы ему тридцатник, уже не жалко.
Я долго держал её взглядом, а потом произнёс:
– Ты такие мысли оставь. Оставь, оставь. Никто его не трогал. Мы точно не трогали. Смотри, не брякни где-нибудь. Мальчонка!
Мой тон подействовал. Тушь на её ресницах потеряла форму и сделала глаза немного ведьминскими, прекрасными.
– Ясно, – пробормотала она. – Я никому не скажу.
Теперь она вела себя так, словно я угрожал. Когда я раздражён, в моём голосе появляется металл, и никак его оттуда не выплавить, она-то знает. Но этот её овечий тон хуже прямых оскорблений.
– Ну, что ты мелешь? – фыркнул я. – Говорю тебе: мы его не трогали! Ума палата! Зачем нам так подставляться? Мы что, блин, совсем дебилы? Я его лично до больницы вёз! Я за него отвечал! Мне его смерть меньше всего нужна!
Я оттолкнул стакан с вином, тот поехал, как камень в керлинге, равномерно и бойко, замер на самом краю стола и опрокинулся. Осколки были похожи на крупный бисер. Есть такое закалённое стекло, которое лопается сразу в труху. И отношения такие есть.
Ира торопливо собирала вещи.
– Чего ты завелась? – спросил я. – Какое отношение этот Эдик имеет к нам? Это просто инцидент, который нас вообще не касается. Работа – работой, жизнь – жизнью. Разве не так у нас было?
– Самооправдание, Кирилл, это такая бездонная бочка: если порыться – на любой случай слова найдутся.
Теперь в ней появилось что-то от учительницы начальных классов. Конечно, Шелехов, опять ты не угадал с ответом. Садись, двойка. Если женщине нужен повод, чтобы уйти, в ход пойдёт всё – и война, и моя работа, и Рыкованов с Эдиком. На здоровье! Пожалуй, ей это нужно. Без злости трудно начинать новую жизнь. На её заострившемся лице читалось облегчение, ведь на пути к бездне своего тридцатилетия она преодолела самый сложный рубеж – меня.
Ира ушла, навьюченная бумажными пакетами, в которые покидала мелкие вещи.
– Я за остальным потом заеду… – проговорила она негромко, словно извиняясь.
Конечно, заезжай. И даже не сомневайся: всё, что твоё – твоё.
Я закрыл дверь. Расставаться всегда больно. Больно сужать круг знакомых, который и так стягивается на шее как удавка.
Ира мне нравилась. Она не была глупой, не была корыстной. Про неё можно сказать – карьеристка, амбициозный человек, перфекционист, но она разделяла работу и дом и умела прятать шипы своего профессионализма, становясь временами трогательной, пьяной, романтичной. В остальном же она сохраняла ясность мысли, и в наших отношениях боялась взять лишнее, что не принадлежит ей по праву. К моим подаркам она всегда относилась предельно аккуратно, словно знала, что придёт время их возвращать. Её педантизм в этих вопросах меня угнетал, словно она проводила между нами черту.
Не знаю, любил ли я Иру настолько, чтобы жениться и прожить всю жизнь, но с ней я чувствовал себя живее, чем без неё. Только ей уже почти тридцать, а я по-прежнему строптив, глух, и её это достало.
Стыдно, Шелехов, быть собакой на сене. Стыдно, да… Но удобно. А ещё удобнее быть одному. Теперь не нужно думать за двоих. Не нужно ничего доказывать. Так честнее.
Но, чёрт побери, как меня злит лёгкость, с которой Ира поверила в эти бредни про убийство Эдика! Если эта чушь показалась правдоподобной даже ей, что скажут наши враги, которые топили нас и за меньшее? Завтра во время совещания на «Чезаре» меня ждёт прожарка на медленном огне.
А ещё Ира боится войны, и это странно. Это не в её характере. Придумала себе новое пугало, сама же всполошилась, сама же себя убедила. В ней появился пафос. Она говорит: «Все войны продают народу одинаково, а гибнут совсем не те, кто продаёт». Начиталась мудростей во «ВКонтакте».
Может быть, ей просто хочется тревожиться о чём-то постороннем, чтобы не тревожиться о возрасте? Или война уже разлита в воздухе и лишь толстокожие ублюдки вроде меня не чувствуют этого?
Я вышел на балкон. Застойный воздух перемешивался с гулом улицы Воровского и гарью, которой удобрили атмосферу наши предприятия: Рыкованов считал, что самые грязные процессы гуманнее всего выполнять в жаркие выходные, когда в городе никого нет. Небо розовело, но у самого горизонта его заливала серая непроницаемая дымка.
Поток машин наводнял улицу Воровского с запада, со стороны трассы М-5: люди возвращались в город с озёр, из дачных посёлков и заповедников. Из окон автомобилей торчали локти, пятки, оранжевые надувные круги. Пролетела осевшая «Лада», высвечивая фиолетовый круг асфальта и грохоча басами.
Красный родстер Mazda, который я подарил Ире, стоял на парковке у магазина «Диета». Значит, Ира приехала на своей машине и на ней же укатила: на старом Suzuki, который я терпеть не мог. В её манере держаться старых вещей изначально было что-то раскольническое.
Что ты чувствуешь, Шелехов? Ничего. Разве это нормально? Разве Ира была неподходящей парой? Подходящей. Но я по-прежнему не мог избежать бесплодных сравнений со своей женой. Странно называть Вику женой, ведь она так и осталась моей невестой, просто наш медовый месяц затянулся на два года. Со временем её образ покрылся серебром, стал ещё свежее, чище, притягательнее, и хотя я знал, что память меня обманывает, но не мог противостоять этому обману. Может быть, Ира чувствовала это силовое поле и потому держала дистанцию. А может быть, она меня просто боялась? В кого ты превращаешься, Шелехов?
Балкон выходил на двор городской больницы, за которым тянулись серые шапки примитивных кирпичных домов. У Челябинска нет лица: линия его горизонта похожа на склад холодильников и стиральных машин. С одной стороны виден шпиль университета, с другой – промзона, трубы которой напоминают дрожащий мираж.
Мы травим город, город травит нас. В этом и заключается наш обмен веществ. Мы квиты. Мы часто рассуждаем, каким был бы Челябинск, если бы не катастрофа 1992 года? Если бы под завесой радиоактивной дымки не возникла эта новая-старая Россия, диковатая, феодальная, где новая берг-коллегия имени Рыкованова и Пикулева имеет больше власти, чем сама власть. Но ведь история не имеет сослагательного наклонения.
Внизу горланила пьяная компания. На тканой крыше «Мазды» виднелся след птичьей бомбардировки, размашистый, как клякса. Я отпрянул от края балкона и отряхнул локти от чёрной пудры – одного из продуктов «чезаровской» деятельности.
* * *
Заводоуправление ЧМК располагалось наискосок от главной проходной, на которую выходили окна рыковановского кабинета на четвёртом этаже.
По утрам он любил курить и наблюдать за текучкой рабочих. Он прислонялся к подоконнику и вспоминал, вероятно, как почти сорок лет назад впервые вошёл на завод через эту проходную. Тогда он был худым двадцатилетним дембелем с временным пропуском в кармане и амбициями стать начальником цеха, получая свои двести рублей. Но начальником цеха Рыкованов не станет и следующие 12 лет проработает крановщиком (сам Рыкованов обычно поправлял – машинистом крана). Его главным карьерным достижением тех лет будет несложная схема, с помощью которой в конце 80-х он с подельниками будет вывозить с комбината черновой лом, чтобы ввезти его через другую проходную и получить свои 200 рублей: но не за месяц, а за каждую ходку. В 92-ом году, после катастрофы на АЭС, Рыкованов угодит в один из первых рабочих отрядов ликвидаторов (РОЛ), вскоре возглавит его, а месяцы спустя станет начальником всех РОЛов. А затем подчинит себе стремительно угасающий комбинат, перескочив с нижней точки командной цепи на самый её верх.
Когда я вошёл, он сидел на подоконнике и вполоборота смотрел на проходную.
– Скучаете по тем временам? – спросил я, кивая на усталые спины внизу.
Он дёрнул плечами и скривился:
– Не… Плебейская работа. Сучья. Всему своё время.
Теперь он был большим, грузным и поражал размерами угловатой лысой головы, словно за последние тридцать лет его живот и череп раздувались одновременно. Фигура давно утратила атлетизм, ссутулилась и стала покатой, но Рыкованов оставался чертовски сильным и даже проворным. Он любил забраться в кабину погрузчика или родного козлового крана и преподнести молодёжи урок мастерства.
– Садись, – велел он, кивая на стул возле длинного стола. – Спал?
Я кивнул.
– А я плохо… – он провёл рукой по влажному от пота черепу. – Укачивать в машине стало.
За последние двое суток он видел заполярный Харп, Лабытнанги, Салехард, летел на Ан-2, плыл паромом, трясся в вахтовке. Более 1000 км он преодолел на своём внедорожнике, чтобы утром быть здесь.
Его кабинет в заводоуправлении мало изменился с тех пор, когда Рыкованов вошёл сюда впервые: это было обычное административное помещение, где могла располагаться бухгалтерия или ОТК. Крашеные стены, несколько шкафов и огромная карта на стене с булавками наших предприятий: разноцветный салют, летящий от Челябинска к периферии.
Из общей унылости выбивался только шикарный лакированный стол из древесного массива – подарок брата на юбилей. Пикулев надеялся, что стол притянет к себе все остальные атрибуты директорской жизни, дорогие авторучки, большие кожаные кресла и паркетный пол. Но Рыкованов не изменился. Он выводил свою неровную подпись первой попавшейся авторучкой и стряхивал пепел сигарет в поршень тепловозного двигателя со спиленной юбкой.
У Пикулева и Рыкованова были разные отцы. Пикулев был на восемь лет моложе, ниже ростом и как будто мягче по характеру, хотя это впечатление было обманчивым. Он носил дорогие костюмы и выглядел аккуратно, «как только из шкатулки», шутил про него Рыкованов. Я представлял себе сигарную коробку, в которой лежат такие Пикулевы с ровными причёсками и ждут своего часа.
Рыкованов смотрел на мир раскосым взором, в котором чувствовалась угроза: медведя нельзя было приручить. Он мог казаться спокойным, но через секунду взорваться и дать хорошего тумака начальнику цеха, если тот продолжал спорить или говорил что-то оскорбительное. Он не терпел, когда плохо отзываются от зоне: для Рыкованова территория на северо-востоке от АЭС была его альма-матер, давшей путёвку в жизнь. Называть её грязным местом мог только он сам и несколько оставшихся в живых участников РОЛов.
Пикулев на этом фоне казался интеллигентным и тихим и говорил вкрадчивым голосом, хотя мог завестись, становясь крикливым. Он наблюдал происходящее через тонкие оправы позолоченных очков, держался подальше от грязи и любые задачи предпочитал делегировать другим. Он управлял растущей империей через экран монитора, полагался на цифры и выстраивал вокруг себя административные редуты. Во многом поэтому я чаще общался с Рыковановым, хотя он постепенно отходил от дел, и названия его должностей становились всё менее определёнными.
Когда я пришёл в «Чезар» в 2003 году, полный сил Рыкованов был локомотивом их семейного бизнеса, а его щуплый брат воспринимался, скорее, предметом канцелярской необходимости. Сначала он отвечал за бухгалтерию, позже перешёл в ранг главного экономиста. Вскоре Пикулеву доверили возглавить совет директоров растущего холдинга, и он оказался хорошим переговорщиком, если речь шла про власти любого уровня: от городских до федеральных. Но Пикулев терялся перед начальниками цехов и простыми рабочими, и первое время заслон в виде старшего брата был ему необходим.
В последние годы Пикулев заматерел и подцепил вирус аристократизма. Он всё чаще рассуждал о своей миссии, наследии, идеалах. Для него стал важен символизм вещей и явлений, и все его новые приобретения, от автомобиля до завода, становились кусочками имперской мозаики, в центре которой был он сам. Возможно, Пикулев готовил себя к политической карьере.
Секретарь привела Ефима, который вошёл в кабинет, не зная, как себя вести. Хмурым взглядом Рыкованов усадил его рядом со мной и затушил сигарету: его брат не любил запаха табака.
Следующим в кабинет вошёл Воеводин, замначальника следственного управления полиции, и стало ясно, что Пикулев с Рыковановым готовятся к серьёзной обороне. В руках Воеводина была тонкая папочка.
За ним появился Подгорнов, и я напрягся: мы с ним плохо выносили друг друга и его присутствие здесь не было обязательным. После разделения службы безопасности на две структуры, «С» и «К», они традиционно соперничали. Подгорнов отвечал за силовое обеспечение безопасности, по сути, руководил многочисленной охраной «Чезара». Я был главой службы «К», которая занималась более тонкой работой, связанной с юридическим аспектами, конфликтами, сложными переговорами и нестандартными поручениями. Подгорнов не был слишком умён, и его присутствие здесь выглядело как повышение.
Пикулев явился последним.
– Здравствуйте, господа.
Его приветствие – это лёгкий кивок, снабжённый полуулыбкой. Ровная причёска напоминала пластмассовый парик.
Пикулев замер у стола. В кабинете Рыкованова для него не было подобающего места. Вокруг торчали низкие спинки офисных стульев, и, видя замешательство брата, Рыкованов кивнул ему на своё старое кресло, которое хотя бы отдалённо напоминало трон. Рыкованов пересел на стул рядом, и тот просел под его массой, отчего казалось, что Рыкованов сидит на ведре.
Пикулев уселся, выложил перед собой электронный планшет с пером и несколько минут щёлкал им по экрану. От клацающих звуков мы все впали в лёгкий транс. Рыкованов встал и уселся на подоконник, лениво поглядывая в окно. В начале девятого толпа у проходной поредела.
Наконец Пикулев произнёс:
– Итак, господа, у нас проблема, – он бегло окинул нас взглядом. – Для начала я бы хотел узнать все детали произошедшего. Тебе слово, Кирилл Михайлович.
Я кратко пересказал субботние происшествия, обращаясь больше к Рыкованову, который слушал молча, глядя на сцепленные пальцы. Когда я закончил, тот посмотрел на меня из-под низких бровей:
– Кирюша, никакой самодеятельности?
– Нет. Анатолий Петрович, видя состояние Самушкина, я принял решение лично везти его в больницу, чтобы избежать случайностей. В тот момент положение не казалось опасным. Я считал, что это тепловой удар. Не думаю, что мы в принципе могли что-то сделать.
Рыкованов перевёл вопросительный взгляд на Ефима и тот закивал:
– Он вообще нормальный был! Бегал там со своим рупором. Кирилл Михайлович сказал ему не мешать, мы и не мешали.
– Тебе-то сложно было удержаться, – усмехнулся Рыкованов.
По дрожанию фиминого локтя я чувствовал клокочущее в нём чувство справедливости. Он обиделся:
– Анатолий Петрович, я что, приказов не понимаю? Сказали не трогать, мы не трогали. Подгорновских вон спросите: никто этого скомороха не прессовал.
Подгорнов сухо кивнул. Из его команды в субботу с нами было человек пять на случай обострения.
– Знаю я, знаю, – смягчился Рыкованов. Он уважал военное прошлое Фимы.
Пикулев нетерпеливо обратился к Воеводину:
– Коля, а в чём всё-таки причина смерти? Что вскрытие показало?
Воеводин откашлялся, раскрыл папку, примял страницы ребром ладони и доложил:
– Самушкин Эдуард Константинович, 1991 года рождения. Смерть наступила восьмого июня 2019 года в семнадцать часов ноль три минуты. Предварительная причина – остановка дыхания и сердечной деятельности на фоне обширного кровоизлияния. К делу подключился следственный комитет России. Результаты вскрытия пока не известны. Тело находится в бюро судебно-медицинской экспертизы.
– То есть ничего у нас нет? – Пикулев застучал пером по столу. – Умер человек, а мы гадаем, малярия это или ветрянка? Почему дело не поставили в приоритет?
– Да как не поставили?.. – начал было Воеводин, но Пикулев оборвал:
– Ты интернет утром открывал? Ты видел, что там про нас пишут? Что это мы его заказали! Коля! Все уже всё знают, кроме вас, сыщиков!
Воеводин походил на студента-троечника. Через час он будет громыхать у себя в отделе голосом полководца, но сейчас он без обид и досады принимает пикулевские оплеухи. А что он, в самом деле, мог сделать? И что мог я?
– О результатах судмедэкспертизы я сообщу при первой возможности, – сдержанно ответил Воеводин. – К делу подключились специалисты федерального медико-биологического агентства.
– Что это значит? Наркота была?
– Наркотиков не было. Они подозревают отравление химически или биологически активным веществом. И ещё кое-что.
Воеводин протянул Пикулеву лист и пояснил:
– Это выписка из медицинской карты Самушкина. В 2017 году он проходил курс химиотерапии для лечения карциномы. Терапия была успешной, наступила ремиссия. В течение года он находился на поддерживающей терапии.
– Ну вот, это уже кое-что, – заинтересовался Пикулев. – А мог он от этой болячки сгореть? Может, врачи ошиблись и не было никакой ремиссии? Коля, результаты вскрытия нам нужны как можно скорее. Но для публики давай остановимся на первоначальной версии: кровоизлияние вследствие перенесённого ранее тяжёлого заболевания. А лучше что-нибудь попроще: инсульт, например. Инсульт молодеет.
– Сделаю, что могу, Альберт Ильич, – заверил Воеводин.
Некоторое время он рассуждал о том, какими путями может пойти следствие, но Пикулев слушал вполуха, потом поблагодарил и сделал жест, разрешающий уйти. Воеводин, собирая бумаги, добавил:
– Дело в следственном комитете, так что… – он посмотрел на меня. – Вас вызовут на днях, опросят, показанию снимут. Но думаю, что без пристрастия, хотя… За своих я ручаться могу, но тут вы понимаете…
– Понимаем, – раздражённо кивнул Пикулев.
Рыкованов поднял на Воеводина глаза и глухо произнёс:
– А ты Шитякову от меня привет передавай.
Тот скупо кивнул: послание дошло.
Когда Воеводин вышел, Пикулев нервно заговорил:
– Трудно представить более неудачного момента! В четверг я улетаю в Москву на встречу с сотрудниками администрации президента: будем согласовывать формат осеннего визита на трубопрокатный. Совершенно точно, мне зададут вопросы про Самушкина. А на следующий день мы будем обсуждать в правительстве проект по квотами на выбросы, и нам готовы были пойти навстречу, но эта история перетянет на себя всё внимание! – он застучал пером по столу. – Сейчас активисты поднимут вой, мол, «Чезар» такой-сякой, людей убивает. А в правительстве тоже не семи пядей во лбу: скажут, раз вы общественность разозлили, берите максимальные обязательства по квотам! Максимальные! Ради сиюминутного эффекта: чтобы министр с трибуны заявил. А квоты – это знаете что? Это когда проще заводы закрыть! Вот и всё! Приехали!
– Вой притушим, – хмуро сказал Рыкованов. – Объясним популярно. Не рискнут.
Он смотрел на Подгорнова, словно тот со своими вахтёрами способен что-то решить. Пикулев завёлся:
– Толя, да нельзя сейчас! Мы даже не понимаем, чего от нас ждут! До конца недели, возможно, у меня будут какие-то установки, но сейчас нужно тише воды! Вы видели, что творится у южных границ? Что в Кустанае происходит, под Троицком? Не сегодня, завтра… – он осёкся.
Рыкованов смотрел на него с сомнением:
– Кишка у них тонка, – проговорил он, выбивая из пачки сигарету и запихивая обратно. – Ничего не будет. Поелозят у границ и разойдутся. Цивилизованный мир.
Он вздохнул и снова уставился в окно.
– Уличные протесты нам в любом случае ни к чему, – подытожил Пикулев, которому, кажется, понравилась уверенность Рыкованова. Пикулев терпеть не мог неопределённость.
– Нужно чётко сформулировать нашу позицию, – продолжил он. – И подумать, как подать её публике, чтобы выиграть время. Кирилл, твоя версия?
– Очевидно провокация, – ответил я.
– И кто заказчик? – впился в меня Пикулев, словно я обязан был знать ответ.
– Вариантов немного, – ответил я. – Дягилевские, аристовские.
Дягилев, скупщик металлолома из Нижнего Тагила, который незаметно подчинил многие предприятия на севере Урала, казался предпочтительным кандидатом. Эдик, сам уроженец Свердловской области, работал на него все два года, что жил в Челябинске, и был, вероятно, полезен. Но Эдика вполне могли сделать разменным валетом – это вполне в духе Дягилева.
Представить, что на такое решился животновод Аристов, было сложнее, но он мог рассуждать точно также: все подумают на «Чезар», «Чезар» подумает на Дягилева. Последние годы Аристов вёл против нас агрессивную кампанию, обвиняя в загрязнении воздуха, чем отвлекал внимание от сброса фекалий со своих птицефабрик и свиноферм на местные поля. После катастрофы 1992 года Аристов претендовал на некоторые активы Рыкованова, остался ни с чем и вполне мог подложить нам одну из своих свиней.
– Дягилевские, – мрачно проговорил Рыкованов. – Войны хотят. Посеешь ветер – пожнёшь бурю.
– Погоди, – оборвал Пикулев. – Никакой войны. Сейчас не время. Ты представляешь, если всё-таки начнётся, – он кивнул куда-то вбок, – сколько понадобится металла, поковок, бронелиста, дизелей? Сейчас мы должны сплотиться. Мы должны выступить единым фронтом. Он нас этого ждут. Делёж начнётся потом.
– Что же, так оставим? – проворчал Рыкованов.
– Не оставим. Для начала нужно понять, что именно произошло. Воеводин сейчас посуетится, но толку от него, как обычно, не будет. На сыскарей тоже надежды нет: пока они раскачаются… Кирилл Михайлович, это твоя забота. Кто, как, зачем его отравил? Тихо, без шума, исключительно для нашего понимания.
– Я понял. Выясню.
– Выясни! Наизнанку всех выверни! Менты тебе помогут, но особо не рассчитывай: заволокитят всё как обычно. Мне к вечеру среды нужен полный отчёт. И готовься так, будто докладываешь президенту. Потому что так оно и есть.
– Сделаю.
Следующее собрание назначили на вторую половину дня уже в расширенном составе, но меня от участия освободили, чтобы я сфокусировался на расследовании.
Когда Пикулев, Ефим и Подгорнов ушли, Рыкованов снова закурил и пристально посмотрел на меня сквозь табачный дым:
– Кирюша, точно без самодеятельности? Не как тогда с Астраханцевым?
Прошло десять лет, а Астраханцев остался моим клеймом. Это раздражало. Я сдержанно ответил:
– Анатолий Петрович, если бы я занялся самодеятельностью, тело Самушкина так быстро бы не нашли.
– Хорошо, – кивнул Рыкованов и ухмыльнулся. Сигарета медленно тлела в его узловатых пальцах. Он стряхнул пепел в перевёрнутый поршень и снова усмехнулся.
– Что, не верите? – сухо спросил я.
Он посмотрел на меня весело:
– Тебе-то? Тебе-то верю. Ты, Кирюша, человек искренний, потому большим начальником не станешь никогда. Не умеешь ты играть.
Я хмыкнул, но он весело сверкнул глазами: не обижайся, мол. На правду не обижаются.
– Анатолий Петрович, нужно обсудить вопрос усиления вашей охраны, – сменил я тему. – Посмотрите, как брат ваш ездит…
– Чего? – по его скалистому лицу пошли морщины смешков. – Думаешь, Дягилев совсем из ума выжил? Да он только пугать мастак. Эдика шлёпнуть – вот его потолок. Не…
Рыкованов потерял естественное чувство опасности ещё в зоне, и его демонстративное пренебрежение элементарными правилами казалось мне вызывающим. Впрочем, так он и дожил до своих лет.
– Что насчёт Орды думаете? – спросил я. – Назревает?
– Назревает, – пробубнил он, затягиваясь. – Который год уже. Посверкают бронёй, побарражируют, да успокоятся, – он вдруг рассвирепел. – А надо бы шарахнуть со всех орудий, чтобы сразу! Чтобы в зачатке! Там исконно наши русские земли, где веками жили славяне. Ещё в 1992-ом надо было присоединять их к России по старой границе империи, только нам тогда не до Казахстанов было, прозевали. А теперь мы всё в дипломатию играем! Всё национальные чувства задеть боимся. Вот и получили Орду! Да не орду, а кучку бандитов с саблями. Монголы проклятые или как их там? Сарматы!
Он приоткрыл окно и харкнул в узкую щель, откуда пахнуло шершавым заводским воздухом. Успокаиваясь, он подмигнул мне:
– Раз всё равно приехал, сходи в ЭСПЦ-2. Там Дрогин повстанцев метелить собрался, проследи, чтобы всё чистенько прошло. Нам ещё один труп не нужен.
* * *
Дрогина, начальника одного из отделов трудовой безопасности, я встретил за проходной возле управления главного энергетика. Он курил у машины, дожидаясь меня и своего зама. День был пасмурным и удушал не только влагой, но и нашими собственными выбросами, которые мы научились на замечать. Рубашка Дрогина вымокла на спине, и пятно напоминало сердце, что было иронично: сердечностью Дрогин не отличался.
Он был низкого роста и неопрятный, весь состоял из складок одежды и первых морщин, а хвост его поясного ремня торчал в сторону. Будь мы в хороших отношениях, я бы посоветовал ему заправиться и не позорить службу.
Он свирепо смотрел на меня из-под кудлатых волос, липнущих на потный лоб. Дрогин не любил меня, как не любили многие, кто вызрел на заводе и считал его своей вотчиной. Они не понимали, для чего Рыкованов внедряет в их структуры таких белорубашечников с высшим образованием и ментовским прошлым – последнее было для них чёрной меткой.
Но Дрогин боялся меня и скрывал свой диковатый нрав за маской озабоченности.
– Сейчас поедем, – буркнул он вместо приветствия и отошёл в сторону.
Дрогин раздражал меня природной неряшливостью: он умудрялся терять бумаги, пачкал и мял их, и всякую отчётность считал бюрократическим излишеством. Его служебный «Вольво» всегда был грязным, с наваленными внутри спецовками и железяками, которые он то ли украл, то ли конфисковал. Я же получил прививку аккуратности в первые годы в полиции под началом педантичного полковника Мясоедова, не очень хорошего сыскаря, но прекрасного администратора. Мясоедов гнал таких Дрогиных с начальственных должностей как юродивых.
Стояли мы довольно долго. Постройки комбината тускло рыжели на фоне мрачного неба. Дым из труб, упираясь в купол атмосферы, расползался павлиньим хвостом.
– А что за проблема в ЭСПЦ? – спросил я.
Дрогин скривил губы с зажатой сигаретой:
– Проблема у нас одна: дураки и дороги.
– Это две, – заметил я, но он лишь сверкнул глазами и сплюнул.
Вскоре пришёл трудовик, мы сели в затхлую машину и двинулись вдоль трубопроводов. Эти сплетения завораживали меня с первого дня на заводе. Они опутывали комбинат как сосудистая система, ржавая, наглая, выставленная напоказ. Здесь была вена гигантской трубы для подачи кислорода, на которой можно было поставить палатку. Здесь были артерии, которые параллельным строем тянулись на километры. Здесь были мелкие капилляры, ныряющие в цеха и выныривающие из них. Иногда я представлял людей, которые проектируют заводы и понимают весь этот сложный обмен веществ – умные, должно быть, люди.
Может быть, зря я не послушал отца и не поступил на металлургический факультет. Термины, которые проскакивали в речи рабочих и начальников, увлекали меня, словно красивая музыка, словно ключ к тайнам Урала. Фурменные и колошниковые газы, шихта и шлак, футировка и легирование: значения таких слов я понимал лишь интуитивно и постепенно проникся интересом к людям, которые употребляют их осмысленно.
Но Дрогин хоть и считал себя заводским, интереса ни к чему не испытывал, и пока мы ехали, равнодушно смотрел в окно. Ехать было недалеко: вскоре мы остановились у ЭСПЦ-2, длинного узкого цеха с электросталеплавильной печью советского образца. Её ремонтировали в 2004 году и должны были заменить лет восемь спустя, но с тех пор лишь готовили к очередному обновлению, которое так и не состоялось. Печь уже не первый год доставляла нам головную боль, но у Пикулева, который видел всё в ином масштабе, всегда находились более интересные направления для инвестиций.
«Вольво» остановился у входа, и когда мы пересекли черту естественного света, из жёлтого полумрака в нос ударил едкий запах. Печь напоминала огромную пароварку с тремя электродами, заходящими в её крышку сверху. Их основания тлели жёлтым светом.
Рабочих собралось человек семь. Они стояли у печи воинственным полукругом, в фокус которого решительно вошёл Дрогин, встав лицом к лицу со стариком Пряжкиным.
Пряжкина я знал: он пришёл на завод раньше Рыкованова и пользовался авторитетом среди рабочих. Но в последнее время он окончательно потерял чувство меры.
– Ну, что, Василий, опять планы срываешь? – набросился на него Дрогин.
Тот махнул рукой в сторону печи:
– Планы твои вон, бурлят, спасу нет! Ты глянь как сифонит! Из-под электрода вон бздит! Це-о! Угарный газ! Ты что, уморить нас хочешь, а? Начальник, блин, охраны, блин, труда! Охраняй, раз взялся!
Вдоль раскалённой поверхности котла выбивались струи сизого дыма. В косом свете из окон плавала пыль.
– Сифонит! – передразнил Дрогин. – Идёт выщеливание газа! Нормальный процесс. Если тебе воздухом подышать надо, иди вон да подыши, а народ не накручивай. Тебя молодые слушают, верят твоим бредням. Сифонит у него!
– Какое выщеливание! – взвился Пряжкин. – Я что, первый день работаю? Печь уже двадцать лет как каши просит! Вчера Сафонову плохо стало, на той неделе Гирин повалился! Я что, придумываю, что ли? Возьми аппарат да померь, сколько чего!
– Померил уже! Всё в пределах нормативов для рабочих зон, – зашипел Дрогин, стараясь отвести Пряжкина в сторону, но тот отдёрнулся.
– Когда ты мерил-то? Когда ветер дул? Ты в жару померь! Город травите, дышать нечем, нас травите!
– Что я, Мирон, твоих уловок не знаю? Плеснул масла на электрод и заливаешь тут! Вот он я, стою, ничего, не упал в обморок, – Дрогин обратился ко всем. – Так, хлопцы, баламута этого не слушать, идти и спокойно работать. Начальство о вас позаботится. Всё-всё, разбежались!
– Да невозможно работать! – крикнул кто-то из задних рядов. Людей стало больше: подтянулись рабочие из соседних цехов и грузчики.
– Ах, невозможно? – Дрогин двинулся в гущу людей, пытаясь понять, чей это был выкрик. – А деды ваши как работали? Комбинат в 42-ом запустили, думаете, тогда думали о свежем воздухе? Они о победе думали, о Родине!
– Так тогда война была… – процедил тот же голос уже без уверенности.
– И сейчас война! – загромыхал Дрогин, и я вдруг хорошо представил его в форме прапорщика. – Война идёт всегда! Это американцы вам про экологию рассказывают, чтобы вы обороноспособность страны саботировали! Интернетов поменьше читайте! Вы металл стране даёте! Вы танки делаете! Или всё это на «Сникерсы» поменять? На «Марсы»? Так не надо было идти в металлурги! Шли бы вон в ларёк сигаретами торговать! А тут не для девчонок работа!
– Ты политпропаганду кончай, – Пряжкин вытеснил Дрогина из кольца рабочих. – За спасение души потом поговорим. Тебе объясняют: люди сознание теряют от загазованности. Шутки, что ли?
– А пусть не теряют. А кто теряет, пусть ко мне приходит и будем решать индивидуально, что с падучими делать!
– Скотина! – процедил Пряжкин, но внезапно получил прямой удар в лицо.
Бил Дрогин неумело, полусжатым кулаком, в нос, но цели достиг: старик потерял равновесие и осел на пол. Рабочие оцепенели и притихли. Кто-то буркнул:
– Зачем в морду-то сразу?
Дрогин подскочил к Пряжкину, схватил за волосы и хлестнул ладонью:
– Будешь мне тут советы давать! – ревел он.
Я схватил Дрогина за влажную рубашку и оттащил от старика. Дрогин попытался ухватить меня, пришлось вывернуть ему запястье и дождаться, пока он заскрипит от боли.
– Ты чего творишь? – крикнул я в его шипящее лицо.
– Осади, ментяра! – заорал он. – Оставь свои замашки. Пусти!
Я отпустил. Дрогин, растирая руку, прохрипел:
– Це-о им мешает… Скоро и не вспомните про него. Начнётся война и будете вкалывать! Распустились! Кредиты, ипотеки, солярисы!
Я наклонился к старику. Тот сидел, качая головой и сплёвывая длинную кровяную слюну. Он смеялся весело, по-стариковски, словно внук рассказал ему смешную шутку:
– Нормально! – напевал он. – Нормально труд охраняют. Рабочий – оплот предприятия! Любуйтесь, пацаны! Даёшь плавку к годовщине Великой Октябрьской! Война у них! В башке у вас война!
– Ты мне про войну не пой! – прикрикнул Дрогин. – Ты много понимаешь!
Я помог Пряжкину подняться и оттащил в сторону:
– Знаешь меня?
– Да знаю я тебя. Рыковановский ты.
– Давай, Василь Петрович, успокой народ. Выдадим СИЗы, воздух проверим, меры примем. Предприятие всё равно не встанет. Будем искать выход, а ты пока не наглей, ясно?
– Ясно, – нехотя буркнул тот. – СИЗы твои от пыли защищают, а тут це-о, понятно, це-о! Угарный газ, розовая смерть! Тут только в противогазе.
– Противогазы раздадим. Терпите пока.
Он посмотрел на меня не зло, скорее, с жалостью. Так смотрят на умалишённых.
На обратном пути я зашёл в свой кабинет, оформил докладную на Дрогина, распорядился провести внеочередную проверку состава атмосферы в ЭСПЦ-2, а затем позвонил в отдел кадров:
– Валя? Это Шелехов. Подготовь документы на увольнение Пряжкина Василия Петровича, начальника бригады ЭСПЦ-2. По каким основаниям? По состоянию здоровья. Направьте на внеплановый медосмотр. И пусть выплатят три оклада.
Я положил трубку, подумал и набрал снова:
– Валя, пять окладов.
Ремонт печи в ЭСПЦ-2 – дело небыстрое. А Пряжкин не угомонится. Рабочие терпеливы, но такие как он, потерявшие страх, способны их разбудить. Таких надо убирать сразу, иначе в нас почувствуют слабину и зараза перекинется на весь завод.
Происшествие взбодрило меня. Я вышел из оцепенения и следующие двое суток в общей сложности спал часа четыре, но многое узнал о последних днях Эдика.
Глава 2. Расследование
Эдуард Самушкин родился в Верхней Пышме в 1991 году. После поступления в УрГУ в 2009 году он переехал в Екатеринбург, где получил степень бакалавра на кафедре «Социологии». Первосортным студентом он не было, дефицит усидчивости компенсировал социальной активностью, был членом студенческого совета при гуманитарном институте и массовиком-затейником на всех вузовских сборищах. Апофеозом его организаторских талантов было участие в подготовке студенческих выступлений 2012 года, после которых он был задержан и на трое суток помещён под административный арест – его едва не исключили из вуза.
С тех пор он изменил повестку, увлёкся урбанистикой и вопросами экологии, примкнув к команде избранного в 2013 году главы городской администрации. В тот момент в Екатеринбурге было двоевластие, и помимо мэра города, лишённого серьёзных полномочий, управлением занимался сити-менеджер. Самушкин находился в оппозиции к последнему, и от лица мэра развернул активную кампанию за сохранение исторического образа города. В 2017 году он был в числе организаторов митингов против строительства искусственного острова на городском пруду Екатеринбурга возле Плотинки, где Дягилев планировал построить храм. Тогда же, видимо, Эдик и привлёк внимание металлургов.
Вскоре после этого он переехал в Челябинск вслед за невестой Илоной, студенткой УрГУ, урождённой челябинкой. Здесь он развернулся с новой силой, организовав экологическое движение «Прозрачная среда». Эдик быстро стал узнаваем в городе, чему способствовала яркая внешность и смелые заявления. Привыкшие к осторожности челябинцы легко поддались на его обаяние.
Связь Эдика с дягилевскими была для нас очевидной, и первое время Рыкованов всерьёз думал о его устранении, но Пикулев был против решительных мер. Вскоре нам удалось раскопать историю из студенческого прошлого Эдика, связанную с наркотиками, после публикации которой его образ в глазах публики потускнел. К тому же он увлёкся светской жизнью, выпивал и утратил форму, и нам удалось представить его как человека жадного до славы, денег и удовольствий. Поэтому Эдик пошёл на негласную сделку и больше не переходил красных линий. Пикулев считал, что его сборища позволяют нам вести учёт городских сумасшедших и чувствовать их настроения.
Я присматривал за Эдиком, но за два года не возникло даже необходимости встретиться – Эдик хорошо понимал намёки. Если на сцене он казался абсолютно бесстрашным, то в жизни был осторожен. О его болезни, про которую говорил Воеводин, мы не знали: своё состояние он искусно скрывал.
В последние полгода у меня было ощущение, что Эдик размяк: он реже писал, его посылы повторялись, и ажиотаж вокруг него спал. Возможно, на него действовала болезнь или он зажирел, но Дягилев вполне мог рассматривать вопрос о снятии его с довольствия. Впрочем, это бы означало, что Эдик может переметнуться на нашу сторону, а значит, провокация в виде его убийства могла быть одним из вариантов развязки этих отношений. Для Дягилева ветка к его бывшему заводу была красной тряпкой, так что он мог разыграть всех своих козырей.
Мои люди тщательно отсмотрели видеозаписи с митинга, но чего-то экстраординарного не нашли, что неудивительно: вряд ли убийца был настолько глуп, чтобы действовать на виду. Проверка ближайших соратников Эдика результата не дала: в теории, они все могли быть причастны, но без хороших зацепок это было гадание на кофейной гуще.
У Эдика при себе было два телефона, и мне удалось получить доступ к ним. Один был довольно примитивным, но с хорошей блокировкой, над взломом которой пришлось повозиться – его Эдик использовал в основном для воркования с любовницей на языке смайлов и коротких ласковых фразочек. Рабочих переписок здесь не было.
Основной смартфон Эдика разблокировали, приложив к сенсору мёртвый палец. Эдик был зарегистрировал во всех соцсетях и мессенджерах и настолько активен, словно за него писал целый штаб. Он, наверное, страдал расщеплением личности, то превращаясь в строго начальника, то мурлыкая как кот – была у него склонность флиртовать с поклонницами в такой манере, словно тем было по двенадцать лет. Его переписка была сравнительно мирной, и я не нашёл намёков на угрозы или резкое недовольство. Иногда Эдик сцеплялся с кем-нибудь в комментариях, однако в силу своего ветреного характера предпочитал сглаживать углы и устранялся от затяжных дискуссий. У него было с десяток регулярных хейтеров, но их аккаунты говорили, что это интернет-кликуши, не способные на убийство.
В телефоне Эдика меня заинтересовало несколько обстоятельств. Фитнес-приложение показывало, что с середины мая он активно занимался бегом, начав с дистанции пять километров и постепенно увеличив до девяти. Бегал он с отягощением, что было видно по снимкам в соцсетях. Это напоминало подготовку к марш-броску.
Сам марш-бросок, вероятно, состоялся за несколько дней до митинга, 5 и 6 июня: Эдик выключил оба телефона ещё накануне, и они появились в сети лишь поздним вечером 6-го числа. Никаких упоминаний об этих днях в переписке Эдика я не нашёл. Если бы он принимал участие в любительском марафоне или, скажем, взошёл на Иремель, лента бы пестрела его селфи.
Также возможно, что у него был ещё один резервный способ связи с заказчиками или партнёрами, но найти третий телефон Эдика мы не смогли.
Я подключил людей из центра видеофиксации, которые отследили маршрут Эдика в эти даты. Из дома он ушёл поздним вечером 4 июня с большим рюкзаком на плече и сумкой, сел в свою машину и поехал к северному выезду из Челябинска, на Екатеринбург. Камера зафиксировала его машину у бывшего поста ГИБДД, но до следующих камер возле Казанцево, Нового Поля и Долгодеревенского он уже не доехал. В следующий раз его машина попала в кадр вечером 6 июня там же, у северного поста ГИБДД, незадолго до момента, когда он включил телефоны. Значит, он или отсиживался в местных садах, или ходил куда-то пешком или пересел в чужую машину. Я попросил ребят из центра проверить автомобили, которые предположительно делали остановку на участке от поста ГИБДД до Казанцево – это вычислялось по соотношению их примерной скорости и времени в пути. Работа была очень трудоёмкой и долгой, но результата не дала.
Я отправился к его вдове. Илону я застал во дворе дома в «Академе», где она гуляла с годовалым малышом, коренастым, неуклюжим, похожим на маленького краба. Илона оказалась красивой башкиркой с высокими скулами, словно у неё была примесь индейской крови. В Илоне чувствовалась и гордость, и гнев, и меня она восприняла в штыки, заявив, что, если я хочу найти причастных, стоит поискать среди собственных волкодавов. На вопросы она отвечала прямо и без утайки, и вскоре я понял, что на Эдика она злилась не меньше, чем на нас.
У Эдика была любовница, девица из министерства экологии, о которой Илона знала в общих чертах. Отношения супругов испортились после рождения ребёнка: сын не вызывал у Эдика особых чувств, и он часто попрекал Илону тем, что она тормозит его карьеру. Глядя на маленького Чингисхана, я подумал, что неплохо бы проверить отцовство Эдика – может быть, в этом была причина его прохладного отношения.
Где её муж пропадал двое суток, с вечера 4 по вечер 6 июня, Илона не знала.
– Он часто дома не ночевал, – фыркнула она. – Набил две сумки вещей и уехал.
– Вещей? Каких именно?
– Не знаю. Просто вещей. Свитеры старые, трико. Может быть, отдать кому-то хотел. Или в поход со своей сучкой ездил. Мне теперь без разницы.
Его «сучку» мы знали давно. Аня работала секретарём в министерстве экологии, и министр Нелезин без лишних вопросов организовал нам встречу. После величественной Илоны Аня казалась миловидной простушкой, мягкой и уступчивой.
События её очевидно потрясли, и она не до конца осознавала произошедшее: Эдик как бы продолжал существовать для неё на другом конце молчащего телефона. Она держала на нём руку, чесала его своими аккуратными коготочками и словно ждала, что Эдик вот-вот позвонит. Волнуясь, она рассказывала всё, не спросив даже, кто я такой.
Последний раз они виделись с Эдиком в понедельник, 3 июня, когда он заскочил к ней в обед. Он был в хорошем настроении, сказал, что завтра уезжает дня на два, а когда вернётся, у него останется ещё пара дел и после этого они будут видеться чаще. Аня не сомневалась, что он ездил в Екатеринбург, и сильно ревновала его к прошлой, неясной для неё жизни. К нынешней супруге Эдика она напротив относилась спокойно:
– Он Илону не любил, она его унижала, – заявила Аня, промакивая глаза смятой салфеткой. – Они развестись хотели.
– И он предлагал вам жить вместе? – спросил я.
Она кивнула:
– Мы уехать хотели… В Краснодар.
Я всмотрелся в неё. Она была миловидной и почти не пользовалась косметикой, но было в ней что-то от сдобной булочки, не слишком грациозное. Наверное, у Эдика уже ломило кости от славы и амбиций, что тигрице-Илоне он предпочёл такой плюш.
Аня посвятила меня в детали их плана: купить дом, завести пса, ездить на море каждые выходные, заняться сёрфингом… От этих рассказов она стала плаксивой. Я протянул ей ещё одну салфетку и сказал мягко:
– Аня, я понимаю, что вам сейчас не до разговоров. Но когда вы увиделись с ним в следующий раз? Что он рассказывал?
– Мы не виделись. Он сказал, что на пару дней едет, я ждала, ждала, а он не пишет, я волноваться начала, две ночи не спала, хотела звонить сразу утром, но не стала, вдруг он занят или спит ещё, полдня ждала, но потом не выдержала и в обед написала на его второй телефон, чтобы Илона не услышала, а он ответил, что не приедет. А потом он умер…
Она разрыдалась, простодушно показывая мне смартфон с их последней перепиской.
«Заедешь?», – спрашивала она.
«Не сегодня», – отвечал Эдик.
О врагах Эдика Аня ничего не знала: в её представлении его все обожали. Впрочем она рассказала о его дурных знакомствах «со всякими сталкерами», одного из которых, Елисея Отраднова, она знала по университету. Отраднов, по её словам, плохо влиял на Эдика и весной втравил его в авантюру с походом в зону, где потом бросил, из-за чего Эдик попался охране, но сумел отболтаться или откупиться, потому что вышел оттуда без протокола. Любопытно, что Эдик не афишировал эту вылазку, хотя ему, нарциссу, вероятно, трудно было удержаться.
Отраднов был организатором соцсетевой группы, в которой пропагандировал паганские идеалы, много писал про зону и порой – в несколько даже поэтическом ключе.
– Отраднов деньги на этом зарабатывает, – объясняла Аня. – Несёт всякую чушь, а люди верят, идут за ним, деньги платят, чтобы в зону попасть. Он и Эдика втянул. А ещё этот Отраднов небылицы всякие сочиняет, что скоро Земле конец.
– Ну, Эдуард Константинович тоже не прочь был на фобиях поиграть, – заметил я.
Аня впервые заговорила убеждённо, с жаром:
– Нет, это не то же самое! Эдик говорил правду, и про министерство наше говорил правду – я не обижалась, я знала, что так и есть. А этот Отраднов просто сочиняет на ходу: его и в институте считали слегка… – она постучала пальцем по лбу.
– И он влиял на Эдика?
– Он его заразил идеей лезть в эту дурацкую зону. Эдик вообще про неё почти ничего не знал и радиации боялся, у него же онкология была. А тут в зоне началось строительство железной дороги, и Отраднов ему внушил, что это опасно, хотя это не опасно, я знаю, я слышала. Ничего бы не было, если бы поезд запустили. Я ему говорила, а он всё равно стал митинг делать.
Аня совершенно не догадывалась о связи Эдика с Дягилевым и была склонна списывать всё на порывы увлекающейся натуры. Больше я от неё ничего не добился.
В тот же день я снова получил доступ к телефону Эдика и стал изучать его переписку с Отрадновым, который был записан как Лис. Общение их было кратким и деловым. В апреле они согласовывали поход в зону, постфактум Отраднов присылал Эдику снимки на память: насколько я мог судить, лазили они в сторону саркофага. Их отношения не испортились, несмотря на то, что после задержания Эдика Отраднов сбежал. После была месячная пауза, которую нарушил Эдик, анонсировав Отраднову некое мероприятие: вероятно, митинг у зоны. Отраднов отнёсся скептически, заявив: «Бесполезная клоунада». Эдик сообщение прочитал, но не ответил.
В конце мая уже сам Отраднов пытался назначить с Эдиком встречу, и из контекста следовало, что предполагался и третий участник. Место обозначалось как «там же, у элеватора». Отраднов предлагал пересечься 30 мая, потом – 2 июня, но оба раза Эдик не пришёл: в первый раз предупредил заранее, во второй соскочил в последний момент, написав: «Извини, отбой, планы поменялись». Отраднов ответил: «Кто так делает?» Больше они не переписывались.
Взглянув на фотографию Елисея Отраднова, я вспомнил его. На митинге он всё-таки появился: это он выстругивал палку около шатра праноедов, а позже стоял с плакатом. Тогда он показался мне тихим, но у паганов пользовался авторитетом – это чувствовалось.
Получилась интересная картина. Эдик доверял Отраднову, раз согласился лезть с ним в зону. Но поддержать его мероприятие Отраднов отказался, что выглядело нелогичным, учитывая их идейную близость. После этого Отраднов дважды настаивал на личной встрече, а когда она не состоялась, всё же появился на митинге – зачем?
Я стал копать в этом направлении. Отраднов учился на факультете истории в ЧелГУ, перейдя на пятый курс. В сети он вёл себя закрыто: он публиковал посты о своём странном видении мира, часто говорил о зоне, о смерти, о сознании, но не о самом себе. Даже фотографии его были редкостью. Его психотический настрой был заразен и привлекал к нему таких же фриков, поэтому в комментариях обожание лилось через край. Отраднов подрабатывал шерпом, водил людей в зону, читал сомнительных авторов вроде Карлоса Кастанеды и вёл беспорядочную жизнь – мог исчезнуть из сети на месяц, потом появиться и сыпать по три поста в день. Он участвовал в политических митингах, но его собственные взгляды оставались неясными: ярым оппозиционером он вроде бы не был, но и разумным человеком тоже.
Богатый урожай дала проверка по базам данным полиции: его задерживали несколько раз за проникновение на режимные объекты, хранение небольших количеств наркотических веществ и участие в митингах.
Главное открытие я сделал случайно. Меня заинтересовало, что отец Отраднова был известным в городе врачом и совладельцем сети платных клиник. Я обнаружил, что три года назад сеть вышла на рынок Екатеринбурга, где её инвестором стала одна из структур Дягилева. Мне даже удалось найти фотографию Отраднова-старшего в компании людей, совершенно точно связанных с Дягилевым. Значит, в теории, они могли знать и самого Елисея.
Найти Отраднова быстро не удалось. Телефон был перманентно выключен, по прописке он не жил.
Его отца я застал в одной из клиник, но тот был раздражён, куда-то спешил и сразу занял конфронтационную позицию, заявив, что будет разговаривать только с полицией и в присутствии адвоката. Пропажа сына его как будто не волновала: нагуляется – вернётся, заявил он. Вопросы о Дягилеве окончательно вывели его из себя, и я понял, что эту карту лучше разыграть потом, когда я буду больше знать о его сыне.
Меня волновало, что Отраднова могли убрать также, как и самого Эдика. Если человек много лет ищет просветления, его пропажу всегда можно объяснить тем, что он его наконец нашёл. Когда о тебе не переживает даже родной отец, ты – лёгкая мишень.
Соцсетевые френды Отраднова на мои вопросы отвечать отказались, и я решил надавить на некоторых лично. Слабоумный шаман, исполнявший во время митинга диковатые танцы у шатра, звался Дмитрий Верещагин. Он работал сторожем на стройке, а когда я позвонил, обматерил меня с такой выдумкой, что я обещал навестить его и выбить зубы. Верещагин завёлся ещё сильнее, разорался и бросил трубку.
– Наркоман хренов, – прошипел я.
Когда-нибудь от него останется лишь фотография на маминой тумбочке – насмотрелся я на таких персонажей ещё в Екатеринбурге.
Марина Ерофеева, борзая девица, что цеплялась ко мне на митинге, разговаривать отказалась. Она мычала в трубку и слабо соображала – может быть, была пьяной.
Я переключился на её подругу Екатерину Османцеву, наверняка более сговорчивую. Однако её телефон не отвечал, а мои сообщения в мессенджере она не прочитала.
Зато её редкая фамилия напомнила мне, что в отделе главного энергетика «Чезара» работает Павел Османцев. Я быстро выяснил, что она является его дочерью, и узнал их адрес – жили они в старом доме на улице Сталеваров. Я хотел застать их врасплох и заехал вечером по пути из заводоуправления, но Османцев оказался дома один.
Он был неспортивный, округлившийся, брюхатый, и при виде моего удостоверения сразу впал в арестантское отчаяние. Мы прошли на кухню и сели. Он держал руки сцепленными и опасливо поглядывал на меня. Когда я стал расспрашивать его о дочери, об Отраднове, о соцсетях, он разволновался, но ничего внятного не сказал: похоже, делами дочери он почти не интересовался.
– Что такого? – пожал он покатыми плечами. – Мы в детстве тоже дружили со всякими.
– Не боитесь, что Катя попадёт под их влияние? Вы должны понимать, кто и зачем распространяет у нас языческие мифы.
– А кто? – удивился он.
– Вы за обстановкой следите? Наши геополитические соперники превратили язычество в военизированный культ и собирают у наших границ ударный кулак.
Он закивал:
– Да-да, сарматы, головорезы. Я, конечно, в курсе, что они готовят грязную бомбу. Но это же совсем другое. Они же ордынцы, безбожники…
– Они, может, и безбожники, но своё влияние они распространяют внутри страны. Язычники, эзотерики, наркоманы – вот их паства. Их цель сделать так, чтобы молодёжь не за страну была, а за мифическую свободу. Дочь ваша, я смотрю, ни в чём не ограничена.
Некоторое время он испуганно смотрел на меня, потом забормотал:
– Да нет, Катя хорошая. Она знаете какая справедливая? Она в людях разбирается. Да это не культ, это по молодости… Катя же на религиоведении учится, увлекается разным. Они просто в турпоходы ходят…
– Турпоходы, – усмехнулся я. – Ну, откуда вам знать? А вы в курсе, что она участвовала в митинге против «Чезара» со своей компанией?
Османцев сидел смятый, шлёпал губами, водил челюстью, словно она болела у него после удара. «Чезар» был для него аргументом, последним словом. Я думал, он разразится гневом и пообещает разобраться с дочерью, но он лишь ещё больше скис, уставился на свои руки и мерно кивал своей большой бестолковой головой. Ну, что за человек!
Я смягчился:
– Ладно, не в это дело. Вы Отраднова хоть раз видели? Говорили с ним?
– Видел, а говорить сильно не приходилось, так, здрасьте-здрасьте. Да нормальный он. Скромный такой.
Я усмехнулся. Османцев то ли боялся говорить, то ли действительно был настолько наивен. «Я в этих интернетах ничего не понимаю», – приговаривал он. Я пустил в ход последнего козыря, заявив, что Отрадновым интересуется сам Рыкованов, и что чем быстрее мы найдём его, тем лучше для всех. Известие усилило тревогу Османцева, он заёрзал, но так ничего внятного и не сказал, вспомнив лишь, что Елисей этот часто ходит с рюкзаком и что он, кажется, чем-то серьёзно болел в детстве – так говорила Катя. Я оставил ему визитку на случай, если он, успокоившись, что-нибудь вспомнит.
Я собирался уходить, когда в двери щёлкнул ключ и на пороге тесной кухни появилась Османцева. На ней была длинная цветастая юбка, а сверху – джинсовый жилет, украшенный множеством значков. Он была пёстрой, как взрыв фейерверка, но несмотря на эклектику, в этом хороводе цветов чувствовался стиль – наивный паганский стиль. На спине у неё был лёгкий рюкзак, под которым воинственно болтался брелок в виде мишки.
У шатра она показалась мне приятной, с открытым скуластым лицом, с детской чёлкой и застенчивой улыбкой. Но сейчас она напоминала одного из тех большеглазых котов, физиономии которых, если их разозлить, становятся плоскими. Даже не поймёшь, чего в них больше – страха, удивления или ненависти.
– Вы что тут делаете?! – отчеканила она, и прижгла меня взглядом. – Папа, ты зачем впустил это?
«Это» относилось ко мне. Я усмехнулся и растёр шею: в последние сутки спать приходилось мало, так что я утратил вкус к сарказму.
– Вопросы к вам есть, Екатерина Павловна, – сказал я сдержанно, добавив в голос интонаций следователя. – Пройдёмте в зал.
Я встал, но она не двинулась с места, загораживая проход. Внезапно её палец, как гарпун, прорезал воздух, указав на дверь:
– Ну-ка, вон отсюда! – крикнула она. – Вы отца пугаете! У него сердце.
– Остынь, – велел я хмуро, вытаскивая из внутреннего кармана пиджака фотографию Отраднова: – Знаешь его? Конечно, знаешь. И где он?
Вместо ответа она хлестнула меня по руке, разорвав фотографию, а потом вцепилась в рукав и принялась выталкивать из квартиры. Ярость придала ей такую силу, что в этой греко-римской схватке я проиграл. Уже за порогом, когда мы оказались в кислом подъезде, я перехватил её руку и дёрнул к себе. Она зашипела.
– Ты не дури! – крикнул я ей в лицо и тряхнул за руку. – Я не просто так спрашиваю!
Боль её слегка отрезвила. Опешив, она процедила:
– Хотите на Лиса всё повесить? Сами напортачили, сами разбирайтесь! Он тут не при чём!
– А ты откуда знаешь? Может, расскажешь?
– Я вам ничего не скажу! Я знаю, кто ваши хозяева!
Она снова вцепилась в меня и стала толкать вниз.
– Угомонись ты! – я пытался ослабить её хватку: в запале она сжимала мой рукав так, что ногти прокусывали ткань до кожи. – Хозяева у меня те же, что у твоего отца…
– Отца не впутывайте! Он и так вас боится. У него со здоровьем не всё в порядке, а вы его пугаете. Он всё равно ничего не знает.
– А ты знаешь? Вот и расскажи мне, а уж я твоего отца в обиду не дам.
– Угрожаете?! – она снова зашипела, как загнанная в угол кошка.
Абсолютно дикая. Борясь с ней, я даже не заметил, как она столкнула меня на середину лестницы. Наконец мне удалось отцепить её руку, я одёрнул пиджак и протянул визитку:
– Ладно, успокойся и слюни подбери. Если захочешь помочь своему другу – мне позвони. Он пропал, и, может быть, ещё не поздно ему помочь. Но решай сама.
Визитку она не взяла, вместо этого зачем-то положила мне на лоб ладонь и довольно сильно прижала её. Рука у неё была горячая и сухая.
Когда я сел в машину, всё ещё приходя в себя от этого гейзера эмоций, голова заболела там, где её коснулась Османцева. Это была тупая пульсирующая боль, словно кто-то давил мне на глаза изнутри.
– Колдунья чёртова! – прорычал я.
На утро Пикулев улетал в Москву. В отчёт для него я включил всё, что удалось выяснить, отметив версию с причастностью Отраднова как наиболее вероятную. Я перечитал отчёт трижды и отправил Пикулеву и Рыкованову.
К ночи голова разболелась так сильно, что пришлось выпить полстакана коньяка, а потом – две таблетки анальгина.
* * *
Пять дней поисков не дали результата: Отраднов заныкался так хорошо, что даже попытки отследить его по видеокамерам оказались бесплодными. Он несколько раз появлялся в Челябинске до 8 июня, но после смерти Эдика под камеры не попадал.
Из Москвы Пикулев вернулся возбуждённым и агрессивным, и хотя переговоры с администрацией сложились в нашу пользу, он не был до конца удовлетворён. Он требовал разобраться с гибелью Самушкина как можно скорее, спрашивая меня об этом ежедневно.
СМИ активно муссировали версию нашей причастности, и сумасшедший старик Галатев и госпожа Чувилина без обиняков называли убийство заказным.
Пикулев надеялся, что, когда полиция раскроет детали, нам удастся отвести от себя подозрения. Но молчал и Воеводин: дело у него забрали полностью, так что он питался такими же слухами, как и мы.
Я был уверен, что продвигаюсь быстрее, чем сотрудники следственного комитета, но со слов Пикулева выходило, что те вот-вот раскроют дело, а я топчусь на месте. Как-то он предложил:
– Может быть, Кирилл Михайлович, Подгорнова с его людьми возьмёшь в помощь?
Я осторожно возразил, что дело не в количестве людей. Чем мог помочь гроза вахтёров Подгорнов, я решительно не понимал и подобные выпады Пикулева считал неуклюжей попыткой мотивировать себя на активные действия. Впрочем, с активностью у меня проблем не было. Проблема была в том, что она завела меня в тупик.
Я почти перестал спать, часто просыпаясь в пять утра или даже раньше. Я стоял на балконе, наблюдая чёрно-белый город, за которым вставал розовеющий горизонт и появлялось раскалённое ядро восхода, словно жар электропечей. Неподвижный пар наших градирен становился рельефным и словно не вытекал из них, а втекал обратно. Коптили заводские трубы, но ещё больше коптили сами цеха – это называлось неучтёнными выбросами. Под утро заводы выплёвывали в атмосферу накопившуюся за ночь пыль, и в пепельном свете фар зажигались светлячки окислов. Город пахнул, как перегретый диск циркулярной пилы. Красная «Мазда» под моими окнами серела, и как-то на ней появилась кривая надпись: «Помой меня, я вся чешусь».
Утром во вторник позвонил Рыкованов и велел заехать на Треугольник: так он называл квартал между улицами Вишнегорской, Дегтярёва и Машиностроителей, прямо у завода.
– Засыпало их тут знатно, – сказал Рыкованов. – Подъезжай, поглядим. Черти зелёные наверняка раскачивать начнут.
Этот многострадальный квартал частенько засыпало пылью, а иногда серными осадками, отчего листва здесь даже в начале лета была нездоровая, бледно-жёлтая.
Внедорожник Рыкованова я нашёл на парковке в центре Треугольника. Недалеко на улице Липецкой находилась квартира, где я провёл детские годы до переезда родителей на улицу Сони Кривой, но я её почти не помнил.
Рыковановский водитель Витя, крепкий безразличный старик, стоял неподвижно, как варан, способный замирать в одной позе на несколько часов.
– Туда ушёл, – кивнул мне Витя, выходя из оцепенения.
Я двинулся в сторону Вишнегорской – она шла параллельно 2-ой Павелецкой, за которой уже начиналась территория ЧМК. Квартал был построен в самом конце 50-х и состоял из двухэтажных трафаретных домов самой простой формы. Первые строители комбината жили в палатках и бараках, и отдельные квартиры, пусть и в этих смешных домах, семьдесят лет назад были роскошью.
Рыкованов стоял перед фасадом дома №10 и смотрел на его мутные, не зашторенные окна, будто играл с домом в гляделки. Дом не моргал, держался и Рыкованов. Он как-то странно развёл руки, будто ожидал, что дом может броситься на него. Когда я подошёл, он обмяк и кивнув:
– Глянь, Кирилл Михайлович, мой родной дом. Ровесники мы: оба шестидесятого года.
Он прошёл через пыльную траву к стене и коснулся кирпичей:
– Кладка видишь какая? Неровная. Говно кладка. Самострой. Время такое было: сами строили, сами вкалывали, сами гордились… – он развернулся к комбинату и сделал широкий жест. – Здесь же леса были, пустота… А кругом война, пушки стреляют… В самый разгар войны комбинат строили. Вернее, тогда ещё завод: комбинатом он потом стал. Тут же всё с двух печей и юрты начиналось.
– И долго вы здесь жили? – спросил я из вежливости.
– До семи лет. Потом на Хмельницкого переехали. Альберт там родился. Пошли-ка.
Он решительно зашагал, хромая и переваливаясь на своих больных, облучённых суставах. Мы обогнули дом и вошли в пахнущий мокротой подъезд, по сбитым ступеням поднялись на второй этаж, и Рыкованов забарабанил в дверь:
– Открывай, дед, я тебя в окне видел! Открывай, не обидим.
После долгой возни дверь отворилась, и нас обдало кухонным запахом, словно долго вываривали говяжьи кости. Сморщенный хозяин к нашему визиту отнёсся равнодушно. Его покрасневшие веки походили на края расползшейся раны. Жёлтые глаза смотрели на нас без интереса. Дед непрерывно жевал.
Рыкованов прошёл в комнату и огляделся:
– Полвека тут не был… – сказал он и скривил губы. – Ничего не помню. Не моё. Чужое. Помню комнату большую. И скатёрку помню белую. Маму… А вот это всё не моё, – он похлопал по стене, и обои сухо заиграли под его пальцами.
Несколько минут он смотрел в окно на узкую улицу Вишнегорскую, рельсы вдоль неё и увядшие кусты. Он потянул створку рамы, та со звоном открыла и впустила в комнату жаркий воздух, начинённый металлом и заводским ультразвуком. Рыкованов вдруг повеселел и заговорил с усмешкой:
– Приватизация! Говорят, мол, Рыкованов скупил завод за спиной государства! Да как же! Забыли историю! – он обернулся ко мне, и глаза его метали молнии, словно я был источником дезинформации. – Кирюша! Да государству нужна была эта приватизация больше, чем мне, чтобы спасти заводы от разграбления красными директорами, понимаешь? Меня просили взять это на себя! На горб себе взвалить! Думаешь, завод тогда приносил прибыль? Шиш! Что бы осталось от вашего Челябинска? Хозяин, нужен, хозяин! Городу нужен завод, налоги, рабочие места! Вот, получите, распишитесь. Рыкованов слово держит.
Он с досадой провёл пальцем по наружному стеклу, стирая пыль.
–Во! – выставил он палец в чёрной пудре. – Они из-за этого переживают. Твёрдые частицы! Графит обычный! А всё потому, Кирюша, что когда человек живёт слишком хорошо, он начинает с жиру беситься. Думаешь, эти частицы вредны? Да как же! Ты грифель карандашный жевал в школе? Так это то же самое. Если человек не жил по-настоящему, своей шкурой не рисковал, ему всякое мерещится. Мнительные все очень стали.
Он шумно сопел ноздрями.
– А зимой тут знаешь как было? С той стороны, со Свердловска, ещё не застроили, комбинат хорошо виден был. Едешь с дядькой на его «Москвиче», а трубы, постройки, централи – всё скрыто за клубами пара, который так в косичку сплетается и в небо уходит. И кажется, будто завод весь туда стремится… Красиво… Мы гордились этим! Мы понимали: завод работает, дым идёт, страна в порядке.
Он с досадой махнул рукой:
– Война всё по своим местам расставит! Я одну войну уже прошёл и знаю, как она мозги прочищает. Там, в зоне, у нас не было времени на фантазии. Там надо было идти вперёд, вперёд, к победе! И много чего было: и лучевая болезнь, и малокровие. Но это было не напрасно, это ради победы, ради будущего. А вот это всё… – он снова показал свой палец в чёрной пудре. – Это, знаешь, для того нужно, чтобы журналисты и блогеры, цвет общества, без работы не остались. Ладно, айда!
Он рванул к выходу. Мы вышли из квартиры также внезапно, как ввалились в неё. Слепой взгляд хозяина не отразил ни одной эмоции.
Мы остановились у подъезда. По дорожке вдоль дома к нам приближался человек. Походка его была неровной, хлябающей. Это был молодой парень в накинутом на голые плечи кителе, из под которого проглядывали торчащие рёбра. Несмотря на худобу, плечи его были широкие, как у гребца, но удивительно плоские. Он приблизился к Рыкованову и рассмеялся:
– Чё, папаша, запарился? Жарко! – он поднял палец к небу. – Гляди, напечёт. Садись вон на скамеечку. Гляди, цветочки тут. Тёти Машины цветочки.
Я выступил вперёд, отстраняя его от Рыкованова. Парень завихлялся и вдруг склонился к кусту шиповника, сунув лицо в остатки розовых лепестков. Наркоманы в этом районе были не редкостью. Я хотел идти дальше, но заметил, что Рыкованов остановился и достаёт сигарету. Он протянул пачку человеку в кителе, и тот, картинно поклонившись, выбил из неё сразу три, одну из которых зажал с сухих губах, а две остальные рассовал за уши. Рыкованов щёлкнул зажигалкой.
– Живёшь здесь? – спросил он.
Парень затянулся:
– Живу, конечно. А чё не жить-то? Солнце светит, ветер дует. Вон, цветочки растут. Тёти Машины цветочки. Не рви только, понял? – он поводил сигаретой перед носом Рыкованова.
На его лице выделялись тёмные, словно подведённые тушью глаза с огромными зрачками, глядящие мимо нас. Взгляд их был как бы скрещен и потому неприятен.
– Работаешь где? – спросил Рыкованов. – Мамке помогаешь?
– Мамки нет давно. А батя у меня козёл, – он вдруг расхохотался: – Чё ты, отец, пургу метёшь?! Работаешь! В армии гляди как работал! – он высунул из-под кителя руку и показал длинный шрам вдоль запястья. – Отработал своё. На пенсии я.
– А на завод почему не идёшь? – спросил Рыкованов. – Приходи ко мне, я тебя лично устрою.
Парень сплюнул и усмехнулся:
– Устроит он… Ты кто там, сантехник?
– Сказал устрою – значит, устрою. А ты это дело бросай!
Парень внезапно ощетинился:
– Чё я на твоём заводе не видел? Здоровье гробить. Видали мы таких работящих. Я лучше на войну поеду. Там сто пятьдесят тыщ в сутки платят, прикинь? Орде жопу надерём.
– Да нахер ты там такой нужен, доходяга, – усмехнулся Рыкованов.
Парень не обиделся, повихлялся ещё и двинулся дальше, теряя к нам интерес. Он напевал:
– А ты цветочки нюхай, дядя, только не рви. Тёти Машины цветочки… Опали – это завод их кислотой травит. А пусть травит! Нас хер чем убьёшь!
Мы направились к машинам. Рыкованов мрачно проговорил:
– Такие и в моё время были. Если человек без хребтины, его за уши не вытащишь. Только себя жалеть умеет. Жители бузу подняли, что пахнет им третий день. Вот, Кирюх, объективно скажи: ты что видишь? Ну, пыль, да? Ну, костерком немного пахнет. А мы в какой пыли росли? Ну, вспомни, тут курорт разве был? Ты же тоже местный. Всегда пылило! И карьеры пылили, и дороги. Мы в этой пыли выросли, это наша альма-матер, наш океан.
– Серные осадки были, от этого листва пожелтела, – заметил я. – Они за это переживают.
– Сера! – фыркнул Рыкованов. – А ты знаешь, сколько мы её потребляем? Ты погляди внимательно. Вон, Альберт свои вина делает, там добавка Е220 – это оксид серы, между прочим. Ну, и что такого? Он же летучий: ветром дунуло, нет серы. Тут раз в год совпало: плавка плюс инверсия плюс штиль. Но это же редко бывает! Тоже мне, история!
Я промолчал.
Когда мы подошли к машинам, где ждал неподвижный Витя, Рыкованов остановился и сказал:
– Я знаешь, что в зоне понял? Нет никакой экологии.
– В каком смысле?
– Ну, нет такого понятия вообще. Это как астрология. Вот я тебе скажу: когда Луна в Меркурии, у тебя, Кирюха, ноги отнимутся. И если ты поверишь, они у тебя и отнимутся. Я через себя всю таблицу Менделеева пропустил! Ну, погляди на меня: чё у меня, хвост вырос? Рога? Мне уже почти шестьдесят, а я рога кому хочешь обломаю. Потому что нет никакой экологии! Можно в горном воздухе в тридцать лет помереть, а можно у нас прямо на заводе палатку поставить и жить счастливо, если не накручивать себя.
Я не стал возражать. Рванув дверь машины, Рыкованов добавил:
– Заезжаю тут в город со стороны Каштака, где сады: вонь стоит – ты бы знал! Как в газовой камере. А откуда дым? Садоводы мусор жгут или бани топят, чёрт их знает! А Аристов с его свиньями как воняет? А очистные? Но валят-то всё на нас. Кто город потравил? Рыкованов, конечно. Когда заводы на боку лежали, никто о чистом воздухе и не думал, все о зарплатах переживали. А как мы предприятия перезапустили, тут же нарисовались шлюхи экологические! Кстати, о шлюхах… Тут в деле Самушкина новый поворот намечается.
Он протянул мне смартфон с сообщением от Пикулева.
«Пришли результаты вскрытия. Собираемся у тебя».
* * *
На внутренней парковке заводоуправления алая Ferrari Пикулева на фоне чёрных внедорожников смотрелась низкой и слишком яркой, как содранная болячка. На её красном капоте слабо отражались облака.
Пикулев уже восседал во главе рыковановского стола, и вид у него был задумчивый. Рядом с ним сидел, раскладывая бумаги, Мирон Шульга, бывший военный врач, переучившийся на юриста. Я сел напротив.
– Ну, что врачи говорят? – спросил Рыкованов мрачно, принимая от Пикулева бумаги и читая вслух: – Множественные геморрагические инфильтрации… Гемоторакс нетравматического генеза… Суба… чего-то там… кровоизлияние в левую гемисферу. Что это значит-то? У него геморрой был или что?
Шульга откашлялся и после лёгкого кивка Пикулева ответил:
– Гемоторакс – это кровоизлияние в плевральную полость, в лёгкие. Плюс признаки инсульта. Судя по описанию, сосуды стали хрупкими, начали рваться.
– А чего у него сосуды-то хрупкие оказались? – буркнул Рыкованов, разложив перед собой листок и нависая над ним, словно устрашал пойманную дичь. Его угловатая голова медленно двигалась. – Молодой вроде ещё…
– Вот тут результаты химико-токсикологической экспертизы, – протянул Шульга другой документ. – В тканях лёгких и костях обнаружен стронций. Оценочная доза облучения – более 10 грей. Это очень много, очень. Судя по всему, это острая лучевая болезнь.
– Да ну! – возмутился Рыкованов, хлопнув ладонями по столу. – Кому ты рассказываешь, Мирон Иванович? Я лучевиков видел! От лучёвки так быстро не помирают. Кирилл вон говорит, Эдик с мегафоном бегал, народ баламутил, а у него, оказывается, лучевая болезнь в крайней стадии и сосуды как решето! Да не поверю!
Мирон пожал плечами и откинулся в кресле:
– Мы не знаем, когда именно он получил дозу. Кратковременная ремиссия характерна для лучевой болезни: её называют периодом видимого клинического благополучия.
Рыкованов приоткрыл окно и закурил, целясь струёй дыма в небольшую щель. Запах табака вывел Пикулева из прострации, тот постучал пальцами по бумагам и требовательно спросил:
– Мирон Иванович, когда именно он был отравлен? Что там пишут?
Шульга ещё раз пробежался глазами по документу.
– Судя по бурному развитию симптомов, незадолго до смерти. Из-за обширных повреждений сложно сказать, каким образом он получил дозу, но это было не внешнее воздействие: или ингаляционный способ, или с пищей, или сразу в кровь. Иначе на теле были бы ожоги.
– Всё равно не понимаю, – проворчал Рыкованов. – Да видел я, как от лучёвки помирают, но чтобы так сразу, за пару часов…
– Внутреннее облучение может быть крайне интенсивным, – ответил Шульга. – К тому же на фоне перенесённого онкологического заболевания. Радиация бьёт в самое слабое место: у него это сосуды.
Пикулев развернул ко мне огромное кресло Рыкованова и впился взглядом:
– Ты говоришь, за пару дней до смерти он уезжал?
– Да, близкие подозревают, что в Екатеринбург, но я думаю…
Пикулев оборвал:
– Вот! Вот где копать надо! Если Самушкин встречался с дягилевскими, значит, они и потравили. Радиация! Конечно, радиация – все сразу на нас подумают. С кем он виделся?
– Мы не знаем, – ответил я.
– Ищи, Кирилл, ищи! – воскликнул Пикулев. – Долго тянешь! Видишь как всё поворачивается! Сарматы готовят грязную бомбу, вся общественность накалена, а тут наш святой Эдуард гибнет от облучения! Так на нас что угодно повесят, и что мы с сарматами заодно. Надо ставить точку в истории!
Он с досадой оттолкнул от себя лист и нервно заколотил по столу позолоченной ручкой.
– А, чёрт! – воскликнул он. – Дягилевские точно сольют всё в прессу. Радиация всегда с нами ассоциируется, тут и доказывать нечего. Надо сработать на опережение, ясно?
Я промолчал. Пикулева это разозлило:
– Кирилл Михайлович, тебе ясно? На опережение!
– Что это значит? – спросил я.
– А то и значит! Нельзя ждать! Сейчас очень неудачное время для таких скандалов. Можно было бы заявить, что он умер от инсульта, но не получится: хоронить будут в закрытом гробу, народ не поверит. Тут надо что-то посерьёзнее выдумать. Как хочешь, но закрывай историю. Время даю до конца недели. Не можешь раскрыть – придумай что-нибудь!
Когда Пикулев с Шульгой вышли, Рыкованов не спеша вернулся в своё кресло, покачался в нём, поскрипел, словно выгоняя пикулевский дух, и кинул перед собой полусмятую пачку сигарет.
– Дрогин на тебя жалуется, – сказал он и посмотрел на меня испытующе. – Говорит, работать мешаешь, рукам волю даёшь.
– Дрогин скотина, – ответил я.
– Скотина, – согласился Рыкованов и вдруг добавил с горечью. – А там все скоты! Знаешь, что эти пролетарии у меня за спиной говорят? Куда только не посылают! Вот и нужны такие Дрогины, иначе нас живьём сожрут.
– Но тут повод есть. В ЭСПЦ-2 сильные утечки из конвертора. Пусть инженеры посмотрят, что можно сделать…
– Да посмотрят, не дурней твоего! – отмахнулся Рыкованов. – Мы, знаешь, как раньше работали? Дизель Д-130 молотит, струя гари толщиной с руку, чёрное всё, сизое, на три метра не видать. И так целый день пашешь. А на улицу выйдешь: что за воздух такой кислый? А он не кислый – он свежий. Вот так и работали. А потом ещё в зоне…
Я был уже у дверей, когда он окликнул меня:
– Кирюша, тебе менты хоть помогают?
– Чем они помогут? Дело в следкоме. Мешают скорее: вчера вызывали, снова показания записывали.
– Это кто у них такой ретивый?
– Следователь Сердюков.
Сердюков позвонил мне на личный телефон и пригласил без повестки, словно хотел поделиться подробностями дела Самушкина. Когда я приехал, он долго не появлялся, а потом устроил мне практически допрос о наших отношениях с Эдиком. Я напомнил Сердюкову, кто я такой и почему занимаюсь этим делом, но он заявил, что никаких распоряжений не получал и назначен недавно, что у него поручение от следственного комитета и, более того, дело кажется ему очевидным. «Что значит очевидным?», – спросил я, но он лишь процедил: «Следком разберётся».
– Анатолий Петрович, если откровенно, позиция регионального МВД мне непонятна. Я давал показания в следственном комитете 10 июня. Теперь те же вопросы мне задают свои же менты – их это как вообще касается?
Рыкованов равнодушно заметил:
– Кирюш, чего ты выдумываешь? Ты сам мент и знаешь, как там всё делается. Дал показания и ладно. У ментяр своя отчётность. Им тоже деятельность изображать надо. Да и ты сильно не буровь: «глухарь» это дело.
– В смысле? – не понял я. – Альберт Ильич вон другого мнения.
– Да у Альберта всегда паника на первом месте. Всё рассосётся, всё образуется. Ты поспокойнее там. Придумаем, как народу это продать.
Я вышел из кабинета, озадаченный рыковановским благодушием.
* * *
Мой опыт работы в полиции говорил, что человек пропадает бесследно в трёх случаях: если его убили или держат в плену, если он страдает психическими отклонениями или же скрывается. В случае с Отрадновым все три версии казались равновероятными, и это изводило меня, словно за десять дней я не сдвинулся с мёртвой точки.
В ночь на среду я не мог заснуть. Болела голова. Простыня сбилась подо мной и превратилась в стиральную доску, а когда я встал, на ней остался мой жаркий мучительный отпечаток. Свечение из окна рисовало на полу расходящиеся трапеции. Из тёмного угла заворчал мотор холодильника. Часы рубили время с медным звяканьем. Неужели они всегда такие громкие? Эти часы когда-то приволокла Ира, но так и не забрала.
Я вышел на балкон и распахнул створку. Ночная свежесть с облегчением зашла внутрь и обдала меня запахом спящей зелени, асфальта и мокрой пыли – вечером прошёл слабый дождь. Дул сильный западный ветер, снимая с города его дымную кожуру. Кислород, настоянный на хвое Уральских хребтов, промывал город, и ночь казалась прозрачной и лёгкой. Со стороны железнодорожного вокзала доносился скрип вагонов.
Хочу ли я продолжать? Я мог бы бросить всё и уехать. Обеспечил ли я себя до конца жизни? Надеюсь, что нет, и что моя жизнь продлится дольше, но я заработал достаточно, чтобы взять хороший отпуск, на год, на два.
Я заигрываю с этой мыслью, как заигрывают с красивой недоступной женщиной. Я не могу остановиться на полпути. Не могу уехать побеждённым. За мной тянется бикфордов шнур старых дел, который рано или поздно приведёт врагов и бывших друзей к моему новому дому.
Впрочем, дело не в страхе. Я умею скрываться, да меня и не будут искать слишком тщательно. Но я болен этой работой и этим городом. Город выжег меня изнутри, опустошил, подменил мою личность. Мы поработили его, он поработил нас, эта боль взаимна и эта связь неразрывна. Что я буду делать за его пределами, за границей, в Провансе, в Тоскане? Там не будет меня, туда доедет лишь пузырь, не способный ни воспринимать красоту, ни любить, ни наслаждаться жизнью.
Наш город стоит на окраине империи и выпячивает грудь в сторону, где мерцают хищные взгляды ордынцев. Могу ли я его бросить? Война всё равно случится, и лучше бы она случилась сейчас, когда мы можем завладеть инициативой. Война обостряет нашу связь с предками, с Александром Невским, с Дмитрием Донским, с Иваном III: со всеми, кто не боялся дать отпор интервентам. Мы, новое поколение руссов, обязаны доказать свою состоятельность. Ордынцы не должны больше пировать на костях наших князей. Но мы снова стоим на Угре, снова ждём…
Пульс в голове досаждал всё сильнее, но я знал эту разновидность боли: о ней нужно просто забыть, повернуть голову, расслабить мышцы, и боль исчезнет.
Было полвторого ночи. Наступало самое тихое и самое тёмное время суток – краткое затишье перед ранним рассветом. Ленивые такси плелись по улице Воровского, светя подслеповатыми фарами. Иногда проносилась лязгающая «Газель» или дорогая, похожая на камбалу машина, и её фары отражались во влажном асфальте. Моя «Мазда» стояла на парковке, едва заметная в тени, напоминая монумент.
Мне захотелось на улицу, в этот аквариум ночной жизни, где гладкие тела машин мелькают и расплываются по океану летних сумерек. Я оделся, накинул лёгкую куртку, взял ключи от «Мазды» и спустился к стоянке. Воздух пьянил: Челябинск словно подключили к кислородному баллону, увеличив его пульс, гемоглобин, иммунитет.
Вид у «Мазды» был жалкий: дождь оставил на ней некрасивые разводы. Лёгкая дверь открылась, чихнув пылью. Двигатель замолотил, весело прочищая глотку. Я опустил мягкий верх. На лобовом стекле болтались два розовых помпона, которые прицепила Ира.
На пустой влажной дороге бег «Мазды» казался непринуждённым, и нажатие на газ вызывало дрожь предвкушения по всему утлому кузову. Мы были словно два любовника. Ветер, копившийся под рамкой лобового стекла, с рёвом обрушивался мне на колени, проникая под куртку и надувая её парусом.
С Воровского я свернул на Красную, которая уходила вниз к слабо подсвеченному зданию Дворца спорта. На Сони Кривой я перескочил рельсы, оставив слева квартал, в котором вырос, и с хлопающим рёвом помчался в направлении ЮУрГУ, вывернул на проспект Ленина, пронёсся вдоль второго корпуса университета и зачем-то свернул на парковку у главного здания. Вдоль памятника «Вечному студенту» шла молодёжь и, заметив меня, бросилась наперерез, размахивая руками, гикая. Я остановился. Они с любопытством заглядывали внутрь:
– А сколько такая стоит?
– Быстро разгоняется?
– Она на бензине?
Я и раньше замечал экстравертированность «Мазды», низкая посадка в которой и отсутствие крыши делали общение непринуждённым. В такой машине невозможно смотреть на кого-то сверху вниз, как из окна рыковановского «Лексуса». «Мазда» является автомобильным воплощением левых взглядов, и люди, живущие ночной жизнью, ценят это. Ответив на вопросы, я утопил газ в пол, «Мазда» широко вильнула кормой, молодёжь восторженно завыла.
Я вернулся на проспект Ленина, где сладко пахли липы, а ближе к площади Революции из боковых улиц потянуло липким духом тополей. Поймав зелёную волну, я почти без остановок долетел до главной проходной ЧТЗ, где стоял памятник первом трактору «Сталинец»: неказистому, серому и тоже с открытым кузовом. У памятника было пустынно, и лишь в темноте угадывалась фигура грязного человека на парапете. Фары ослепили его, но он не поднял бородатого лица. За его спиной над проходной вспыхнули пять чугунных орденов. Сейчас завод выпускал преимущественно не тракторы, а танковые дизели, для которых «Чезар» поставлял металл.
От ЧТЗ я вернулся к началу улицы Танкистов и свернул в старый район, где когда-то жил мой друг, ушедший в армию и не вернувшийся оттуда из-за нелепого инцидента с перевернувшимся БТРом. Однотипные пятиэтажки, узкие проезды, цветники в старых шинах и множество чумазых, слившихся с темнотой «Жигулей» встретили меня как родного, словно район и не изменился с нашего детства. Он казался бедным, но ухоженным, как провинциал, для которого чистая рубашка значит больше, чем корона. Район живо напомнил о временах, когда челябинский рабочий-тракторостроитель был центральной фигурой этого мира. Этот мир не умер, он обиженно затаился, ожидая, когда наши финансовые стратеги с лондонской степенью МВА решат его судьбу, ориентируясь на мировой спрос и сырьевые котировки.
Челябинск вообще был стыком того, что не могло пересекаться. В нём жила невыносимая, сладкая местечковость, которая сушит бельё во дворе и украшает палисадники гномами из старых бутылок. Но в нём же клокотал пульс мировой экономики, которая вкачивала в него инвестиции и выкачивала их обратно в удвоенном размере, оставляя после себя серный привкус во рту. Бельё здесь сушили только в удачный день, потому что в остальные оно пахло гарью.
Стоя на светофоре, я поймал беглый взгляд худого некрасивого старика за рулём такси. У него был огромный искривлённый нос и татуировки на обоих запястьях. Он смотрел презрительно: так капитан рыболовецкого баркаса кривится при виде прогулочной лодки. Его взгляд скользил по розовым пушистым шарам. Ира называла их то «бомбоны», то «понбоны», никогда не выговаривая слово «помпон» правильно.
Через Марченко и Салютную я выбрался на улицу Героев Танкограда и поехал в направлении промзоны, разогнавшись так сильно, что стоящие в отдалении панельные дома подступили ближе. Локоть, который я положил на дверь, вспарывал упругую ночь. Воротник куртки бился, стараясь подхлестнуть меня или удушить.
Но когда я въехал в промзону, воздух отяжелел и потерял самую звонкую из своих нот, в нём появился цеховой привкус, и меня накрыло серой светящейся дымкой – облаком мелкодисперсной пыли, которую сдувало с ферросплавного завода. Казалось, я заехал под свод тусклого тоннеля.
Забор предприятия шёл вдоль самой дороги, но завод оставался невидимым: его скрывали темнота, пыль и ряды бесцветных деревьев, которые выскакивали мне навстречу подозрительными стражами. Вокруг было пустынно, и, сбавив скорость, я услышал мерный звук завода, почти неразличимый вибрирующий гул, который разлетался вместе с оксидной крошкой.
За этим забором среди цехов полувековой давности Пикулев построил офисное здание, где сидело управление завода, но сам бывал здесь редко – он предпочитал небоскрёб на Кировке. Офис на ферросплавном располагался таким образом, чтобы через его фронтальные окна открывался вид на крашеные фасады ближайших цехов и отремонтированные трубы. Когда Пикулев привозил гостей, от губернаторов до полпредов, завод задерживал дыхание и выглядел ухоженным, почти европейским предприятием. Его гремлины оживали потом: сырьё измельчалось в мелкодисперсную пыль, раскалённые электроды спекали металлическую стружку с кварцитом и хромовыми рудами, воздух удобрялся окислами алюминия и марганца. «Удушающий приём», – со смехом говорил об этом явлении Рыкованов.
Обогнув завод, я вывернул на дорогу Северный луч. Слева от неё шли отвалы ферросплавного производства, с другой располагалась городская свалка, которая постоянно горела и кашляла на город гнилью.
Наступил самый тёмный час ночи. Сзади появились фары и вскоре материализовались в виде оглушительного рёва и волны ветра – дорогая машина разрывала воздух как снаряд. Но едва она скрылась за поворотом, наступила странная давящая тишина, и даже звук выхлопа «Мазды» как будто исчез, утонул в хлопанье ветра и кружащей вокруг дымке, о которую спотыкался свет фар. Я разогнался ещё сильнее и вскоре выскочил из пелены на свежий воздух, который завертелся и заплясал у меня на коленях.
Лампочка на панели приборов показала, что топлива осталось километров на пятьдесят. Ира часто бросала машину с пустым баком. Я свернул к невзрачной заправке, и пока усталая кассирша пробивала чек, машинально проверил телефон, обнаружив три пропущенных звонка в течение последнего часа. Я не слышал их из-за шума в салоне «Мазды».
Я перезвонил. Телефон ответил мгновенно: человек ждал моего звонка. В трубке запыхтел неровный голос:
– Кирилл Михайлович, это Павел.
– Какой Павел?
– Османцев, с «Чезара», отец Кати. Помните, вы у нас были? Вы простите, что беспокою, но тут дело такое…Там ваши Катю поймали и держат. Мне её друг звонил. Ему сбежать удалось, а сама она не отвечает…
– «Наши» – это кто? – уточнил я.
– Это… по-моему… служба охраны. Как его… Не помню. Я не знаю, кто конкретно. Их задержали у комбината и держат. Угрожают. Вы не могли бы выяснить?
Постепенно Османцеву удалось объяснить суть дела: его дочь в составе группе таких же авантюристов пробралась к периметру ЧМК со стороны аэропорта, чтобы нарисовать на стене какое-то граффити. Подгорновская охрана была на высоте и оперативно скрутила четверых вандалов, доставив их в здание пожарной части у проходной Коксохима.
– Кирилл Михайлович, ей же нельзя в тюрьму… – шлёпал губами Османцев. – Она ничего плохого не делала!
– Не делала! – огрызнулся я. – Вот так и получается: тут не знаю, там не помню, здесь не делала. А делает всегда кто-то другой.
– Ну, простите нас, простите! Мы штраф выплатим, если нужно. Но ей нельзя в тюрьму.
– Ладно, ждите, посмотрю, что можно сделать, – ответил я, сбрасывая вызов.
Через Хлебозаводскую и Морскую я поехал к проходной Коксохима. С моста над железнодорожной веткой открывался удивительный вид на постройки комбината, подсвеченные редкими огнями, напоминающие огромный город с крепостями, вышками, минаретами. Дым валил из каждой дыры, и так, наверное, выглядела Москва во времена наполеновского визита. Но ЧМК, в отличие от столицы, умел возрождаться каждое утро, как птица-Феникс, из пепла собственных отходов.
Стоянка у проходной была пуста. Я оставил «Мазду» и быстро прошагал к посту охраны, где меня встретил сонный взгляд дежурного. Пропуск подействовал на него как электрошокер, тот сразу сменил тон, ожил, предложил проводить до места.
– Залезли тут какие-то охломоны… – приговаривал он.
Дорогу я знал и без него. Старую пожарную часть переделали в базу охраны, отдав её половину под камеры, куда периодически помещали подпитых рабочих или подозреваемых в кражах.
В помещении сидело несколько охранников. Они смотрели на меня вызывающе и саркастично, подумав, видимо, что я ошибся дверью, но, увидев пропуск, напряглись, отдавая друг другу пасы растерянным взглядами. На столе были разложены вещи задержанных, в том числе несколько баллончиков с краской.
Старший охранник, усатый мужичок в камуфляжной куртке и с фонариком на груди, доложил, что задержал группу граффитчиков в составе четырёх человек, ещё двоим удалось сбежать.
– И чего вы с ними делать будете? – спросил я.
– Велено доставить для проведения следственных действий, – ответил он.
– И кто расследовать будет? – спросил я.
– Ваши, – невозмутимо ответил он. – Менты. Сказали, подъедут.
– Ясно, – кивнул я. – Османцева здесь?
– Кто?
– Османцева Екатерина Павловна.
Начальник сразу переменился: мой настырный интерес заставил его вспомнить собственные полномочия, ведь служба «С» не подчинялась службе «К». С тюленьей неспешностью он подошёл к столу, где лежал исписанный лист бумаги, несколько секунд изучал его, потом констатировал:
– Задержанная по фамилии Османцева здесь.
– Где её вещи?
Он показал на выпотрошенный рюкзак из джинсовой ткани с приколотым к нему брелоком в форме мишки. Этот же рюкзак был на Османцевой в день моего визита к ним. Я взял его и сунул за подкладку таблетку размером чуть больше десятирублёвой монеты. Этот маячок-треккер позволит определить её местонахождение без муторных запросов через полицию и сотовых операторов. Начальник охраны смотрел подозрительно.
– Нормально всё, – сказал я ему. – Приказ Рыкованова. Османцеву я забираю.
– Это как? – всполошился тот. – Я не могу. Это Константин Алексеевич решает.
– Так звони!
– Ночь же.
– Тогда сам решай.
Начальник колебался. Бойцы службы «С» презирали нас: среди «эсников» было больше военных, среди «кашников» – бывших полицейских. Себя они считали защитниками Родины, уважали приказы, соблюдали субординацию. На нас же они смотрели как на дармоедов и беспредельщиков. Все считали разделение служб безопасности ошибкой, и все видели себя главными.
– А как я её отпущу? – фыркнул он насмешливо.
– Так и отпустишь. Ты какое право имеешь удерживать её? Ты кто, полиция, следственный комитет? Я твоих инструкций, что ли, не знаю? Что у тебя там написано? Задержать и вызвать правоохранительные органы на место правонарушения или преступления: вот ваша работа. А что ты тут устроил, тюрьму? СИЗО?
– У меня приказ…
– Нет у тебя приказа! Ты их держишь незаконно. Кто-нибудь из них завтра утром пойдёт в полицию и накатает на вас заявление, а ты пойдёшь по статье 126 УК, часть 2: похищение человека группой лиц по предварительному сговору!
Охранник взял со стола связку ключей. Мы вышли в коридор. Он отпер соседнюю комнату, где организовали некое подобие изолятора: шесть кушеток, зарешеченные окна, тусклый свет. Узники сидели молча и на нас почти не отреагировали.
– Османцева! – обратился я. – На выход!
Она подняла удивлённое лицо, узнала меня, опять превратилась в дикую кошку, но оставила злость внутри себя. В изоляторе было прохладно, и Османцева куталась в мужскую толстовку с капюшоном, из провала которого гневно сверкали её глаза.
– Пошли, пошли, – поторопил я. – Папаня тебя ждёт, волнуется.
Она заявила:
– Я без них не поеду.
Я шумно выдохнул, соображая, как лучше применить к ней силу: вывернуть запястье или выволочь за шею. Какой-то паренёк бросил ей:
– Кэрол, не дури. Иди. Нас скоро отпустят. Всё равно у них ничего нет.
Понизив голос, она что-то шептала ему на ухо, тот мотал головой. Я повернулся к начальнику:
– Вытаскивай.
Он починился, подхватив её под локти. Она лишь успела вернуть толстовку одному из парней и теперь стояла передо мной в коридоре, взлохмаченная, как человек, которого разбудили посреди ночи. На ней были потрёпанные джинсы с низкой талией и блузка с коротким рукавом. Она сразу замёрзла и обхватила плечи руками.
Я сказал:
– Ну, чего ты выкобениваешься? Хочешь проверить здоровье отца? Этих болванов отпустят утром, а отец твой может и не дотерпеть.
Она молчала, разглядывая застёжки на моей куртке. На подвижном лице хорошо читались мысли: на её лбу собрались складки, на щеках прорезались ироничные ямочки. Наконец, взгляд её заблестел сочувствием к отцу и трезвым прагматизмом. Она кивнула и пошла передо мной, сомкнув запястья, словно в наручниках. Охранник вернул ей рюкзак с брелоком-мишкой и уселся за стол составлять акт, заставив меня расписаться. На прощанье он полоснул нас взглядом.
На улице светало, но небо ещё было тусклым. Постройки Коксохима в застывшем клубящемся дыму казались мёртвыми, словно крепости после осады. Цех смолодоломитовых огнеупоров был покрыт белой пудрой, напоминающей изморось.
– Кэт… – позвал я.
– Я Кэрол.
– Хорошо, Кэрол.
Я протянул ей свою куртку. Она колебалась.
– Бери, бери, – велел я. – У меня машина открытая. Продует насквозь.
Она влезла в курку, запахнулась и немного разомлела, отчего лицо её стало чуть менее наждачным. Я усмехнулся:
– Слушай, Кэрол, взгляд у тебя ясный, лицо умное, образование высшее получаешь. Зачем тебе это сектанты? В средневековье поиграть хочется?
– Что плохого в средневековье?
– Кроме того, что людей жгли на кострах?
– Наиболее фанатично это делали в эпоху Возрождения.
Она шагала рядом, пряча ладони в длинные рукава. На проходной я показал пропуск, и охранник молча выпустил нас.
– Я не о том, – продолжил я, пока мы шли к машине. – Я могу понять, что тебе хочется пожить в палатке, в вигваме, в шалаше. Но это не должно выходить за рамки.
– Рамки? – переспросила она. – И кто устанавливает эти рамки? Вы? Пикулев?
Она шагала размашисто и легко, и ничего её не заботило, даже предстоящая встреча с отцом. Между нашими поколениями лежала пропасть. Как получается, что мне стыдно перед её отцом, а ей нет? Потому что она бунтарь, а я цепной пёс? Я тоже был бунтарём и уехал в Екатеринбург отчасти назло отцу, но всё же слово старших имело для меня вес. Если я и противоречил им, я не делал этого так беспечно: мне требовалось преодолеть себя.
– Танцуй на танцполе, – ответил я. – А считать всю жизнь спектаклем не надо. Жизнь такого не любит.
Похоже, сухость моего тона её разозлила. Она заговорила с азартом:
– А что она любит? Воевать? Убивать? Загрязнять? Сливать отходы в реки? Травить города по ночам, пока никто не видит?
– Это же не твои мысли. Кто тебе их внушил? – спросил я миролюбиво.
Она остановилась и развернулась лицом к проходной, за которой на фоне светлеющего небо поднималась серая шапка заводских выбросов. Она ткнула туда пальцем и в моей куртке стала похожа на летучую мышь.
– А вам ещё доказательства нужны? Или вы научились видеть только то, от чего не ест глаза?
– Понятно, – вздохнул я. – Когда конфронтация – самоцель, аргументы, кажется, не работают. Вообще-то я тебя вытащить приехал, а не дискутировать.
Она немного смутилась. Я добавил:
– И марать стены каракулями – это глупо. Ну, ей богу, в чём ваш посыл? Давайте бросим всё и переселимся в пещеры?
Наверное, это было моей ошибкой, потому что Кэрол снова наморщила лоб, собралась с мыслями и разразилась новой тирадой:
– Почему сразу в пещеры? Вы убеждены, что весь мир существует для людей. Природа в вашем понимании – это такой обслуживающий персонал гостиницы, который удовлетворит любую прихоть. Это одно из следствий примитивного гуманизма, будто природа что-то по жизни должна человеку, а он ей – ничего. А человек лишь один из видов на Земле, и он даже не архитектор мира. В нём есть создающее начало, но оно есть и в природе, и мы – лишь её отражение. Мы должны заботиться не только о спасении своих жизней, но и жизни вообще, как феномене. Вот в чём наш посыл! О жизни думать!
Кэрол была настолько убеждена в своей правоте, что несла весь этот эко-сектантский бред совершенно без страха. Лицо её оставалось чистым и непорочным, и жестикулировала она так, что хотелось в самом деле надеть на неё наручники. Весь этот спектакль происходил в четыре утра, на окраине Металлургического района, перед незнакомым мужиком, отвечающим за безопасность предприятия, которому она со своими обормотами нанесла ущерб. Что у неё в голове?
Я сказал:
– Жизнь вот на этом самом месте возникла именно потому, что в XVIII веке сюда пришли горнорабочие и казаки, стали осваивать эти земли. А ещё жизнь пришла сюда в период индустриализации, на фундаменте которой страна существует до сих пор. Когда началась война, в Челябинск перебросили десятки предприятий. Тогда здесь всё забурлило, мы стали городом-миллионником. Это Урал! Здесь всё построено на металле. А изначально спрос на металл появился из-за Северной войны, в результате которой Россия превратилась в империю. Из металла делают не только смартфоны да колечки вон твои – это стратегический ресурс. И вот эти заводы, которые ты так ненавидишь, есть основа нормальной цивилизованной жизни здесь. Без них тут будет дикое поле, бедность и анархия.
– Жизнь существовала здесь до вас, – не сдалась она. – И цивилизации существовали без ваших заводов. А война вам нужна, потому что без войны вас нет. Вам без разницы, против кого бороться, хоть даже против своей же земли и своих людей. Для вас главное – ощущение борьбы! А ничего другого вы не знаете и не умеете, поэтому всё время выдумываете себе врагов.
– Даже если выдумываем, – хмыкнул я. – Человечество всегда развивалось через борьбу.
– Выдумывать врагов опасно тем, что когда-нибудь выдумают и вас.
Я не стал отвечать.
На пустой парковке «Мазда» выглядела одиноко, как забытая игрушка. Я забыл поднять верх, и кожаные сиденья покрылись налётом доломитовой пыли. Слегка опередив Кэрол, я снял со стекла розовые помпоны, оставшиеся от Иры, и кивнул:
– Запрыгивай.
Мы ехали молча. С моста, где мы бросили последний взгляд на тусклые огни комбината, дорога уходила вниз вдоль мрачного забора. По обочинам мелькали пыльные кусты и грязные рельсы ограждений.
Исправительная колония располагалась через дорогу от комбината, но внешне их сложно был отличить: здесь тоже были заборы, колючка, вышки. Когда мы ехали вдоль её серых построек, навстречу попался пешеход, и это привлекло внимание Кэрол: я думал, она попросит меня остановиться. Но она лишь поёжилась. Здесь, в Металлургическом районе, такие зомби встречались.
Вздрогнув на трамвайных путях, «Мазда» выскочила на шоссе Металлургов. Город уже медленно просыпался, ворочался, гонял по венам сонные такси. На подъезде к жилым кварталам стали встречаться заспанные люди – труженики ранних смен. Иной раз сложно было понять, стоит ли это наш рабочий или бездомный: вид у них был одинаково потерянный.
Кэрол было неуютно. Вся её отвага и уверенность, похоже, остались на парковке, и теперь она сбилась к правому борту «Мазды», стиснув рюкзак, словно я её похитил. Когда мы въехали в узкий проезд возле её дома, заросший мальвами, она посмотрела на меня неуверенно и спросила:
– Я вам что-то должна?
Значит, всё-таки есть в тебе что-то человеческое.
– Таблетку «Пенталгина», – буркнул я. – Голова болит. Через три часа на работу.
Она взяла моё запястье двумя пальцами, как держат мёртвую рыбу, попробовала его на вес и тряхнула.
– Расслабьте, – приказала она. – Не сопротивляйтесь.
Всё также держа меня за руку, она провела ладонью над моей головой, сделав жест, словно снимает невидимую плёнку. Боль ушла внезапно, и в первую секунду мне показалось, будто я оглох: уши были заложены ватой, а челюсть слабо покалывало. Я подвигал ей, прислушиваясь к ощущениям. Боли как будто не было.
– Колдунья, что ли?
Она смотрела на меня сосредоточенно, но без прежней озлобленности. Мне показалось, она едва заметно улыбалась.
– Слушай, Кэрол, – сказал я, поймав волну её дружелюбия. – Мне нужно поговорить с Отрадновым. Это в его интересах. Я не мент, не прокурор, я могу помочь. А чем больше он скрывается, тем более виновным выглядит. Правда всё равно выйдет наружу, и если она выйдет бесконтрольно, под раздачу попадут многие – и он в том числе. Понимаешь, когда человек скрывается…
– Он не скрывается, – заявила она вдруг, и брови её удивлённо двинулись вверх, точно крылья чайки.
– Хорошо, – кивнул я. – А как это у вас называется? Он… скажем так… Предаётся тишине и покою, что ли? И где же?
– Да я не знаю.
Её мимика рассказывала так много, что вряд ли она лукавила. Либо же Кэрол была превосходной актрисой.
– Ты не знаешь… – повторил я. – Почему ты тогда не волнуешься за него? Один человек погиб, второй, знавший его близко, внезапно пропал. Тебе судьба Отраднова совсем безразлична?
– Совсем не безразлична. Просто вы не знаете Лиса. Он часто так пропадает, а искать его бесполезно. Но с ним всё хорошо – я знаю.
– Ну, откуда ты знаешь?
– Знаю, – упрямо заявила она.
Я стиснул руль. В черноте зеркала заднего вида плыл огонёк сигареты: кто-то выгуливал косматого ризен-шнауцера.
– Вы же сами Эдика и убили, – сказала Кэрол негромко. – Может, не вы лично, но кто-то из ваших. А теперь изображаете.
Я повернулся к ней и наткнулся на свирепый взгляд. Она решила сыграть по-крупному.
– Это серьёзное обвинение, – сказал я, сдерживая голос. – Спроси свои высшие силы, убивал ли я. А если нет никаких высших сил, тогда что остаётся? Повторять чушь за другими? Пересказывать статейки из интернета? Можешь идти. Не задерживаю. Папе привет.
Кэрол выбралась из машин, стащила куртку и протянула мне, но я лишь кивнул: брось на сиденье.
Дверь невесомо щёлкнула. Она выглядела обескураженной, замёрзшей, но всё же храбрилась.
– Отраднов правда не скрывается, – сказала она уже без резкости. – Скорее всего, он даже не знает, что случилось с Эдиком. Он раньше ушёл.
– Куда ушёл?
– Да просто… – она пожала плечами. – Он любит ходить. Скоро летнее солнцестояние. Он так каждый год делает. Ну, что вы смотрите так? У каждого своя жизнь.
– Ладно, – кивнул я примирительно. – Уже кое-что. Куда он идёт?
– Да никто не знает. И связи с ним нет. Я просто знаю, что в эту минуту с ним всё хорошо.
Лёгкие туфли зашуршали к подъезду.
– Спасибо! – крикнула она со ступенек. Дверь чавкнула ей вслед.
Наивная, выдала друга с головой. Знала Кэрол или нет, куда держит путь Отраднов, но теперь это знал я. В ночь с 21 на 22 июня все городские сумасшедшие, шаманы, проповедники, паганы и шерпы со всего Урала собирались в единственно возможном месте – в Аркаиме. Там проходит энергетическая ось мира, там небо слипается с землёй, там излечиваются болезни и люди сходят с ума от просветлённости. Я готов был спорить на «Мазду», что Отраднов стремится именно туда.
* * *
Утром на парковке заводоуправления я столкнулся с Подгорновым. Он, должно быть, караулил меня, встав в распор в узком проходе между машинами:
– Ты что позволяешь? – проговорил он тяжёлым голосом. – Я в твои дела лезу?
Место было людное. Мне не хотелось собачиться с Подгорновым на виду у подчинённых.
– Остынь, – ответил я негромко. – В кабинете всё решим.
– Я в твои дела лезу? – повторил он, и краснота расползлась по его щекам. Он чувствовал свою правоту и мою слабость, иначе бы не решился на этот спектакль.
С Подгорновым нас сталкивала не только конкуренция служб, но и разница во взглядах на жизнь. Бывший артиллерист Подгорнов за двадцать с лишним лет службы дорос только до майора, но на «Чезаре» вёл себя, как генерал. Он принёс с собой культ военной дисциплины, в котором, на мой взгляд, было больше самолюбования, чем реального порядка. Он строил подчинённых и отдавать им приказы лающим голосом. Иногда он смягчался и проявлял почти отеческую заботливость, подражая, видимо, кому-то из кумиров прошлой военной жизни. Он любил вспоминать те годы, когда люди были совсем другими: послушать Подгорнова – так сплошная белая кость. Но по большей части Подгорнов был импульсивен и груб, но его подчинённые видели в этом признак силы. Безопасность в его представлении обеспечивалась жёсткими караульными мерами, и кроме этого он не хотел знать ничего. Он натягивал потуже камуфляжную кепку и размашистым шагом Петра I шёл проверять посты. Все, включая Рыкованова, знали, что посты, караулы, охрана – это его территория. Забрав Кэрол, я ударил в больное место и понимал это. Но я не мог уступить, потому что такие как Подгорнов не остановятся на полпути: дам слабину – сожрёт целиком.
– Не надо кричать, товарищ майор, мы не на войне, – ответил я спокойно. – Я отвечу на вопросы в своём кабинете, если вопросы будут конкретными.
– Конкретными? – кивнул он по-лошадиному, словно сгоняя стаю оводов. – Хорошо, конкретно спрашиваю: где задержанная?
– Она не была задержанной. Статья 12 закона об охранной деятельности: твои орлы должны были незамедлительно доставить её к следователю или дознавателю, а не удерживать в здании пожарной части с непонятной целью.
Ядовитость Подгорнова всегда обострялась, когда речь заходила о юридических нюансах, в которых он мало что смыслил. Но к нашему разговору он, похоже, готовился и вдруг выдал:
– К дознавателю? А ты знаешь, что командиры воинских частей относятся к органам дознания? Я дознаватель, понял? – он ткнул себя пальцем в грудь.
Взгляд Подгорнова набухал торжеством. Я сдержал смешок.
– Константин Алексеевич, какой воинской частью ты руководишь? – спросил я. – Ты службу охраны возглавляешь, вот и не выходи за рамки полномочий.
Он едко усмехнулся:
– Плохо тебя учили в твоём свердловском вузе. В военное время моя служба превращается в военизированное подразделение с правом ношения оружия.
– Так нет войны.
– Есть! Она идёт, видишь ты этого или нет! И у меня задача – не допустить диверсий на предприятии! И это мои люди поймали группу злоумышленников, совершавших противоправные действия! И решать, что с ними делать, буду я!
Его мясистое широкое лицо имело несколько характерных отметин: самый заметный шрам шёл по его носу. Это были следы многочисленных битв, в которых он участвовал, но все они были мелкими, бытовыми. Подгорнов же мечтал о собственной войне, настоящей, героической. Ему ему не повезло: он не попал ни в Афган, ни в Таджикистан, ни в Чечню, ни в Осетию. Думаю, это мучило его, и тот факт, что я был на второй чеченской, вносил дополнительный абразив в наши отношения. Я замечал, как мрачнеет Подгорнов, если Рыкованов упоминает меня или Ефима в контексте прошлых сражений. Подгорнов не любил мягкотелых и проигравших, но без реального боевого опыта на нашем фоне сам выглядел таковым.
Я отодвинул его и протиснулся мимо едкого запаха его одеколона к выходу с парковки, сказал напоследок:
– Хочешь раздувать дело о разукрашенном заборе – валяй. Передай материалы в полицию, они оформят административку.
– Там умышленная порча имущества группой лиц по предварительному сговору! – крикнул он.
– Пусть полиция решает. Твоя задача передать ей сведения.
Мой демарш разозлил его окончательно. Он заорал:
– Слышь, правдоруб, Самушкин по ночам не снится? Что, Кирюша, обосрался ты опять жидко, прямо как тогда, в 2009-ом?
Я развернулся и быстро пошёл к Подгорнову. Двое его сотрудников обступили нас по бокам, глядя на меня весело и плотоядно. Всё это время они стояли где-то неподалёку.
Я сказал ему:
– Ты периметр охраняешь? Охраняй. Будешь хамить – зубы выбью.
Грубость подействовала: Подгорнов, как любой человек в командной цепи, где-то на подспудном уровне подчинялся всему, что звучало безапелляционно. Он растёкся в крокодильей улыбке, тянущейся, как меха баяна:
– Чё, Кирюша, занервничал?
– Работать иди, – сказал я мягко. – Там в столовой гречки недочёт – разберись.
Придя в кабинет, я долго сидел и осмысливал произошедшее. Последнюю неделю Подгорнов с интересом наблюдал за моей следственной агонией, но не позволял себе лишнего слова, считая, видимо, что я зарою себя сам. Сейчас же он решился на открытую стычку, которая могла закончиться мордобоем. Подгорнов был не из тех людей, кто проявляет самодеятельность без понимания, что её одобряет начальство. Что он там учуял своим переломанным носом? И откуда он знает про 2009 год? Кто-то сболтнул, а этот чёрт метёт языком дело и не в дело. С ним нужно осторожнее: пока не поставлю точку в деле Самушкина, Подгорнов будет проверять меня на прочность.
Вечером я набрал Павлу Османцеву. Он пытался благодарить меня за Катю, но я прервал:
– Павел, вы передайте ей, чтобы никуда не ходила. Если вызовут в нашу службу безопасности или в полицию, пусть сначала свяжется со мной. Телефон у вас есть.
– Конечно, конечно, – запыхтел он в трубку. – Как вернётся, сразу передам. Уехали они.
– Куда? – спросил я просто, чтобы проверить реакцию.
Он смутился:
– Она же не говорит, а я и не спрашиваю. Мне зачем? Она же взрослая. Да она хорошая, вы не думайте…
– А я и не думаю. Павел, простите за нескромный вопрос: где мама Кати? Если это не секрет, конечно.
– Не секрет… – ответил он, замявшись. – Онкология. Сами знаете, как у нас с этим. Пять лет уж как…
– Понятно. Извините.
Маячок в рюкзаке Кати подтвердил мои предположения: праноеды двинулись в Аркаим. Моей первой мыслью было отправить туда надёжных сотрудников во главе с бывшим дознавателем Федей Карпухиным, и я уже собирался вызвать его в кабинет, но предчувствие остановило меня. Это дело не любит шума. Карпухин с его методами всё испортит: он или упустит Отраднова, или разозлит, или прибьёт.
Я решил ехать сам. Путь в обе стороны получался более 900 километров, но дело зашло в тупик и в городе мне оставалось разве что надеяться на случай. Я разговорю Отраднова: он точно знает, где Эдик провёл два дня перед смертью. Метнусь в Аркаим в пятницу и к полудню субботы буду уже дома. В крайнем случае – в воскресенье.
Глава 3. Аркаим
Я выехал утром в пятницу, 21 июня. Османцева с компанией прибыли в Аркаим накануне. Я предполагал, что Отраднов присоединится к ним в течение дня.
Трасса М-5 была оживлённой. Я старался не терять темп, надеясь прибыть до обеда. Вереницы фур на выезде из города мелькали в боковых окнах, как вагоны товарняков. Зазевавшиеся машины отскакивали из левой полосы, стоило мне впиться в них светом фар высокого внедорожника. Выскочив из-под дымного купола мегаполиса, я почувствовал себя лучше, словно город утратил часть власти надо мной, словно отпускные кочевники приняли меня в своей строй. Их машины были хорошо заметны: гружёные, просевшие, с кофрами на крыше, с детскими рожицами в боковых стёклах, они стремились на юг, к морю, а может быть, в Москву или в один из кемпингов горнозаводской зоны.
Они торопились, огорчались ценой бензина, раздражались на детей. Но их цветные караваны были пронизаны счастьем. Счастье ехало с ними в виде пристёгнутых к крыше велосипедов, читалось на их возбуждённых лицах, размазывалось по щекам кремом от загара. Их счастье ждало часа, чтобы взорваться на галечном берегу, и в спешке они не замечали, что их большое путешествие уже идёт. Они на целые недели будут в плену чистого воздуха и облаков, будут жить другой жизнью, попробуют волны на вкус. Но сначала их ждёт дождливый хребет Уреньга, холмистая Башкирия, уютный Саратов и город-герой Волгоград… А что ждёт тебя, Шелехов? Ты стремишься выполнить задание, чтобы получить новое, и снова, и снова… Есть ли конец у этой цепи?
Навстречу потянулась бесконечная колонна военных «Уралов» и «Камазов» – я насчитал не меньше пятидесяти машин с роковым прищуром фар. Их тенты нервно дрожали на ветру. Лица их водителей были одинаковы, словно их вкручивали на место, как лампы накаливания.
Недалеко от Тимирязевского, где мне нужно было уйти с трассы М-5 на юг, я поймал себя на желании плюнуть на всё и рвануть прямо на Уфу и Самару, а оттуда – к морю. Сбежать, как делали многие челябинцы: кто-то на лето, кто-то навсегда. Чего мне не хватало, чтобы бросить этот паршивый город и слиться с толпой отпускных машин, стать безработным и беззаботным? Мне хватало всего, кроме умения видеть себя вне Челябинска: я так сильно прирос к нему, что удаляясь, превращался в призрака.
Миновав виадук, я выехал на пустую дорогу, которая шла к Пласту через Варламово и ещё десяток сонных деревень. По асфальту струились пятнистые тени берёз. Их рощи чередовались с пологими холмами. После шумной трассы М-5 здесь было так спокойно, словно всё движение сводилось к слабому колыханию листвы и крутым виражам местных оводов.
Вдалеке на фоне синего горизонта прыгал трактор, сам похожий на насекомое, и я попытался представить жизнь тракториста. Чувствует ли он разлившийся вокруг него простор? Рад ли ему? В чём его работа? Наслаждается ли он этим тёплым днём накануне летнего солнцестояния или страдает с похмелья?
Я выключил кондиционер и открыл окна. Свежий воздух рывком наполнил салон и стал метаться, как очумевший пёс. Утром воздух ещё сохранял следы прохлады, потом запах тёплыми травами, а потом и вовсе стал горячим и вязким, как мёд.
Приступ случился около деревни Кочкарь. Обычно я чувствую его приближение, но здесь, увлёкшись ландшафтами, я пропустил первые симптомы, не заметил потливость рук и разгоняющийся пульс. Бессознательная сила уже нарастала внутри меня, но я думал, что это ветер холодит щёки. Меня слегка знобило, я прикрыл окно, на мгновение отвлёкся и вдруг почувствовал страшный удар: первой мыслью было, что я врезался во встречный КАМАЗ.
Я слетел с дороги и затормозил уже на обочине, почти свалившись с насыпи в поле: машина зависла по диагонали. Я хрипло дышал, ощупывая себя и не находя следов крови, и наконец понял, что катастрофа произошла в моей голове, как случалось уже много раз. Проклятый рикошет из прошлого. Его невыносимая громкость каждый раз сбивает меня с толку. К ней невозможно привыкнуть.
Врачи запретили мне водить машину, пока я не начну принимать таблетки, которые запрещают вождение тем более. В этом месте врачебная логика всегда ускользала от меня, поэтому я продолжал ездить. Обычно приступы случались под вечер, и я умел определять их приближение. Сейчас же мне просто повезло, что на встречной полосе, которую я пролетел наискосок, действительно не оказалось КАМАЗа. Я всё ещё слышал эхо взрыва в голове и, даже понимания его иллюзорность, не мог отделаться от впечатления, что звук действительно существует, сминая мои барабанные перепонки. Я чувствовал боль в ушах.
Врачи считали по-другому. Они называли это ПТСР, пост-травматическое стрессовое расстройство, которое ставили, не глядя, большинству бойцов, вернувшихся из горячих точек, если те обращались за помощью. Вообще, когда человек придумывает способ классифицировать проблему, людям кажется, что она наполовину решена. В моём случае медицинская наука дала сбой, и, даже озаглавив мой недуг, врачи не смогли его победить или хотя бы смягчить. В последние годы приступы стали реже, но, думаю, сыграл роль естественный ход времени.
Я выбрался из машины и сел на пыльную обочину у колеса. Дорога изгибалась направо в обход Кочкаря. Передом мной пестрело неряшливо цветущее поле, за ним виднелась дырявая берёзовая роща, ещё дальше начинались дома. Ноющий звук автомобильных шин иногда возникал сзади, усиливался, подступал к горлу приступом тошноты, но быстро растворялся без следа. Скрипели кузнечики.
До 2 июля осталось меньше двух недель. Сколько же лет прошло? Девятнадцать? Да, девятнадцать. В следующем году будет юбилей.
В 2000 году я был молодым сотрудником челябинского отделения полиции, командированным в Аргун для борьбы с остаточной преступностью, которая расцвела там на фоне боевых действий. Меня прикрепили к сотрудникам ОБЭП, которые выявляли нелегальные нефтезаводы и склады с продовольствием.
2 июля было последним днём трёхмесячной чеченской командировки, который удачно совпал с финалом чемпионата мира по футболу: Франция играла против Италии. Незадолго до начала матча мы с товарищем Лёшкой Звягиным пошли в комендатуру. Он хотел позвонить домой. Мы поднялись на второй этаж, где в кабинете коменданта был спутниковый телефон.
Мы слышали крики и звуки выстрелов, но не придали значения. Мы привыкли, что боевики иногда ведут беспокоящий огонь, но в тот последний вечер он нас уже не беспокоил.
Потом раздался звук той запредельной громкости, которая мгновенно лишает тебя не только возможности слышать, но даже ориентироваться в пространстве. Я не столько слышал его, сколько воспринимал кожей, желудком, мозжечком, сетчаткой газа. Ударная волна словно прошла меня насквозь, как ядерный взрыв. Я словно приложился ухом к наковальне, по которой ударили кузнечным молотом. Возникший сразу после взрыва вакуум был чёрным и бесплотным. В нём невозможно был отличить верх от низа и левую руку от правой. В нём исчезло всё, включая и тело, и боль, и мысли.
Следующее, что я увидел: свой дырявый камуфляж, утыканный мелким стеклом. Боли не было, и я даже решил, что парализован. Вид торчащего из меня стекла показался мне отчасти смешным. Я подумал: почему все осколки воткнулись в меня острой частью и наполовину? Потом выяснилось, что часть осколков проникло гораздо глубже, а один едва не лишил меня глаза.
В тот вечер погибло 25 сотрудников челябинской прокуратуры, МВД и ОМОНа, ещё 80 получили ранения. Впоследствии кто-то называл нас, выживших и не сдавших позиции, героями, но с моей стороны не было никакого героизма. Было лишь везение, что грузовик со взрывчаткой, въехавший на территорию базы со стороны Гудермесского шоссе, взорвался на пять метров раньше, отчего здание комендатуры пошло трещинами, но устояло. Жилой отсек, где мы жили, был полностью уничтожен, и если бы не идея Лёхи позвонить домой до матча (я, кстати, был против), мы бы в лучшем случае остались калеками.
Я всё делал автоматически. Машинально нащупал «калаш», машинально стрелял в темноту, машинально перезаряжал. Я реагировал на крики и вспышки в окнах пятиэтажек напротив нашей базы. Я не понимал, с кем мы воюем, сколько нас осталось, долго ли нам ждать помощи. Вставляя очередной рожок, я чувствовал нарастающую усталость и тупое отчаяние, которое пришло на смену оцепенению. Шок проходил, всё тело болело, ныла голова, и всё отчётливей приходило осознание, что из нашего привычного мира я вдруг попал в какой-то другой, в безнадёжный и бесконечный ад, у которого нет ни ориентиров, ни цели. Потом к нам прибежал один из прокурорских, опытный боец, участник многих спецопераций. Он попросил помощи, и с ним мы принялись вытаскивать из внутреннего двора раненных, которые оказались под огнём. Мне запомнился один парень: весь грязный, с тяжёлой травмой ноги, он просто сидел, ссутулившись, а вокруг него танцевали фонтаны пыли. Когда мы тащили его, он не издал ни звука.
Нам удалось организовать оборону по секторам. Наш шквальный огонь отбил у террористов желание идти на приступ, но мы тратили так много патронов, что часам в четырём утра стало ясно, что нас просто возьмут измором. Когда я остался с последним рожком и двумя ручными гранатами, мне представилось, как боевики заходят на базу, не встречая сопротивления. Я решил, что одну гранату метну в них, на второй подорвусь. Что делали с пленными, я хорошо знал: в день нашего приезда в Аргун к воротам базы подбросили две отрезанные головы.
Нам повезло. Боевики тоже стали выдыхаться, и атака обмякла, превратившись в позиционную борьбу. К пяти утра к нам пробился спецназ ОМОНа «Вымпел», за ним пришли военные вертолёты, боевики разбежались. Началась эвакуация раненных.
Иногда я думал: что если я всё-таки умер той ночью, и всё остальное мне лишь кажется? Под конец я осоловел настолько, что не ощущал ни страха, ни сострадания. Я не чувствовал себя героем, как не чувствовал им никто из нас. Героизм – это всегда нечто, чем награждает нас людской суд, не знающий всех деталей.
Всю ночь я стрелял в пустоту, но Рыкованов уважал этот эпизод моей биографии, что облегчило моё продвижения на «Чезаре». Рыкованов знал, что такое ходить под смертью. Он видел во мне единоверца. Он не понимал, что в ту ночь мы чувствовали себя проигравшими. Мы были в осаде, играли по навязанным правилам, бились без надежды на успех, потому что успех всецело зависел от просчётов противника или его доброй воли. Тогда я поклялся себе, что никогда больше не буду сидеть в осаде. Я всегда буду бить первым.
Через пару дней, когда нас уже готовили к отправке домой, в Челябинск, я впервые осознал страх смерти. Я почувствовал, как она дышала на меня, и это дыхание было со мной ещё несколько недель. Отскочивший кусок штукатурки и свист возле уха: в момент боя этому не придаёшь значения. А потом я понял, что пуля прошла в сантиметре от моей головы, я буквально увидел её росчерк. Потом начались бессонницы, тремор рук, кратковременные провалы памяти.
Потом все симптомы пропали, и я даже бравировал прочностью своей психики. Но что-то безвозвратно ушло, словно разорвалась тонкая струна, что соединяла меня с детством и сентиментальной юностью. Как-то, зайдя в квартиру матери на улице Сони Кривой, я почувствовал себя самозванцем, проникающим в дом из-за внешней схожести с её сыном. Как понять, остался ли ты собой, или за тебя живёт уже кто-то другой?
Мать вскоре повторно вышла замуж и уехала со своим женихом на Кавказ, где живёт до сих пор. Меня же в первые годы после Аргуна спасала Вика, и ей удалось невозможное – вернуть к жизни меня прежнего. Потом Вика ушла, растворилась в памяти, обратившись большим светлым пятном. С ней ушла и надежда. Наверное, больше я не сопротивлялся.
Я встал, открыл дверь и дотянулся до бардачка, где всегда возил с собой тонометр: кровяное давление в последние годы стало играть. Прибор жужжал сначала лениво, потом натужно, потом показал давление 200/110 – после приступов такое случалось.
Я не сомневался, что каждый раз слышу один и тот же звук: взрыв заминированного грузовика в Аргуне. Один врач развил по этому поводу целую теорию, будто грохот был настолько невыносим для психики, что она не успела его воспринять и потому растягивает это удовольствие во времени. Но кроме любопытных гипотез у него была лишь пара стандартных таблеток, которые вызывали сонливость и депрессию, поэтому я забросил терапию раньше, чем она дала результаты.
Звук велосипедного звонка привлёк моё внимание. Я посмотрел вбок: со стороны Кочкаря, широко виляя, ехал на велосипеде загорелый белобрысый мальчуган, похожий на негатив фотоплёнки. Он миновал меня, поздоровавшись, свернул на полевую дорогу, скрылся в роще и вынырнул с другой стороны, тонкий и дрожащий, как комарик.
Кочкарь, куда ехал мальчуган, когда-то был богатым купеческим селом, которое расцвело в период золотой лихорадки. Металл здесь мыли тайком даже в подвалах. Я много раз проезжал мимо, но никогда не был здесь. Сердце ещё тяжело билось, перекачивая вязкую кровь, но я решил, что смогу доехать до Кочкаря.
В машине стало шумно от налетевших слепней. Я поехал в сторону главной достопримечательности Кочкаря – храма. Вдоль улиц стояли добротные деревянные дома, изредка попадались коттеджи с профнастильными заборами и каменные остовы старых купеческих домов. Храм находился на пригорке у реки, возвышаясь над старыми домами розовым облаком. Я остановился на парковке. Храм действительно был красив, а точнее, казался очень уместным, будто бы не его построили в центре села, а само село сбежалось к его великолепным стенам.
Мне советовали сходить в храм и поговорить о своём недуге с Богом, но я понятия не имел, как это делается. Попытки выторговать для себя немного душевного комфорта казались мне отчасти пошлыми, что Бог, наверняка, заметит и осудит. Сейчас, когда орда варваров стояла у наших границ, всё больше бывших атеистов обнаруживали у себя православные корни. Я же не мог даже переступить порог храма: это было сложнее, чем встать под пули. Мне объясняли, что дьявол внутри меня, пожирающий мою душу, мешает мне сделать это, но если я исповедуюсь, Бог выжжет дьявола или уморит каким-то иным способом. Но я всё равно медлил. Я не умел молиться. После смерти Вики я потерял даже способность вести внутренний диалог о своих проблемах: я чаще разгребал чужие. Я обращался не к Богу, а к собственному здравому смыслу и верил в него. Я не шёл в церковь, наверное, потому что боялся разочарования. Боялся, что если не сработает этот последний рецепт, у меня не останется даже призрачной надежды.
Дверь храма приоткрылась. На порог вышла маленькая засохшая женщина в платке, сердито махнула веником и зашагала наискосок через двор, громко хлопая галошами. Следом на крыльце появился настоятель с густой клочковатой бородой, созданной как бы из нескольких бород сразу, что придавало ему отчаянный и слегка пиратский вид. У настоятеля был прилипчивый взгляд: он сразу заметил меня и направился неспешной походкой, глядя голубыми прохладными глазами.
– Помянуть хотите или за здравие? – спросил он раскатисто.
– Не крещёный я.
– Что же, мы всякому рады.
– Тогда поставьте свечу, – я протянул священнику крупную купюру и прежде, чем тот сообразил, всунул её между разбухших пальцев.
– За кого же? – крикнул он, когда я уже тронулся.
– За всех нас, – ответил я, закрывая окно. – Всех без исключения.
Иногда я спрашивал себя, почему во мне нет веры. Возможно, это вопрос воспитания. Вера похожа на театр: она требует фантазии, чтобы научиться не видеть деревянные опорки декораций. Выросшие в религиозных семьях пропитываются ей понемногу, и потому их вера чиста, как все заблуждения юности. Те же, кому с детства внушали, что верить можно только в самого себя, сложно ощутить восходящие потоки православия. Мы не умеем парить в этих фантазиях. Мы ступаем по земной тверди, но хотя бы делаем это открыто и честно.
Последним доводом против моего воцерквления стала внезапная религиозность Пикулева, который каждый год строил по храму, а на все соборные праздники неистово молился в толпе прихожан. Я понимал, что он, скорее, возводит памятники самому себе. С другой стороны, создаваемая им Уральская империя не могла обойтись без учреждений культа. Терпеливость и смиренность – вот что он воспитывал в подданных. В конце концов, в этом тоже был здравый смысл, так что, пропуская лирическую часть, я как бы соглашался с ним по существу.
Из Кочкаря я добрался до Пласта, где находились золотоносные шахты, на которые когда-то претендовал Рыкованов. От Пласта до самого Магнитогорска шло не очень ровное полупустое шоссе. По краям были частично выгоревшие леса, линии ЛЭП, сине-зелёные поля льна и скучающие посёлки. Не доезжая до Магнитогорска я свернул на Агаповку и ещё около двухсот километров ехал по тряскому асфальту и пыльным грунтовкам, которые затянули корму автомобиля плюшевой пылью.
На подъезде к Аркаиму стояла пробка: караваны машин медленно тянулись к пропускному пункту, стекаясь из двух ручьёв в один, что сильно замедляло движение. Я объехал их по полю и вклинился у изголовья: меня пустили хмуро и безропотно.
Парковка напоминала огромное цыганское стойбище: машины как попало стояли между цветных палаток и тряпичных флагов на удочках или жердях. Встречались женщины в длинных славянских платьях и в одеждах с психоделическим узором, мелькали чалмы и кепки в форме будды, золотые цепи и татуировки драконов. Здесь любое чудачество сходило за духовность.
Остатки древнего города Аркаима в 1987 году случайно обнаружила группа археологов, которая занималась рутинной проверкой этого участка степи перед строительством водохранилища. Концентрический полис и найденные рядом технические объекты вроде колесницы намекали, что около четырёх тысяч лет назад, задолго до рождения Будды и расцвета Древней Греции, в этих местах была вполне развитая цивилизация.
Для уральцев Аркаим имел особое значение, как бы опровергая теорию о вторичности местной культуры. Промышленный Урал оформился в XVIII веке, когда в эти края пришли горные рабочие, началось строительство железноделательных заводов и возникали крепости для обороны от степных народов – одной из них был Челябинск. До открытия Аркаима считалось, что никакой иной предтечи у Урала не было, поэтому край обречён на терпеливое измельчение руд. Его люди даже в десятом поколении чувствовали себя переселенцами, молчали и трудились. Но Аркаим перевернул эти представления, показав Урал ещё более древним феноменом, чем сама Россия.
Конечно, у челябинцев снесло крышу. Многие поспешили назвать эти места колыбелью цивилизации, хотя никто точно не знал, откуда пришёл этот древний народ и куда он делся. Вакуум нашей самооценки был так силён, что всосал идею Аркаима без остатка, превратив её во взрыв псевдотеорий: его называли местом рождения пророка Заратустры и энергетической осю мира, где время течёт по-другому.
В конечном счёте настоящий Аркаим остался в стороне, превратившись в музей под открытым небом, куда заходят на пять минут, чтобы посмотреть на пыльные реконструкции жилищ, изъеденные наконечники стрел и фундамент концентрического сооружения. Второй Аркаим, культовый, возник на соседних холмах, где люди с просветлённым взором поглощали энергетику места и связывались со своими далёкими предками. Аркаим стал магнитом для верующих, сектантов, кришнаитов, солнцепоклонников – для всех, кто не укладывался в ложе традиционных религий. В день летнего солнцестояния к ним добавлялись бесчисленные толпы отдыхающих, которые пользовались возможностью духовно очиститься и заодно прибухнуть на природе.
Аркаим находился в сотне километров от границы с Казахстаном, и в последние годы языческие движения стали радикализоваться. Сарматские идеи легко приживались в его эклектичной среде. С каждым годом здесь становилось всё больше полиции – все ждали провокаций.
Судя по координатам, рюкзак Кэрол находился недалеко от реки по другую сторону горы Шаманки – кургана с плоской вершиной.
По пути мне встречались диковинные персонажи, и я задумался, куда они деваются в обычной жизни? На пригорке сидел голый до пояса йогоподобный дед и цеплял взглядом каждого проходящего, подзывая круговыми жестами длинных узких ладоней. Цыганки в длинных платьях гремели браслетами, но, в отличие от городских цыган, держались надменно и независимо: королевы – не попрошайки. Встречались набожные женщины с постными и успокоенными лицами. Я не мог представить таких женщин в Челябинке: кем они там работают? Кассирами? Уборщицами? Встречались гривастые растаманы – эти могли танцевать на ходу или лупить в длинные глухие барабаны.
За толпой лениво присматривали полицейские, колыхаясь возле своих уазиков. Конные отряды казаков вели себя придирчивей, одёргивая наиболее шумных паганов, ровняя толпу потными боками лошадей.
Худая женщина остановила меня за локоть и всмотрелась, словно узнала. У неё было загорелое и очень худое лицо, так плотно стянутое платком, что оно приобрело форму финика. Она обратилась ко мне очень серьёзно:
– Как вы думаете, будет война?
Я посмотрел на неё внимательно и честно ответил:
– Нет, конечно.
Её чёрные миндалевидные глаза изучали меня сосредоточенно, как бы пытаясь подловить на лжи. Она снова заговорила:
– А говорят, есть качели войны: война окружает нас, или в реальности, или в головах, и она перетекает туда-сюда, туда-сюда, вот так, – она показала сжатыми кулачками, как текут незримые потоки войны из её виска куда-то в небо, а потом обратно в висок. – Из голов – в реальность, из реальности – в головы.
– Военные учения идут, – оборвал я её. – Не надо панику сеять.
Вескость подействовала. Женщина запела что-то благословенное и положила обе руки мне на грудь, как бы в благодарность за хорошую весть.
Дорога вывела меня в торговые ряды, где продавали дешёвые сувениры и кепки с плохо вышитыми надписями «Аркаим». Здесь были стойки хиромантов, астрологов, продавцы талисманов и целебных трав, а ещё проводники по местам силы, рекламировавшие услуги с помощью картонки с намалёванным телефоном.
Я поднялся на гору Шаманка, с которой открывался хороший вид. В одну сторону степь припухала парой таких же холмов , за ними стояла бутафорская мельница. В другую сторону открывался вид на реку и настоящий Аркаим, едва заметный с этой точки. На вершине холма была выложена каменная спираль, по которой в задумчивости вышагивало несколько босых человек в закатанных джинсах. Судя по их напряжённым лицам, осколочная порода под ногами делала их духовный путь довольно тернистым.
Я спустился с холма до середины, нашёл удобное место и достал бинокль. У подножья в сторону реки стояло несколько палаток, и я без труда нашёл жёлто-оранжевый шатёр, который видел у Татыша во время митинга 8 июня. Вскоре я обнаружил Кэрол: она опять была в длинном светлом платье с орнаментами. На голове у неё было кольцо, украшенное перьями и блёстками, которые спадали ей на лицо.
Появился Верещагин, долговязый и шарнирный, но, похоже, ещё трезвый. Отраднова не было, но я не сомневался, что он либо отдыхает в шатре, либо придёт с минуты на минуту. Он не мог пропустить главный паганский праздник лета, на который прибыла вся его банда.
Сидеть мне пришлось долго. Временами меня охватывало нетерпение, и я предвкушал, как разберусь с Отрадновым, забыв о сантиментах. Я знал, что он попытается включать дурака, будет юлить и увёртываться, но на каждый его манёвр у меня была домашняя заготовка.
Заходящее солнце перестало жечь и теперь мягко обтекало кожу, делая её красной и липкой. Шею драло от пота. Фрики сидели в кругу, читая молитвы, а в перерывах играли в карты. Дважды я отлучался, чтобы поесть и купить воды, и по возвращении заставал похожую картину. Около восьми вечера прибыло подкрепление, но лица новых гостей были незнакомы. Отраднова среди них не оказалось.
Я в очередной раз пошёл в базовый лагерь, чтобы размяться и отогнать тревогу, когда на узкой тропе лицом к лицу столкнулся с Отрадновым. Он не помнил меня, поэтому извинился и хотел идти дальше, а я в первую секунду потерял дар речи, поэтому молча схватил его за рукав и стащил с дороги в траву.
– Знаешь меня? – спросил я.
Он помотал головой. Я ослабил хватку: бежать он не пытался. По его грубой запылённой одежде и пересушенному загорелому лицу было видно, что он действительно долго шёл пешком. Его ботинки, слишком тёплые для нынешней жары, несли на себе все образцы грязи, которая оформилась почти в дизайнерский узор.
Он смотрел на меня спокойно и удивлённо. Я показал ему удостоверение «Чезара», на что он равнодушно кивнул. Я сказал:
– Елисей, расклад очень простой. Вижу ты устал и нуждаешься в отдыхе, и я тебе не враг, а как раз наоборот. Ты проходишь подозреваемым по делу о убийстве Самушкина, и все менты вокруг, – я ткнул пальцем в ближайший кордон, – имеют на тебя ориентировку.
– Он умер? – спросил Отраднов.
– Да, он умер. А ты не в курсе?
Он помотал головой:
– Я его видел на митинге. Он нормальным был. А что случилось?
– Это ты мне расскажешь, – я ухватил его за лямку рюкзака: – Если тебя некомфортно говорить здесь, мы садимся вон в ту машину, – я кивнул на уазик, – едем в Магнитогорск и там в отделении беседуем до потери пульса. Вдумчиво и без свидетелей.
– Не надо пугать, – сказал он равнодушно и даже слегка сонно. – А что вы хотите знать?
– Вот это правильно. Вопрос первый: для чего ты пытался назначить встречу с Эдуардом Самушкиным на старом элеваторе 30 мая и 2 июня?
– Откуда вы знаете?
– Оттуда, что человека убили.
– Вы же не из полиции.
– Ты мой юридический статус обсудить хочешь? Всё максимально просто: если ты не при чём, рассказываешь всё как есть. Если отказываешься – я делаю выводы, и мы подключаем следственный комитет.
Но мои угрозы словно не смачивали Отраднова: он то ли устал с дороги, то ли в принципе не очень осознавал происходящее. Он удивлённо проговорил:
– Я не пытался назначить встречу, он сам попросил найти шерпа, я нашёл и хотел их познакомить.
– Шерпа? – удивился я. – Ты же сам шерп.
– Ему нужно было в северную часть зоны, за Маук, я эту территорию не очень хорошо знаю. Там много могильников и мало интересного. Эдик сам оба раза отменил встречу.
– Он хотел лезть в зону? Он ведь уже был там?
– Да, весной мы ходили к саркофагу, но в этот раз у него был какой-то свой маршрут.
Значит, 5 и 6 июня Эдик с большой вероятностью провёл в зоне.
– Зачем ему к Мауку? – спросил я.
– Он не говорил. Может быть, понравилось в зоне или разведать что-то хотел. А он точно умер? Прям совсем?
– Да, безвозвратно. Ты почему в митинге участвовать согласился? – спросил я с нажимом.
– А что, нельзя было?
– Ну, ты же не хотел, отказывался, говорил… как там? «Бесполезная клоунада»? А потом вдруг, бац – и ты со своим шатром уже у Татыша. Чего потянуло-то? Эдик тебе нужен был? Говори давай, что ему всыпал? Наркоту? Яд?
– Да не трогал я его! – окрысился Отраднов, осознав, похоже, серьёзность положения. – Любой подтвердит: я на такое никогда не соглашусь. Что я, киллер какой-то, что ли?
– Это мы выясним. Я про тебя всё знаю. Ты зарабатываешь на мифах про зону, людей туда за бабки водишь. Ты внушил Эдику интерес к зоне, заставил поверить, что там нечто важное происходит. С твоей же подачи он митинг организовал…
– Что за бред? Не было такого! Он сам вышел на меня и попросил сводить в зону. Я никого туда не тащу: и так желающих хватает! А все его митинги он сам придумывал. Зачем мне ему что-то внушать? Он и так повёрнутый был.
– А чего ты на участие в митинге согласился? Отказывался, отказывался, а потом вдруг передумал, а?
– Согласился и всё. Потому что зону действительно нельзя трогать! Чего вы туда лезете? Вы же вообще ничего о ней не знаете.
– А ты что знаешь? Как бабки на ней срубить? Ладно, это лирика. Ты с Дягилевым знаком? Предпринимателем из Екатеринбурга? Говори-говори, я всё равно выясню. Его люди на тебя вышли?
– С Дягилевым? – опешил Отраднов. – Его мой отец знает. Но мы с отцом мало общаемся, и с Дягилевым лично я не знаком.
– А с его людьми?
– Я много людей знаю, у них на лбу не написано, чьи они. Вы к чему спрашиваете?
– Выходил на тебя кто-то? Просил в «клоунаде» участвовать?
– Да никто не просил! Мои друзья собрались и я с ними! Я вообще в последний момент решил.
Я задумался. Отраднов не врал. Я знал, как ведут себя люди, которым есть, что скрывать. Или я просто не могу его дожать? Собственная усталость и хладнокровие Отраднова пустили разговор по вязкому руслу: он ничего не отрицал и ни в чём не сознался. Действительно, лис…
Я спросил:
– А мог Самушкин схватить в зоне смертельную дозу радиации? Свыше десяти грей?
– Свыше десяти? Маловероятно. Мы по-другому измеряем: за один сталк набираешь примерно 50 микрозиверт, если не повезёт – 500, но это не опасно. А 10 грей – это однозначно каюк: надо или в могильнике переночевать, или прямо к ядру подлезть. Но я сомневаюсь: Эдик вообще не очень смелый был.
– А с шерпом твоим как связаться? Он же его водил?
– Нет, нет, мой шерп не при чём. Они с Эдиком даже не познакомились.
– Ясно. Телефончик свой давай, – велел я, требовательно выставив ладонь.
Отраднов кивнул в сторону, откуда я пришёл:
– У меня друзья тут должны быть. Телефон у них. Я с компасом хожу.
– С компасом? Ты ещё астролябию бери. Пошли давай к друзьям твоим.
Мы зашагали к лагерю праноедов. Отраднов не пытался бежать: он напоминал воина, возвращающегося домой – таких уже ничем не испугаешь. Грубые ботинки шоркали по тропе, высекая из неё облака пыли. Его лицо было красным со стороны заката, а с обратной стороны землянистым, как его куртка.
– Ты откуда идёшь? – спросил я.
– От Татыша. Часть пути на попутках проехал.
– А пешком сколько?
– Километров четыреста.
– Четыреста? За две недели? Неплохо. Спортсмен? Кроссы бегаешь?
Он посмотрел удивлённо:
– Нет, не бегаю. Важнее состояние ума.
– А, ну, конечно…
Солнце опускалось к желтеющему горизонту. Толпа вокруг стала гуще и пестрее. Встречались люди в странных шляпах, в пончо, в длинных одеждах, в набедренных повязках, в перьях. Мы словно оказались на съёмках фильма, точнее, нескольких фильмов сразу: вестерна, индийского кино, римейка «Звёздных войн». Некоторые отвешивали нам лаконичный буддистский поклон-приветствие, складывая ладони у груди. Отраднов отвечал им тем же.
– Думаете, его отравили? – спросил он.
– Есть основания полагать.
– Ну, за наших я ручаюсь. Это не мы.
– Ручается он… Всё-таки, Елисей: зачем Самушкин полез в зону? Северная часть – там ведь наша дорога проходит.
– Да, – кивнул он. – Думаю, с этим и связано. Может быть, пробы грунта взять хотел или сфотографировать. Да он давно под вас копал.
Я задумался: Эдик наверняка взял с собой в зону съёмочную технику, другой телефон или экшн-камеру. Но мы проверили его сим-карты и аккаунты, так и не найдя другого аппарата.
Мы подошли к жёлто-оранжевому шатру. Завидев Отраднова, вся компания принялась визжать и улюлюкать, обнимаясь с ним по очереди, хлопая по пыльным плечам, дёргая за хвосты его банданы. Кэрол прижалась щекой к его щеке, быстро поцеловала в губы и тут же стала отплёвываться, смеясь:
– Солёный! Губы, как наждак!
На её лице был смешной макияж, стилизованный под морду кошки, с тонкими усиками, которые размазались о щетину Отраднова. Какие же они дети…
Когда заметили меня, веселье утихло. Верещагин, придурковатый шаман, вышел вперёд, светя пупом через застёгнутую на одну пуговицу рубашку. Его худое лицо выражало издёвку.
– Ого, Лис хвоста привёл. Лис, не надо тут мусорить. Ты мне настроение испортил.
Верещагин смотрел нагло. Пара шрамов на его лбу и скуле подсказывали, что в рыло он получал неоднократно, но выводов не сделал. Я ответил мягко:
– А ты дёсны чем-нибудь натри и повеселеешь. У тебя же есть там, в мешочке?
– А ты, мусорок, для себя интересуешься или на продажу? – растёкся в улыбке Верещагин, и толпа одобрительно загоготала.
Я видел, как Кэрол передала Отраднову его телефон, и хотел отвести парня в сторонку, но между нами вклинился Верещагин, держа руки навесу, как футболист, спорящий с судьёй:
– Э, э, э! – кричал он нарастающим голосом. – Друга моего не трожь!
Я схватил его за шею, и он от неожиданности хрюкнул. Я сказал ему на ухо:
– Дима, дуралей, не порти всё. У нас Отрадновым любовь и взаимопонимание. Иди, хлебни чего-нибудь за наше здоровье, понял?
Тот не понял. Едва я отпустил его, он принялся изображать то ли борца сумо, то ли индийского танцора, размахивая длинными руками на манер боксёров начала XX века.
– Чё, а? – выкрикивал он. – Драться умеешь? Слабо, да?
– Драться с тобой – только мараться, а у меня джинсы новые, – ответил я. – Давай, в стрекозу сыграем, если я проиграю – уйду, если выиграю – поговорю с Елисеем, идёт?
Игра в стрекозу требовал координации: один из игроков держал на сжатом кулаке авторучку, второй должен был схватить её и ударить соперника по руке. Ложным движением можно было заставить того уронить ручку, что тоже засчитывалось за победу. Первый раз я поддался, и под возгласы удовлетворённой толпы Верещагин заходил кругами, выпятив пузо и потрясая длиннющими руками – настоящий орангутанг. Но по итогам следующих поединков я победил со счётом 8:2 и последние разы бил с такой силой, что ручка в конце концов лопнула, поранив Верещагина. Поражение он признал, и девица с туповатым несимметричным лицом повела его бинтовать ладонь.
Остальные молча разошлись. Мы с Отрадновым сели на бревно, он протянул мне разблокированный телефон и посмотрел выжидательно. Я принялся изучать содержимое.
– Не дрейфь, – сказал я. – Сейчас проверю, что ты чист, и пойдёшь закат смотреть.
– На луну выть, – мрачно проговорил Отраднов.
Ничего подозрительного я не нашёл. Отраднов, в отличие от Эдика, мессенджерами пользовался редко, а его психоделические посты были и так на виду.
Настороженная Кэрол крутилось рядом. Я чувствовал, как закипает в ней чувство справедливости, а может быть, вины, ведь это она привела меня сюда.
Я вернул телефон Отраднову.
– Довольны? – спросил он.
– Нет, – ответил я. – А чего ты такой бесстрашный? Телефоны даёшь, кому попало. Не боишься, что я тебя подставлю?
– Не боюсь, – ответил он, глядя на меня в упор.
– Ладно, сейчас подумай спокойно и составь мне список всех шерпов, с кем покойный мог лазить по радиоактивным кручам.
– Нет, – заявил Отраднов. – Они здесь не при чём.
– Слушай, Елисей, я встал часов в пять утра и проехал пятьсот чёртовых километров, а впереди у меня ещё столько же. И если ты будешь мне мешать, я перестану быть вежливым.
– Вы не там ищите. Шерпы не оставляют своих телефонов, мы связываемся по-другому. Но не в этом дело: он один ходил. Я ему предлагал лучшего шерпа, но он не захотел, значит, сам полез. У него ещё весной эта идея бродила.
Некоторое время я смотрел в лицо Отраднова, но оно и не думало смягчаться, лишь набухало, как заходящее солнце, такое же оранжевое и непримиримое. Я бы мог подключить полицию и задержать его, скажем, за перевозку наркотических веществ, но что-то подсказывало мне, что я потрачу на это неоправданно много времени.
– Иди, – кивнул я в направлении Кэрол. – Танцы с бубнами пропустишь.
Я зашагал к парковке. Был около девяти вечера, и небо, по-летнему голубое с одной стороны, с другой превратилось в кровавую гематому. Земля, вращаясь, давила закатный сок и забрызгивала им горизонт. Глядя на этот контраст, я подумал, что, может быть, заканчивается целая эпоха голубого неба и ей на смену приходит алый закат.
День летнего солнцестояния имеет смещённый центр тяжести: он наступает раньше середины лета. Я всегда считал это большой несправедливостью. Лето ещё только началось, но вот оно уже достигло апогея, и за ним – плавное увядание с краткими ремиссиями через июльский зной, через августовскую духоту. После этого дня солнце уже не светит беззаботно.
Людей на тропе стало меньше: народ перетекал на склоны курганов, чтобы наблюдать закат. С вершин доносились глухие ритмы барабанов, сыпучие звуки маракасов и заунывно-восторженное пение. Гаммы свободно переходили из минора в мажор, отрицая привычную музыкальную гравитацию.
