Читать онлайн Я убил Мэрилин Монро бесплатно
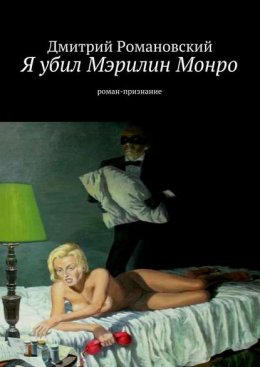
© Дмитрий Владимирович Романовский, 2015
© Дмитрий Владимирович Романовский, иллюстрации, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Глава 1. Моя профессия
Не люблю бедных людей. Нет, не по социальным причинам. Все люди моей профессии не любят бедных. До этого у меня была другая профессия. Я был водителем такси. В то время они требовались во всех таксопарках. Нью-Йорк я хорошо знал, документы мои были в порядке, так что получение работы не составляло проблемы. Мне было уже около тридцати, что соответствовало моим документам. Два года разницы в моем возрасте уже никто не заметит. Людей я хорошо знаю, и сев за руль такси, я уже через несколько дней мог с легкостью определить на какие чаевые можно рассчитывать с того или иного пассажира. У меня появились любимые места. Например, Линкольн-Центр в час театральных разъездов. Здесь три здания: Метрополитан-опера, Сити-опера и Аври Фишер Холл. Чаще всего люди здесь садятся парами. Это всегда интеллигентные люди среднего класса. Публика высшего класса разъезжается в своих машинах, запаркованных в дорогом паркинге под зданием оперы. Позже я узнал, что некоторые представители высшего класса предпочитают возвращаться из театра домой пешком, поскольку живут недалеко от оперы в респектабельных кварталах, где исключается присутствие ночных грабителей. Идет такая нарядная дама, манто нараспашку, на шее гирлянды натуральных бриллиантов, идет в ночной толпе нарядных богатых людей, и никто здесь ее не ограбит: Гарлем далеко, а Бруклин еще дальше. Бедные люди разъезжаются из театров на общественном транспорте или на своих дешевых машинах, запаркованных на улице за много кварталов от оперы. Однажды я отвозил из Метрополитан-оперы целую негритянскую семью в Гарлем. Кажется, это был какой-то балет Петра Чайковского, на который интеллектуалы полагают нужным водить детей. Это была интеллигентная семья. Муж говорил с женой вежливо. И двое их детей, сразу видно, были хорошо воспитаны, и чего-то понимали в классической музыке, хотя и были черными как головешки. В Нью-Йорке мало таких людей. Если и попадаются черные интеллигентного вида, то они обычно из Парижа и говорят с французским акцентом. Но эти черные были коренными американцами и жили в Гарлеме. Когда я подвез их к дому, черный дал мне хорошие чаевые и предупредил меня, чтобы я не брал пассажиров в его районе: это опасно. Я это знал, но вежливо поблагодарил черного за предупреждение. Выходя из машины, они сказали мне «спасибо», и даже их дети сказали «спасибо» без напоминания родителями. Ограблений я не боюсь. У меня хорошая выучка, реакцию я не утратил, и если какой чудаковатый пассажир приставит мне к уху пистолет и потребует дневную выручку, я хорошо знаю как себя вести, и этот чудак окажется на пустынной обочине со свернутой шеей. Однако, из осторожности я не беру подобных пассажиров, заранее определяя их непредвиденные (для полиции) свойства. Правда, за это могут оштрафовать и даже судить. Полиция набирает из своих кругов черных агентов, которые придают своей внешности вид грабителей, останавливают такси, и если таксист их не берет, предъявляют бляху, отбирают документы, и таксиста судят за дискриминацию черных. А какая дискриминация? Всем известно: полиция дискриминирует всех таксистов, не разбирая цвета кожи. А впрочем, работать таксистом не так уж и плохо. Пассажиры иногда развлекают. Я проработал в такси около трех лет. Заработки были приличные. В отпуск я ездил во Флориду, но даже для этого денег было достаточно, чтобы не трогать тайных сбережений. Однажды я вез пассажира в аэропорт. Лицо его мне показалось знакомым. Но за последние годы я перевидал столько лиц, что стало трудно связывать их с какими-то событиями. Пассажир попался разговорчивый, спросил, где я так загорел. Я сказал, что во Флориде. Он оживился, сказал, что учился в Бискейн-колледже и давно не был в Майами, стал расспрашивать о новых отелях, и закончено ли строительство набережной, и насколько расширили виллу Вискайя. Несмотря на то, что я отвечал довольно кратко, он вдруг спросил:
– У вас есть брат?
И тут я узнал его.
– Нет, – ответил я равнодушным тоном.
– У вас нет родственника, которого бы звали Уильям?
Я сделал вид, что подумал немного, и ответил:
– Нет.
– Дело в том, что у вас уникальный тембр голоса. Такой голос я слышал только у одного человека. Вот я и подумал, что у вас могут быть родственные связи с Уильямом. Хотя голос по родству не передается. Я как-то разговаривал с незаконным сыном Таккера, у него скрипучий бас.
Я выехал на Турнпайк, и разговорчивый пассажир заговорил о том, что место аэропорта изначально неудачно выбрано.
В этот же день, не дожидаясь конца смены, я вернулся в таксопарк. Хозяин был на месте, и я попросил расчет. Хозяин уговаривал меня остаться, но я сказал, что последнее время у меня бывают головокружения во время смены.
Квартира у меня такая, как нужно: тихая бруклинская улица, шестиэтажный кирпичный дом, третий этаж, так что можно не пользоваться лифтом, комната, кухня, ванная. Это называется студия. Почему студия? Наверняка ни в одной стране, кроме Америки, такие квартиры не называются студиями. На заднем дворе хилые деревья, кусты, трава и на вытоптанном участке полусломанные скамейки и кривой стол. В хорошую погоду здесь собираются некоторые жильцы дома. В основном это мулаты, евреи и, конечно же, дети, которые не разделяются на расы и нации: это бруклинские дети. Во двор я выхожу с книгой или журналом и читаю. Да, я стал читать. Это вполне пристойное и полезное занятие. В той, другой жизни, до пластической операции, я не читал. Мои высокопоставленные боссы не читали книг, хотя были хорошо образованы и знали иностранные языки. И мне просто не приходило в голову, что можно просто так взять в руки книгу и читать ее. Первую книгу в моей новой жизни я подобрал на подоконнике лестничной площадки. Молодая женщина угнала чужой автомобиль и поехала на нем развлекаться, а потом она обнаружила труп в багажнике этой машины. Она хотела уже бросить машину, но тут она познакомилась с одним парнем, в которого тут же влюбилась. И тут начались неожиданные приключения. И только прочтя эту книгу, я понял, что это был детектив, самый популярный жанр литературы. В магазине подержанных вещей я купил другой детектив, но он был менее интересен. В местную библиотеку я не стал записываться, поскольку не хотел лишний раз вкладывать свое имя в списки. Я просто стал покупать и подбирать на свалках подержанные книги, некоторые без обложки. Детективы мне разонравились. Они пишутся по стандарту с различными вариациями, и уже с начала становится не интересно, кто кого убил, или ограбил. Однажды я начал читать книгу без обложки, историческую, классику, и, только дойдя до середины, понял, что читал ее в школе. Это был Диккенс. Поскольку в моем доме живет много евреев, а знакомство с ними может быть полезным, я спросил уличного продавца книг: – Что теперь читают евреи? – И он предложил мне книгу «Избранные». Это была только что изданная книга, и поэтому дорогая. Во дворе дома, сидя на кривой скамейке, я отложил начатую книгу и закурил. Ко мне подсел старый еврей с пятого этажа. Поздоровавшись, он посмотрел на мою книгу, сказал:
– Теперь все читают Потока.
– Вот и я как все, – согласился я.
– Значит, неевреи тоже это читают?
– Как видите.
– Работы все еще нет?
– Только по доставке, вроде грузчика.
– Антони, а вы точно не еврей?
– Точно.
– И мать ваша не еврейка?
– Нет.
– Это хорошо. – Я был несколько озадачен. Живя в Бруклине, я уже усвоил, что для еврея нет ничего хуже, чем быть неевреем. А Давид, так звали старого еврея, после паузы сообщил: – Вот тут ищут нееврея на должность смотрителя.
– Какого смотрителя? – поинтересовался я.
– Смотрителя при синагоге. Это вроде уборщика. Да вы, наверное, не согласитесь.
– Почему не соглашусь?
– Работа грязная, да и жалованье небольшое.
– Я не рассчитываю на большое жалованье.
– Таксистом вы получали больше. – В тот же вечер Давид повел меня в синагогу, что в конце Десятой стрит. Где я только не побывал за всю жизнь, а вот в синагоге я очутился впервые. Иудаизм – самая древняя религия, практикующая единобожие. Хотя здание синагоги было новым, дух древности тут сохранялся. Сразу после вечерней молитвы президент синагоги Шали Стерн и секретарь Хая, молодая полная женщина, провели со мной интервью. Изложенная мною жизнь соответствовала моим документам и не вызвала никаких сомнений. На следующий день было уже официальное интервью с присутствием главного ребe синагоги, двух членов правления и предыдущего смотрителя нееврея, поляка по имени Збигнев. Тут я и понял, почему им нужен нееврей. Смотритель, точнее уборщик, должен работать по субботам, а евреям работать в субботу запрещает их религия. Поляк Збигнев был художником, а поскольку выставлять картины неизвестным художникам трудно, Збигнев десять лет проработал уборщиком. Теперь он нашел хорошего агента и оставляет синагогу на мое попечение. Синагога в тихом квартале Бруклина, окружение – религиозные евреи, с которыми я раньше не встречался. Идеальное прибежище. А Збигнев должен был еще неделю курировать мою работу, пока я не освоил все тонкости жизни синагоги.
– Вода в унитаз сливается примерно за десять секунд, – учил меня Збигнев. – За это время ты должен щеткой промыть сидение и края унитаза. Если унитаз обосран, надо его вымыть за два, а то и три слива. В женской уборной я мою унитазы за два слива, потому как бабы – зассанки и любят обоссывать сиденья. Небось, дома они этого не делают. Никакого уважения к храму. – При этом Збигнев сам демонстрировал, как надо мыть. Характеризуя членов правления, Збигнев говорил: – Вот, например, президент Шали делает так: – Збигнев провел двумя пальцами по книжной полке, и показал эти пальцы: пыль. – А вот секретарша Хая требует, чтобы в диспенсерах всегда были заложены бумажные полотенца. Ицхак заведует кухней. Он требует, чтобы холодильник был чистым и не разрешает швабру мыть в кухонной раковине. А ты мой швабру в раковине, но так, чтобы никто этого не видел. Раковина двойная. Правая половина для мытья посуды из-под мяса, левая – для посуды из-под рыбы, или молока. Так ты мой все в левой раковине: она удобней, но так, чтобы никто не видел. Замечаний будет много, но ты не возражай, а говори: – Окей, будет сделано, – а сам иди домой. – В библиотеке Збигнев пояснял: – Черные книги это Тора, синие – тоже Тора, но ставь их отдельно, маленькие книги – молитвенники. Они на нижних полках. Большие красные и черные книги – Тора с пояснениями из талмудов. Они без переводов. Ты же не знаешь иврит, так расставляй их по цвету обложек. – В гараже Збигнев показал мне сенокосилку для стрижки газона и лопаты для чистки снега зимой, показал мне, где хранятся щетки, метлы, швабры, мешки для мусора, бумажные полотенца, туалетная бумага.
Президент Шали на прощание предложил Збигневу устроить выставку его картин в зале, где евреи проводили собрания и частные вечеринки. Поскольку здесь висела баскетбольная сетка, зал именовался гимнастическим. Збигнев привез в своем вэне несколько своих картин. По договоренности картины должны были быть на библейские сюжеты и только Ветхого Завета, который евреи именуют Торой. Збигнев развесил картины по периметру зала, и Шали пригласил главного ребe осмотреть выставку, прежде чем она будет показана остальным. Главного ребe все называли Раби. Он мельком осмотрел все картины и сказал: – Здесь есть обнаженные люди. В помещении храма такие картины выставлять не следует. – Збигнев возразил:
– Не могу же я Адама и Еву нарядить в джинсы. – Раби подумал и сказал:
– Но на картине изображен, как я понимаю, сам Всевышний, и он тоже обнажен. – Збигнев тут же предложил:
– Я могу нарядить Всевышнего во фрак, если вы хотите его таким видеть. – Раби быстро проговорил:
– Никто не может видеть Всевышнего. – Збигнев не сдавался:
– Я знаю: по еврейской религии нельзя изображать людей, а тем более Всевышнего. Даже христианские священники не поощряли художников, изображавших Всевышнего. Но художники Его рисовали. И даже еврейские художники Его рисовали.
– Я это знаю, – согласился Раби. – Но ни один художник не изображал Всевышнего обнаженным. Кроме того, вы изобразили Его юношей. Художники обычно изображают Его умудренным старцем.
– Вы правы, – согласился Збигнев. – Художники обычно изображают Всевышнего старым, седым и лысым, со всеми признаками деградации старческого тела. Я считаю это кощунством. Я читал Тору. В ней передан образ Всевышнего. Он преисполнен энергии, юношеской реакции, быстроты ума, на кои старик, изображенный Микеланджело, не может быть способен.
Раби слегка усмехнулся, сказал:
– Картину в этом здании выставлять нельзя. Повесьте вместо нее какой-нибудь пейзаж. Я видел у вас прекрасный пейзаж с лошадьми.
– Он уже продан. Хорошо. Я повешу другой пейзаж.
Раби подошел к картине, на которой был Давид, прицеливающийся пращей в Голиафа. Подросток Давид был изображен абсолютно голым, да еще спереди. Раби сказал:
– Исторически неверно. Давид был иудей. По иудейской религии появляться на людях обнаженным запрещено.
Збигнев стал возражать:
– Давид был деревенским пастухом. В деревнях не было синагог. Религиозные законы могли соблюдаться только в городах. А что это были за города? Меньше Кони-Айленда.
– Иерусалим был не меньше греческих городов и даже Рима.
– Рима? – в голосе Збигнева слышалось раздражение. – Во времена Давида на месте Рима был лес, а в лесу сидела волчица и своими сосцами выкармливала двух человеческих детенышей. И только когда они выросли, один из них создал поселение, которое впоследствии стало Римом по имени своего создателя. А размеры Иерусалима тогда были в пределах его крепости.
Раби сказал утвердительно:
– Тем не менее все иудеи знали законы Моисея.
– Откуда? – не унимался Збигнев. – Раввины не ходили по деревням и не занимались миссионерством. Давид, вероятно, и не был обрезан, поскольку поблизости не было раввина.
Раби возражал уже серьезно:
– Если бы Давид не был иудеем и не соблюдал законы иудаизма, Всевышний не сделал бы его королем Иудеи.
– Но Он сделал его королем, – торжественно заявил Збигнев. – Сделал, не смотря на то, что Давид не соблюдал законы иудаизма.
– Он не мог их не соблюдать будучи королем Иудеи.
– Он нарушал заповеди Моисея. Он соблазнил замужнюю Версавию, велел убить ее мужа, это уже в старости. Можно представить себе, что он вытворял, когда был помоложе! – Президент Шали за спиной Раби откровенно улыбался. А Раби сказал: – Вывешивать в здании синагоги обнаженного Давида нельзя.
– Хорошо, – устало согласился Збигнев. Я нарисую ему набедренную повязку. – Раби подошел к следующей картине. Это был Моисей перед восхождением на гору Синай. И Моисей и его брат Аарон со своими сыновьями были в белых покрывалах, а вот сыновья Моисея, умоляющие отца не ходить на огнедышащую гору, были обнажены. Лицо Моисея было вдохновенным. Збигнев, наверное, хороший художник. Раби внимательно разглядывал обнаженных сыновей Моисея. У одного из них были отчетливо видны яйца. Збигнев, предупреждая всякие возражения, заговорил:
– Да, два парня, сыновья Моисея голые. Ведь они еще не знают заповедей. Моисей только еще собирается подняться на Синай за этими заповедями. Вот когда он принесет эти заповеди, они тут же оденутся. В смокинги. – Раби ничего не сказал, подошел к следующей картине. Это был опять царь Давид, но уже в старости. Он сидит на крыше своего дворца, смотрит вниз на город и впервые видит Версавию. Она искупалась в бассейне внутреннего дворика своего дома и выходит из воды. Голая. На первом плане сидящий Давид в белой тоге. А Версавия далеко внизу, еле видно ее, но видно что она голая. Раби надел очки, подошел вплотную к картине, разглядывая крохотную Версавию. По лицу Збигнева было видно, что он готов отразить любые возражения. Но Раби молча отошел к другой картине. Это была оборона Масады. Збигнев заранее объяснил мне содержание своих картин. Защитники Масады копьями, мечами и камнями отбивались от лезущих на стену римских легионеров. Некоторые воины Масады были голыми. Но их силы были на исходе, у них не было ни еды, ни воды, и всем им было суждено погибнуть, тут было не до одежды. Так что у Раби возражений не было. Еще была картина, где Самсон раздирает пасть льву. Этот сюжет был знаком мне с детства. Самсон был в набедренной повязке из леопардовой шкуры, так что вопросов о наготе не было. Раби только спросил, почему Самсон по юношески изящный, если он должен быть силачом с громадными бицепсами. Збигнев объяснил, что по священному писанию сила Самсона была не в мускулах, а в его волосах. На картине у Самсона были белокурые волнистые волосы, доходящие до пояса. А еще был пейзаж с пустыней, горами и верблюдами. На верблюдах сидели мужчины в одежде бедуинов. Но поскольку Збигнев выставлял картины в синагоге, под бедуинами подразумевались евреи. Вероятно, в древние времена все люди Ближнего востока одевались одинаково. На следующий день состоялась презентация выставки, на которую собрались все прихожане синагоги и даже какие-то посторонние лица. Посреди зала Збигнев с моей помощью расставил раскладные столы с угощением: кофе, фруктовые соки, булочки с кремом, вино. Все это было кошерным и было заказано Збигневым через Ицхака, который заведовал кухней. Так я впервые познакомился с правилами кошера. Оказывается, евреи не могут есть мясо с молочными продуктами. Даже если они пьют кофе с молоком, то при этом нельзя есть даже колбасы, уж не говоря о мясных пирожках. Поэтому евреи все жарят на растительном масле. Даже если не есть, а только поставить на один стол мясо и сметану у них считается грех. Суровая религия. Как и положено на презентации, были выступления. Первым выступил Кенни, пожилой высокий мужчина с короткой бородкой. В юности, когда он еще учился в ешиве, он иногда подрабатывал в Метрополитан-опере в качестве статиста. Вероятно, поэтому у него сохранилась тяга к искусству. Он сказал, что во все времена первые произведения искусства были посвящены религии. Даже первобытные люди в своей наскальной живописи изображали сцены охоты с целью заклинания удачи в охоте. В суеверии проявлялся их религиозный инстинкт, заложенный в каждом человеке. Языческие скульпторы изображали своих многочисленных богов. Когда утвердилось единобожие, лучшие архитекторы и резчики по камню стали создавать священные храмы, и мы их расцениваем как произведения искусства. Есть нечто общее в религии и искусстве. Это духовность. И Кенни торжественно произнес:
– Талант это высший Божий дар, и он очевиден, и каждый религиозный человек должен это ценить. Нам посчастливилось стать свидетелями становления таланта. Я был на выставке в галерее Коэна, где была выставлена картина Збигнева, и я видел, как эксперты останавливались перед его картиной. Збигнев, я желаю тебе больших успехов в твоей карьере.
Все зааплодировали, и Кенни сделал глоток вина из пластикового стаканчика. И тут я увидел довольную улыбку на лице Збигнева. Люди тщеславны. Потом выступала жена Раби. Евреи называют жен раввинов рабицами. Рабица говорила по-женски, употребляя типичные женские определения, такие как: прекрасно, красиво, блистательно, удивительно, очаровательно, возвышенно и т. д. И польщенный Збигнев опять же улыбался. Когда поздравления кончились, и вино было выпито, к Збигневу подошел мужчина в спортивной куртке, и они стали тихо разговаривать. А потом Збигнев перешел на повышенный тон. Он выпил уже два стакана вина и заметно раскраснелся. Потом Збигнев мне объяснил, что это был какой-то мелкий агент, который предлагал купить у Збигнева несколько картин.
– Наверное, по дешевке? – предположил я.
– Не в этом дело. Я их всех ненавижу. Когда я выставлялся на уличных выставках, ни один критик или агент не поинтересовался мной. Один раз я выставился на дорогой выставке, это в павильоне на Коламбус-серкл. Я потратил на это все свои деньги. Критики и агенты проходили не глядя мимо моих картин. Они выискивали только известные имена. Я потом прочел одну статью об этой выставке. Там перечислялись только уже известные художники.
– Хорошие художники?
– Говно. Так называемые авангардисты.
У евреев суббота называется шабес. В этот день им нельзя работать, а только молиться. Я пришел в синагогу, как и положено, в семь утра, проверил, везде ли горит свет. Евреям включать и выключать свет в субботу нельзя, поскольку это считается работой. К утренней молитве приходят в основном пожилые люди. И только к восьми часам стали собираться все прихожане синагоги. К девяти часам не только молитвенный зал, но и все помещения были забиты народом. Женщины были нарядно одеты, даже слишком нарядно, как в театр. Многие были с детьми. Я уселся в углу гимнастического зала и стал читать Тору, т. е. Ветхий завет. Сначала было интересно, в детстве я обо всем этом слышал, а может быть даже и читал, но когда начались перечисления кто кого родил, стало скучно. Ко мне подошла дама в лиловом вечернем платье и огромной шляпе и тихо сказала:
– Антони, извините, что я прерываю ваше чтение, но в дамской комнате кто-то запер все кабины. – Я отложил книгу, пошел в женскую уборную, перед которой толпились раздраженные женщины. Я сперва постучал в общую дверь, и мне открыла дама в шелковом платье с блестками. – Антони, – сказала она раздраженно. – Все кабины пустые и заперты. – Я постучал в дверь первой кабины. Никого. Кабина была заперта изнутри. Я подтянулся на перекладине, повис на животе на металлической двери, протянул руку внутрь кабины и отодвинул задвижку. Таким же образом я отпер остальные две кабины, в которые тут же устремились женщины, жаждущие отправить свои физиологические потребности. После этого я на всякий случай зашел в мужскую уборную и, как оказалось, не зря. Все кабины здесь тоже были заперты изнутри. Пожилой мужчина безнадежно толкался в дверь кабины. Я тем же способом отпер кабины, а мужчина с улыбкой сказал: – Это дети развлекаются. – А дети с визгом бегали по всей синагоге, гонялись друг за другом, прыгали со стульев, два мальчика раскачивались на перекладине для вешалок. Пришел Збигнев. Это было его последнее посещение синагоги. Я рассказал про запертые кабинки.
– Это бывает почти каждый шабес, – объяснил мне Збигнев. – Дети изнывают от скуки. В мяч играть нельзя, на велосипеде нельзя, даже в домино играть нельзя. Вот они и бегают по синагоге в отчаянных поисках развлечений, ломают стулья, запирают изнутри кабинки, а потом выползают из них под дверями. Где твоя метла и совок для мусора?
– В кухне.
– Это ты зря. Дети будут играть ими и сломают. – Метла оказалась под холодильником, но без древка. Дети отвинтили древко от метелки, и я обнаружил его в вестибюле. Мальчик с белокурыми пейсами, орудуя древком как палкой, пытался сбить свежий росток на пальме, растущей в кадке. Я только протянул руку, как мальчик тут же отдал мне древко и отбежал в сторону. Когда дети делают то, что нельзя делать, они прекрасно понимают, что делают то, что делать нельзя. В детстве и я был таким же, да еще и покруче. Совок оказался в библиотеке, маленькой комнате, где пожилые люди собирались для изучения Торы. Збигнев поучал:
– Держи свои принадлежности в кладовке. Дети оттуда, как правило, ничего не уносят. – Все это происходило среди беседующих людей. В основном это были нарядные женщины. Мужчины молились в молитвенном зале, который у них назывался мэйн шул. Дети бегали в разные стороны, кричали, резвились, и никто не делал им замечаний. В кухне на длинной кухонной стойке стояла банка с кофе, бумажные стаканы, бумажные тарелки с печеньем и чипсами. Во время короткого перерыва, когда молитву можно прервать, сюда приходят мужчины и пьют кофе. Здесь же и курят. В субботу евреям нельзя зажигать огонь, поэтому в субботу на подставке кухонной раковины я зажигаю свечу, от которой курильщики прикуривают сигареты. В основном это мужчины. Но и некоторые женщины приходят на кухню покурить. Мы со Збигневым тоже закурили. В кухню вошел солидный седеющий мужчина, поздоровался, спросил Збигнева, указывая на меня:
– Это новый Збигнев? – Збигнев ухмыльнулся:
– Да. Теперь он будет Збигневым. Только его зовут иначе: Антони. – Мужчина с улыбкой протянул мне руку, Збигнев мне пояснил:
– Акива, заведует библиотекой и всеми священными книгами. – Акива сообщил пониженным голосом:
– В мужской уборной вода заливает пол. – Збигнев, а за ним и я, направились туда. Вода вытекала из средней кабины и растекалась по всему полу. Здесь уже стоял президент синагоги Шали. Збигнев нагнулся над унитазом и завернул вентиль водопроводной трубы. Течь прекратилась. Он обратился к Шали:
– В понедельник надо сказать Хае, чтобы вызвала водопроводчика. – Я присел перед вентилем, потрогал снизу трубу, с нее еще капала вода. Я сказал Збигневу:
– Надо прокладку сменить, или сам вентиль. Я это могу сам.
– У тебя есть инструменты? – спросил Збигнев.
– Кое-какие. – Тут кто-то сказал, что в женской уборной тоже течет труба. Президент Шали поинтересовался:
– Антони, вы знаете водопроводное дело?
– Я работал в авторемонтной мастерской. – Это не только значилось в моих документах, но действительно было правдой. Покинув Аргентину, я приехал в Цинцинатти, и чтобы чем-то заняться, поступил в технический колледж, где взял курс прикладной механики. После этого я год проработал на автозаправочной станции, при которой была ремонтная мастерская.
По дороге домой я зашел в строительный магазин, купил зажим для нарезки стальных труб, разводной ключ, вентиль с подходящим коленом, прокладки разных диаметров. Когда в своем доме я поднимался по лестнице, на втором этаже приоткрылась дверь крайней квартиры, выглянула Роза. Я приостановился.
– Сегодня по телевизору матч, Джаентс, – сообщила она. – Хочешь посмотреть?
– Хочу.
– Начало в восемь.
– Раньше половины девятого я не могу уйти с работы.
– Раньше десяти матч не кончится. Так что успеешь до финала.
– Приду. Спасибо. – Мы говорили вполголоса.
– И как на новой работе? – спросила она. Тут наверху хлопнула чья-то дверь, и Роза поспешно скрылась в своей квартире, беззвучно притворив дверь. Роза, крашеная блондинка – моя теперешняя женщина. По вечерам я прихожу к ней смотреть телевизор. У меня нет своего телевизора. Иногда я остаюсь у нее на всю ночь. Она соблюдает все меры предосторожности, чтобы никто не знал об этих встречах. Однако, я уверен, что весь дом знает о наших постельных отношениях. До вечерней молитвы было далеко, и я на сабвее поехал на пляж Брайтон Бич, где теперь обычно провожу свободное время.
Спустившись на пляж, я разделся, свернул одежду в узел и пошел вдоль прибоя к своему привычному месту. Обычно в августе песок уже не накаляется от солнца и не обжигает ступни. Народу на пляже было много. Дойдя до пляжного кафе, я развернул свой узел, раскрыл роман Потока и растянулся на теплом песке. Чтение на пляже быстро утомляет, и я вскоре задремал, уткнувшись носом в раскрытую книгу. Солнце припекало спину и бедра. Почувствовав на лице капли пота, я потряс головой и вскочил на ноги. И тут я встретился глазами с молодой женщиной. Она медленно шла по направлению ко мне. Я сразу узнал ее. Глория. Делая вид, что я никак не реагирую на ее взгляд, я с рассеянным видом направился к воде. Перейдя прибойные волны, я нырнул и поплыл кролем. Повернув голову к берегу, я пытался увидеть Глорию, но вдоль берега толпилось много людей в разноцветных купальных костюмах, и я так и не разглядел ее. Тут на своей вышке поднялся спасатель и засвистел мне в свисток. Я повернул к берегу. Прохладная вода освежила. До сих пор во мне жили опасения встретить или просто увидеть кого-то из той, другой жизни. И только теперь мне стало ясно, что прошли годы, и меня уже давно никто не ищет, опасных для меня людей нет уже в живых, а я обрел другое лицо. Правда, у меня сохранился прежний голос и еще фигура осталась прежней, по ней, вероятно, Глория меня и узнала. Но стоит ей посмотреть мне в лицо, как мы станем не знакомы. Теперь я другой, новый. Когда я вышел из воды, ко мне обратился черный мальчик:
– Вы спасатель? – На мне были красные плавки, почти такие же как у спасателей, только немного ярче.
– Нет, – ответил я. – Я просто снял плавки с одного спасателя и надел на себя. – Мальчик рассмеялся. Все спасатели на вышках были стройными блондинами. Идентичных фигур много. По фигуре узнать трудно. Когда я наклонился, доставая сигареты из кармана рубашки, боковым зрением я снова увидел Глорию. Она была в пестром бикини. Закурив сигарету, я выпрямился, встретился с ней глазами. Она остановилась, глядя мне в лицо и, конечно же, не узнавая.
– Скажите пожалуйста, вода сегодня теплая? – Банальный вопрос для начала знакомства. Голос ее не изменился, как и мой, очевидно. И я ответил своим голосом:
– Теплая. Сегодня прилив. – Продолжая смотреть мне в лицо, она сказала:
– Вы очень похожи на одного человека, которого я раньше хорошо знала.
– У него тоже были два глаза? – спросил я шутливо.
– И такого же цвета, – сказал она серьезно. – И с таким же голосом.
– И с таким же именем, вероятно? – спросил я тем же шутливым тоном. Она молча продолжала напряженно смотреть мне в лицо, и по ее взгляду я понял, что она не узнает меня. Чувство облегчения, которое я почувствовал, плывя к берегу, не покидало меня. Я свободен. Передо мной стояла женщина, моя ровесница, которую я когда-то любил и которая меня не узнавала. Хотелось играть, как обычно играют с женщинами. Я спросил:
– Это был ваш бойфренд?
– Да.
– Вы его любили?
– Да.
– Двойников на свете не бывает. Это выдумки писателей. Но если вы приняли меня за вашего бойфренда, давайте уж познакомимся. Мое имя Антони. Ваше имя? – Она протянула мне руку:
– Глория. – Мы пожали руки, и ее лицо дрогнуло. Говорят, что слепые узнают людей по прикосновению. Глория не была слепой. Что ж, прикосновения некоторых людей могут быть тоже идентичными. Она спросила:
– Вам ничего не говорит мое имя?
– У меня было две, даже три знакомых Глории, но они не были моими девушками. – Я протянул ей пачку, она взяла сигарету, прикурила от моей зажигалки. Некоторое время мы молча курили, глядя на подростков, резвящихся на песке.
– Хотите искупаться? – предложил я.
– Сперва я хочу зайти в кафе чего-нибудь попить.
– Пойдемте вместе. – Она хотела надеть платье, но я сказал, что в пляжном кафе все сидят в купальных костюмах. Мне не хотелось надевать шорты на мокрые плавки, и я прихватил на руку рубашку, в карманах которой были ключи и деньги. В кафе я заказал жареных креветок и кока-колу. Глория от креветок отказалась, сказав что она на диете, и пила только кока-колу. Возможно, она действительно была на диете. Конечно, она была не такой как двенадцать лет назад, но для женщины ее возраста она хорошо сохранила фигуру. Выйдя снова на пляж, мы сразу направились к воде. У меня всегда была привычка не входить, а вбегать в воду. Когда я вынырнул, то увидел, что Глория следует за мной. Она и раньше хорошо плавала. Достигнув линии, за которую спасатели запрещают заплывать, мы поплыли вдоль берега, я впереди, она в нескольких футах сзади. Резко развернувшись, я подплыл к ней, коснулся ее руки. Еще одно прикосновение, по которому слепые могут узнавать людей. И тут я увидел в глазах Глории страх. Всего на одно мгновение. Она тотчас улыбнулась.
– Вода действительно теплая, – сказала она, развернулась, поплыла в противоположную сторону. Я последовал за ней. Повернув ко мне голову, она сказала: – Не следует далеко отплывать от спасателя. Свои вещи я оставляю на пляже рядом со спасательной вышкой, это протекция от пляжных воришек. Но какой-нибудь черный подросток может унести сумку, если спасатель зазевается. – Выйдя из воды, мы некоторое время прогуливались по прибою, чтобы солнце высушило купальные костюмы. Глория все же была хороша собой. Не зря я так увлекся ею двенадцать лет назад. Хотелось спросить, замужем ли она. Но это было бестактно. Ведь если она ответит «нет», следующим вопросом автоматически было бы: а не переспать ли нам? Для первой встречи это не совсем прилично. Мы банально разговаривали. На вопрос, работает ли она, она ответила, что работает программистом в страховой компании. Я сообщил, что работаю смотрителем при еврейском клубе. Это было правдой, потому что, как я уже усвоил, синагога это еврейский клуб для собраний по любому поводу. Я проводил Глорию до дешевого открытого паркинга, где у нее была запаркована машина, новый «фольксваген». На прощание я все же сделал ей неприличное предложение: – Давайте вечером съездим в какой-нибудь приличный ресторан. – Если расшифровать всем известный код этой фразы, то получится: «давай переспим». Конечно, я хотел с ней переспать, но так же было интересно, что она ответит. Двенадцать лет назад она, конечно бы, отказала незнакомому мужчине. Но ее ответ был уклончивым: – Сегодняшний вечер у меня занят.
– Тогда завтра, – тотчас предложил я.
– Всю эту неделю я буду занята.
– Тогда на следующей неделе. Это будет двадцатого августа.
– Лучше двадцать первого.
– Двадцать первого. И где мы встретимся?
– У вас есть машина?
– Да.
– Я буду ждать вас у цветочного магазина в Боро Холл. Вы знаете это место?
– Знаю. Во сколько?
– В семь вечера.
– Какой номер вашего телефона?
– Зачем вам телефон? Мы и так уже обо всем договорились.
– Глория, а вы не забудете?
– Постараюсь не забыть. – Поскольку неприличное предложение было сделано, и было получено согласие, я спросил:
– Глория, вы замужем?
– Нет. А вы женаты?
– Как и вы, предпочитаю свободу. – Мы попрощались, и она уехала.
В синагогу я пришел до окончания молитвы. Знаете, как евреи молятся? Похоже, как и в католических церквях, только когда они читают тексты хором, у них получается более слаженно. И еще они наклоняются при каждой фразе. Кому трудно наклоняться, те просто кивают головой, как бы соглашаясь со священным текстом. Эти наклоны и кивки у них иногда переходят в привычку. Я видел, как некоторые парни, даже флиртуя с девушками, раскачиваются взад и вперед, кивая головой. Мне объяснили, что наклоняясь они физически помогают проникновению святого текста в душу. Этому их учат с детства. Я прошел в спортивный зал еще раз осмотреть картины Збигнева. Он не стал пририсовывать набедренную повязку Давиду, как обещал это раввину. Он просто вырезал из бумаги эту повязку, разрисовал ее под цвет леопардовой шкуры и наклеил на яйца Давиду с тем, чтобы отклеить ее после выставки. Когда я подошел к картине, то увидел, что леопардовая повязка отклеена от своего места и наклеена на голову Давида. Член и яйца Давида были на виду. Конечно, это проделали мальчики, с поведением которых я уже был знаком. Религиозные евреи избегают изображений голых и даже полуголых людей, и конечно же, мальчики всю субботу изучали картины Збигнева и трогали их пальцами пока не обнаружили, что повязка не нарисована на холсте, а наклеена. В конце последней субботней молитвы все прихожане синагоги собираются в мейн шуле. Пользуясь тем, что в спортивном зале никого не было, я отклеил с головы злосчастного Давида бумажную повязку и наклеил ее, как и надо, на член и яйца. Я понимаю этих развлекающихся мальчиков. В их возрасте я обязательно проделал бы то же самое. В кухне был беспорядок. Кухонная стойка была залита кофе, кока-колой, засыпана размоченным печеньем, на полу был мокрый мусор. В углу разбитая бутылка вина. Красная винная лужа начала подсыхать. Конечно, это работа детей, скучающих во время шабеса. А еще на стойке стояли пластиковые стаканы с кофейной кашей. Дети сыпали в стаканы почти до краев кофе, затем заливали его молоком и вином. Это они так играли в кухонную готовку. В кофейных банках кофе был залит не то вином, не то кока-колой. Пришлось эти банки выбросить. В кухню пришел заведующий кухней Ицхак, посетовал на детей, грустно посмотрел в мусорный бак на банки испорченного кофе, но тут пришла его раздраженная жена Руфь с двумя детьми и потребовала, чтобы Ицхак немедленно шел домой. Когда они уходили, Руфь с любезной улыбкой заранее поблагодарила меня за уборку и заверила меня, что ее дети в отличие от остальных детей в кухне не безобразничают. Я смахнул со стойки мокрые бумажные тарелки и стаканы, протер стойку мокрым кухонным полотенцем, подмел пол и вымыл его шваброй. Как и советовал Збигнев, швабру я вымыл в кухонной раковине, поскольку в кухне никого не было. Когда все евреи разошлись по домам, я приступил к уборке мэйн шула. Как мне объяснил Збигнев, первые ряды скамеек были абонированы богатыми людьми. Это стоило дороже. На задних рядах сидели бедные люди: задние сиденья дешевле. Как и в христианских церквях перед каждым сиденьем был ящик для священных книг. В первых рядах все ящики были пусты: богатые евреи хорошо воспитаны и по окончании молитвы уносят священные книги в коридор, где ставят их на полки. В задних рядах почти все ящики были забиты книгами. Кроме того, в этих ящиках было много мусора: бумажные салфетки, записки, скомканные брошюры, обертки от конфет, обсосанные леденцы. Вот тут я начал понимать, какой вред приносят бедные люди. Если они читают в метро газеты и журналы, то по прочтении они бросают их иногда в урну, но чаще на землю. Они едят на улице хот-доги, чипсы, дешевое печенье, и обертки бросают на землю. Бедные люди не пользуются носовыми платками и бросают на землю использованные бумажные салфетки. Дети бедных людей, как правило, постоянно что-нибудь едят или сосут: чипсы, леденцы, жевательные резинки и бросают на землю обертки, палочки от леденцов и мороженого, выплевывают жевательные резинки, которые липнут к подошвам прохожих. Богатые люди читают газеты на работе или дома, не едят на улице хот-доги и чипсы. Богатые люди не разрешают детям есть чипсы, дешевое печенье и леденцы, не разрешают покупать жевательную резинку и вообще не разрешают детям есть на улице. Богатым людям просто нечем мусорить. Почти весь мусор, который вы видите на улице, делают бедные люди. Поэтому все мусорщики, которые по утрам убирают на улицах мусор, и все уборщики, которые убирают общественные помещения, не любят бедных людей. К сожалению, бедных людей намного больше, чем богатых, поэтому так много мусора. В моей синагоге три уборных. Мужская и женская на первом этаже, и одна женская на втором этаже. Всего восемь унитазов. И еще три писсуара в мужской уборной, которые они тоже называют унитазами. Очевидно, французское слово писсуар в Нью-Йорке не принято. Два унитаза из восьми оказались обосраны, так что пришлось их мыть за два слива, как учил меня Збигнев. На мытье уборных ушло полчаса. Еще два часа ушло на уборку всей синагоги, где шваброй, а где пылесосом. Работа не сложная. Еще раз проверив все помещения, я запер синагогу на ключ, – президент Шали выдал мне минимальный набор ключей.
В этот вечер я пришел к Розе с жестяной коробкой датского печенья, которое она любила, но сама не покупала, поскольку считала себя на диете. Роза встретила меня в голубом широком халате, который называла пеньюаром. Джайентс только что забили гол, и я сразу подсел к телевизору. Вечер был душный, игроки выдохлись, игра шла в замедленном темпе. Джайентс выиграли с перевесом всего в одно очко. Во время традиционного чая Роза жаловалась на непостоянство своей дочери, которая жила в Бостоне, бросила колледж, рано вышла замуж и теперь работает с мужем в местном зоопарке, лечит хищников. Сама Роза развелась со вторым мужем пять лет назад и работает в больнице высококвалифицированной медсестрой, поскольку тоже бросила колледж, не доучившись до врача. Держа в одной руке чашку, я завел другую руку Розе под халат, слегка захватил пальцами бедро. А Роза продолжала говорить о дочери, которой пришлось делать укол черной пантере. Чтобы сделать пантере укол, надо загнать ее в маленькую клетку, затем набросить на нее сеть и еще затянуть ремнями. Для этого нужны еще два работника. Причем заманивать ее в маленькую клетку мясом нельзя. А кусок мяса должен дать пантере сам ветеринар уже после укола, чтобы задобрить ее. Тем не менее пантера помнит об уколе гораздо лучше, чем о съеденном мясе, так что ненависть хищников к ветеринарам остается надолго. Я повел рукой по упругому женскому бедру. Кожа не гладкая, в пупырышках. А Роза уже говорила о том, как она поступала на работу. Врачей было достаточно, а вот медсестер не хватало. Поэтому у нее был большой выбор. Второго мужа она не любила, а вышла замуж, чтобы не быть одинокой. Это она специально много рассказывала о себе, – хотела вызвать на откровенность. Мужская откровенность дает женщине надежду на продолжительную связь, а может быть и на серьезную связь. Зачем обнадеживать? Я довел руку до ее паха. Здесь кожа была уже гладкой, без пупырышков. Кружевные трусики. Вероятно, розовые. В прошлый раз были черные. И тут вспомнилась встреча с Глорией. Оказывается, все эти двенадцать лет я помнил о ней. Не думал, но помнил. Роза отодвинулась от меня, отвела мою руку с бедра, запахнула полы халата. Я налил в рюмки бренди, мы закурили. Некоторое время мы смотрели телевизионную серию мыльной оперы. Все актеры играли одинаково. Вероятно, режиссер показывал им, как нужно играть, и они копировали режиссера. Роза сказала, что все сериалы глупые, но смотреть их приятно, потому что они отвлекают от серьезных проблем. Как и все женщины, Роза полагала, что у нее серьезные проблемы. В этот раз я остался у нее на ночь. Лежа с ней в постели, я снова вспомнил свою встречу с Глорией и перебрал в памяти наш разговор.
Утром, как обычно, Роза долго прислушивалась у входной двери, нет ли кого на лестнице, и убедившись, что никого нет, выпустила меня. Поднявшись этажом выше в свою квартиру, я сварил себе кофе и открыл один из своих тайников. На кухонном столе я вытряхнул из жестяного школьного пенала драгоценности: цепочки высокопробного золота, кольца с хорошими камнями, кулоны, серьги, запонки. Я отобрал кольцо с изумрудом и положил в карман. Остальное убрал на место. У меня есть и другие сбережения, например, хорошие акции, но они в других местах. Драгоценности удобны тем, что их всегда и везде легко реализовать. А знаете, кто научил меня вкладывать в них деньги? Сама Жаклин Кеннеди.
1961 год. Я должен был отвезти Жаклин на модную выставку в Джорджтаун. Она там встретила много своих знакомых, и я прождал ее в машине более часа. На обратном пути к Белому дому я спросил у нее, какие акции теперь самые надежные, и она ответила, что может спросить у сведущих людей. А потом она улыбнулась и сказала:
– Уильям, а знаете, какой самый надежный способ сбережения денег?
– Какой же? – спросил я.
– Покупать драгоценности, – и она продолжала улыбаться, так что было непонятно, шутит ли она, или говорит серьезно, и тут же пояснила: – Любые акции могут погореть. Может случиться депрессия, рецессия, мировая война. Банки могут лопнуть. Даже в благополучные финансовые периоды инфляция не прекращается. Так что и сами деньги не надежны. А драгоценности всегда в цене. Например, бриллианты. На них не действуют ни инфляция, ни экономические спады, ни войны, они не горят, так что им и пожары не страшны. – С этого дня я стал иногда покупать драгоценности, лишь только появлялись лишние деньги.
С утра в синагоге оказалось много народу. В спортивном зале подростки, которых я уже знал, бросали мяч в баскетбольную сетку. Главный ребе в своем кабинете принимал каких-то подозрительных людей. Некоторые из них были хасидами судя по их одежде: меховые шапки, штаны до икр, белые чулки. Но некоторые вообще не были похожи на евреев, хотя на головах у них были ермолки. Все они с какими-то документами в руках выстроились в очередь к кабинету Раби. Из кабинета вышел очередной клиент с официальной бумагой, на которой было много печатей и фотография клиента, и сразу же в кабинет вошел следующий очередной клиент. Рядом с кабинетом Раби был офис, в котором сидела секретарь Хая. Поздоровавшись, я объявил Хае, что буду заменять вентиль в женской уборной. Хая с улыбкой сказала, что ей уборная не нужна, а женщин в синагоге сегодня нет, так что женская уборная в моем распоряжении. В коридоре я вынул из мешка свои инструменты, которые купил вчера. Тут в синагогу вошли еще двое, мужчина и женщина. Вид у них был грязный. Мужчина был седобородый, в черном костюме и шляпе, какие обычно носят евреи ортодоксы, только все это было на нем мешковато и засалено. Женщина тоже была одета как ортодоксянка: черный платок, повязанный до бровей, мешковатое черное платье. На чулке была дырка. Они подошли к очереди, что-то спросили у одного из клиентов на иврит. Седобородый мужчина заинтересовался моими инструментами, взял в руки новенький разводной ключ. А я стоял и смотрел на него. Он сказал:
– Мне нужно подкрутить кран в кухне. Я сегодня же это принесу.
– А мне разводка нужна сейчас, – сказал я, глядя в его бледное безликое лицо. – Мужчина положил разводку, сказал: – Раби сейчас занят. У вас есть секретарь? – Я указал, на офис, мужчина пошел в офис, а его женщина была уже там. Тут ко мне подошел один из клиентов, спросил пониженным голосом: – У вас есть бачок с кофе? Мы стоим в очереди уже два часа. Некоторые хотят кофе.
– Сейчас выясню, – сказал я и вошел в офис. Седобородый мужчина стоял перед Хаей, а женщина в дырявых чулках уже уселась на стул сбоку письменного стола, на котором были в беспорядке разложены какие-то бумаги, списки, чеки, справки. Хая говорила: – По этому вопросу мы не контактируем с другими синагогами. – Мне захотелось выставить вон этих двоих, но Хая говорила с ними вежливо. Женщина попросила разрешения позвонить и, не дожидаясь ответа, сняла трубку, стала набирать номер. Мужчина спросил: – Вы не знаете, как звать ребе из Бейсвотера? – Хая повернулась к угловой полке достать справочник, и в этот момент женщина, не отнимая от уха трубку, как бы машинально, взяла со стола один из чеков, мельком осмотрела. Я тут же взял у нее из руки чек, положил на место. Хая это увидела, сказал женщине: – Пожалуйста, ничего не трогайте, а то у меня на столе и так беспорядок. – А я стоял и смотрел попеременно на мужчину и женщину. Наконец, записав имя и телефон ребе из Бейсвотера, странная пара покинула офис, Хая сказала мне: – Спасибо, – а я вышел в коридор посмотреть, не прихватил ли седобородый что-либо из моих инструментов. Я спросил Хаю, знает ли она этих двух людей. Она сказала, что не знает, и подумав немного и найдя точное определение, пояснила: – Это профессиональные нищие. – Я сообщил о просьбе клиента относительно кофе. Хая пониженным тоном сказала:
– Это очередь людей, нуждающихся в деньгах. Во всяком случае они имеют документы, подтверждающие, что они нуждаются. Раби проверяет эти документы и на их основе выдает им сертификаты, по которым они могут получить чеки. Это дополнительная нагрузка нашей синагоге от Бруклинской общины. Они получают свои сертификаты и – до свидания. Ничем больше мы им не обязаны. А кофе, который ты выставляешь по субботам в кухне, предназначается только для наших прихожан, и покупает этот кофе сам Ицхак на его собственные деньги. – Я вышел в коридор, и объявил клиенту, что кофе у нас нет. Другой клиент недовольным голосом сказал: – Мы уже были в других таких местах, так там, если есть очередь, обязательно бывает бачок с кофе и какое-нибудь печенье. Это же не так дорого стоит. А здесь все плохо устроено, и нет комнаты ожидания, все стоят в коридоре. – Я объяснил ему, что наша синагога в отличие от других бедная, и кофе мы покупаем на свои собственные деньги, а не на казенные. Когда я в женской уборной менял вентиль и проржавевшее колено, несколько человек, в том числе президент Шали, наблюдали за моей работой, давая ненужные советы. По воскресеньям они не работали, и им просто нечего было делать. Окончив работу, я включил общий кран, слил воду в унитаз. Трубы уже не текли. Шали сказал мне – спасибо. Я убрал грязь и старый вентиль со старым коленом. Пришла Хая, сама еще раз слила воду в унитазе, проверяя мою работу, и тоже сказала – спасибо. С этого момента они стали смотреть на меня с некоторым почтением. Очевидно, у них никогда не было уборщика, знающего водопроводное дело. Теперь моя новая профессия – уборщик, по официальным документам – смотритель, которого наниматели высоко ценят. И, как и все люди моей профессии, я не люблю бедных людей.
Глава 2. Евреи, их заботы, радости и печали
Прямо из синагоги я поехал на метро в Манхэттен. В метро ехать удобно: можно почитать и подремать. В машине не подремлешь. Я вышел на Сорок второй стрит и направился прямо к Сорок шестой, где на углу была светящаяся аргоновая вывеска: «Коган», а под ней на эмалированной панели официальная надпись: «Здесь покупают золото». Таких ювелирных лавочек в Манхэттене много, и владельцы их в основном евреи, что оправдывает всем известную поговорку: – не все евреи ювелиры, но все ювелиры евреи. Я вошел, звякнул колокольчик, соединенный пружиной с дверью. Здесь уже был один клиент – модно одетый негр лет двадцати. Хозяин лавочки, бледнолицый брюнет в черной ермолке, за пуленепробиваемым стеклом, установленным над прилавком, осматривал золотую цепочку с кулоном. Молодой негр искоса тревожно посмотрел на меня и снова выжидающе уставился на хозяина, а тот положил цепочку с кулоном на весы, что-то подсчитал на счетчике кассы и сказал: – сто семьдесят восемь долларов. – Негр сказал: – Окей, – и еще раз тревожно взглянул на меня. Безусловно этот негр снял цепочку с какой-нибудь женщины, пригрозив ей ножом на лестнице многоквартирного неохраняемого дома. Если обыскать его сейчас, ножа при нем не окажется. Если спросить его, где он взял эту цепочку, он ответит, что это подарок его покойной бабушки. Хозяин лавочки выставлять ворованную цепочку на продажу не будет, а срочно сдаст ее в такое место, где ее перельют на другое ювелирное изделие. Когда хозяин стал отсчитывать деньги, негр снова тревожно посмотрел на меня, а я, не сводя с него глаз, сунул руку в карман. Молодой негр не знал, что у меня в кармане, – пистолет, или полицейская эмблема, а может быть я просто так по привычке сунул руку в карман. Не пересчитывая деньги, негр сунул их в задний карман джинсов и поспешно вышел из лавочки, при этом стукнувшись плечом о косяк двери. А я вынул из кармана кольцо с изумрудом, положил на прилавок через прорезь в пуленепробиваемом стекле. Хозяин надел бинокулярные очки, осмотрел кольцо, сказал:
– Мы не принимаем золото, как ювелирные изделия, так же как и камни. Мы покупаем золото и камни как материал для ювелирной работы. Чтобы определить вес камня, необходимо вынуть его из оправы. – Я спросил:
– Вы не можете сказать, где ближайший магазин, в котором принимают сами изделия?
– На Сорок седьмой стрит. Но там вам дадут не дороже, чем за сам материал. – Я знал, что такое Сорок седьмая стрит: роскошные магазины, полированный мрамор, продавцы в смокингах, продавщицы с видом кинозвезд, повсюду ослепительное сверкание бриллиантов. А хозяин убогой лавочки смотрел на меня грустными семитскими глазами. Я сказал:
– У вас достаточно опыта, чтобы определить на глаз вес камня. Не можете ли вы в виде исключения назначить приблизительную цену? – Хозяин положил кольцо на весы, что-то подсчитал и через лупу еще раз осмотрел кольцо. – Камень с рубиновыми прожилками, – сказал он. – Хотя на глаз их не видно, тем не менее это снижает его стоимость.
– И какова стоимость кольца по вашему? – спросил я. Продолжая рассматривать кольцо, хозяин сказал:
– Оправа камня устарела. Теперь таких не делают. Даже если не переливать само кольцо, оправу следует доплавить. – Хозяин врал. Я помню, как покупал это кольцо с фирменным знаком. Кольцо стоило более трех тысяч. При продаже оно теряет вдвое, а то и втрое. Я сказал:
– Я купил его десять лет назад как фирменное и никогда его не носил. Его можно без переделки выставить на продажу в любом ювелирном магазине, даже на Сорок седьмой. Хозяин спросил:
– У вас сохранился фирменный знак?
– Нет. – По легкомыслию я выбрасывал чеки и фирменные знаки. Теперь хозяин имел полное право снизить цену. Однако, хозяин оказался порядочным. Большинство евреев соблюдает коммерческую честность, охраняя таким образом свой престиж. За кольцо хозяин дал мне тысячу восемьсот долларов, и мы расстались довольные друг другом.
На метро я доехал до Сохо, где среди множества картинных галерей была галерея, в которой были выставлены картины Збигнева. Их было четыре, три пейзажа и одна на библейскую тему: моление Христа о чаше. Перед прибытием в Иерусалим Христос хорошо знал, что там его ждет: предательство, арест, издевательства, побои и, наконец, распятие. И Он просит Бога: – Не дай мне испить эту чашу, – на что Бог ответил: – Не хуя. Вот тебе чаша, и ты изопьешь ее. – Збигнев изобразил Христа распростертым на земле с поднятым умоляющим лицом. А перед ним была протянутая рука с чашей. Конечно, такую картину выставлять в синагоге нельзя. Даже при упоминании имени Христа евреев коробит. Но почему? Ведь он был рожден еврейкой. Значит, по еврейскому закону он был законным евреем. Самый великий человек на свете был евреем, и все евреи должны этим гордиться. А вместо этого они его ненавидят вот уже почти две тысячи лет. Надо это у кого-нибудь выяснить.
Президент Шали объявил мне, что на следующий день будет обрезание. Евреи обрезают мальчиков на восьмой день после рождения. Я никогда не видел как обрезают детей, и это меня заинтересовало. Заведующий кухней Ицхак сказал, что сразу после обрезания в спортивном зале будет завтрак для родственников и приглашенных гостей, и надо будет расставить столы и стулья в семь утра. В синагогу я пришел на рассвете, расставил столы, поставил кипятильник для кофе. Ицхак и молодой еврей Эйб, отец обрезаемого ребенка привезли на своих машинах продукты к завтраку и с помощью двух женщин стали на кухне готовить. В семь часов, ко второй молитве стали собираться гости. По поручению Шали я поставил дополнительный столик на подиум в мэин-шуле. К восьми часам вестибюль заполнился народом. Как и в субботу, мужчины были в черных костюмах и шляпах, а женщины так и пестрели в ярких нарядных платьях. Привезли виновника торжества, грудного ребенка, обложенного белоснежными подушками с голубой отделкой. Приехал незнакомый раввин, который должен был совершать обряд обрезания. К моему разочарованию, весь подиум был заполнен раввинами в черных шляпах, так что близко невозможно было подойти. Да и весь мэин шул был переполнен. После общей молитвы Эйб внес на подушке своего спящего сына, прошел среди расступающихся перед ним людей к подиуму, так что ребенка из-за черных шляп мне уже не было видно. На балконе, предназначенном только для женщин, тоже была толпа. Нарядные женщины вытягивали головы, чтобы видеть происходящее на подиуме. Последовала еще одна молитва. Больше не пытаясь пробраться вперед, я стоял у окна среди молящихся мужчин. Все притихли, обряд начался. Я в два приема взобрался на подоконник и встал во весь рост, и все равно ребенка не было видно: мешали склонившиеся над ним мужчины. Мне было видно только лицо Эйба, отца ребенка. Несколько подростков, следуя моему примеру, тоже стали залазить на подоконники. Поскольку они были ниже меня ростом, им приходилось подсаживать и подтягивать друг друга. На них тут же зашикали. В наступившей тишине послышался детский плач. Грудной ребенок беспомощен. Плач грудного ребенка это просьба о помощи или защите. Но вот плач усилился. Так дети плачут от боли. Через короткое время плач от боли сменился отрывистыми истошными криками. Это уже были крики ужаса. Ребенок интуитивно понял, что теперь его уже никто не защитит от того, что с ним делают. Ребенка мне по-прежнему не было видно, но я видел лицо его молодого отца Эйба. Оно было застывшим и бледным как гипс. После еще одной молитвы Эйб вынес ребенка из мейн-шула, и я последовал за ним в толпе гостей, поздравляющих Эйба. Ребенок спал. Очевидно ему дали снотворное, утоляющее боль. В спортивном зале начался завтрак, сопровождающийся молитвами и торжественными речами, сводящимися к тому, что с этого момента еще один еврей мужского пола вошел в еврейский мир. Девочкам обрезание не делают, хотя я слышал, что в каких-то африканских племенах подобные обряды совершаются и над девочками. К завтраку были поданы красная копченая рыба, омлеты, бублики, творог, кофе. Было много хорошего вина. Гостей обслуживали волонтеры подростки, уже знакомые мне прихожане синагоги. Они разносили на подносах блюда, стаканы с кофе. В уме я подсчитал, во сколько обошелся Эйбу заказанный завтрак и само обрезание. Получилась крупная сумма, учитывая скромный заработок Эйба. Он работал продавцом в кошерном магазине, выплачивал ипотеку за маленький старый дом, и содержал жену и годовалую дочь. Теперь у него уже двое детей. На моем счету он числился в разряде бедных людей. Не так уж и дешево обходятся евреям их религиозные обряды. Я завтракал с волонтерами подростками на кухне. Все они учились в местной ешиве и за завтраком делились школьными сплетнями. Как выяснилось из их разговора, один из них, очевидно самый способный, собирался на следующий год получить высокую степень по шкале религиозного образования, которая давала право преподавать в младших классах ешивы. Звали его Иони. Товарищи подшучивали над ним, явно завидуя. Я обратился к нему:
– Иони, объясни мне одну вещь. Почему евреи не изучают Евангелие наравне с Торой? Все евреи гордятся тем, что Эйнштейн и Фрейд были евреями, так же как немцы гордятся тем, что Бетховен был немцем, а британцы гордятся тем, что Шекспир был англичанином. Самым великим и знаменитым человеком был Иисус Христос. Почему же евреи им не гордятся? – Все подростки посмотрели на меня, а потом на Иони. А тот сказал:
– Во первых, не существует исторической документации ни о рождении Христа, ни о его смерти, ни вообще о его существовании, хотя в то время уже была развита наука история. Сохранились записи римских, греческих, египетских, иудейских историков. Христианское движение в них упоминается только как временный раскол в иудейской религии. А христианское движение в Римской империи является переходом из язычества к единобожию под влиянием учения Торы. О самом Христе древние историки не упоминают. – Я напомнил:
– Об Адаме и Еве тоже нет исторических документов, однако ты в них веришь. – Все подростки улыбались. Иони тоже улыбнулся, сказал:
– Адам и Ева были первыми людьми, и они не были историками, так что некому было документировать. – И тут один из подростков с улыбкой обратился ко мне:
– Антони, как по вашему, кто был физиологическим отцом Иисуса Христа?
– А кто был физиологическим отцом Адама и Евы? – спросил я. Иони тут же ответил:
– У них не было физиологических родителей. Они не родились, они были созданы. Это описано в Торе. А Христос по Евангелию был рожден земной женщиной. – Я не нашелся чем возразить. Эти подростки явно издевались над моей религией, и хотя я вовсе не был религиозен, это меня задело. В кухню вошел Ицхак, сказал:
– Антони, все уже расходятся, надо очистить столы, а то здесь будет вечером собрание.
– Я это сделаю, – сказал я.
– Спасибо, Антони. У нас тут в кухне один кран течет. На прошлой неделе приходил водопроводчик, и я забыл ему сказать… – Я перебил его:
– Кран течет, я уже видел. Я это починю.
– Спасибо, Антони. Я вижу, у вас хорошие руки. – После завтрака в кухне почти не было мусора. Подростки волонтеры все убрали и даже подмели пол. Они сообразительные, особенно Иони. Я теперь знаю, что в ешиве их учат дискуссировать, задают каверзные вопросы по Торе и талмудам. Конечно, на вопрос, кто был физиологическим отцом Христа, я ответил глупо. Надо было сказать: та же самая персона, которая была матерью Адама и Евы. Вот тут бы я их и посадил с их талмудами. Хотя Иони нашел бы чем возразить. В спортивном зале на столах остались объедки, стаканы с недопитым кофе и кока-колой, мятые салфетки. Две женщины собирали в полиэтиленовые пакеты бублики и куски рыбы, нетронутые гостями. Одна из женщин, кажется, была тещей Эйба, другая имела вид нищей старухи. На ней был очень старый английский костюм с обтрепанными рукавами, шляпа, потерявшая цвет и форму, большие стоптанные сникерсы. Красные без ресниц веки и поджатый, кажется, без губ рот придавали ей патологически болезненный вид. Все это было отвратительно, хотя я и без того не люблю бедных, как и все люди моей профессии. Но это не была уличная нищенка. Я уже несколько раз видел ее, приходящей на молитву, и она, вероятно, числилась прихожанкой синагоги, а теща Эйба весьма дружески с ней говорила. Когда я начал заворачивать пластиковые скатерти с объедками и бросать их в мусорный бак, обе женщины, наконец, вышли. После кофе хотелось курить, и я вслед за женщинами вышел в вестибюль. Красноглазая старуха зашла в офис, вероятно, что-нибудь выпросить, а теща Эйба вышла на улицу и направилась к своей машине. Входная дверь была распахнута: следовало проветрить помещение. Я стоял в дверях, курил и рассматривал большую бронзовую доску, вделанную в стену вестибюля. Выгравированная надпись повествовала о том, что синагога эта построена на средства, пожертвованные миссис и мистером Кроцки в память об их сыне Давиде Кроцки, летчике вооруженных сил США погибшем во время Второй мировой войны при воздушном сражении с фашистскими военными силами. Некоторое время я размышлял перед бронзовой доской. Когда летчик погибает в воздушном бою, останков его не остается, и его родные и близкие лишены удовольствия поплакать на его могиле, поскольку могилы нет. Но если его родители богаты, они могут соорудить ему памятник в виде священного храма, который может заменить его могилу. Ко мне подошла красноглазая старуха с пакетом еды, которую она при мне собирала со столов после обрядного завтрака. От нее воняло мочой, грязной одеждой, грязным старческим телом. Она спросила, указывая на доску:
– Читаешь?
– Я читал это уже раньше, – сказал я, слегка отворачиваясь от вонючей старухи.
– Это я построила синагогу, – сказала она тонким старушечьим голосом. Я посмотрел в ее красные без ресниц глаза. Она дополнила: – Я и мой муж построили эту синагогу в память о нашем сыне. Это я – миссис Кроцки.
– Достойный памятник погибшему герою, – сказал я, изображая глубокое почтение.
– А ты – новый Збигнев? – спросила она.
– Да, я новый Збигнев. Зовут меня Антони. Приятно с вами познакомиться. – Она еще некоторое время смотрела на меня красными немигающими глазами, потом сказала: – Всего хорошего, – и вышла. Я прошел в офис. Хая была одна. Я спросил у нее, была ли это сама миссис Кроцки. Хая сказала что да, и все мне рассказала. Супруги Кроцки построили эту синагогу на месте старой одноэтажной. У них еще двое детей, которые живут в Манхэттене. Мистер Кроцки помер десять лет назад. Перед смертью он завещал жене, чтобы она никаких денег не давала детям, поскольку детей он уже обеспечил, а все свои деньги жертвовала синагогам и благотворительным организациям. Ее младший сын никогда ее не навещает, а дочь приезжает редко. Миссис Кроцки живет одна, прислугу не нанимает, ничего лишнего на себя не тратит. В прошлом году синагога поставила за ее счет новый кондиционер на крыше со всей современной автоматикой. Новые столы и стулья, которые я расставляю в спортивном зале, куплены тоже за ее счет.
Вечером я пошел к Розе. Мы смотрели по телевизору фильм с участием Ренолдса. Позже, когда мы лежали в постели, и удовлетворенная Роза лениво поглаживала мой член, я рассказал ей, что у меня в синагоге было обрезание.
– Мне это приходилось видеть, – сказала Роза.
– Где? – спросил я.
– У нас в больнице. Тогда всех обрезали, не только евреев и мусульман.
– Когда это «тогда»?
– В начале шестидесятых. Я была тогда на практике и ассистировала хирургу. Медики доказали, что это полезно, и все поверили. – В начале шестидесятых никакие новости, а тем более в медицине, меня не интересовали. Я тогда был в Аргентине и готовился к пластической операции и оформлению документов на другое имя, и обошлось это в девять тысяч. Теперь бы это стоило дороже: во первых инфляция, во вторых теперь всю документацию закладывают в компьютеры. Я спросил:
– А теперь больше не обрезают всех?
– Теперь в больницах не обрезают.
– Почему, если это полезно? – Роза не ответила, увидела, что я снова начал возбуждаться, уткнулась носом в мое плечо. Я настаивал: – Почему?
– Потому что нашли какие-то изменения в организме обрезанных мужчин, – ответила она лениво.
– Почему же у евреев и мусульман нет никаких изменений?
– Потому что они обрезаются тысячелетия, их организмы приспособились. – Я продолжал настаивать:
– Какие же были изменения у обрезанных людей, предки которых не обрезались?
– Не знаю. Младшему персоналу этого не говорили. Вероятно, какие-нибудь генетические изменения.
– Но если обрезание вредно, почему бы не запретить его мусульманам и евреям, хотя бы в Америке?
– Это опасно. – Роза начала раздражаться: – Я же сказала: они приспособились к этому за тысячелетия. Если они перестанут обрезаться, могут случиться еще худшие изменения. – Тут я вспомнил, как отвозил Джека в Форест Хиллс к доктору Джозефу Шубу.
1961 год. Июль. Это было после приезда из Вены, где Джек имел неприятную встречу с советским премьером Хрущевым по поводу Кубы и сепаратного мира с Германией. Да, через четыре дня после приезда Джона Кеннеди из Вены, а может быть и раньше. Нет, не раньше, потому что перед скандальным совещанием в Пентагоне наступило некоторое затишье, нет, не в политических дебатах, а в жизни самого Джека, не то чтобы совсем затишье, а просто после дневных митингов в Нью-Йорке вместо коктейлевых партий Джек пару вечеров оставался в номере гостиницы. Один. Это я точно знал, что один. И вид у него был мрачный. Я понимал: по четыре совещания в день, это не каждый выдержит, да еще при его здоровье и в его возрасте, ведь ему уже было за сорок. А ведь Жаклин оставалась в Вашингтоне. И Джек не воспользовался этим и не приводил к себе в номер девушек. Это было необычно. Хотя для меня это был короткий отдых: не нужно было следить за девушками, которых приглашал к себе Джек, а главное, за теми, кто мог следить за этими девушками, да еще и так, чтобы это было не заметно для тех, за кем я слежу. Именно в такой вечер Джек вызвал меня и сказал, что мы поедем в Форест Хиллс, и мне надо быть за рулем. Это тоже было необычно, потому что, когда Джек ехал куда-нибудь один, машину вел его шофер. Я ни о чем не спрашивал в ожидании когда Джек назовет точный адрес, а он все молчал. И только когда мы проезжали через Квинсборо бридж, Джек, наконец, назвал адрес и сказал, что мы едем к доктору урологу, фамилия которого Шуб. Джек часто ездил по докторам и даже бывал в больнице. Но если я и сопровождал его, машину всегда вел его шофер. Во время войны Джек служил на торпедном катере в районе Соломоновых островов, где японцы подорвали его катер, но он спас свою команду, за что был награжден медалью за героизм. При этом у него был поврежден позвоночник, и он так и не оправился от контузии, хотя регулярно лечился. Об этом писали все газеты. Правда, я слыхал, что боли в спине у него были еще с детства. Кеннеди – хилое семейство. Хотя внешне они поддерживают бодрый вид, занимаются спортом и много плавают в бассейнах. Когда я подвел машину к парадной с вывеской доктора, Джек велел мне ждать в машине, а сам направился в парадную. Он был там более получаса. Вернувшись и садясь в машину, он сказал:
– Уильям, теперь иди к нему ты. – Я никогда не задавал ему вопросов, но в этот раз я все же спросил:
– Зачем? – Усевшись на сиденье, Джек сказал:
– Уильям, вчера, когда я назначал посещение врача, я назначил его нам обоим. Все мужчины, как и я, регулярно проверяют простату. Для профилактики. Так принято. Когда доктор спросит, на что жалуешься, отвечай, что пришел проверить простату. Профилактически. Тебе придется заполнить анкету, а доктор заведет на тебя медицинскую карточку. И то, и другое забери у него вежливо, чтобы ничего о тебе там не оставалось. Денег не плати. Все оплачено.
Доктор Джозеф Шуб скорее походил на монголоида, чем на еврея. В еврейском музее, куда я сопровождал Джека во время его предвыборной кампании, я узнал, что в Китае существует большая еврейская община. На музейных фотографиях эти евреи ничуть не отличались от китайцев. Доктор Шуб был среднего роста, на полголовы ниже меня, довольно старый, лет под пятьдесят, в белом, как и положено, халате и белой ермолке. Был поздний час, это был сверхурочный прием, секретаря уже не было, и доктор сам за конторкой секретаря заполнил на меня анкету. Потом он провел меня в свой медицинский кабинет с лежаком для пациентов и всякой аппаратурой. Сидя на вертящемся табурете, он велел мне опустить штаны и ощупал мне хуй и яйца, спросил с интимно заискивающей улыбкой:
– У вас было обрезание? – Я помедлил, не сразу поняв вопроса, и ответил:
– Нет.
– Как же нет? У вас нет крайней плоти. – Я опять не понял, а когда догадался, сказал:
– У меня сексуальный опыт. У всех мужчин, которые ведут половую жизнь, крайняя плоть отходит и потом уже не возвращается назад. – Доктор с умудренной улыбкой ласково проговорил:
– Так не бывает. Мальчикам делают обрезание в грудном возрасте, поэтому они этого не помнят. Вы могли и не знать, что вы обрезаны. – Это начало меня раздражать, и я сказал:
– Но я же помню, что у меня в детстве, как и у всех мальчиков, была крайняя плоть, и она отошла, как только я начал половую жизнь. – Доктор сомнительно покачал головой и велел мне лечь боком на кожаный лежак. Надев резиновые перчатки, он засунул мне палец в жопу и долго там им вертел. Снимая перчатки, он пояснил:
– Под простатой проходит тазовая кость, поэтому простату можно прощупать только со стороны прямой кишки. Простата у вас в норме. Вы хорошо загорели. Вероятно, вы любите плавать?
– Да.
– Имейте ввиду: никогда не ссыте во время купания в холодной воде. Это ведет к воспалению мочеиспускательного канала, а также к заболеваниям простаты. – Потом он провел меня в свою медицинскую уборную и заставил поссать, наблюдая за струей мочи. Потом спросил:
– У вас моча никогда не бывает мутной?
– Нет. – Обстановка медицинского офиса располагала к тому, что надо врачу говорить правду, и на его вопрос: – Когда утром вы просыпаетесь, у вас хуй стоит? – я ответил: – Да.
– Значит, у вас все в порядке, – заключил Шуб и добавил: – Пока что.
Стены кабинета были увешаны большими анатомическими картами и схемами. Застегивая штаны, я подошел к изображению мужских половых органов в разрезе. Оказывается, хуй начинался далеко в теле, у самого мочевого пузыря. Я это видел в школе в учебнике анатомии, но с тех пор забыл, и теперь читал надписи к стрелкам, указывающим органы. Простата оказалась маленькой шишечкой внизу, в том месте, где хуй загибался, выходя наружу. И все мужчины так заботятся об этой шишечке, и вероятно, не зря заботятся. Когда доктор Шуб закончил записи в медицинской карточке, я потребовал все заполненные бумаги. Он посмотрел на меня искоса своими монголоидными глазами, спросил:
– И вы тоже хотите это взять себе?
– Да.
– Но у меня должна остаться запись о вашем состоянии, хотя бы для сравнения, если вы нанесете следующий визит.
– А зачем мне следующий визит? Вы же сказали, что у меня все в порядке.
Джек дожидался меня в машине с закрытыми глазами, и выражение его лица было мрачным и усталым. Он взял у меня анкеты, которые за меня заполнял Шуб, и сунул их в свой портфель. Садясь за руль, я сказал:
– Этот Шуб не очень серьезный врач.
– И как ты это заключил? – лениво спросил Джек. Ведя машину обратно в Манхэттен, я рассказал о разговоре с доктором по поводу обрезания. Тут я увидел в водительском зеркале, что Джек беззвучно смеется. Я сказал серьезно:
– Ну что это за доктор, который всю жизнь имеет дело с хуями и не может отличить обрезанного мужчину от необрезанного? – Продолжая улыбаться, Джек сказал:
– А вот мне он не задал такого вопроса, вероятно, безоговорочно решил, что я обрезан. – Я заключил:
– Он просто не посмел спросить. – Настроение Джека явно поднялось, и он стал объяснять:
– Дело в том, Уильям, что более половины работников медицины принадлежат нациям традиционно обрезаемым. Это не только евреи, но и мусульмане, а также некоторые другие восточные люди. Каждому человеку свойственно уважать и оправдывать традиции своего народа. И если, скажем, мусульманин добился престижного положения в медицине, он всеми силами старается подчеркнуть положительные стороны обрезания, игнорируя отрицательные. Доверяя мнению медицинских авторитетов, некоторые христиане стали обрезать своих детей. Так что скоро станет трудно по хуям отличить мусульманского ребенка от христианского. А эта часть Форест Хиллс сугубо еврейский район, и доктору Шубу редко приходится принимать христиан. – Я все же осмелился возразить:
– Если доктор уролог отличает обрезанного от необрезанного только по наличию открытой головки члена, он не может быть хорошим специалистом. – Лицо Джека снова стало мрачным.
– В этом ты ошибаешься, Уильям. Шуб – опытный специалист. Я заранее навел о нем справки. – Джек не стал меня предупреждать, чтобы я никому не говорил о визите доктору: он хорошо знал, что я исполнителен и не болтлив. Поэтому я и держался на своем посту.
Когда утром я заменял кран в кухне синагоги, из спортивного зала донеслись звуки музыки. Кто-то играл на пианино, которое стояло в углу зала, и которое подарил синагоге один богатый еврей, когда переезжал в другой, более престижный район. Я вошел в зал. За пианино сидел Раби. Он играл что-то знакомое, что я где-то слышал. Я остановился поодаль. Раби закончил игру, стал перелистывать ноты. Я подошел, спросил:
– Раби, что вы сейчас играли?
– Бетховен. К Элизе, – ответил он, продолжая перелистывать ноты.
– Я это где-то слышал, – сказал я, и тут вспомнил, где я это слышал. В Белом доме. Это была их семейная партия. Было мое дежурство, я сидел в угловой комнате и слышал звуки рояля, доносившиеся из овальной гостиной. Я не знал, кто играл, возможно сама Жаклин Кеннеди, хотя я не помню такого случая, чтобы она когда-нибудь присаживалась к роялю. В этой же овальной гостиной устраивались камерные концерты и официальные приемы. В этой же гостиной жена президента Джона Адамса после стирки развешивала сохнуть белье.
– И где вы слышали эту бетховенскую вещь, Антони? – спросил Раби, найдя, наконец, нужную страницу.
– Не помню, кажется, по радио. – Раби снова красиво заиграл. А я слушал. Когда он кончил играть, я сказал:
– Я это тоже слышал. По радио. Что это?
– Лебедь. Сен-Санса.
– Очень красиво. Раби, вы – хороший пианист.
– А вот в этом, Антони, вы ошибаетесь. Эти вещи может играть каждый школьник начальной музыкальной школы. Так же как я. Профессиональный музыкант сыграет это лучше.
Работы уборщику было не так уж и много. Часа три в день. В пятницу, перед шабесом – часа четыре. Но иногда устраивались партии, после которых было много уборки. Заменяя сливные устройства в уборной второго этажа, я стал подсчитывать в уме бюджет обычного уборщика, который не имеет такого состояния, как я. Идет инфляция. Теперь тысяча девятьсот семидесятый год. Пачка сигарет стоит шестьдесят центов. В шестидесятом году она стоила пятьдесят пять центов. Проезд на метро так же вздорожал. Квартира-студия теперь стоит сто долларов в месяц, в шестидесятые годы она стоила девяносто. Все цены возросли примерно на десять процентов. А моя зарплата остается, как в те времена, когда Збигнев начал здесь работу, – триста пятьдесят долларов в месяц. Кроме того я выполняю обязанности водопроводчика. При Збигневе Хая в случае необходимости вызывала водопроводчика, и я подсчитал в уме, во сколько им это обходилось. На следующий день я все это изложил президенту Шали. Он сказал, что поднимет этот вопрос на следующем заседании правления.
Следующее заседание состоялось через два дня. Мне прибавили зарплату на пятьдесят долларов. Шали сразу же доложил мне об этом:
– Антони, выигрыш ваш. – Я улыбнулся на его улыбку, сказал: – Спасибо. – Он и не подозревал, что я мог прожить без их нищенской зарплаты. Для меня дело было не в деньгах, а в самом принципе.
Глава 3. Встреча с прошлым
Из головы не выходила дата – двадцать первое августа – день свидания с Глорией. Семь часов. Боро Холл. У цветочного магазина. В Манхэттене я не пошел в универмаг Трампа, а пошел в Александерс, универмаг для среднего класса, поднялся на третий этаж в отдел мужской одежды, где осмотрел одетые манекены. У меня и раньше, в той первой жизни, была привычка покупать одежду с манекенов: наглядно видишь достоинства и недостатки одежды. Я остановился перед манекеном в черном модном костюме. Теперь такая мода: брюки расширяются от бедер, а пиджак не широкий, как это было раньше, а по фигуре. Ко мне подошел клерк:
– Чем могу помочь, сэр?
– Такой костюм, – и я указал на манекен. – Моего размера.
– Какой размер вы носите? – спросил клерк.
– Посмотрите на меня, – сказал я, глядя на манекен. Клерк повел меня вдоль ряда костюмов, показал мне костюм моего размера. Конечно же, он готов был всучить мне старомодный костюм.
– Не такой, – сказал я. – Мне нужен как на манекене. – И клерк снял уже из другого ряда модный костюм. Я примерил его и купил.
Хотя я и хорошо знал район Боро Холл, все же я перепутал направление и подъехал к цветочному магазину по противоположной стороне. Глории у цветочного магазина не было. До семи часов оставалось десять минут. Я решил объехать вокруг квартала, и у меня возникло сомнение. А что, если она передумала? Или просто забыла? Конечно, прошло больше недели после встречи на пляже, и она могла забыть. Я не знаю ни ее адреса, ни телефона. Возможно, она вышла замуж и носит фамилию мужа. Не зря же она отказалась дать номер телефона. Возможно уже тогда, на пляже, она решила больше не встречаться со мной. Не люблю, когда женщины обманывают меня. Правда, я обманывал чаще, но это же естественно. Глория – единственная женщина, которой бы я простил обман. Такова первая любовь. А ведь прошло двенадцать лет. В последних классах школы она была у меня одна. И я у нее был один. Многие парни заигрывали с Глорией, но никто не осмеливался ухаживать за ней: боялись меня. Все же у меня был один соперник. Гол. Он был старше нас на два года и уже поступил в колледж, но по школьной привычке продолжал часто звонить Глории. Я часто ссорился с Глорией, но мы быстро мирились. Во время одной из таких размолвок Гол позвонил Глории и пригласил ее на выступление Билла Харлея с его Кометами. Об этом мне сообщил Кели, который был на положении моего раба в классе. Такие концерты были редкостью в наших городских театрах, и цены на билеты были недоступны школьникам. К окончанию концерта я подошел к театру. Когда в толпе выходящих зрителей я увидал Глорию и Гола, держащего ее за руку, я подошел к ним и без лишних слов ударил его кулаком в челюсть. Глория схватила меня за руку и потащила в сторону. Нас окружала толпа. Я рвался к Голу, он рвался ко мне продолжить драку. Глории удалось утащить меня из толпы. Когда мы с Глорией оказались далеко от театра, она напомнила мне о нашей последней ссоре. А ссора была из-за того, что у меня вошло в привычку похлопывать по заду Грэйс, подругу Глории – самую пухленькую девочку в классе.
– Значит, ты пошла с ним на этот сраный концерт на зло мне? – спросил я.
– Да. Назло тебе, – упрямо повторила Глория. Я был в ярости.
– А если ты назло мне станешь ебаться с кем попало? – спросил я. И тут Глория дала мне пощечину. Это была первая в жизни пощечина, полученная не от родителей и тетки, а от сверстника. Но я простил. Я обнял ее, и мы поцеловались прямо на виду у редких прохожих. Это была настоящая любовь. Но тогда я не мог оставаться в Филадельфии, уж слишком заманчивым было предложение. В то время самой большой моей мечтой было зарабатывать много денег. Именно для этого я и поступил в колледж, по наивности считая, что образование дает возможность получить хорошую должность. Помимо основных предметов я взял для кредита французский язык, поскольку в детстве жил несколько лет с родителями в Канаде и немного знал французский. Вскоре оказалось, что большинство моих соучеников способней меня. По вечерам я ходил в спортивный клуб на занятия в группе бокса. Мой тренер говорил, что у меня есть все данные для участия в мировых чемпионатах. Вот тут-то меня и заметил агент моего первого босса. Он спросил:
– Ты не боишься испортить свою внешность?
– Это как же? – спросил я.
– У всех профессиональных боксеров перебиты носы. – Я сказал:
– Зато они хорошо зарабатывают.
– А ты не хотел бы стать гардом? – Все по той же наивности я сказал:
– Прошлое лето я работал гардом. На нашем пляже мало платят.
– Ты меня не понял, – сказал он. – Я имел ввиду не гардом на пляже, а телохранителем.
– А сколько им платят? – Он назвал сумму, от которой я обалдел. – Это во время испытательного срока, – добавил он. – Потом будет больше. – Так определилась моя судьба. Когда я рассказал об этом тетке, у которой я жил после смерти родителей, она сказала: – Это может быть опасно, – а когда узнала о предлагаемой сумме, то стала собирать мои вещи в дорогу. Самое трудное было проститься с Глорией. Нам было тогда по девятнадцати лет. Когда я увидел ее плачущее лицо, я даже подумал, не отказаться ли мне от выгодного предложения, но здравый рассудок одержал верх.
Я объехал квартал и подъехал к цветочному магазину с нужной стороны. Глория была здесь. Я еще издали узнал ее, хотя у нее была другая прическа и закрытое прямое мини-платье. На ее плече висела по современной моде на длинном узком ремешке маленькая дамская сумка, в руке несколько гвоздик. Запаркованные машины стояли у тротуара вплотную друг к другу. Я остановился на даблпаркинге, открыл дверь, и Глория, узнав меня, все той же легкой, знакомой мне походкой прошла между машин, сказала: – Когда я не за рулем, предпочитаю сидеть на заднем сидении. – Двенадцать лет назад у нас был с ней обычай при встрече, не здороваясь, сразу начинать разговор, будто продолжая его с прошлого раза. И теперь она следовала этой старой традиции. Она села, спросила:
– Куда мы?
– В Манхэттен. Глория, эти цветы для меня?
– Я всегда сама себе покупаю цветы.
– Для вас цветы уже есть, – и я указал через плечо, где на заднем сидении рядом с Глорией лежал букет из пяти роз. – Она улыбнулась:
– Ну что ж, обменяемся букетами.
– Глория, чем же вы были заняты по вечерам всю эту неделю?
– Ничем серьезным.
– Почему же вы сказали, что все ваши вечера заняты?
– Я надеялась на то, что за неделю вы забудете о нашей договоренности.
– Но я не забыл. Вы разочарованы?
– Нет, поскольку, как видите, я пришла в назначенный час. – Я видел в переднем зеркале, как она, отодвинув цветы, взяла с сидения книгу. Это был роман Мелвилля «Билли Бад». Я прочел только треть его и бросил: скучно. Глория взяла другую книгу. Роман Воннегута. Один роман Воннегута я уже прочел, и мне нравился этот писатель. Глория взяла третью книгу. Короткие рассказы О. Генри, Чехова, Марка Твена, Толстого, Мопассана, Бретгарта. Глория спросила:
– Антони, это ваши книги?
– Мои. Хотите взять? Я их уже прочел.
– Я это читала. – По ее тону я понял, что она принадлежит к тому классу людей, которые хорошо разбираются в литературе. – Антони, вы наметили конкретно место, куда мы направляемся?
– Гарден Хауз.
– А не слишком ли это респектабельно?
– Там удобный паркинг.
– А вы уже там были?
– Когда я работал таксистом, мне приходилось увозить оттуда клиентов.
– Клиенты не могут оттуда уехать сами, они должны либо иметь личного шофера, либо вызывать такси, потому что на паркинге там стоит полицейский, который не разрешает людям в нетрезвом виде садиться за руль. Вы это знаете?
– Знаю, поэтому в таких ресторанах пью только сухое вино и в ограниченном количестве. – Когда мы ехали по Бруклинскому мосту, Глория сказала:
– Отсюда Манхэттен выглядит великолепно. Именно отсюда и в это время дня – сумерки. – Я взглянул на гигантское скопление небоскребов и молча согласился с Глорией. На фоне темнеющего закатного неба силуэты небоскребов с сеткой светящихся окон. А за ними две башни строящегося Уорлд Трэйд Центра, покрытые лесами. Леса были затянуты оранжевыми сетками, и при подсветке близнецы небоскребы выглядели призрачными оранжевыми колоннами на фоне опалового неба. Я много раз все это видел, но только теперь понял, что это красиво, так же красиво как то, что играл на пианино старый Раби. Я спросил:
– Глория, вы никогда не были замужем?
– Была, – сказала она и со скрытой усмешкой добавила: – всего один раз. Этого было достаточно.
– Достаточно для чего?
– Достаточно для того, чтобы многое понять.
– А я вот ни разу не был женат. Так что мне многое остается непонятным. А сколько времени вы были замужем?
– Долго. Четыре года. – В ее голосе были шутливые интонации.
– Долго, – согласился я. – Так что вы уже многое понимаете.
– Антони, вы много читаете?
– Много, – но, опасаясь что она может задать каверзный вопрос, я тут же добавил: – за последнее время.
– Антони, чем вы собственно занимаетесь в нерабочее время? Кроме чтения. Вы сказали, что работа иногда занимает у вас не более двух часов в день. Вы неженаты, у вас должно быть много свободного времени.
– Я смотрю телевизор. Бывают хорошие фильмы, смотрю футбол, хоккей. – Тут я понял, что говорю глупо, да и выгляжу глупо. – Не скрывая своего раздражения, я спросил: – Глория, а чем собственно вы занимаетесь в нерабочее время? – Она почувствовала мое раздражение, сказала:
– Извините, Антони, что я полезла в вашу личную жизнь. Я не любопытна. Просто я хотела найти с вами общий язык.
– Ищите, может быть и обрящете, как сказано в Библии. – Я увидел в переднем зеркале, как она улыбнулась.
– Антони, у вас контакты с евреями. Как они относятся к Библии?
– Они читают только Ветхий завет и считают, что именно в нем сказано все.
– Вероятно, и мусульмане считают, что в Коране сказано все.
– Конечно. Иначе бы не было никаких религий. У евреев есть такая наука – каббала. Я видел у них в библиотеке такую книгу. Они считают, что в Ветхом завете заложены закодированные сведения, по которым можно предсказать будущее. – Она снова улыбнулась. – Вы не верите? – спросил я. – Они это проверяли по компьютеру.
– Я работаю по системе компьютеров.
– Глория, значит, вы тоже можете предсказывать по Торе?
– Очевидно, они построили программу на совпадения. Если по этой программе заложить в компьютер байроновского Манфреда, получится гораздо больше совпадений. Антони, вы не можете по дороге заехать в Линкольн центр?
– Пожалуйста.
Знакомая мне широкая Линкольн плаза с фонтаном посередине. Знакомые три здания: два оперных театра и один концертный зал. Недавно я развозил отсюда на такси своих клиентов. У входов всех трех зданий толпились нарядные люди. Глория прошла через толпу в вестибюль Сити Оперы. Я последовал за ней. У театральных касс тоже толпились люди. Глория подошла к боковой кассе, где были билеты на все дни. Здесь очереди не было. Она выясняла, есть ли определенные места на определенное число. Оказалось что есть, и она купила два билета. Это были самые дешевые билеты. Глория пояснила, что это боковые кресла пятого яруса, откуда хорошо видна сцена и весь оркестр. Боковые места нижних ярусов стоят раз в пять дороже, и к тому же они неудобны, потому что расположены в ложах. Она остановилась перед афишей сегодняшнего спектакля. Это была опера «Лакме», о которой я не имел понятия.
– Глория, вы хотите на это пойти?
– Я это слышала в прошлом сезоне. Впрочем, я бы не отказалась.
– Так пойдемте, если хотите.
– Планируя обед в ресторане, я проголодалась. Впрочем, в антракте можно перекусить в театральном буфете.
– После театра мы все равно зайдем в ресторан или в приличное кафе.
Так я впервые очутился в театре как обыкновенный зритель, а не гард, сопровождающий высокопоставленных лиц. Поскольку билетов на любимый Глорией пятый ярус не было, я взял по ее совету боковые места второго яруса, откуда были видны и вся сцена, и весь оркестр. Музыка оперы была красивой, но когда долго слушаешь классическую музыку, становится скучно. В этот раз скучно не было, потому что рядом сидела Глория. Я искоса поглядывал на нее. Лицо ее было сосредоточенным. Когда после увертюры поднялся занавес, Глория стала переводить взгляд с оркестра на певцов и обратно. Потом запел один тенор – очень красиво. И тут мы с Глорией встретились глазами. Она слегка улыбнулась краями губ. Тенор играл британского офицера. А сама Лакме была жрицей индуистского храма, поскольку действие происходило в Индии. Если бы это было в кино, было бы не интересно, потому что с самого начала было ясно, чем все это кончится: ничем хорошим. Но в опере свои законы. Все чувства здесь передаются не столько словами сколько музыкой, и передаются лучше чем игрой и мимикой актеров. Сразу после первого действия, когда люстры еще не зажглись, а люди продолжали аплодировать, Глория потащила меня за руку из зала. Мы бегом спускались по лестнице, чтобы занять очередь к буфету, и оказались первыми у буфетной стойки. Я проголодался, и сандвич с кофе показался мне вкусным. А кофе был откровенно плохим, несмотря на цены театрального буфета, превышающие цены дорогих ресторанов. Я сказал:
– Глория, вы взяли два билета на какой-то спектакль. С кем вы собираетесь поехать?
– С моим знакомым.
– Он ваш бойфренд?
– Нет. Сосед по дому. Я часто езжу с ним в оперу. – Я размышлял. Сосед. Роза была тоже моей соседкой по дому. Но с ней бы я не поехал ни в ресторан, ни тем более в театр. Женщин следует держать на расстоянии. Если подпустить женщину близко, она тут же начинает копаться в твоем прошлом, а мне это было ни к чему. Глория, не допив кофе, закурила.
– У меня привычка во время курения пить кофе, – сказала она. Я тоже закурил, и мы вышли на балкон. Отсюда открывался вид на площадь с фонтаном, освещенным снизу подводными софитами.
– Великолепный вид, – сказал я. – Глория, а сколько лет вашему партнеру по опере?
– Семьдесят. У него парализованная жена, которая не может далеко уезжать от дома.
– Она не ревнует мужа?
– Нет. Я с ней в хороших отношениях. – Книги читать полезно. Моя речь изменилась. Я стал употреблять выражения, которые раньше не употреблял, и мне было легко говорить с Глорией. Она стала сложной женщиной. Еще несколько лет назад мне не пришло бы в голову такое определение, и я сказал вслух:
– Глория, вы сложная женщина.
– Это комплимент?
– Безусловно. Ведь противоположность сложности – примитив. – Я машинально стал насвистывать то, что пел тенор перед индуистским храмом. Глория сказала: – Нет, во второй фразе модуляция в септу, – и она тихо напела эту фразу. Я повторил это свистом. Она спросила: – Вы раньше слышали эту арию?
– Нет, – признался я.
– Антони, у вас хорошая музыкальная память. Это сложная мелодия, – и с улыбкой добавила: – Сложная как и я. Вам нравится опера?
– Да. Красивая музыка. – Я понимал, что ответ был примитивным. Интеллигентные люди так не говорят. Интересно, как бы ответила Глория на такой вопрос. И я спросил:
– А вам опера нравится? – Тихим ровным голосом она ответила:
– Очень. Приятно слышать чисто французскую музыку безо всяких итальянских и немецких примесей, хотя Делиб считается несерьезным композитором.
– А какие композиторы считаются серьезными? – спросил я.
– Вам это интересно? – Судя по ее тону ей было ясно, что я не имею никакого представления о музыке. Это меня задело.
– Глория, вы все оперы слушаете по нескольку раз?
– Антони, очень мало опер, которые стоит слушать. Их можно пересчитать по пальцам рук, в крайнем случае, ног. Я их слушала по нескольку раз. Остальные оперы, а их сотни, можно никогда не слушать.
– Тогда зачем же их ставят?
– Для поддержания мирового института оперы. – В ее голосе послышалась ирония: – И для профессионалов музыкантов. Их в основном интересует не сама музыка, а техника написания музыки: гармония, оркестровка, виртуозность, профессионализм. Даже если композитор абсолютно бездарен, но обладает высоким профессионализмом, музыканты его примут. – И она повторила свой вопрос: – Вам это интересно?
– Мне интересно все то, чего я не знаю, – и я, глядя на нее с шутливой строгостью сказал: – Глория, если бы я не знал только музыки, и это было бы единственным провалом в моем интеллекте, я был бы самым умным человеком на свете. – Она рассмеялась. Я улыбался. Чтение не только расширяет кругозор, оно еще и учит хорошо говорить. Когда после антракта мы заняли свои места, Глория тихо сказала:
– Сейчас будет красивая ария с колокольчиками. Вы, вероятно, слышали ее по радио. Ее часто передают. – Второе действие было оживленным. Было много народу на сцене, много событий, ария с колокольчиками, которую я действительно где-то слышал, и после которой зрители аплодировали. Глория почему-то не аплодировала. Когда фанатичный священник ударил британца ножом, и музыка заиграла очень громко, я взял Глорию за руку. Она спокойно и небрежно отняла свою руку. В следующем антракте мы опять вышли на балкон. Здесь, как и в фойе, тоже было много народу. Люди, переговариваясь, стояли парами и целыми группами. От одной группы отделилась экстравагантно одетая, ярко накрашенная дама, лет сорока, подошла к нам с улыбкой.
– Добрый вечер, Глория.
– Добрый вечер, – и Глория представила: – Познакомьтесь: Антони, Эмелда. – Я наклонил голову, приветствуя. Эмелда кивнула мне, быстро осмотрела меня с головы до ног и обратилась к Глории:
– Ну что за тенор! Не может выдержать ля бемоль. Конечно, Богему ему не спеть. – Глория сказала:
– Я слышала его в Тоске. Было хорошее си. И при том он строен и хорошо смотрится на сцене, не в пример прославленным толстым тенорам.
– О да! – согласилась Эмелда. – Приятно, когда певец выглядит в соответствии со своей ролью. – Она опять посмотрела на меня, и ее взгляд говорил: – Интересный мужчина, я сразу это увидела, – а вслух она говорила: – Я слышала самого Таккера, правда в конце его карьеры, так на него невозможно было смотреть. Я слушала с закрытыми глазами. – Присутствуя, но не участвуя в светском разговоре, я рассматривал окружающую публику. Никогда я еще не видел такого разнообразия, даже в той, первой жизни. Здесь были и люди высшего класса, и явная беднота, и экстравагантные представители богемы, и даже подростки хулиганского вида, люди разных возрастов и рас, попадались явно гомосексуальные пары, самые нарядные и самые скромные одежды. И все это объединяло нечто общее: это была оперная публика. И Глория была частью всего этого. Да, она изменилась, она стала другой. Перед началом третьего действия я спросил:
– Глория, эта Эмелда – ваша приятельница?
– Да, я с ней познакомилась в опере, и мы часто видимся на спектаклях. Театральное знакомство. – Третье действие оперы было таким, как и нужно. Лакме с помощью своего преданного слуги излечила британца от смертельной раны индийскими травами по народной индийской медицине, и они живут в шалаше в индийских джунглях. Британские солдаты находят, наконец, своего офицера, и он уходит с ними к своей британской невесте. А Лакме нюхает цветок, запах которого смертелен, и умирает. Британец все же возвращается к Лакме, и она умирает на его руках. В кино она бы сразу умерла, понюхав цветок, но в опере она успевает перед смертью спеть свою арию. Это была очень красивая ария, так что я снова взял Глорию за руку, не специально, а непроизвольно, и она не отняла руки. Лицо ее было серьезно. Когда все стали аплодировать, Глория отняла все же руку и тоже стала аплодировать. Я аплодировал со всеми. Покидая зрительный зал, многие заходили в уборную. Нам с Глорией это было необходимо, поскольку мы собирались пойти в ресторан. В мужскую уборную очереди не было, зато к женской уборной выстроилась длинная очередь, хотя уборные были на каждом этаже. Правильно сказал Збигнев, что женщины – зассанки. Мы договорились с Глорией, что встретимся в вестибюле. Спустившись по лестнице, я закурил. Многие мужчины курили в вестибюле в ожидании своих дам. И тут из толпы выходящих на улицу людей торопливо подошла оперная знакомая Глории Эмелда. Сияя улыбкой, она спросила:
– Антони, как вам понравился сегодняшний спектакль?
– Понравился. Особенно последняя ария, – и я улыбнулся ей любезной улыбкой. Выражение ее лица говорило: – ты мне очень нравишься, – а вслух она сказала:
– Да, Мария Тьери была бесподобна. – Я всегда нравился женщинам, поэтому мне легко было заводить с ними знакомства, и я продолжал спокойно смотреть на нее с улыбкой. Она продолжала: – В отличие от Мета Сити опера привносит некоторую оригинальность, поэтому имеет постоянный контингент любителей. Я вижу, вы не часто сюда ходите.
– Теперь буду ходить чаще, – заверил я. Она так и просияла:
– И не пожалеете! У них не только постановки, но и музыкальное исполнение оригинально. – Теперь выражение ее лица отчетливо говорило: – хочу, что б ты засунул в меня хуй, да поскорей, – а вслух она говорила: – На следующей неделе они дают Риголетто в новой оригинальной постановке. Мы идем всей компанией. – Тут подошла Глория. Эмелда обратилась к ней: – Мария Тьери была сегодня хороша. – Глория дала конкретное определение:
– Голос не большой, но высокая техника. – Эмелда согласилась:
– Конечно, Турандот ей не потянуть, но какая колоратура!
По выходе из оперы Глория указала мне на ближайший ресторан, расположенный на углу Колумбус. Метрдотель предложил нам столик у окна, но Глория пожелала сесть за дальний столик: ей не хотелось, чтобы прохожие могли нас видеть через окно. К ужину я заказал бургундского и реми. Глория тут же сказала:
– Нет. Антони, вы за рулем. – И я ограничился бургундским. Все же я заметил:
– Может быть еще шампанского? Надо же как-то отметить наше знакомство.
– Действительно, – согласилась Глория. – Шампанского. Хотя я бы тоже выпила рюмку коньяку. – Я предложил:
– Возьмем бутылку реми и сразу после ужина выпьем и отметим в каком-нибудь другом месте.
– В каком месте? – сухо спросила Глория.
– В ближайшей гостинице.
– Мы не подростки и не тайные любовники, чтобы пользоваться мотелями и гостиницами.
– Тогда поедем ко мне. У меня есть кофе, фрукты. – Мне показалось, что Глория сейчас откажет, а может быть и возмутится. Но она сказала спокойным тоном:
– Если мы поедем к вам, Антони, то все равно потом вы должны будете отвезти меня домой. Не поеду же я домой ночью на метро. На такси тоже опасно. Лучше поедем ко мне. – Это был не легкий ужин, а целый добротный обед с изысканным десертом. Глория тактично расспрашивала меня о моем теперешнем окружении. Ее почему-то интересовали евреи.
– Разве у вас нет знакомых евреев? – спросил я.
– Есть, но они все не религиозны и не посещают синагог.
– Я тоже раньше знал только не религиозных евреев, – сказал я, и это было правдой и в теперешней, и в прошлой жизни. Глория улыбнулась:
– Вам повезло. Вы проникли в религиозный мир.
– Да, мне повезло, – согласился я. – Большинство евреев – безбожники. – Глория спросила:
– А вы знали религиозных христиан?
– Не помню. В детстве меня водили в церковь, туда ходили обычно пожилые люди. Сейчас все атеисты.
– Антони, человек не может жить без веры. Религиозный инстинкт заложен в каждом человеке. Атеизм – тоже религия со всеми атрибутами любой религии: со своими пророками и святыми, со своим фанатизмом, со своими ауто-да-фэ. А вы сами верите в Бога?
– Не знаю.
– Значит, верите, просто никогда об этом не задумывались.
– Глория, а вы религиозны?
– Нет. Но я верю в Бога, и меня всегда интересовала эта тема. Я ознакомилась, хотя и поверхностно, со всеми религиями и пришла к убеждению о наличии первичного начала. – Я не привык заводить подобные разговоры с женщинами, которые мне нравились и которым нравился я, но я не знал, как перевести разговор на другую тему.
– Глория, а вы верите в Библию? Верите, что Бог сотворил мир и первых людей? – Глория ответила почти скучающим тоном:
– Найдите лучшее объяснение у материалистов. Теория Дарвина о происхождении видов уже давно не выдерживает критики, и чем далее развивается наука, тем больше изъянов оказывается в понимании мира материалистами. – Я не имел представления о понимании мира материалистами, но к счастью десерт подошел к концу, и я заказал официанту бутылку нераскупоренного реми и еще шампанского.
Как я и предполагал, Глория жила в районе Боро Холл, и запарковаться было негде. Она указала мне ближайший платный паркинг, и оттуда мы не спеша пошли к ее дому. Она слегка опиралась на мою отставленную руку, и мы говорили о пустяках. Давно я так не ходил по улицам с женщиной, которая мне нравится. Она была хороша, от усталой улыбки до легкой походки, элегантна и без возраста. Если бы я не знал, сколько ей лет, мне было бы трудно определить, двадцать пять ей, или сорок. Может быть это была ностальгическая память о юности, когда нам еще не было двадцати, хотя она изменилась за эти двенадцать лет, стала другой. Тогда на пляже я сразу узнал ее, а вот она меня так и не узнала, и это придавало остроту моим ощущениям. Лифт девятиэтажного довоенного дома. Маленькая квартира с высокими потолками. В гостиной, совмещенной со столовой, я откупорил шампанское, Глория поставила бокалы, я налил. Хотелось пить, и я со словами – за наше знакомство – осушил бокал. Глория только немного отпила и сказала: – А теперь то, что мы слышали. – И она присела к небольшому электронному пианино, хотя рядом стояло натуральное пианино. Она пояснила: – Здесь можно регулировать звук, а то обычное пианино разбудит моих соседей. – Она заиграла последнюю арию Лакмэ, напела вполголоса первую фразу: – Ты дал мне лучшие мгновенья, какие в жизни есть мирской. – Тут она повернулась ко мне, сказала: – Вы эту мелодию насвистывали, – и сразу заиграла арию британского офицера. Я тут же стал насвистывать мелодию в унисон с пианино. Она сказала: – Антони, у вас хороший музыкальный слух. Вы никогда не пели?
– Иногда. В компании. Больше свистел. – Глория вынесла из кухни фрукты. Я откупорил реми, налил в бокалы. Мы курили, иногда делая глотки из бокалов, тихо звучала музыка поставленной Глорией пластинки, классическая музыка, явно не рассчитанная на интимное рандеву. Глория сидела на диване, я в кресле напротив. Больше не стесняясь своего невежества, я спросил:
– Что это за музыка?
– Сороковая Моцарта.
– Моцарт тоже писал оперы, – заметил я, демонстрируя свою компетентность. Я ожидал, что Глория иронически улыбнется, но она оставалась серьезной. Она сказала:
– В то время еще не было разницы между симфонической музыкой и оперой. Дезинтеграция музыки произошла только в девятнадцатом веке, когда выяснилось, что симфонию может написать любой композитор, но хорошую оперу может написать только гений.
– Но ведь бывают и гениальные симфонии, – сказал я, переступая черту, ограничивающую степень моих познаний.
– Бывают, – согласилась Глория. – Но если гениальные оперы можно перечислить по пальцам рук и ног, то гениальные симфонии можно перечислить по пальцам всего лишь одной руки. – С меня было достаточно заумных разговоров. Я поставил свой пустой бокал на стол, пересел на диван рядом с Глорией, обнял ее за плечи. Она протянула мне свой недопитый бокал: ей было не дотянуться до стола. Я допил ее коньяк, поставил бокал на стол, снова обнял ее за плечи, и мы поцеловались. Я уже три дня не бывал у Розы и теперь чувствовал нестерпимое возбуждение. По лицу Глории трудно было понять, что она теперь чувствовала. Я провел рукой по ее телу. Платье из материи с длинным ворсом. Обеими руками она повернула мою голову лицом к себе, близко глядя мне в глаза. Я не стал ее раздевать и не стал раздеваться сам, даже не освободил галстука. Я только поспешно спустил и снял минимум того, что могло помешать половому акту. Диван был узким, что ограничивало смену поз при сексе. Сам я был настолько поглощен половым актом, что даже не уследил, испытала ли она оргазм. После беспорядочного физического удовлетворения, выравнивая свое дыхание, я не чувствовал временного охлаждения, которое обычно наступало с другими женщинами. Я чувствовал нежность, какую давно не испытывал к женщинам, продолжая ласкать ее бедра, проводить губами по ее лицу и шее. Теперь мне уже хотелось не спеша раздеть ее, но она мягко отстранилась, сказала: – Мне нужно в ванную. – Я поднялся на ноги, спиной к ней оправляя свою одежду. Когда она скрылась в ванной, я налил себе коньяку и, отпивая маленькими глотками, стал разглядывать гостиную. На пианино лежали стопки нот, рядом с электронным пианино колонка звуковой аппаратуры. По противоположной стене в простенках между окон стояли секции шкафов с книгами. Столовый стол был не полирован, а покрыт лаком. Я протер салфеткой винные пятна, – это я сам пролил немного вина. Следов от пятен не осталось, – крепкий лак. Перед окном на продолговатом столе стояла громоздкая установка с маленьким телевизионным экраном. Рассматривая эту механику, я понял, что это не телевизор, а компьютер – нечто новое в электронной технике. Из ванной послышался шум включенного душа. Я подошел к ванной, потрогал ручку. Дверь была не заперта изнутри. Я быстро разделся и вошел в ванную. Глория за пластиковой занавеской стояла под душем. Я отодвинул занавеску, шагнул в ванну, встал под душ лицом к лицу с Глорией. Она обняла меня за шею, закрыв глаза, запрокинула голову. Вытирались мы одним большим полотенцем. Выйдя из ванной, мы обнялись и долго так стояли не шевелясь. Теперь я точно знал, что она возбуждена так же, как и я. Обняв меня за талию, она повела меня в спальню. Нетерпения уже не было. Было предвкушение. Не спеша я приступил к любовным играм, и она приняла их естественно, будто зачеркивая прошедшие двенадцать лет. Когда возбуждение достигло нужного предела, она сказала: – Антони, выключи свет. – И уже в полной темноте я до конца всунул в нее член и мы оба замерли. Постепенно глаза привыкли к темноте, и черты ее лица стали различимы. Не прекращая акта, я продолжал играть ее телом, выгибаясь, целовал ее грудь, отводил и снова прижимал к себе ее ноги. А потом ее бедра дрогнули, она тяжело задышала носом. Наступал оргазм. Ускорив свои движения до резких ударов, я стал с преувеличенной нежностью проводить губами по ее лицу. Хотя до конца моего акта было далеко, я издал протяжный стон, провоцируя кульминацию ее оргазма, и она ответила мне в унисон коротким стоном. Дыхание ее замедлилось. Ее оргазм кончился. А я продолжал свои ритмичные движения. Сказывалось действие коньяка. Алкоголь способствует продлению полового акта. В таких случаях вежливый мужчина должен остановиться, дать женщине передышку. Но я не хотел останавливаться. У всех женщин сразу после оргазма эротические чувства затухают, и наступает отрезвление мысли. Глория лежала не шевелясь. В темноте светились ее широко открытые глаза. Она проговорила ровным голосом:
