Читать онлайн Моя тропа. Очерки о природе бесплатно
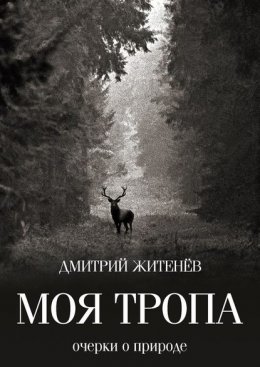
Дизайнер обложки Дмитрий Валерьянович Житенёв
© Дмитрий Житенёв, 2019
© Дмитрий Валерьянович Житенёв, дизайн обложки, 2019
ISBN 978-5-4474-5293-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Воспоминания о себе
(вместо предисловия)
Очень русское было всё то, среди чего
жил я в мои отроческие годы.
И. А. Бунин. Жизнь Арсеньева.
…Осень 1942 года. Мне восемь лет. Отец на фронте. Наша московская семья в эвакуации, живём в большом алтайском селе недалеко от Бийска.
Серый день. Мы возвращаемся домой – мама впереди, я сзади. Мама – с поля, я – из школы. Мы идём по прогону. Два раза в день, утром и вечером, здесь проходит колхозное стадо. Мокрый от осенних дождей чернозём (там везде сплошной чернозём) растоптан скотом в грязь. Мы пробираемся, цепляясь за плетень, чтобы не увязнуть в чёрном, липком месиве. Дождя нет, но в воздухе висит какая-то морось, пахнет коровьим навозом и мочой, хочется скорее под крышу, в тепло. Мамины парусиновые, когда-то белые с синей каёмочкой и перламутровыми кругленькими пуговками, туфли все в грязи, и наверняка промокли, мои ботинки – тоже. Я смотрю только себе под ноги, чтобы выбрать место посуше, и иду вплотную за мамой. Но вдруг натыкаюсь на неё, потому что она внезапно останавливается. Я поднимаю взгляд и вижу, как навстречу нам идёт мужчина в высоких кожаных сапогах и с ружьём. Короткая тужурка подпоясана патронташем, а в нём патроны, один к одному, рядком! Охотник! Он обходит нас прямо по грязи, не выбирая, куда бы ступить. Сапоги погружаются в чёрную жижу. Сразу видно, что всё это ему нипочём, совершенно безразлично, где идти – по грязи ли, по сухому.
Взгляд охотника встречается с моим, и он улыбается мне почему-то. И тут же из серой осенней высоты раздаётся многоголосый крик гусей. Под самыми облаками идёт огромный клин, перевиваясь, словно длиннющий шнур, через всё почти небо. Охотник вскрикивает: «Э-эх! Гуси! Смотри, смотри, парень! Гуси ведь!» Он даже хватает меня за плечо, дёргает, старается, чтобы я увидел стаю. Но я и так их вижу, этих птиц, которые, пролетая над нами, загомонили, словно для того, чтобы мы обратили на них внимание.
Мы смотрели, как удаляется эта стая, как она постепенно растворяется в серой дали, превращаясь в тоненькую ниточку. Потом она исчезла, и охотник вздохнул: «Эх! Пролетели!»…
Как сжимается сердце от воспоминаний, когда на охоте или над ночным городом слышишь этот всегда волнующий и почему-то печальный переклик гусиной стаи, эту гусиную музыку.
Кем он был, иногда думаю я, этот охотник, первый, увиденный мной? Почему он так ладно был одет? Каким образом в войну, в далёкой алтайской деревне мог он охотиться, в то время как другие мужики из этой же деревни погибали на фронте? И вообще был ли он здешним? Тогда, конечно, мне не могли прийти в голову такие мысли. Я просто был заворожен его образом, видом хорошо обеспеченного и удачливого человека, вероятно, какого-нибудь местного, как теперь принято говорить, функционера.
Сыграла ли эта встреча какую-то роль в том, что я стал впоследствии охотником, и не просто охотником, а биологом-охотоведом, посвятив охоте всю жизнь? Не уверен. Хотя, кто знает? Наши поступки во многом зависят от того, что когда-то незаметно для нас отложилось в подкорке. Все мы вышли из детства. Поэтому и в охоте всё начинается с детства. Родовá тоже не последнее дело, хотя в корнях моих, насколько известно мне и помнили мои родители, настоящими охотниками, как говорится, и не пахло. Видно, просто на роду так было написано – стать охотником. И ещё – мне просто повезло.
Отец мой, Валерьян Степанович Житенёв, художник по профессии, выпускник и аспирант знаменитого ВХУТЕМАСа, а по натуре своей бродяга и путешественник, не сгинул на войне, вернулся с фронта, хотя получил сильнейшую контузию и дёргался долгое ещё время после демобилизации так, что порой ложка вылетала из руки во время обеда. В шкафу у него хранилась одностволка двадцать восьмого калибра, трёхзарядная магазинка, «фроловка». Иногда он доставал её, чистил, смазывал. Видно было, что в это время он погружён в свои мысли. Наверное, вспоминал, как бродил с этим ружьём в прибайкальской тайге. Он родом был оттуда, с берегов Байкала. Я, конечно, получал свою долю удовольствия – держал ружьё, целился куда-то в стену, нюхал ароматное гнездо магазина и старые стреляные, местами позеленевшие гильзы. Я храню эту старенькую одностволку и по сей день – ведь это память о родном человеке, давно ушедшем в иные дали.
Выстрелил я первый раз в жизни именно из этого ружья. Гулкий выстрел, несильная отдача, белое облако порохового дыма, повисшее посреди осенней просеки в подмосковном лесу, сразили моё воображение. Думаю, что охотником мальчик становится окончательно именно после первого выстрела. Почему окончательно? Да потому, что ещё до этого первого выстрела каждого будущего охотника с детства тянет к природе. У меня, например, сколько я себя помню, всегда была какая-то живность. Дома в Москве, в маленькой комнатёнке студенческого общежития на Второй Извозной (теперешней Студенческой) улице, где мы жили, около окна висели клетки с синицами и щеглами, неутомимо скреблась в самодельном террариуме черепаха, стоял небольшой аквариум с «гуппями» и меченосцами. Летом на даче жили галка и грач, подобранные птенцами, ёжик и опять же черепахи, вывезенные на лето из Москвы и постоянно куда-то уползавшие. Потом их приносили соседи: «Не ваша ли это черепашка?»
И книги были в основном про зверей. Коричневые тома Брема, купленные ещё до войны и подаренные мне отцом, я знал чуть ли не наизусть. Однако были ещё и другие – «История искусств» Гнедича, роскошные три тома с массой картин художников буквально всех времён и народов; огромная книга с иллюстрациями Густава Доре к Библии со страшной картиной всемирного потопа; и, как ни странно, «Малая советская энциклопедия». Это были первые путеводители в мир искусства и знаний.
Первой самостоятельно приобретённой книгой была «Охота в Подмосковье», а разных птиц, которые жили у нас на лесном дачном участке, помогала определять книга Промптова «Птицы в природе». Я записался в Кружок юных биологов зоопарка, в КЮБЗ, не вылезал из Зоологического музея, постоянно отирался в охотничьем магазине на Неглинке (светлая ему память!). Рядом, на Кузнецком мосту, были ещё два, а выше, ближе к Лубянке, зоомагазин. Зайдя в один, нельзя было пройти и мимо остальных. Ну и, конечно, Птичий рынок, знаменитая «Птичка»! И ей – светлая память! Одним словом, живая природа была единственным, как сейчас говорят, хобби моего детства.
Когда же исполнилось шестнадцать, состоялось главное событие тех времён – я вступил в Московское общество охотников, а отец купил ижевскую одностволку шестнадцатого калибра, самое дешёвое ружьё из всех, продававшихся тогда в магазинах. У родителей денег лишних не было. Но что из того!? Это было моё собственное ружьё! Как оно пахло новой ружейной смазкой!
Впервые! Подмосковье. 1950 год. Фото В. С. Житенёва.
Моей охотничьей библией была тогда та самая «Охота в Подмосковье». Чувствуя себя одним из её персонажей, я уходил в подмосковный лес с подаренной отцом ижевкой, подкрадывался к пролётным чернетям на озёрке, что за Новой деревней на Ярославском шоссе, жёг костерок на краю укромной полянки и кипятил чай в плоском солдатском котелке, который отец принёс из армии.
Но и это ещё не определило мою будущую профессию. В десятом классе, отбросив мысль о лётном училище (было и такое!), я решил поступать на биофак Московского университета, хотя какая-то часть моего подсознания (охотничья часть!) толкала в Балашиху, в Московский пушно-меховой институт, в охотоведы. Но МГУ! Престиж! Университетское образование! Тем более что отметки в аттестате позволяли мне надеяться на победу в большом конкурсе. Знать бы нам в юности, что лучше, а что хуже, и что престиж далеко не самое главное в жизни! Увы! Волей случая я не попал в МГУ, а стал студентом МПМИ. Сейчас я могу только благодарить судьбу за то, что сделал дурацкую ошибку на экзамене по немецкому, получив единственную четвёрку. Пять экзаменов – 24 балла! Этого хватило, чтобы я не прошёл в университет. И ни разу не пожалел, потому что профессия охотоведа дала мне увидеть и испытать то, что я вряд ли увидел и испытал бы, получив другую. Чистым охотоведом, правда, мне пришлось быть мало – основное время я проработал в заповедниках и охотничьих журналах, но моя любимая охота всегда была со мной.
Был бы я хорошим зоологом или нет, стал бы кандидатом или доктором наук – никогда мне этого не узнать. Просто я шагнул на другую тропу, которая и повела меня по жизни. Это была охотничья, охотоведческая тропа. Не знаю, естественно, что ждало бы меня впереди, если бы всё пошло по-другому, но сценарий нашей жизни написан ещё до нашего рождения, когда соединились в единое целое отцовское и материнское начала и дали жизнь новому существу. А может, и ещё раньше. Кто знает! Это только кажется, что мы управляем своей судьбой, сами выбираем жизненный путь и профессию, спутников и друзей, даже врагов. Выбор уже сделан, а нам только остаётся выполнить своё предназначение и по возможности сделать это как надо.
До сего времени удивляюсь тому, что мне, москвичу, городскому, по сути, парнишке, выпало значительную часть жизни прожить в тайге, среди дикой природы, среди людей, которым такая жизнь привычна с детства. О ней я никогда не имел бы понятия, если б остался жить в городе, даже выезжая эпизодически в экспедиции или просто на охоту. Именно так ведь и живёт большинство городских охотников.
Как бы нас ни готовили к жизни с детства, в школах и институтах, нет цены тому, чему учит она сама. Жизнь это ведь то, что тебя окружает – и события, и люди. Я благодарен тем, кто помогал мне освоить те или иные уменья, и не обязательно охотничьи. В первую очередь – отцу, который дал мне в руки не только пилу и топор, рубанок и стамеску, но и книги, фотоаппарат и ружьё. Рисовать хорошо ему так и не удалось меня научить.
С моим первым проводником, алтайцем Андреем Кунделéшевичем Туймéшевым, мы откапывались в полутораметровом снегу, строили стан и ночевали у костра под горной вершиной Корбулу, глядя на неправдоподобно яркие звёзды.
Там же, в Горном Алтае, в Алтайском заповеднике, мой ровесник Юрий Бéдарев, окончивший всего три класса колхозной школы-интерната, охотник и таёжник от Бога, учил меня проводить вьючного коня по узкой, в письменный стол, тропе над стометровым обрывом, перебродить верхом стремительные горные речки, когда вода бьёт чуть ли не через седло, а копыта коня скользят по камням на дне. Он показал мне, как надо катиться на лыжах по неимоверным кручам и уворачиваться от оплывины, снежной лавины. Это был, по сегодняшним меркам, настоящий экстремальщик.
С ним я разделывал первого своего марала, а он словно контролировал каждое моё движение. Как пригодились мне его советы, когда я пластал лосиную тушу в печорской тайге под оценивающими взглядами таёжников – ну-ка, ну-ка, москвич, покажи, на что способен – и всё было в порядке.
Я очень часто вспоминаю этих моих первых учителей на таёжной тропе, потому что их уроки остались во мне навсегда. Они ушли из этой жизни давно – вечная им память!
П. А. Мантейфель со студентами-охотоведами. 1955 год.
Я был бы несправедлив, если бы не вспомнил ещё и тех, кто учил нас, будущих охотоведов, пониманию природы и охоты как тому, что связано между собой неразрывно. Это наш декан Алексей Михайлович Колосов, доцент Пётр Герасимович Репьёв и, конечно, Пётр Александрович Мантейфель, легендарный наш профессор, лауреат Сталинской премии. Ну, ещё, естественно, и другие, но эти – первые.
Ведь они дали нам, охотоведам, знание того, что современной природе необходима охота, нужен охотовед, знающий, квалифицированный, нужно организующее начало, что именно мы должны понимать дикую природу гораздо глубже, чем просто охотники. Я до сего времени убеждён, что охотоведы гораздо тоньше чувствуют и охоту и природу, как одно целое, именно потому, что в них вложены специальные знания, знания профессионала.
Но то охотоведение – а что же сама охота? Что она мне дала?
Охота – это школа выживания, а каждый из нас сталкивался с этим, или борясь со снегом в круговерти степного бурана, или в собственной конторе, когда тебя подсидел твой же сотрудник, или на больничной койке, стараясь преодолеть недуг, или как ещё.
У одного из самых моих любимых писателей, у Эрнеста Сетон-Томпсона в книге «Рольф в лесах» (настоящее пособие по выживанию!) я нашёл прекрасные слова, которые говорит юному Рольфу старый охотник и судья в маленьком канадском посёлке: «Верь мне, мальчик, что в то время, когда всё кругом будет казаться тебе мрачным, тебя подстерегает какая-нибудь радость; только будь твёрд, спокоен и добр, и непременно случится что-нибудь и приведёт всё снова в порядок. Выход всегда есть, и мужественное сердце всегда найдёт его. Верь, мальчик: никто не одолеет тебя, пока ты сам не дашь себя одолеть. Только не бойся, и ничто не сломит тебя. Это – как с болезнью. В свое время я перевидел множество докторов и пришёл к убеждению, что не существует никаких больных людей, кроме тех, что думают, будто они больны».
Охота воспитывает в человеке оптимизм. Для меня, во всяком случае, она всегда надежда на лучшее, на удачу. Даже если сегодня что-то не получилось – помешала погода, дичь куда-то ушла, патроны как без дроби, – ты всё равно должен быть уверен, что уже завтра настанет та самая заря, когда селезень замрёт прямо против твоего шалаша, и мушка точно ляжет на его белый ошейник, и дробь, словно громадным кнутом, хлестнёт по нему и по воде, и эхо выстрела долго ещё будет перекатываться по весеннему плёсу, возвещая о твоей победе. Сбылось же!
Умение отвечать за свои поступки, видеть собственные недостатки – это тоже ведь от охоты. Если ты промазал по глухарю или лосю, то винить, кроме себя, некого.
Охотник, мне кажется, по складу характера – индивидуалист. Даже на коллективных охотах, оставаясь на номере, ты один-одинёшенек, и никто тебе не поможет положить зверя. Однако, как это ни парадоксально звучит, настоящий охотник должен быть компанейским человеком, потому что без друзей ты на охоте не проживёшь. Даже промысловику – на что уж одиночка! – без помощи соседей по промысловому участку жить тоскливо.
На охоте в Подмосковье. 1998 год. Фото Артёма Житенёва.
Всю жизнь я не расставался с ружьём и, хотя не самый удачливый охотник, то, что добыл, всё, как говорится, моё. Были и марал, и медведь, косули и лоси, гуси и глухари, и всякие другие птицы и звери. Но главное в охоте для меня – перехитрить дичь. Отличная стрельба, конечно же, говорит о мастерстве охотника. Однако способность замаскироваться или умение выследить зверя по малозаметным следам и подойти к нему так, чтобы он и не подозревал об этом, мастерство вабить, вызывая своим голосом ответный вой матёрой волчицы – самые ценные, я считаю, качества охотника. Не проблема, если ты хорошо стреляешь, свалить лося на загонной охоте, медведя с лабаза или даже барана с расстояния в полкилометра. Действительно, хороший и, главное, точный один-единственный выстрел венчает охоту. Она без трофея бессмысленна, что бы там про неё ни говорили. Тем не менее, настоящий охотник тот, кто сделает этот свой единственный выстрел, перехитрив зверя или птицу. У них ведь всегда есть шанс спастись – не поверить призывному звуку манка, услышать шорох шагов подкрадывающегося охотника, разглядеть его самого, «закамуфлированного», на фоне листвы или тростника, разглядеть, услышать, учуять и спастись бегством. Конечно, чтобы стать настоящим следопытом, нужна практика, знание особенностей поведения животных. Однако многие ли охотники, великолепные стрелки, сбивающие на десять выстрелов десяток юрких бекасов, знают о жизни этих самых бекасов? То-то и оно!
И самое главное! Именно охота помогла мне по-настоящему узнать Россию, страну, где я родился, Родину – от Беловежской Пущи до хабаровской тайги, от Северного Урала до калмыцких степей. Больше того, мне довелось подолгу жить на одном месте, роднясь с ним каждый прожитый месяц и год всё больше и больше.
В Горном Алтае, например, я прожил три года и, работая начальником отдела Алтайского заповедника, провёл в седле почти год, проехав на своём Чалке более двух тысяч километров по горным таёжным тропам. И каждая поездка, казалось бы, по знакомым уже местам открывала что-то новое. Никогда не узнаешь по-настоящему душу того места, которое посетил, всего за несколько дней. Надо прожить там долго, чтобы сродниться с ним. На Северном Урале я провёл почти девять лет, и эти годы тоже были временем родства с тамошней природой.
На моторе по Илычу. Фото В. С. Житенёва.
Вообще начало узнавания природы пришлось ещё на детство, в том самом алтайском селе на краю бескрайнего соснового бора, куда мы, ребятишки, ходили по грибы да по ягоду.
…Лесная песчаная дорога, перерытая кротами, лёгкий треск красных крылышек взлетающих из-под ног кобылок-кузнечиков, запах смолы от нагретых солнцем стволов сосен, неожиданная погоня за стремительным жёлтым бурундуком с распушённым прозрачным хвостиком – всё это врезалось в память с удивительной силой, словно было это позавчера, а не семь с лишним десятков лет тому назад.
Однажды мы пришли к высоченной вышке, которую, вероятно, построили когда-то лесники, чтобы следить за лесными пожарами, а может, геодезисты. Оставив кошёлки с груздями в траве около её растопыренных гигантских ног, мы полезли по скрипучим, подгнившим, серым от ветров, дождей и времени ступенькам туда вверх, к небу, к ветру, к простору. Сухие лишайники осыпались, хрустя, под нашими ладонями. Жутко было лезть, а зачем мы туда лезли, наверное, и сами не знали. Просто лезли. Всё сильнее становился напор тёплого, с запахом сосновой хвои ветра, всё дальше – земля, всё ближе – вершины громадных сосен. Из-за них появлялся синий простор.
Мы вылезли на самую верхнюю площадку, не остановившись на промежуточных. Если бы мы задержались хотя бы на одной из них, то дальше бы не полезли – слишком велик был страх перед высотой и ветхостью вышки. Мы вылезли и легли на горячие доски настила. Солнце сильно пекло спину, ощутимой массой давил на вышку ветер. Она шевелилась, скрипела. Совсем близко и немного ниже нас покачивались мохнатые ветки сосен с зелёными глянцевитыми шишками. Мы поднялись и, осмелев, подступили к огороженному перильцами краю площадки.
Вот когда я познал величие лесных далей! Зелень бора постепенно переходила в далёкую белёсую синеву, в которой невозможно было различить горизонта, где лишь угадывались чистые пространства над потаёнными озёрами. И такая зовущая мощь шла из этих недоступных далей, что вдруг впервые в жизни я ощутил близость настоящего счастья. Я ничего не понимал, ничего никому не смог бы рассказать – просто весь я был наполнен необыкновенной лёгкостью полёта и крепко вцепился в перила, чувствуя, как застилает мне глаза и щиплет в носу.
Тут всё связалось воедино – и первый охотник, и переклик гусиной стаи, и первая синичка, пойманная в самодельный западóк, и мышкующая в зимнем поле лисица, и те синие, зовущие к себе лесные дали. Не устану повторять – всё начинается с детства.
Мой отец, моё ружьё и та самая «фроловка». 1950 г.
Однако не было у меня в детстве таких наставников в охоте, какие были у многих моих сверстников, однокашников по институту – отцов или дедов, старших братьев или дядьёв. Отец мой не в счёт – настоящим охотником он не был никогда, хотя, конечно, способствовал моему становлению как охотника. Но учился я отношению к природе, охоте у очень хороших учителей, настоящих, правильных охотников – Аксакова, Соколова-Микитова, Пришвина, Бианки, Чарушина, Сетон-Томпсона. Виталий Витальевич Бианки был охотником, что говорится, от Бога. Я зачитывался его «Лесной газетой», в которой чуть ли не каждая страница про охоту. Если не ошибаюсь, Борис Житков сказал, что писать для детей надо так же, как и для взрослых, но только лучше. Хорошая книга, хоть «взрослая», хоть «детская», найдёт своего читателя и среди детей, и среди подростков, и среди взрослых. Рассказ Эрнеста Хемингуэя «На Биг-Ривер» я прочёл лет в тринадцать-четырнадцать, и он на меня произвёл огромное впечатление. Я думаю именно потому, что это была настоящая литература.
Назову и негромкое имя Николая Павловича Смирнова. Это был подлинно русский писатель, очень лиричный, в совершенстве владевший словом. В родоначальнице моей охотничьей библиотеки, в сборнике «Охота в Подмосковье», я прочитал его очерк «Потаённый родник». Там было всё, что владело мной тогда, в далёкие юношеские годы. Слова его были полностью созвучны моим чувствам, моим мыслям, слова, которые мы и до сегодня почему-то стесняемся произносить вслух. «И к сердцу прихлынула горячая и острая нежность. Очевидно, именно это чувство, – родного города, родного, любимого дома, – я и носил в своём существе; очевидно, именно оно и являлось истоком всей той неутомимой любви к этому беспредельному и прекрасному миру… Это было, конечно, так, но и это чувство не замыкалось в себе, – оно перерастало в другое, огромное, придававшее жизни смысл, значение, сознание. И это, конечное, чувство заключалось в великом и бессмертном слове, в лёгком и тёплом, звонком и светлом имени: РОССИЯ!» Он очень любил Родину.
Как летят годы! Всё пришлось испытать – как и каждому из нас. Всё было – радость новых дел и свершений, горечь поражений и неудач, новые знакомства и забвение от тех, кто называл тебя чуть ли не учителем. Однако человеку свойственно запоминать больше хорошее, чем плохое. Потому что живут ещё те, кому ведомо настоящее охотничье, охотоведческое братство. Однако нас становится, похоже, всё меньше и меньше, но как хочется верить, что это вовсе не так. Ведь если живы мы, последние могикане Эры бескорыстия в охоте, то не могут не быть – и они есть! – те, кто верит нам, кто знает, что истинна та религия настоящего охотничьего братства, которую исповедовали наши отцы, деды и прадеды, которой мы верны, несмотря на вал неуёмной корысти, заливающий чистое охотничье поле.
…Пятидесятая охотничья весна наступила в двухтысячном году. Какой был ветер в один из дней! Возвращаясь с утренней зари, мы шли по полю плотной группой, но не слышали друг друга – так он шумел в ушах. И не было слышно ни треска прошлогодней стерни, ломающейся под нашими сапогами, ни чавканья грязи сырого поля. Только не мог ветер заглушить одного звука – крика налетающего гусиного косяка. Такое знакомое – ка-гак! ка-гак! – заставило нас обернуться. Они налетали сзади и были уже почти над нами на недосягаемой для выстрелов высоте. Мы даже не подняли ружей и, запрокинув головы, смотрели, как восемь белолобых боролись с ветром, часто работая крыльями. Чуть позади и справа летел гуменник, большой и мощный. Ветер сносил их с намеченного пути, но они упрямо шли вперёд, немного боком. Так идёт парусник круто к ветру, моторка, пересекающая быстрину, или человек, старающийся преодолеть напор косого встречного ветра.
И словно не было прожитых лет, словно было всё, как тогда в далёком алтайском детстве, словно это те же самые птицы летели по извечному своему пути. Они летят через всю Россию каждую весну и каждую осень. Пусть это не кончается никогда – и весна, и осень, и гусиный переклик в небесах, и хоркающий вальдшнеп над прозрачными вершинками весенних берёз, и удачный выстрел, и незабываемый запах сгоревшего бездымного пороха. Ведь, как писал Эрнест Хемингуэй, «…все они созданы для охоты, а некоторые из нас – для того, чтобы на них охотиться, и если это не так, что ж, мы всё же не скрыли от вас, что нам по душе это занятие».
Весна – большая вода
Ледоход на Печоре
Снега апрельские ещё в пояс, оттаивать земле долго, а под снегами, под корой деревьев затеплилась невидимая жизнь. С каждым ясным днём копится там жизненная сила Солнца. Затеплевший ветер качает зелёные еловые лапы, а в них заливается весенней песенкой синичка-гаичка. Да и ёлки-то пахнут уже не по-зимнему.
Начинают проваливаться тропинки между сугробами, такие надёжные зимой. А теперь идёшь, идёшь и вдруг – по колено! Снимай сапог и вытряхивай снег, прыгая на одной ноге.
На самом краю обрыва, на нашей, солнопёчной стороне Печоры снег отступает, и проявляется земля. По этой первой земле начинают ходить люди. Для чего ненадёжные снеговые тропинки, если появилась настоящая, долгожданная земля! Глядишь, и в полях около леса обнаружилась первая проталина, словно солнышко лучами соскребло снег с пригорка.
На узком ещё краешке земли вдоль печорского берега вдруг появляются первые пролётные птицы. Белая пуночка да блестящий скворец. Они почти одновременно прилетают.
В начале апреля каждое утро посматриваешь в окно – не появились ли гости у скворечника – и обязательно проглядишь. Что-нибудь делаешь во дворе, и вдруг – протяжный негромкий свист. Это скворец тебе, словно старому знакомому, знак подаёт: «Здесь мы! Здесь!»
С каждым днём всё шире полоса земли по краю обрыва уже не только в посёлке. Всё дальше отступает снег и от лесного берега. Муравейники обтаяли под солнцем и словно грибы повырастали из сугробов. Муравьи вылезли из своих подземных этажей и прильнули друг к дружке. Толстый слой их будто обклеил макушку муравейника. Муравьи еле шевелятся, греются на первом солнышке и кажутся ещё не совсем ожившими. Но попробуй, тронь только прутиком хоть одного. Сразу вспухает рыже-коричневая масса, над ней взлетает облачко-завеса, бьёт в нос резкий запах. Каждый муравей, подогнув под себя брюшко, выпрыскивает в обидчика струйку муравьиной кислоты. Так они защищают свой дом. Лизни палочку – какая она кисленькая, вкусная! А если ладонь поднести, то станет она влажной, а пахнет так резко, словно под нос сунули ватку с нашатырным спиртом.
Ну, вот и первая вода на реке. Ещё робкая, в заберегах около солнопёчного берега, но ведь вода! Тут уж следи внимательно – вот-вот утки должны появиться. И они тут как тут. Всегда первыми прилетают кряквы и гоголи. Глядишь, с зáберега от обнажившейся гальки поднялась парочка кряковых, селезень сверкнул на солнце зелёной головкой. В небе слышны упругие гоголиные крылья. Гоголя не надо даже видеть, чтобы знать, что он уже здесь – звон крыльев его примета.
Гляди-ка, кулик-черныш на коряжке уселся, первый из куликов, уселся и выговаривает: «Ви-ти-тя! Ви-ти-тя!» Потом взлетит повыше и начнёт пикировать. То вверх, то вниз беспрерывно мечется и всё время – ви-ти-тя! ви-ти-тя! – токует.
Звенит овсянка на крыше конюшни. По-над берегом бегают белые трясогузки и, подпрыгивая, ловят первых отогревшихся мух.
Что ни день, то новое событие в природе, но главное, первая весенняя подвижка льда, впереди. До неё ещё далеко, но по многим приметам можно сказать, когда это будет. Вот, например, появилась белая трясогузка, плишка-ледоломка, как её называют на Печоре, тогда говорят: «Ну, плишка прилетела, считай, через пару недель река пойдёт». Почти день в день сбывается этот народный прогноз.
Вода в Печоре понемногу прибывает и выходит на лёд. Снег на нём темнеет и оседает, а тропинки, натоптанные за зиму между берегами, белеют и словно приподнимаются, вырастают. Через Печору строят, чтобы люди под лёд не проваливались, переправу из брёвен. Их кладут прямо на лёд, накрывают досками, и получается длинная, почти в полторы сотни метров, и узенькая, меньше метра, деревянная дорожка. Каждое бревно связано по всей длине с толстым тросом, который закрепляют на нашем берегу, чтобы не унесло, когда начнётся ледоход. Ещё и на будущий год послужит.
Освобождается от снега лёд, набухает нутряной влагой, словно губка. Утренние морозы промораживают его насквозь. Над рекой тогда от берега до берега стоит туманная синь, и пахнет она настоящей весной. Это дышит, наверное, река, которая невидно пока и неслышно ворочается подо льдом, пошевеливая песчинки на дне. Мне в прорубь хорошо видна рябая его желтизна.
Полуденное солнце и теплеющий воздух распаривают лёд, и он словно нагревается – над ним дрожит марево, а на другой стороне вместе с ним дрожит берег в бело-синих сугробах, тёмно-зелёный ельник и уже фиолетовый березняк. То тут, то там, то близко, то далеко сверкают лужицы на льду, темнеют забереги, а в них отражается освобождающийся от снега берег.
Последний переход.
В один из дней тёмный, пропитанный водой лёд вдруг становится белым и пористым, словно быстрорастворимый сахар. Это прибывшая вода наконец-то освободила лёд, и он поднялся, всплыл. Недалеко теперь и до ледохода.
И вот однажды, обыкновенно в середине или во второй половине дня, когда тёплый ветер дует вдоль реки по течению, а солнце распаривает лёд, наступает этот момент. Ветер поверху, течение реки понизу тянут, тянут одряхлевший лёд, и он сдвигается. Сдвигается, простояв на одном месте полгода, а то и больше.
Не одну весну выходил я на берег Печоры, чтобы своими глазами увидеть подвижку льда. Удалось мне это только один раз. Я стоял под шумящим кедром и вдруг увидел, как разорвалась ниточка намокшей старой тропинки, услышал, как где-то закричали: «Лёд пошёл!», и ещё я увидел, как по переходу побежал, спотыкаясь, какой-то мальчишка с велосипедом, а за ним наша почтальонша Софья Михеевна, которая несла с той стороны почту в толстой сумке. Оба побежали на наш берег, потому что переход был закреплён на нашей стороне, а на той сразу образовалась полынья, да такая большая, что лось бы не перескочил.
К шилохвостям и чиркам присоединилась парочка кряковых.
…И лёд пошёл. Через пару минут он остановился, освободив метров сто чистой воды. На неё, откуда ни возьмись, тут же сели пять длинношеих шилохвостей, а к ним кучка чирков-трескунков.
Когда двинет лёд на реке, старожилы спешат к воде и умываются. Говорят, что эта вода убирает морщины с лица, возвращает молодость.
Сам ледоход начинается иногда в тот же день, иногда через несколько суток. И пока плывут льдины, упираясь в берега, выпахивая в мокром песке борозды, громоздясь одна на другую, стоят, я уверен, в каждом селении люди по обрывам над рекой и смотрят, и смотрят, как идёт по Печоре лёд. Трудно оторваться от этого зрелища. Если даже очень занят, обязательно выкроишь хоть немного времени, чтобы видеть, как оживает река.
Иногда вдруг замедляется неудержимый, казалось бы, ход льдин. Значит, где-то ниже по течению образовался затор, и вода начинает заметно прибывать. В некоторых местах, на особенно крутых поворотах реки, заторы бывают почти ежегодно. Реку забивает льдом иной раз на несколько километров.
После того, как река всё-таки прорвёт затор, на берегах остаются груды переломанных и перемешанных льдин. Утренние морозы скрепляют их как цементом, а днём льдины с краёв рассыпаются длинными прозрачными палочками. Местами лёд после затора лежит стеной до двух-трёх метров высотой, а то и больше.
Как-то мне пришлось ночевать в таком месте. Называется оно Лешкаты. Здесь Печора круто поворачивает и разливается плёсом. На чистой воде, прямо перед ледяной стеной от недавнего затора табунилась в тот год масса пролётной утки. Я и решил тут поохотиться. Однако подобраться к уткам не было никакой возможности, кроме как со льда. Тогда я подумал, что можно на ночь приткнуться с лодкой прямо к этой ледяной стене, спрятаться за какой-нибудь огромной льдиной и так охотиться, когда рассветёт. Но потом передумал, отъехал подальше, соорудил в тихом месте на берегу шалашик, кинул на воду подсадную и чучела. В шалашике и ночевал. И хорошо сделал, потому что ночью пошёл сильный дождь, и вся эта ледяная масса стала рушиться. Хорошо было слышно, как скользят и ухают почти с четырёхметровой высоты громадные льдины. Рухнет такая – грохот, плеск и волны, гомон и шум крыльев поднимающихся уток. Их там были сотни. Полетают, полетают кругами и садятся на воду. А тут снова – ух! бах! – грохочут и валятся в воду льдины. Птица опять в воздухе. Крутились и над моим шалашом и к чучелам подсаживались. Я почти не спал, думал, может, удача будет, и радовался, что повезло – меня бы там, возле льда, просто раздавило бы с лодкой вместе.
Иногда среди льдин можно найти труп какого-нибудь большого зверя, чаще всего лося. Гибнут лоси на непрочном льду и осенью и весной во время своих сезонных переходов. Провалится лось, а выбраться не может. Особенно, если лёд проломился на глубоком месте.
Однажды во время весенней охоты сотрудник Печоро-Илычского заповедника Юрий Иванович Лызлов плыл на лодке вниз по течению. Мотор он выключил и просто сплавлялся, как говорят на Печоре. Солнце только что встало, немного морозило. Лодку небыстро несло вдоль ледовой стены, оставшейся после затора. И тут на этой стене поднялся крупный медведь. Он встал, опираясь передними лапами на край льдины. Юрий Иванович моментально завёл мотор. Кто знает, что у него в башке, у этого медведя. Возьмёт и бросится к лодке. Не успеешь мотор завести, как сгребёт. Лучше подальше от такого. Не зря он там сидит, на этой льдине.
Медведь не испугался мотора и стоял, только носом шевелил. Он был похож на оратора, который пережидает шум в зале, чтобы продолжить речь. Потом выяснилось, что на льдинах лежал утонувший лось, и медведь на нём пировал.
Затор прошёл. Летят морские чернети.
В некоторые затяжные вёсны, когда снег тает постепенно, а вода прибывает несильно, лёд может просто истлеть на месте. Размоет его вода, распарит, растопит солнышко, и проплывут мимо посёлка маленькие льдинки да ледяная каша – вот и весь ледоход.
Но какое удовольствие смотреть на настоящий ледоход! Только не так часто его теперь можно увидеть. Разве что на северных да сибирских реках, ниже плотин электростанций. В центральной России ребятишки уже и не знают, что такое настоящий ледоход.
Льдины идут по реке вереницей. Большие и маленькие, грязные и чистые, исцарапанные наклонившимся деревом и перечёркнутые старой широкой лыжнёй охотника. Вон кусок санной дороги проплыл. Видно, что сено по ней возили. А вон та льдина из леспромхозовского посёлка Речной – вся в тракторных следах, мазуте да солярке, в сосновой коре да еловых ветках. Там готовят плоты под сплав.
Из-за поворота появляется огромнейшая льдина. Целое футбольное поле! Кажется, что её края задевают сразу за оба берега. Если упрётся в них – быть затору. По льдине бегает какой-то зверёк. В бинокль видно – лисица! Мокрая, хвост волочится во льду. Не доплыла она до посёлка и, когда льдина упёрлась одним краем в противоположный берег и стала поворачиваться, прыгнула в кусты и, проваливаясь в снегу, убралась в лес. А льдина пропахала берег, вывернула пихту и раскололась надвое, а потом ещё и ещё…
По всем этим льдинкам, льдинам, льдинищам бегают, перепархивают трясогузки, что-то ищут, склёвывают. Их много – идёт валовой пролёт.
Речная крачка. Её прилёт, говорят, означает начало хода сёмги.
Зоркий глаз охотника издали заметит сидящих на льдинах уток. «Вон, глянь-ка, – скажет какой-нибудь, – плавщики появились, плавщичат». Это значит, что утки плывут, отдыхают на льдинках, по-печорски – плавщичат. А уток самих называют плавщикáми. Но утки не доплывают до посёлка. Есть какая-то невидимая черта, у которой они поднимаются и улетают вверх по реке. Там они опять садятся на льдины и плывут к посёлку. И повторяется всё снова и снова. А сердце охотника замирает – утки летят! Утьва! Скоро охота!
Почему-то не помнится мне ледохода без солнышка, хотя, знаю точно, было такое. Остались же в памяти только тёмная, почти чёрная вода, вечернее солнце вдоль реки и сверкающие сахарными краями льдины, выплывающие из-за поворота. Они плывут и плывут, и кажется, что конца им не будет.
Вместе с ледоходом и тёплым южным ветром вываливает на Печору с юга вал за валом пролётная птица. На реке тут и там утки – кряквы перелетают, трюкают чирки-свистунки, жалобно пересвистываются свиязи, словно выговаривают своё название: «С-сви-и-у! С-сви-и-у!» По берегам и льдинкам гоняются друг за другом кулички: зуйки, перевозчики, улиты. Где-то далеко за лесом, в стороне Гусиного болота слышен заунывный, душу переворачивающий крик-свист большого кроншнепа: «Ку-у-р-ли-и-и!» На дорожках в посёлке и на проталинах в полях мельтешит птичья мелкота: овсянки, жаворонки, скворцы, лапландские подорожники.
Высоко, быстро и величаво плывёт в небе беркут, держа путь точно на север. Кружатся над Печорой и визгливо кричат сизые и серебристые чайки. Солнце просвечивает им крылья, и птицы – в сверкающем ореоле.
В елях – зяблики и вьюрки наперебой поют, словно стараются друг друга перекричать. В прошлогодней листве под деревьями копошится дрозд-деряба и вдруг выскакивает на грязный, засыпанный еловой хвоей сугроб, тревожно чокает и качает хвостом. К закату он взлетит на свою любимую берёзу и будет давать ежевечерний концерт вместе с белобровиками и певчими.
Бывает, налетит ненастье, придавит мокрым снегом птицу к земле и ко льду, загонит в кусты да кроны деревьев. Но ненадолго всё это. Выглянет солнышко, и – слышишь! – зяблик залился песенкой. Скворцам же и снег нипочём – поют напропалую и под метелью.
А вода неудержимо лезет вверх и вверх, вливается в лесные ручьи, подмывает обрывистый берег, валит в реку ели, гнёт ивняк и черёмушник, развешивает по их веткам весенний мусор, стаскивает последние льдины, которые ледоход выпихнул далеко на берег. И вот уже вместо льда плывёт по реке всякий хлам, подмытые и рухнувшие в воду ели и пихты, старые пни и коряги. На иной сидит ондатра и чистит, намывает мордочку и бока.
Пройдут один за другим большие теплоходы-буксиры вверх по реке за плотами леса, и долго ещё из-за печорских излучин будет слышно тяжёлое глухое рокотанье их мощных дизелей. Буксиры спугнут утиные стаи с реки, и пойдут они дальше на север, и будут отдыхать на других реках, которые ещё не вскрылись, а только ждут своего срока.
Прощай, ледоход, до новой весны!
Уньинские сюрпризы
Весной на севере всегда жди возврата холодов, заморозков до июня, но чтобы такое! Середина мая! Через четыре дня Никола Вешний, тёплый, а тут морозище! Да ещё какой! На Уньé даже шугу выкинуло. Мы это увидели километра за два до того места, где она впадает Печору – по ней, ближе к её левому берегу, плыло сало – мельчайшие, слипающиеся кристаллики льда, шуль, как там говорят.
Время шло уже к полуночи, но было почти светло. До белых ночей оставался всего месяц. Наша лодка с мощным мотором влетела в Унью, и замелькали по сторонам плотные голые ивняки, невысокие обрывчики да огромные льдины, выдавленные ледоходом на оба берега. Нам надо было подняться по этой реке километров двенадцать до маленькой заброшенной деревушки Светлый Родник, где родился мой моторист и постоянный напарник по печорским охотам Юра Лызлов. В его родовой, давно опустевшей избе мы хотели скоротать остаток ночи и сделать дневной перерыв для отдыха после четырёх суток бессонного бродяжничества по весенней Печоре.
Чем дальше мы поднимались по Унье, тем плотнее становилась шуга. Поверхность реки была покрыта словно оспинами. Морозило так, что стало по-настоящему холодно даже в дублёных полушубках и не только от набегающего ветра. Морозом тянуло и от огромных льдин по берегам, от тьмы под обрывами и от бесконечной стенки ивняков и черёмушника по берегу с правой от нас стороны. Обычно в разгар весны даже по ночам вдоль берегов видишь и слышишь уток, куликов. Сейчас же всё словно вымерзло – никакой живности.
Лодка постепенно замедляла ход и, наконец, так огрузла, что двигалась не быстрее пешего человека. «Вихрь» выл, но не мог вытянуть её на глиссирование.
– Ну вот, приехали! – Юра топнул по сланям. – Шуль к дну льнёт, теперь его там наверняка центнера два налипло, не меньше. До Светлого не дотянем. Шуга вон какая!
Пытаться как-нибудь сбить лёд с днища нечего было и думать. Ночь, мороз градусов десять-двенадцать. Вокруг всё отсырело после половодья и промёрзло. Мы рассчитывали ночевать сегодня под крышей, но Унья преподнесла нам свой первый сюрприз.
– Давай, Юр, к берегу, – сказал я. – Чего мотор мучить. Глянь, он уже захлёбывается.
– Немного, пожалуй, ещё проскребёмся, – ответил Юра. – Вишь, Лебедевскую пожню уже прошли. Сейчас за поворотом Полин мыс будет. Там перед ним высокое место, лес. Здесь-то и дров не найдёшь.
Юра Лызлов за рулём нашей моторки.
«Скреблись» мы до нужного места ещё с полчаса. Берега по обеим сторонам полностью забило льдом. Видно, в ледоход здесь стоял большущий затор. Даже просто пристать к берегу было негде. Но вот с левой стороны показался безлесный обрыв метра четыре высотой, а за ним какой-то ручеёк. Устье его было свободно. Вот туда мы и загнали-затолкали лодку, и она осела обледенелым днищем на песок. Мотор заглох, и наступила тишина. Только река словно шептала что-то, позванивала льдинками. Шуга шла уже во всю реку – от берега до берега.
Пристанище Юра и вправду выбрал очень хорошее – местный житель! Хотя какой уже ночлег – время за полночь и до настоящего света осталось часа полтора. И всё же мы вытащили на обрыв примус, чайник с водой, еду и схоронились в густом ельничке у самого обрыва. Наверху было вроде не так холодно, как у воды. Костёр разводить не стали – в сумерках дрова искать долго. Решили пересидеть около примуса. Он у Юры был старинный, латунный и загудел громче, чем паяльная лампа. Даже говорить было трудно, так он ревел.
Взяли мы на обрыв и юрину подсадную утку, которая за эти дни приманила нам не одного крякового селезня. Звали утку Малгося. Почему Юра назвал её этим польским женским именем, я так и не выяснил. У всех в посёлке утки просто Машки, Дашки да Катьки, а вот у Юры по особенному – Малгожата! Да ещё ласковенько так: «Малгосенька! Малгожатка!» Смех, да и только!
Однако она заслужила такое ласковое обращение – звала селезней классно. Кавалера из пары выбивала метров за двести. Заслышав малгосину заливистую осадку, даже самый осторожный и нахлёстанный заворачивал в её сторону. Видно, что-то такое особенное, женское было в её голосе. Сама же она была невзрачная с уродливыми кривыми лапками, крылья не складывались, как положено, а торчали над спинкой маховыми перьями. Летать она не могла, одним словом – инвалидка. Вероятно, сказалось близкородственное разведение. Все подсадные в посёлке произошли от одной пары, а Малгося была уже в пятом поколении потомок. И, тем не менее, против её голосочка не мог устоять ни один селезень, а Юра трясся над ней, как над драгоценностью.
Чайник закипел, мы сыпанули в него чаю с полпригоршни, подождали немного, чтобы настоялся. Напились, поели и вроде бы согрелись. Юра прикорнул около ствола ёлки, а я решил осмотреться и вышел из нашего ельника на большую поляну.
Она начиналась от обрыва, и с трёх сторон её ограждал непроницаемо чёрный ельник. До дальнего конца поляны было метров пятьдесят. У самого обрыва на старом остожье лежали какие-то палки и остатки прошлогоднего сена – летом здесь сенокосили.
Я подошёл к краю обрыва. Немеркнущая ночная заря залила призрачным светом седую от инея поляну и уньинскую пойму с зарослями ивняков и черёмушников, которые словно растворялись в сырой ночной дали. Удивительная, какая-то первобытная тишина стояла в мире.
Что же такое тянет нас в этот мороз, в эту неустроенность от тёплого дома, от домашнего уюта? Что заставляет нас мёрзнуть, мокнуть под дождём, спать вполглаза на холодной земле, греть пальцы о кружку с горячим чаем, пахнущим дымом костра, и ждать, ждать с замиранием сердца того знакомого, но каждый раз нового посвиста утиных крыльев и позыва крякового селезня, твоей будущей добычи? Может, незабываемое ощущение твой причастности к круговороту природы или возможность проверить себя на прочность в лесу, на болоте или, вот как мы, на весенней реке, несущей лёд? Эти вопросы можно только задавать. Ответа на них нет. Есть, правда, один-единственный ответ – это ОХОТА, но понятен он только охотникам…
Вдруг позади себя, в ельнике, я услышал, как там, скрытый темнотой и расстоянием, будто шёл какой-то зверь. Останавливался, прислушивался и снова шёл. Шорк-шорк-шорк по промороженным сугробам. И – тишина. «Вот тебе раз! – подумал я. – Медведь-то уже вылез из берлоги. Может, это он и есть!» Я вглядывался в черноту ельника, но ничего и никого не видел, а шорканье продолжалось. Там явно кто-то ходил. И вдруг на поляну выпрыгнул заяц. Такой маленький, а столько шума наделал!
Заяц – он почти уже перелинял, только белые штаны светились в полумраке – посидел, осматриваясь, на одном месте, потом медленно, вскидывая задком, направился в мою сторону, к остожью, около которого я стоял. Видимо, он уже не первый раз сюда выходил, потому что ковылял совершенно безбоязненно и ни разу не остановился, чтобы оглянуться по сторонам. Я не шевелился.
Вот он уже почти около моих ног – метра два до него, не больше! Сидит, не обращая на меня никакого внимания, словно я колодина какая, и жуёт травинки, выбирая их из клочков сена. Тут из-под ёлок раздался мощный юрин храп. Заяц сразу вскинулся, привстал на задних лапах и, прижав передние к животу, стал смотреть в ту сторону, откуда доносился храп. Что-то новенькое! Уши зайца шевелились. Тут я не выдержал и засмеялся – уж больно смешной он был в своём непонимании. Заяц пóрскнул к лесу, зигзагами пронёсся по поляне и исчез в ельнике. Шорк-шорк – и тишина. Но на этом не закончилось – на Унье, ниже по течению зажвакал кряковой селезень.
Я кинулся к нашим ёлкам, где всё ещё спал Юра.
– Юра! ─ растолкал я его. – Селезень! Давай Малгосю!
Сон у Юры как смахнуло. Какой охотник будет спать, когда селезень рядом подаёт голос.
Быстренько мы достали утку из корзины, привязали к ногавке шнурок с колышком. Схватили ружья, зарядили и подались к остожью. Решили сделать так. Сажаем утку, привязанную к колышку, поближе к обрыву. Когда она станет кричать, манить селезня, он обязательно полетит к ней и напорется на кого-нибудь из нас. Стрелять влёт можно было – уже совсем посветлело. Так и сделали. Посадили утку метрах в трёх от обрыва, а сами отошли подальше и стали ждать.
Пока мы возились, селезень замолчал. Утка тоже голоса не подавала, осваиваясь в новой обстановке. Так вот, на сухом, её пока ещё не высаживали. В это время в ельнике опять зашоркал заяц, выскочил оттуда и заторопился в нашу сторону. Через несколько секунд он шебуршал сеном на остожье всего метрах в трёх от утки, которая вся вытянулась и внимательно следила за зайцем. Нас для них словно не существовало.
Тут с реки снова зажвакал селезень. Малгося встрепенулась и подала голос: «Ва-ак! Ва-ак! Вак!» Селезень услыхал её, зажвакал сильнее, голос его стал приближаться.
– Летит! – еле слышно выдохнул Юра.
Мы увидели, как наш будущий трофей мчится из полумрака поймы прямо на нас, и приготовились стрелять. Однако получилось всё по-другому.
Селезень не мог и предположить, что утка сидит на земле, на высоком обрыве, а не на реке, как полагается сидеть всякой порядочной утке. Он засёк направление, снизился и плюхнулся на воду под нами, около льдин.
Малгося, чувствуя, что селезень рядом, орала уже в осадку. Заяц был занят своим делом – жевал сено. Утиный кавалер страстно жвакал, звал даму к себе. Нам он не был виден, но мы слышали, как он карабкался по льдинам на обрыв, несколько раз срывался в воду, не догадываясь, что проще было бы взлететь. Потом он бросил эти попытки, стал плескаться, жвакать, звать Малгосю к себе.
Что делать? Я показал Юре пальцами, что нам надо подскочить по команде к обрыву и, когда тот, нижний, поднимется, стрелять.
Мы изготовились и, как только я махнул, рванули к обрыву. Что тут было!…
Заяц с перепугу прыгнул к утке, та – Юре под ноги. Он запутался в шнурке, упал и чуть не раздавил бедную Малгосю. Пока Юра, стоя на коленях, возился с орущей и хлопающей крыльями уткой, я подскочил к обрыву и увидел селезня. Он сидел на воде около льдин и снизу смотрел на меня, повернув голову набок. Вся его поза выражала искреннее удивление – что это за чудо вместо утки! И тут же он взлетел, показав белую каёмку хвоста. В этой мгновенной кутерьме с уткой, зайцем и вожделенным трофеем мы слишком заторопились и… перестарались. Четыре выстрела, словно короткая автоматная очередь, проводили перепуганного селезня, который, как говорится у охотников, «помирать полетел». Два пустых дуплета на расстоянии, лучшем для выстрела! По улетающей птице! В угон! И мимо! Как можно было промазать так позорно, ума не приложу. Правда, Юра стрелял, стоя на коленях, а у меня перекинулся ремень через стволы, но что было, то было – оправданий нет. Всё закончилось в несколько секунд. Помятая Малгося прижалась к покрытой инеем земле, где-то в ельнике улепётывал по сугробам насмерть перепуганный заяц, а мы с Юрой по весь голос обсуждали происшествие.
Совсем рассвело. Мы собрали свои вещички, засунули утку в корзинку и спустились к лодке. Тут нас ждало новое испытание. Вода в реке от мороза резко упала, и лодка оказалась насуху. Это бы ещё ничего! Она влипла обледенелым килем в жидкий песок, который, когда ушла вода, замёрз и превратился в камень. Днище обледенело пальца на два и это ещё больше усугубило ситуацию. Как вырвать лодку? Ведь можно было повредить заклёпки на днище, и тогда дальнейшее наше путешествие и возвращение домой стало бы проблемой. Но Бог милостив! Нам удалось оторвать лодку от песка абсолютно без повреждений, а спихнуть на воду уже было проще.
Пока мы возились, вышло солнце и ударило лучами по всей пойме. Сразу стало веселее, хотя мороз не ослабел. Мы забрались в лодку, завели мотор и на малом ходу перескреблись, как снова выразился Юра, на другой берег, на песчаный мысок, залитый солнцем.
Через полчаса разгруженная лодка была вытащена на берег по положенным поперёк бревёшкам. Мы завалили её на борт и разложили вдоль днища костёр. Лёд постепенно отпал. Мы сварганили из чирковых селезенчиков славную варёху, заварили крепчайшего чаю, налили в эмалированные кружечки известного прозрачного напитка и поздравили друг друга с продолжением нашего охотничьего путешествия.
Юра Лызлов и Малгося. Она спрятала торчащие пёрышки.
Сильно пригревало солнце. Около края воды Малгося щелокчила свой завтрак, несмолкаемо шуршала шуга, которая заполонила всю реку. Только часам к десяти она начала редеть, а ещё через час мы отчалили.
На следующий день заморочáло, заморосил дождичек, вода в Печоре стала стремительно прибывать. Никола Вешний был солнечным, наступило не просто тепло, а настоящий распар, и, как положено по приметам, повалила с юга синьгá, нежно гулюкая и оседая на Печоре чёрными плывущими головешками.
Плавщики и чучела
Как ждёшь весной первой подвижки льда! Вот уже и берег потёк грязными глиняными ручейками, закраины образовались, первые пролётные утки на них сидят, и сама Печора стала прибывать понемногу, а лёд всё стоит. Стоит набухший, с лужицами талой воды на нём. Ночью она замерзает, но днём, под лучами солнца, вода мало-помалу делает своё дело – точит лёд, который всю зиму наращивал свою толщину.
Но вот наступает этот миг! Река словно вздыхает с облегчением, и лёд, наконец, сдвигается. Через день другой или даже сразу вслед за подвижкой начинается настоящий ледоход. На Верхней Печоре это происходит обычно в самом начале мая. В эти дни и весенняя охота открывается.
У охотников лодки уже готовы к спуску на воду, «Вихри» да «Ветерки» проверены и опробованы в бочках у крыльца, патроны снаряжены, ружья вычищены. Скоро начнётся!
Но пока лёд идёт, на реку лучше не соваться – лодку может затереть льдинами или мотор побьёшь о них. Однако день-другой, чуть поредеют льдинки и – заревели моторы. Это самые первые, нетерпеливые отправились на охоту или просто опробовать мотор да лодку, лавируя между льдинами и вспугивая сидящих на них уток.
Хороших разливов на Верхней Печоре очень мало. Немного около Курьи да поболее у Пачгино. У этого села в большую воду река разливается очень широко, и утки табунится много, но от него от нашего посёлка – километров под сто. Три часа будешь пилить вверх по реке, да бензина бачка два сожжёшь в одну сторону. Так что приходится нашим охотникам пользоваться ближними местами, а там охота одна – на плавщиков. Так называют на Печоре уток, утиные стайки, которые отдыхают на плывущих льдинах и льдинках, плавщичат, как там говорят.
Утки-плавщики прячутся за льдинами. Шилохвость.
Лёд по реке идёт сначала сплошняком, закрывая её от берега до берега всю. Потом, когда поредеет, льдины выстраиваются как бы в колонну и плывут главной струёй. Их прижимает течением то к одному берегу, то к другому. Этим и пользуются охотники. Затаится какой-нибудь в кустах на мыске около такого прижимного места и ждёт уток, которые сами на него наплывают на льдинках. Тут уж выбирай, какую надо. Да и стрельба почти в упор – не промажешь. Лодка спрятана в прибрежных кустах ниже по течению. После выстрела охотник бежит к лодке, подплывает к добыче и достаёт её. Если утки много, не один раз будет счастливый охотник бегать туда-сюда, пропотеет, но с удачливого места не скоро уйдёт.
Мест таких для всех маловато, поэтому некоторые объединяются по двое, на сменку. Один стреляет, а другой в лодке сидит, добычу подбирает. Потом они меняются местами.
Ждать уток – надо, конечно, терпение иметь, но если хорошая солнечная погода, тепло, то сидеть на одном месте – сплошное удовольствие, насмотришься и на уток, которые то и дело пролетают над тобой, и на куличков, что бегают по бережку вдоль воды. Глядишь, ондатра вылезла на коряжку и умывается, а то заяц недолинявший выскочит чуть ли не к твоим ногам на солнопёк, на первую молодую травку. Чего только не увидишь из своего скрадка!
Снег на берегах ещё не растаял, а утки уже здесь.
Один раз лось переплывал реку да прямо на мой мысок угодил. Видно у них, у лосей, в этом месте был постоянный переход. Вышел он, мокрый, на берег метрах в пяти от меня и попёр прямо на мою засидку. Я вскочил и заорал на него, а то точно смял бы он меня своими копытищами.
Есть ещё один способ охоты на уток, когда охотник сам превращается в плавщика.
Однажды я поднимался по реке на своей лодке и вдруг увидел, как навстречу мне сплывает целая куча ёлок. Что за чудо! Оказалось, что это сосед мой, завхоз, нарубил молоденьких елушек, навалил-наставил их в лодку, замаскировался так и подплывает бесшумно (мотор-то выключил!) к уткам, которые сидят вдоль берега на прибившихся в тихих местах льдинках.
Конечно, может быть, этот способ охоты не предусмотрен правилами, может некоторые осудят тех, кто так охотится, но так испокон веку делали на Верхней Печоре да, наверняка, и не только там. K тому же охотники стреляют по сидящей птице, по селезню на выбор, подранков практически не бывает. Что же тут предосудительного? Местный колорит! А вот об охоте на уток с чучелами прежде и не слыхивали так же, как и об охоте с подсадной уткой.
К открытию первой своей там охотничьей весны я припас пять резиновых чучел гоголей: трёх селезней и две утки. Гоголь, пожалуй, самая распространённая утка на Верхней Печоре. Ну, может быть, ещё и крохаль. Однако особо хороших мест, где бросить на воду чучела, там очень мало, разливов, как я уже говорил, почти нет, река течёт между высоких берегов как бы в трубе. Есть, конечно, небольшие заводинки. Вот на одной из них, на границе спокойной и быстрой воды, я и поставил как-то утром раненько свои чучела, вереницей, одного за другим. Сам забрался в куст над обрывчиком и стал ждать, когда налетят и подсядут к чучелам гоголи или крохали
Солнышко пригревало весеннее. Я засмотрелся, как чучела плавают, шевелятся на воде, словно настоящие утки, и прозевал кучку гоголей. Они, звеня крыльями, пронеслись вниз по реке, но на своих резиновых сородичей не обратили никакого внимания. И тут справа, выше по течению я услышал звук «Ветерка». Из-за поворота, прижимаясь к моему берегу, выкатилась длинная печорская лодка. Она-то и спугнула гоголей. На корме, вплотную к мотору, кто-то сидел. Через несколько секунд лодка была рядом, и я узнал леспромхозовского тракториста.
Однако остальные «утки» не взлетели. Володя заглушил мотор, поднялся во весь рост и в полном недоумении смотрел на «гоголей», которые и не думали взлетать после выстрела. Володя стоял, глядя на них, а лодку потихоньку относило. Когда я поднялся из куста, он сообразил, в чём тут дело, махнул рукой, завёл мотор и уехал.
На таких лодках и охотятся на Верхней Печоре.
Подстреленное чучело явно набирало воды и понемногу тонуло. Я помчался по берегу, словно охотник на плавщиков, туда, где спрятал в кустах лодку, прыгая через валежины и увязая в мокром песке. Мне удалось успеть вытолкать её на течение, завести мотор и подъехать к чучелам, когда «подранок» уже скрывался под водой. Вытащив чучело, я вылил из него воду и, перевернув, вытряс через дырочку в головке пять дробин третьего номера. Хорош выстрел! И метил-то в селезня, а не в утку!
Утро заканчивалось. Те, кто охотился выше меня по реке, должны были уже возвращаться к дому. Поэтому я решил лодку не прятать далёко, а просто загнать в мою заводинку к кустам.
Чучела пока не стал снимать – вдруг да налетят ещё, спугнутые охотниками утки, и подсядут. Чтобы «резиновых» не расстреляли, я решил, как только охотники подъедут, выйти на берег, чтобы показаться им. Так и сделал.
Буквально через несколько минут из-за поворота выскочила «Казанка» под «Вихрём», а в ней четверо. Эти увидели «уток» издалека, задёргались и стали хвататься за ружья. Я вышел на берег. Охотники меня даже не видели!
Метров за двадцать охотники заглушили мотор и приготовились стрелять. Как только лодка поравнялась со мной, и до неё было не больше десятка метров, я громко сказал: «Отставить!»
Что тут было! Мужики чуть из лодки не повыпадали! «Ну, прям живые! Точно, живые!» – говорили они наперебой. Приткнули лодку к берегу, попросили показать чучела. Я им и показал того «подранка», что Володя подстрелил. Они, как узнали про это, стали ещё больше хохотать, но уже не над собой, а над Володей: «Мы-то хоть не стреляли! А он-то, он-то! Стрелил! Охо-о-отник!»
На следующую весну получилось ещё интереснее.
Сосед мой, Коля Кудрявцев, решил завести подсадных и привёз из-под Нижнего Новгорода, тогда он ещё был Горьким, пару, утку и селезня. От них мы впоследствии развели целое стадо – почти у каждого охотника в нашем посёлке были подсадные.
После прошлогоднего опыта с чучелами, не очень, правда, удачного, я привёз из Москвы ещё двенадцать штук – в основном, чернетей. Так что у меня их стало уже полтора десятка. Два «подстреленных» в ту весну всё-таки утонули, и я их не нашёл.
Так вот, под закрытие охоты мы с нашим механиком Юрой Лызловым выпросили у Коли на пару-тройку дней подсадную и рванули вверх по Печоре за семьдесят километров к посёлку Курья. Там было много стариц, вода спокойная и утки порядочно.
Приехали мы туда уже к ночи. Правда, на севере в это время всю ночь сумерки, даже стрелять можно. Спугнув огромную стаю свиязей, заплыли в Большую Курью, большую длинную старицу Печоры, и первым делом решили бросить чучела. Только мы начали их ставить, как связи вернулись и буквально зависали над нами, пытаясь подсесть к чучелам. Можно было прямо веслом их сшибать – совершенно непуганая птица.
Поставили чучела, соорудили посреди старицы на мелком месте скрадок-сидушку, бросили на воду подсадную, загнали лодку в скрадок, сели. И тут Юра захрапел. Сказались несколько практически бессонных суток весенней охоты. Он спал так крепко, что его не разбудили даже два моих выстрела по двум селезням, которые сели рядом с подсадной через четверть часа. Потом, уже на рассвете, Юра, проснувшись, тоже взял парочку крякашей и одного чирка-свистунка.
Когда поднялось солнце, мы выбрались из шалаша, сняли утку и высадились на берег. Под большой ёлкой метрах в тридцати от края воды развели костерок и стали завтракать. Утку, на колышке привязанную, оставили у самого берега и насыпали ей гречневой каши.
Только мы расположились, видим, вдоль кустов, пригибаясь чуть не до земли, крадётся, хоронится за кустами какой-то курьинский мужичок. Ружьё выставил, готовится по чучелам выстрелить, но пока ему до них далековато. Ничего вокруг, кроме чучел, он не видит, хотя до нас шагов двадцать. Посмотри он чуть влево, сразу же обнаружил бы и костёр и нас.
Юра мне подмигнул и громко так говорит: «Стой! Кто идёт?» Дёрнулся наш мужичонко, головой закрутил в разные стороны, а нас и не видит, что говорится, в упор. Решил – померещилось. Снова пригнулся. Крадётся к чучелам. Начал поднимать ружьё. Ну, думаю, сейчас ведь бабахнет, опять придётся дробь вытряхивать и «раны» чучелам заклеивать. Говорю громко и очень строго: «Стой! Стрелять буду!» И захохотали мы во весь голос! Тут уж он опомнился и нас увидел. Говорит: «А чевой-то они сидят? Не боятся совсем! Ну, дела!» И пошёл, видимо, обиженный, и всё оглядывался: «Ну, живые! Чисто дело живые!»
Только мы принялись за еду – новый гость. Курьинский рыбак приплыл сетки проверять, трясти. Мы ему крикнули, чтобы он не суетился насчёт уток – это чучела. Он отвечает, что у него и ружья-то нет, не бойтесь, мол. Оказалось, человек этот знакомый Юрия. Вылез он на берег, мы к нему подошли. Стоим рядышком, разговариваем, утка в трёх шагах свою кашу щелокчет. И тут он её увидел! Хрипит: «Утка! Утка!» У Юры с плеча ружьё рвет: «Стреляй! Стреляй!» Тут мы снова чуть со смеху не попадали. Ну, потом, конечно, объяснили ему, что к чему, а он тоже, как тот, первый мужичок, словно обиделся: «Как-то не по-людски вы, ребята, охотитесь. Чучелы разные понаставили, уток завели». И уплыл.
Вот так начинались на Печоре первые охоты с чучелами и подсадной. Давно это было, но, по-моему, так до сего времени к этому не привыкли, охотятся по-дедовски, плавщиков стреляют.
Истоптанное болото
В конце марта снега занастятся так, что можно ходить без лыж. Такой наст порой держит не только пешего человека, но и коня с санями. Даже трактор может пройти. Тогда говорят: «Наст сей-то год конский!»
По таким настáм хорошо разведывать глухариные тока. Но только до дневного распара. Бывает, что целая поляна оседает, обваливается под тобой. Ухнет так, что кажется, будто земля разверзлась. Даже сердце обмирает. Если не успеешь выйти до срока на лыжню, будешь сидеть у костра до ночного мороза. А ночью опять за тридцать – и к утру снова беги без лыж во все концы леса.
В это же время начинают вылетать косачи на свои исконные токовища посреди обширных таёжных болот.
Когда летишь на местном самолёте над тайгой, вдруг видишь посреди заснеженного болота истоптанный снег. Никаких подходных следов нет, а снег истоптан. Это косачи-тетерева на нём собирались – примета весны.
Место тетеревиного тока хорошо видно из самолёта.
Удивительна привязанность тетеревов к своим токовищам. Когда тает снег – на болотах полно воды, а они всё равно находят места и токуют, токуют. Рассядутся по кочкам и бурлят-бормочут, а сражаться негде, вокруг вода.
Однажды я ехал по новой железнодорожной ветке, проложенной от Ухты до Троицко-Печорска. Она проходит по довольно глухим местам. Весенняя ночь была светлая, и я не спал. В рассветном зареве прямо из окна вагона я видел, как токующие тетерева слетали от идущего поезда с насыпи, садились на болото между сосенок и продолжали токовать, а один – даже метрах в десяти от насыпи, чуть ли не под колёсами. Поезд тетеревам нисколько не мешал.
Выдры у полыньи
Мы увидели их издалека, подкрались к ним и наблюдали за ними около часа, и всё то время они ходили друг за другом по кромке льда, ныряли, снова вылезали на лёд. До них было метров сто двадцать, не меньше, но в восьмикратный бинокль можно было их хорошо разглядеть. Однако чем именно они там занимались, мы так и не поняли. Любовные ли это были игры, кормёжка, или просто так забавлялись – так и не удалось узнать, а хотелось бы. То, что это были самец и самка, сомнений не вызывало, но что они делали?
Выдры на льду Печоры.
Мой мощный телевик-пятисотник, конечно, смог запечатлеть только их силуэты. Я отснял полплёнки, но все кадры были практически одинаковы – пара выдр, идущие одна за одной, и всё. Я не взял с собой МТО-1000, телевик, который даёт двадцатикратное увеличение, но и он бы мне не помог. Очень уж мягкое, без солнца, было освещение.
Мы так долго за ними наблюдали, что, замёрзнув на твёрдом насту, даже развели небольшой костёр подальше от берега, за кустами, и ходили туда греться. Мы делали всё осторожно, и выдры долго не реагировали на нас, просто, видимо, не слышали. В конце концов, когда под Сашей (он был самым крупным из нас) наст обрушился, захрустел, выдры ушли. Причём не сразу исчезли, нырнули, а потихоньку удалились в устье ручья и скрылись за кустами.
Маленький гость
Устали с товарищем, есть хочется, и спать просто до смерти. Всю ночь просидели в шалашах, но не без результата. Селезни, разноцветные весенние красавцы, приличной связкой лежат в лодке, и это придаёт нам бодрости.
Причаливаем к невысокому обрывистому берегу. Сейчас, весной по высокой воде борт лодки почти вровень с его краем.
Вдоль берега частый высокий ивняк, у корней кое-где припудренный илом, и широкая покосная поляна. За ней густой ельник. Около него остожье с тремя стожарами и остатками прошлогоднего подгнившего сена. Посреди поляны понижение, а в нём талая вода, замёрзшая ночью. Она немного осела, и это озерко-лужа похоже на зеркало в серебряной раме. Банальное сравнение, но сравнивать больше не с чем, тем более что оно почти точный овал, и отражения ёлок в нём отлично смотрятся.
Лесное зеркало.
Нарубили сухого ивняка, раскочегарили костерок, ощипали двух чирковых селезенчиков и заварили охотничий кондёр. Вытащили для просушки на ветер да на солнышко всё, что было в лодке. Дичь положили в тенёк за маленькую елушку около ивняка на подтаявший сугроб.
Подсадных уток привязали на колышки возле нашего «зеркала». Правда, пришлось его с краю разбить, чтобы была вода. Утки лучше берут еду из воды.
Чтобы не холодно было на сырой весенней земле, я надул матрац и лёг на него подремать, пока не уварились чирки и картошка. Как приятно греет спину костёр, а обветренное лицо – солнышко!
Вдруг мне показалось, что наша добыча на сугробе шевелится. Что за чудо?! Сонливость моментально смахнуло. Смотрю внимательно – нет, не шевелятся наши селезни. Вдруг опять зашевелились! «Юра, – позвал я товарища, – глянь, что делается». Он стоял у костра, и сверху ему лучше было видно, чем мне, что там, у сугроба происходит. Оказывается, это горностай подобрался по ивняку к нашей добыче и дёргал крякового селезня, а вся связка шевелилась. И всего-то в трёх метрах от меня! Вот отчаянный! Ветер на него тянул, вот он нас и нашёл. Вернее не нас, а наших уток, которых решил, видно, присвоить.
Мы его шуганули, но ненадолго. Он опять начал подбираться. Нырнёт за поваленную сушинку или коряжку, спрячется за ней, потом выставит головку, поднимется, обопрётся лапками и высматривает лучший путь. Молниеносный бросок к следующему укрытию, и всё снова повторяется.
Он уже почти перелинял, красавчик. Сверху коричневый, снизу белый, каким должен быть летом, только на крестце немножко белого осталось. Хвостик с чёрным кончиком держит, как флажок, торчком.
Мы его несколько раз гоняли, но он всё время возвращался. Тогда мы ему кинули утиные потрошки. Он тут же ухватил их и поволок, словно толстые верёвки, через покос к ельнику. Мы обхохотались, глядя на то зрелище, потому что он всё время на них наступал и чуть ли не кувыркался через голову.
Когда мы, отдохнув и позавтракав, уложили вещи в лодку, горностай опять появился неподалёку. Запрятал, верно, где-нибудь под валежину свою добычу и явился за новой. Пришлось вытрясти остатки еды возле сугроба, к которому он так упорно подбирался.
Мы ещё не успели оттолкнуться от берега, как он уже там копошился.
Саксон
Полночь, сумеречно, но по всему видно – скоро белые ночи начнутся. Морозит, а мне всё нипочём. Здесь на краю разлива, у леса – затишье, вода не шелохнется. Я поднял у лодки тент, завалил всю её сверху и с боков еловым лапником и разжёг в своей охотничьей «квартире» примус «Шмель». На нём кипит чайник. Кресло-сиденье я развернул к корме, к бойнице моего плавучего шалаша и жду, когда рассветёт получше, чтобы можно было стрелять наверняка.
На воде лежит длинный шест, привязанный к корме лодки. На дальнем его конце сидит подсадная Дашка, чистит пёрышки. Вторая, Катька, отдыхает в корзине, тоже, слышно, чистится.
Устроился я с комфортом – ружьё на коленях, ноги в валенках, руки греет кружка с крепким сладким чаем. Полный, как говорится, кайф!
Временами откуда-то слышен звон гоголиных крыльев. На Печору метрах в двухстах от меня опустилась огромная стая свиязей. Слышно, как хрипят и свистят селезни, ухаживая за уточками. В метре от подвесного мотора проплыла парочка трескунков. Селезенчик даже приподнялся на хвостике и заглянул в мой скрадок, а стрелять было нельзя – слишком близко до него, стволами можно было достать.
Дашка моя вдруг насторожилась и дала осадку – та-а-а-та-та! И тут же справа, возле чёрного затопленного куста ляпнулась на воду какая-то утка и поплыла к моей. Это был не кряковый селезень – желанная добыча, а какой-то другой. Он не жвакал, не свистел и не хрипел. Совершенно чётко и разборчиво, сипло и как бы с придыханием он выдавливал из себя: «Са-ак-сон! Са-ак-сон!»
Что за чудеса! Я такого раньше никогда не слышал, но тут же сообразил, что это селезень широконоски. На Печоре её зовут саксóном. Утка сама дала себе название.
Саксон не подплыл на расстояние выстрела. То ли он заподозрил что-то неладное, то ли утку подсадную принял не за свою подругу, но добыть его мне так и не удалось.
Желтоглазый
Катька, моя лучшая подсадная, работала в это утро как надо. Два селезня уже лежали на воде в старой осоке, а она всё наманивала новых, сидя на своей кочке. Вдруг она тихо сползла с неё, вытянулась и словно утонула. Я почувствовал неладное – где-то рядом серьёзная опасность, но и из шалаша мне не было видно, что ей грозит.
И тут сзади, развернув веером серый хвост с широкими белыми полосами, крутанулся к моей любимице здоровенный ястреб-тетеревятник. Сердце у меня упало – конец утке! Но ястреб промазал, скользнул над самой водой и сел на корягу чуть левее меня, метрах в пятнадцати. Катька не шевелилась, а он, не моргая, смотрел на неё огромными жёлтыми глазами. Его грудь, полосатая как тельняшка, розовела на утреннем солнце.
Ах ты, погань! Пират лесной!
Я осторожно просунул стволы ружья сквозь ветки шалаша. Ястреб глянул прямо мне в глаза, пригнулся, чтобы взлететь, но не успел. От удара дробью он свалился спиной на воду, распахнув крылья.
Я вылез из шалаша, подошёл к нему и поднял за крыло на вытянутой руке – ненароком ещё на когти напорешься. Голова ястреба свесилась, жёлтые ноги, прижатые к груди, медленно выпрямились, а пальцы с крючьями чёрных острейших когтей начали расправляться. Я сунул им меховую рукавицу. Когти медленно, уже автоматически, сомкнулись, и легко пронзили кожу и мех. Мёртвый ястреб делал то, что было назначено ему природой – хватал, чтобы убивать.
Вдруг тихо крякнула Катька. Я повернулся к ней и увидел, что она, вытянувшись, внимательно смотрит из-за кочки на своего врага, словно не верит ещё, что он мёртв, а она жива.
Живая тишина
Середина мая. Белые ночи ещё не наступили, но темноты давно уже нет и в полночь. Весенние сумерки.
Над зеркалом залитой луговины тишина, за щёткой ивняка, метрах в ста, бесшумно катится мутная Печора. Плеснул подмытый пласт берега, затрещала и начала валиться в реку обречённая ель. Хорошо видно, как она отделилась от стенки леса. Сейчас ухнет. Нет, не падает. Заскрипела натужно и остановилась, вздрагивая хлыстоватой вершиной.
Берегом вдоль ельника иду к лодке. Непотухающая заря светит в лицо. Похрустывает подмёрзшая земля. Тоненько, словно стараясь не нарушать тишину, тирикают кулички-перевозчики у берега.
Под разлапистыми одиночными елями на самом краю разлива – грязные сугробы и сугробики. Слева вода, справа большая поляна, седая от ночного инея. На ней снега нет, уже растаял. Его остатки будто уползают серыми языками в дальний плотный ельник.
Небольшой сугробик под ближней ёлкой словно ожил, выскочил на поляну и помчался к ельнику, сжимаясь и растягиваясь. Да это заяц-беляк! Перелинял почти наполовину. Он заскочил в лес и долго там ширкал по снегу. Можно было даже проследить, в какую сторону он пошёл.
Качнулась еловая лапа, и в глубине кроны повернулось ко мне огромное совиное лицо. Да ещё с бородой! Бородатая неясыть – одна из самых крупных сов! Она вылезла из чёрных недр ветвей, вытянулась и замерла, глядя будто через какую-то загородку. Взгляд её словно воткнулся в меня. Даже в сумерках было видно, какие жёлтые у совы глаза.
Я подошёл к ней вплотную. Между нами было не больше трёх метров. Сова переступила, аккуратно перехватывая ветку мохнатыми пальцами. Я подумал – ну и когтищи! – и шагнул к ней ещё раз. Тут она развернула огромные крылья, оттолкнулась, маханула прямо через меня, опахнув прохладой, и поплыла в воздухе к затопленному кустарнику. Там, беззвучно лавируя между ивинами, она принялась гонять куликов. Они удирали, дрожа крылышками над самым своим отражением, а она, словно нехотя, летала над ними как гигантская бабочка. Её двойник в гладкой воде будто пытался подловить какого-нибудь куличка снизу. Когда она кидалась сверху, то почти соединялась с этим своим двойником.
Кулики рассыпались, попрятались куда-то и замолкли. Сова плавно поднялась над кустами, чёрная на фоне зари. Не теряя достоинства, не торопясь, она перелетела поляну и исчезла в елях, под которые забежал заяц. Ни одна ветка не качнулась.
Вдруг заяц там начал гукать и стонать. И тут же, будто в огромную глухую трубу гуднула в ответ ему сова: «Гу-у-у! Гу-гу-у-ух!» Снова, но уже громко затараторили кулички.
Ожила весенняя тишина.
Остановка
Вечер. Солнце село, но зарево заката, немного пригаснув, будет всю ночь стоять в северной стороне. Потом оно переместится к востоку и станет восходом Солнца.
Поднимаюсь на моторке по весенней Печоре. Она только-только освободилась ото льда. Пустынно и зябко над вечерним простором холодной и мутной воды с последними замызганными льдинками.
Мотор засорился, перегрелся и заглох. Пристаю к берегу переждать, пока он остынет, а заодно и размяться. После рёва мотора тишина сначала ошеломляет, потом начинаешь слышать.
Скромно булькает и названивает ручеёк в своём маленьком ущельице, которое он прорыл в песке, наметённом полой водой. Песок ещё не слежался и оплывает под ногами, трясинится. Где-то впереди, в кустах, залитых половодьем, потрескивает чирок-трескунок, ему вторит другой, а их уточка вскрикивает визгливо, словно издевается над ними. Дроздов почему-то не слышно.
Зарянка-малиновка разлилась песенкой в ельнике у самой воды и вдруг выскочила на чистое место. Чуть ли не к самым моим ногам. Рыжая грудка, чёрный булавочный глазок, а сама – пушистый шарик с хвостиком-палочкой. Глянула снизу, присела два раза, как поклонилась, и мышкой шмыгнула под колючий шиповник. Она наверняка проверяла, кто это тут проявился в её владениях.
Чирки-трескунки.
В такие моменты чувствуешь себя пассажиром скорого поезда, который остановился вне расписания на маленькой станции, а местные жители хотят разглядеть тебя, какой ты нездешний.
Лето – белые ночи
Два лабаза
В конце июня в дальнем загоне лосефермы медведь задавил крупного прошлогоднего лосёнка. Обычное это дело – почти каждый год в загоны вламывается медведь и гоняет лосят. Однажды один такой наскочил на лаборанта, который шёл их проведать. Он отогнал медведя, колотя палкой по ведру.
Медведи в загонах ходили ежегодно, однако, не всегда мирно.
Когда этот медведь задавил лосёнка, в тот же день соорудили около останков лабаз, и охотники сидели на нём целую ночь, караулили зверя. Если медведь начинает ловить домашних лосят, надо его кончать. Увлекшись, он будет пакостить ещё и ещё, да и на следующий год попробует. Но этот медведь состорожничал и в ту, первую, ночь к мясу не вышел.
На второй вечер на лабаз пошли два научных сотрудника – Володя и Серёжа. У Володи карабин калибра 7,62, у Серёжи – двустволка-ижевка двенадцатого калибра…
В конце июня самые белые ночи на Печоре. И лес, и река, и посёлок непривычно пусты и светлы. И в полночь можно читать. Хоть и светло, но к урочному часу всё стихает. Перестают петь птицы, куда-то исчезают комары, по реке не снуют моторки, вода успокаивается, и длинные печорские лодки замирают, уткнувшись в берег под обрывом, белея колпаками подвесных моторов. Они словно стараются вскарабкаться в лодку, но сил нет, и они уснули, уцепившись за корму.
Белая ночь над Печорой. Посёлок Якша, в котором я прожил почти девять лет.
Тишина на реке великая, и только слышно неумолчное тириканье куличков-перевозчиков по песчаным заплёскам, да камышёвка, не останавливаясь ни на минуту, захлёбываясь от азарта, стрекочет в белой пене черёмухового куста. Каждый год – в одном и том же.
Иногда вдалеке за лесистыми излучинами реки, в свежем недвижном воздухе повисает далёкое пение подвесного мотора – какой-то неугомонный полуночник держит путь к дому. Белая ночь ему помощник. Мотор то слышней, то тише – лодка крутит по извивам реки. Потом из-за последнего поворота выскакивает дюралька и летит к посёлку. Кто-то бесформенный сидит на корме вплотную к колпаку «Вихря», закутанный в какую-то лопотину от ночной холодной сырости – видно только бледное лицо. Лодка чертит на воде расходящуюся полосу и по дуге летит к берегу. Сброшен газ, уркает и замолкает мотор, гремит по металлу цепь якоря, от противоположного берега кидается эхо, и снова всё стихает. И снова, и снова – над самой водой мелодичный стрёкот камышёвки, перекличка куличков по берегам, сладковатый и терпкий запах черёмухи, а надо всем – белёсый немеркнущий свет неба…
Вот такой же белой ночью мы до полуночи резались в волейбол, не давая спать соседям, а Володя и Серёжа отправились сидеть на лабазе.
Часов в одиннадцать ночи (хотя какая же это ночь, если читать можно!) из-за сараев к нам вывалились возбуждённые охотники. Вид у них был!! Ещё бы! Медведь вышел! Они стреляли по нему! Они ранили его! Смертельно! Медведь ревёт и ворочается в кустах! Давайте, пойдём все вместе и доберём его!
Мы закричали «ура!», поздравили победителей, отвязали собак для пущей важности и на трёх лодках отправились вверх по реке. Надо было проплыть километра полтора, а потом уже на другой берег, и ещё столько же лесом, старой вырубкой к лабазу.
Нас было одиннадцать человек, да ещё пять собак, которые устроили настоящий хай в лодках, когда мы садились. Собаки-то охотничьи, и, как говорится, рвались в бой. Одним словом, мы перебулгачили весь посёлок.
Пришли к лабазу. Он был устроен на краю густого сосняка, метрах в четырёх над землёй на трёх молодых сосенках. Каждая сантиметров пятнадцать-двадцать толщиной. Метрах в десяти – останки лосёнка. От них уже идёт вонь. С этой стороны лабаза большая вырубка – пеньки, кусты, высокая трава. Место далеко просматривается. С другой, тыловой стороны – чаща лесная. Всё переплетено кустами так, что не пролезешь. И мрак там такой, что идти туда, к раненому зверю, не очень-то и хочется.
Выстроились мы в шеренгу. Володя показал направление, и мы двинулись вперёд, держась друг от друга шагов на десять-пятнадцать. Лесничий Виктор всё приговаривал, чтоб мы были повнимательней – не перестрелять бы соседей вместо медведя, когда он поднимется. Конечно, побаивались, ведь не каждый день на медведя ходят, а тут – раненный, да ещё в полумраке леса. Страшновато всё-таки.
Так мы прошли, наверное, километра с полтора. Признаков раненного, издыхающего зверя – никаких. Володя с Серёжей стараются поднять нашу падающую активность, но, вероятно, придётся давать отбой.
Неожиданно на маленькой полянке я натыкаюсь на останки медведя – шерсть, кости, когти и череп. Под ними толстый слой пупариев, пустых мушиных куколок. Мухи съели целого медведя. Так вот куда девался прошлогодний разбойник медведь, который загубил двух лосих, дикую и домашнюю! Созываю всех к этому месту. Тут же решаем, что искать дальше не имеет смысла. Если медведь и был действительно ранен, то легко, и ушёл. Начинаются упрёки в адрес горе-охотников. Ведь раненный медведь может ещё немало бед натворить. Однако надо всё-таки узнать, действительно ли он был ранен. Конечно, это надо было сделать ещё до начала поисков.
Идём снова к лабазу. Уже совсем светло, но пасмурно и солнца не видно, хотя, судя по времени, оно, конечно, уже взошло. Володя с Серёжей забираются на лабаз, а я отправляюсь к тому месту, где охотники первый раз увидели медведя. Я отошёл уже довольно далеко, когда ребята с лабаза одновременно крикнули: «Стоп! Он здесь и появился!» Да это не меньше ста метров до лабаза. Вот чудики! Кто же с такого расстояния стреляет, когда зверь может подойти чуть не к самому дулу ружья! Эх, охотники! Конечно, промазали. На шерстинки, ни единой капельки крови.
Начинаются пререкания – кто, когда и куда стрелял. Да что тут спорить – мазали оба. Серёжа пульнул по разу из каждого ствола, а Володя успел послать в сторону медведя три пули. Увы, безрезультатно.
Кто-то утешает ребят – главное сделано, медведя прогнали и то хорошо, больше он в загоны не полезет.
Прошло два дня, никто на лабаз не ходил. И вот – дождь с грозой. Он освежил траву и мох, наверняка смыл наши следы, уничтожил все посторонние запахи. И тут я подумал, что зверь этот никуда ведь не ушёл. Если сегодня сесть на лабаз, может, и мне представится шанс на выстрел. И я решил идти.
Никто, кроме жены и заведующего лосефермой Кожухова, не знал, что я направился на лабаз. Не очень верилось, что медведь выйдет к мясу. Да к тому же, если он выйдет, надо будет не промахнуться. Засмеют ведь.
Было около пяти вечера, когда Михаил Вениаминович проводил меня до самого лабаза – мы решили обмануть медведя. Может, он не разберётся, сколько человек подходило к лабазу, сколько ушло. Может, он решит, что у лабаза никого не осталось.
Подходили к месту осторожно, заранее условившись не разговаривать. Карабин у меня был наготове. Кто знает, вдруг медведь сидит на мясе. Зверь этот на своей добыче всегда очень агрессивен. Бросок его неожидан и молниеносен. Одним словом – держи ухо востро.
Вот и лабаз. С мяса поднялась туча мух. Солнце ещё стояло не низко, было жарко. Даже какая-то непривычная для Севера испарина окутывала и кусты на вырубке, и лес, и поляну. Влажный воздух давил все запахи к земле, и смрад от гниющего мяса был просто непереносим.
Снизу лабаз казался не очень надёжным, особенно, если принять во внимание, что раненный медведь может кинуться вверх, чтобы расправиться с обидчиком. Всего четыре доски были прибиты к тонким перекладинам между сосенками.
Однако делать нечего. Назвался груздем – полезай в кузов, назвался медвежатником – лезь на лабаз. И вот я наверху, среди сосновых веток. Кожухов поднял руку, прощаясь, и повернулся уходить. Я помахал ему и стал слушать, как долго он будет хрустеть сухими ветками. Хоть дождик и прошёл, но хруст был слышен довольно долго. Старая лесосека была буквально захламлена сухими и перегнившими ветками, завалена брошенными стволами.
Вот шаги затихли, и я остался один на один с кустами, лесом, птицами и затаившимся где-то медведем. Где он прячется? Когда выйдет? Выйдет ли вообще?
Я подумал, что раньше захода солнца ждать его нечего. Всё-таки зверь, как правило, выходит к добыче уже после заката. Было жарко, комары донимали, ноги в резиновых сапогах совсем сопрели. Я снял их и развесил по веточкам волглые носки, наслаждаясь неожиданной лёгкостью в ступнях. Потом намазал «дэтой», антикомариновой мазью, и руки, и лицо, и одежду, потому что потом, когда придёт зверь, это будет поздно делать. Теперь можно посидеть, понаблюдать за природой, подумать, как встретить хищника.
Я несколько раз поприкладывался, прикидывая сектора стрельбы, особенно тот, в котором уже стреляли. Быть готовым к разным неожиданностям – это уже залог успеха. Впрочем, я на него не очень-то надеялся, хотя молил Бога, чтобы он дал мне этот трофей.
Жена не раз просила меня приобрести медвежью шкуру, но я сказал, что в нашем доме медвежья шкура будет только от моего выстрела. На это она мне возразила, что я буду этого ждать много лет и не дождусь. Почему бы и не воспользоваться чужим успехом и попросту купить шкуру. Вот такие были у нас с ней разговоры.
А лабаз оказался неожиданно удобным и хорошо укрытым. Я как-то не обратил на это внимания, когда два дня назад забирался на него. Главное, ничто не мешало поворачиваться с карабином на нём. Не то, что прошлой весной, когда я с Николаем сидел на лабазе, карауля того самого медведя, останки которого мы нашли неподалёку от этого лабаза.
…Тот медведь, наверное, был очень голоден и агрессивен. Рано утром на лесовозной дороге он завалил дикую стельную лосиху. Это случилось в середине мая километрах в десяти от нашего посёлка. Леспромхозовские рабочие, когда ехали на работу, на лесосеку, увидели медведя на лосе, отпугнули его, быстренько разделали тушу, забрали мясо, оставив только то, что не могло пойти в котёл. Потом они говорили, что медведь очень неохотно уходил со своей добычи и даже уркал в кустах неподалёку, когда мужики разделывали тушу.
Чтобы понять, как медведь мог поймать лосиху прямо на дороге, надо объяснить, как строят на Севере лесовозные дороги.
Сначала вырубают лес на будущей трассе. Потом бульдозерами распихивают к обочинам пни, оставшиеся не вывезенными стволы вместе с дерновиной. Получаются словно два противотанковых вала по обеим сторонам будущей дороги. Между ними метров сорок – пятьдесят. А затем, опять же бульдозерами, уже от этих валов нагребают насыпь, выравнивают, возят самосвалами гравий, прикатывают – вот и готова дорога.
Медведь напал на лосиху, когда она кормилась около одного из валов. По следам на сырой земле всё было хорошо «читать». Она металась между этими двумя «противотанковыми» валами с одной стороны дороги на другую, но, видимо, не решалась махнуть через завал. В любом случае она была обречена. Если б она пошла через него, медведь тут же её и задавил, пока она там путалась, а на дороге просто загонял, прижал к обочине и кончил.
Лосиха была крупная, с двумя лосятами в утробе. Они вот-вот должны были родиться – из вымени шло молозиво. Очень жалко её было, да ещё с ней два маленьких погибли. Но медведь – хищник, и этим всё сказано.
Однако рядом с лосефермой такого агрессора оставлять было нельзя. Он мог начать охотиться за домашними, у которых тоже были уже маленькие.
Решили делать лабаз. Однако подходящего, мало-мальски приличного дерева около этого места не было. Стояли только несколько тощих берёзок. Нам бы сделать засидку прямо на земле, но мы даже не подумали об этом. Лабаз, только лабаз!
На высоте примерно двух с половиной метров кое-как привязали к стволикам две жерди для сидения и одну под ноги. Замаскировали сидьбу еловыми ветками. Посмотрели. Вроде бы не очень хорошо, но лучше не сделать.
Вечером мы с Николаем залезли на это ненадёжное приспособление. Солнце ушло за наши спины. И сразу похолодало. Редкие злые весенние комары пытались на нас нападать. С ближнего болота потянуло сырым холодом. Сзади нас, над вершинами берёз, только начавших опушаться листвой, промчались чирки. Трюкнул селезенчик. Беспрерывно токовал бекас, то взлетая, то кидаясь с высоты к земле.
Перед нами была видна вся дорога – подсохшая сверху насыпь, мокрая, в лужах глина по широким обочинам и недалёкий, метрах в двухстах, мостик через разлив ручья. Светлое небо отражалось и блестело в нём. За дорогой громоздились вывороченные пни, стволы сосен, такие же, как и на нашей стороне. За ними – чёрный ельник. Там на вершинках свистят дрозды.
Обычная вечерняя идиллия в лесу весной.
Через некоторое время мы уже продрогли, я стал дрожать, а медведь всё не шёл. Решили выпить кофейку из термоса. И, конечно, именно это время пришёл медведь. Меня вдруг затрясло так, что я чуть было не свалился с нашего насеста. Коля тоже дрожал крупной дрожью.
Медведь подошёл к нам сзади. Повернуться, чтобы стрелять, было нельзя, потому что медведь бы ушёл. Как это мы не сообразили сесть лицом в разные стороны, чтобы можно было стрелять вкруговую! Раззявы! Только скосив глаз вправо и чуть повернув голову, я увидел, как медведь, явно недовольный нашим вторжением, ходил по кустам и очень сердито урчал. Потом он ушёл в кусты подальше, и его не стало слышно. Мы приготовились стрелять, но снова не догадались, чтобы кто-нибудь из нас повернулся к кустам.
Минут через двадцать медведь снова зауркал в кустах позади нас, но на вид не показался. Опять умолк и перестал хрустеть ветками.
И вдруг я увидел, как он выскочил на дорогу метрах в ста от нас. Вот когда я убедился воочию, какой это быстрый зверь! Он вроде бы и не передвигал ногами, но стремительно перекатился, словно огромный шар, через насыпь, нырнул в кусты и вдруг встал над выворотнем, как председатель собрания над столом президиума. Хорошо он нам был виден. Но стоял далековато. Потом посчитали – сто сорок шесть шагов. Больше сотни метров. Стрелять было можно, расстояние позволяло. Но как? Нас он видел лучше, чем мы его. Я потянул карабин с колен. Медленно, медленно! Медведь исчез мгновенно, словно провалился в яму. Всё! Конец! Правду говорят, что русский мужик задним умом крепок – надо было вскинуть карабин, когда медведь мчался через дорогу.
Потеряв всякую надежду, мы всё же просидели всю ночь на своём насесте, регулярно засыпая и просыпаясь от «попыток» свалиться. И всю ночь над нами слышался свист утиных крыльев – было время валового пролёта.
И вот я сижу на новом лабазе, вспоминая, как тот медведь задавил ещё одну лосиху, уже домашнюю, лосефермскую. В неё заложили отраву, медведь больше не появился. Видимо, отравился всё-таки. Искать его бесполезно было. Но вот он и нашелся – через год.
Солнце уже совсем низко. Оно у меня за спиной, и та часть вырубки, что непосредственно передо мной, уже в тени. Солнечные лучи лежат только на дальнем конце этой большой поляны с тёмно-зелёными пирамидками молодых ёлочек. Вот где для Нового года ёлочки-то выбирать! Лёгкий ветерок потянул оттуда и опахнул меня прекрасным запахом смолы, цветущей лесной поляны и влажного мха. Стало не так жарко. Однако ветерок может мне напортить, если нанесёт мой запах на медведя, который, возможно, стоит позади меня в лесу.
Я посмотрел на часы – половина восьмого, пора готовиться к «приёму» зверя. Я натянул носки, сапоги и уселся поудобнее, свесив с лабаза ноги.
Начинался лесной вечер. Звенели комары, справа беспрерывно рюмил зяблик. К непогоде, что ли? В лесу вдруг начали тарахтеть дрозды, словно почуяли какую-то опасность. Не медведь ли идёт? Правда, так они могут всполошиться на любого, кто вторгнется на территорию их гнездовой колонии.
И тут слева и немного сзади хрустнул сломанный сучок – и лесные звуки мгновенно выключились. Сердце у меня заколотилось так, что я напугался.
Я повёл взглядом, не поворачивая головы, влево – на опушке, в двух-трёх десятках шагов стоял медведь, он вышел не весь на поляну – задняя часть тела была скрыта кустами. Он стоял и нюхал воздух, приподняв голову.
Что только я не передумал эти мгновения! Какие чувства! И радость – угадал я всё-таки, что медведь придёт сегодня! И опасение – вот он сейчас учует меня и развернётся обратно, и охотничий азарт – какой зверь вышел к моему лабазу!
Сердце колошматилось прямо в горле, дышать стало трудно. «Ну, давай, давай! Топай!» – шептал я про себя и не сводил глаз с медведя.
И вот он осторожно двинулся к задавленному лосёнку.
Как он шёл! Даже не шёл, а плыл, медленно и плавно плыл, словно не касаясь земли лапами.
Почти подо мной он поднял голову и посмотрел вверх. Он знал, что стреляли в него именно с этого места. Мне показалось, что наши взгляды встретились. Только бы не моргнуть! Но мне повезло – именно с этого места меня закрывала большая пушистая ветка.
Боясь двинуть глазами, я следил за ним каким-то боковым зрением. Шерсть переливалась у него на холке и на лопатках. Когда он шёл мимо меня всего-то в каких-нибудь пяти-шести метрах, я подумал, что он услышит стук моего сердца. Оно и впрямь стучало так сильно, что можно было услышать его и на расстоянии.
И вот он стал проходить мимо меня. Тогда я осторожно поднял карабин, и линия прицела упёрлась в голову медведя. Я моментально успокоился. Удивительно, но в этот момент я подумал, что сделаю дырку в черепе, а такой трофей мне не нужен – испорчен будет пулей. Тогда я перевёл мушку на правую лопатку, но сообразил, что от такого выстрела медведь сразу не ляжет, даже если я попаду в сердце. Бывали случаи, когда медведь уходил на несколько сотен метров с пробитым сердцем.
В это время зверь остановился и немного повернул голову ко мне. Услышал!? Лучшего положения для выстрела быть не могло. Я быстро прицелился ему в шею, туда, где должен быть второй позвонок, и осторожно нажал спуск.
«Ка-тонг!» – хлестнул по вырубке выстрел. Медведь буквально обрушился, словно ему в одно мгновение подсекли все ноги сразу. Он кусает землю, утробно рычит, но не двигается. Стреляю в то же место снова – медведь затихает. Готов! Вот и всё…
Необыкновенная радость захватила всего меня. Неохотники наверняка не поймут, но так оно и было. Мне хотелось орать о своей победе на весь лес, стрелять раз за разом, чтобы и в посёлке услышали и поняли, что я завалил медведя.
Теперь я не торопился, добавил в магазин два патрона, поговорил с уже поверженным медведем и только потом закинул карабин за спину и полез с лабаза.
Вот он, враг маленьких лосят, лежит и не шевелится. Смотрю внимательно на уши – не прижаты ли? Может, только притворяется зверь? Нет, вроде бы наповал уложил его. Беру карабин наизготовку, снимаю с предохранителя и осторожно подхожу к туше. Знаю, что он уже не двинется никогда, но страшновато всё же – а вдруг! Трогаю концом ствола карабина голову за ухом (если зверь дёрнется, сразу стреляю), но голова безвольно качнулась. Действительно готов! Вот когда мной овладел настоящий восторг! Стыдно признаться, но я исполнил тогда вокруг медведя какой-то замысловатый танец. Так, наверное, плясали около поверженного мамонта первобытные люди.
Всё! Карабин – на предохранитель. Прислоняю его к пеньку, намазываюсь антикомарином – надо снимать шкуру, потрошить и разделывать тушу. Не стоит рассказывать об этой самой малоприятной части охоты на всякого крупного зверя. Да к тому же и нелёгкой – всё-таки поворочать одиннадцать пудов, как потом выяснилось, не так-то просто. Одним словом, ушло у меня на это часа полтора. Когда я закончил это дело, разложил мясо по пенькам, сложил вдоль шкуру, солнце уже давно село и в кустах начало темнеть. Ещё раз осмотрев «поле боя», я отправляюсь в обратный путь, предвкушая своё появление дома и вообще в посёлке.
Тропинка ведёт меня по старой сырой лесовозной дороге. Глубокие колеи заросли высокой травой почти в пояс, а местами и по грудь. По обочинам плотные кусты осины и ольхи. Осинки слабо лопочут листьями, показывая их светлую изнанку. Призрачный свет белой ночи от северной стороны неба светит прямо мне в лицо. Какое-то умиротворенное состояние охватывает меня. Конечно, тут и усталость, и спад нервного напряжения. Всё это так, но и тишина белой ночи тоже действует каким-то колдовским образом на человека. И я, словно отключившись от всего земного, лечу, как мотылёк, к немеркнущей заре белой ночи…
Вдруг впереди зашуршала трава. Какой-то зверь бежит мне навстречу, скрытый высокой травой! Кровь бросилась в голову, стало жарко. Медведь?! Я рванул карабин с плеча!
Фу ты, господи! Да это же Соболинка, аккуратная лаечка моего соседа Юры Лызлова. Подбежала, поласкалась и убежала дальше к лабазу. Вот и сам Юра показался. Возвышается над зарослями травы, за плечом – карабин. Из-за Юры выглядывает Кожухов, тоже с карабином. Увидели меня, остановились, спрашивают:
– Ну, как?
– Готов!
– Ну-у! Вот это да!
Подошли оба. Пожать мою вымазанную в крови и сале руку я им не даю, так они трясут мой локоть.
– А мне Евстигнеич сказал, что кто-то стрелял в загонах, – говорит Кожухов. – Ну, я, конечно, понял, что это ты. Пождали, пождали, да и пошли к тебе навстречу.
– Карабины вот взяли, – улыбается Юра. – Может, помогать придётся. Ну, пошли его смотреть.
Я говорю, что медведь уже разделан, что там и смотреть нечего, но Юра уже повернулся и шагает туда, куда убежала его собачка. Я его понимаю – сам тоже так же поступил бы. Ведь интересно охотнику посмотреть на добычу другого, да ещё на такую как медведь.
Пришли, растянули шкуру на траве, смотрим. Жалко, уже темно, да фотоаппарата нет, а то бы можно было сфотографироваться. Юра ходит вокруг, присаживается, трогает шкуру, приговаривает: «Ну, молодец! Ну, молодец! Ну, утёр нос Володе! Ну, молодец!» А я стою себе, помалкиваю, будто и не я это сделал. Соболинка бегает вокруг, урчит.
Уже за полночь пришли домой. Разбудил жену, да и говорю: «Ну вот, теперь тебе и шкура медвежья есть!» Она сразу даже и не поверила. Только увидев мои измазанные руки, сказала: «Молодец! Я и не думала, что ты его добудешь, сплю себе спокойно».
Утром мы поехали на «газике» за мясом и шкурой и привезли всё в посёлок. А ещё через день выяснилась в охоте Володи и Серёжи одна подробность. Не выдержал Сергей, рассказал одному, тот другому, а потом начали смеяться все. Оказывается, когда они шли к лабазу, Володя говорит Серёже: «Вот что, Сергей, давай так решим. Ты человек холостой, неженатый. Зачем тебе шкура? А я, представляешь, молодой жене да под ноги – шкуру медвежью! А? Каково?! Давай так – тебе мясо, мне шкуру». Серёжа человек покладистый, согласился, конечно.
Володя иногда бывает у меня в гостях. Когда он видит на полу уже изрядно потрёпанную шкуру этого первого и теперь, наверняка, единственного медведя, добытого мной, он всегда говорит: «А медведик-то мой был». На что я ему так же неизменно отвечаю: «Володя, не забывай известных пословиц».
Просто обычный день
Почему-то укоренилось мнение, что в каждом заповеднике полно зверья и, если пересечь его границу, живность будет попадаться на каждом шагу. B какой-то мере это справедливо по отношению к очень небольшому числу заповедников, где высокая плотность зверей в значительной степени создана и поддерживается искусственно. B огромных же северных или сибирских таёжных заповедниках можно проходить не один день и не встретить ни разу более или менее крупного зверя или птицу. Разве что белка метнётся вверх по стволу ели, заверещит бурундук либо рябчик перепорхнёт с ветки на ветку. И это естественно, потому что зверя и птицы в заповеднике столько, сколько должно быть. Даже там, где животных относительно много, их надо ещё суметь видеть. Зверь и птица зря не показывают себя человеку.
Как-то в конце июня пошёл я обычным маршрутом на фенологические наблюдения, отметить, что изменилось в природе. Было пасмурно, тихо и довольно тепло.
Тропа маршрута проходила по просеке «север-юг», то пересекая залитое водой болотце, то поднимаясь в сухой бор-беломошник, то прижимаясь к сырому приречному ельнику. Всё было как обычно. Но разве может природа быть всегда одинаковой? Что случилось здесь минуту, секунду назад, не повторится никогда. Многого и не увидишь, даже если это произошло где-то почти рядом с тобой. Медведь ли перешёл просеку за твоей спиной и посмотрел тебе вслед, глухарка, может, затаилась на гнезде недалеко от тропы, да так и не сорвалась с него, хотя наверняка слышала твои шаги. Ты же ничего об этом не знаешь, да и не узнаешь никогда.
Однако бывают и другие дни, и тот день стал таким.
Спускаюсь по пологому пригорочку в бору. Белый ягель отсырел и не ломается под ногами, не трещит, а просто мягко и упруго сминается, а потом распрямляется вновь.
За стволиками берёзок и сквозь их молодую листву мне вдруг померещилось впереди, метрах в двадцати, на маленькой болотинке какое-то шевеление.
Вот и сейчас, ещё до того, как поймать глазом это шевеление, я почувствовал там присутствие живого. И не ошибся – метрах в тридцати от себя я увидел огромного лося. Бык! Он стоял в воде по «лодыжки» и что-то выбирал из водяной растительности своими толстенными губами.
Когда идёшь по лесу, а тем более по тайге, все чувства твои обостряются – и зрение, и слух, и даже обоняние. Однако самое главное – это интуиция, твое шестое чувство. Порой, ещё не видя и не слыша зверя, вдруг понимаешь, что он совсем где-то рядом. Может быть, так действует на тебя его взгляд, когда он увидел тебя, а ты его ещё нет? Чувствует ли так зверь присутствие человека?
Увидел он меня на мгновение позже, чем я его, и на две-три секунды замер, повернув ко мне голову. За эти секунды я хорошо рассмотрел его. Мощная шея, большая «серьга» под подбородком, высокая холка. Ну и, конечно, рога! Толстые, словно в коричневом бархате, ещё короткие, но уже угадывалась в них будущая настоящая корона.
Это уже был летний лось, не такой, как в конце осени, когда накоплен жир, когда зверь готов к долгой и суровой северной зиме. Сейчас он смотрелся каким-то похудевшим. Шерсть у него была не тёмно-коричневой, как зимой, а гораздо светлее, с влажными пятнами линьки.
Наши взгляды встретились, и лось, разбрызгивая чистую воду болотца, побежал, будто нехотя, влево через просеку и исчез. Только мелькнули за стволами сосен раз-другой длинные белые ноги. Следы его на просеке заплывали водой, а на месте кормежки я обнаружил множество вахты-трилистника. Лоси любят это целебное растение.
Всего несколько секунд я видел лося, но помню его и сейчас, величественного и спокойного. Он явно не испугался меня, а просто ушёл в сторону, словно я был ему неприятен.
Через полкилометра – новая встреча.
Когда бор начал редеть, под ногами опять стала появляться вода, а впереди уже светлел простор Гусиного болота, передо мной поднялся петушок белой куропатки. Если бы он даже просто взлетел, треща крыльями, я всё равно вздрогнул бы от неожиданности, задумавшись о чём-то совсем не таёжном. Но он, негодяй, взорвался из-под моей ноги, словно разноцветная петарда, – белое, коричневое, пёстрое! – да к тому загоготал по-куропаточьи во весь голос. Ни с чем не сравнишь весенний гогот или хохот куропача! Это надо слышать и услышать именно в такой ситуации. У меня сердце зашлось и буквально провалилось в пятки. Я тут же сел на ближайшую валежину – ноги не держали совсем. Руки тряслись, когда я закуривал сигарету. Даже не мог сначала попасть огоньком спички по её кончику, но потом справился, отошёл.
Куропач пролетел вдоль просеки, часто работая крыльями, иногда планируя и переваливаясь с боку на бок. Метров через семьдесят он тоже уселся на валежину и, подняв головку с красными бровями, стал прохаживаться по ней туда-сюда. Вид у него был победительный. Потом он соскочил и исчез среди кочек и кустиков багульника.
Да! Нельзя забывать, что ты в тайге, а не у себя на огороде. B тайге можно расслабиться только в избушке, да и то не всегда.
Избушка на Гусином болоте. Это мои дети – Нина и Артём.
Маршрут оканчивался на Гусином болоте. Там, на самом краю леса, на сухой песчаной поляне стояла избушка. Она мне очень нравилась. Ничего в ней особенного и не было. Маленькая, неказистая, но самая симпатичная избушка из всех, которые я видел и в которых когда-либо ночевал.
Трудно сказать, почему она так пришлась мне по душе, да и не только мне. Может, потому, что стояла в высокоствольном бору-беломошнике, а белые ягельные поляны далеко просматривались от самой её двери. Может быть, и потому, что с этого места за бронзовоствольными соснами открывалось Гусиное болото – полтора километра до той стороны, синеватой полоски леса, и больше двух – вширь. Из этого огромного пространства всегда тянуло запахом сфагнума, цветущего багульника и торфяной сырости. Кое-где по болоту торчали корявые сосенки, а на их сухие вершинки присаживались с тоскливыми свистами-трелями кривоклювые кроншнепы.
Рядом с избушкой когда-то устроили столик с двумя скамеечками, и можно было подолгу сидеть, облокотившись о серые доски с бегающими по ним рыжими муравьями, смотреть в простор болота, слушать свисты кроншнепов, шумящие кроны сосен над тобой и неназойливое зунденье комаров, которых отгонял прохладный ароматный ветерок.
Я уселся на скамеечку и в бинокль стал осматривать болото, как говорится, на предмет обнаружения какой-нибудь живности. Я вёл его справа налево медленно-медленно. Виднелись тёмно-зелёные мочажины, дальние сосенки, а над ними изредка – стрижи да кроншнепы.
Стрижи в этот серый день носились невысоко над болотом. Летающие насекомые, пища стрижей, отсырев, высоко подняться не могли. За ними и стрижам пришлось снизиться из поднебесья, где они в хорошую погоду летают и кормятся, почти до самой земли. Это предвещало дождь.
Когда я осмотрел уже почти всё болото, в поле зрения моего восьмикратника словно вплыл северный олень. Бык! С большими уже рогами! До него было метров сто. Он кормился около большого ивового куста у самой кромки леса.
Я замер, хотя до оленя было далеко, а я сидел низко, и он вряд ли меня бы заметил. Долго я за ним наблюдал, минут десять. Это дома десяток минут ничто, а здесь – большой срок. Олень почти не сходил с места. Крупный, светло-серый, с длинными уже и словно бархатными, как у того лося, рогами. На концах видны были утолщения, будущие лопатки. Тёмные круги окаймляли глаза, и от этого они казались очень большими.
Всё-таки я не утерпел, не смог так долго и с такого большого расстояния разглядывать этого оленя-одиночку, решил подобраться к нему поближе. Благо под ногами не хрустели лишайники и опавшие сучки, а ветер тянул от него. Медленно-медленно, от сосны к сосне, от кустика к кустику я стал к нему подходить.
Иногда олень поднимал голову и осматривал опушку, видимо, прекрасно понимая, что опасность может грозить ему только из леса.
B районе Гусиного, как раз с этой стороны жил не очень большой медведь. Он мог бы так же, как и я, и одновременно со мной подбираться к оленю. Именно поэтому приходилось держать в поле зрения не только оленя и болото, но и бор, примыкающий к нему. Напуганный куропачом, я был теперь настороже – всякое может случиться.
Если уж зверь и птица лезут сегодня мне прямо в глаза, отчего же не показаться и медведю? Тем более что я видел уже его следы неподалёку неделю назад.
За год до этого, в августе, от самой избушки меня провожал, видимо, этот же, постоянно живущий здесь медведь. Тогда я припозднился, возвращаясь с дальней стороны Гусиного болота, а когда миновал избушку, уже почти стемнело. Едва я от неё отошёл, как он тут и объявился – начал хрустеть сучками, фыркать и кашлять. Что-то ему во мне, видно, не понравилось. Он шёл, не отставая, метрах в тридцати, а иногда и ближе, все время шумел – не забывай, мол, я здесь, рядом! Фонарика, чтобы его увидеть или отпугнуть, у меня не было. Я и не предполагал, что так задержусь. Оружия никакого я с собой не взял – чего таскать лишнюю тяжесть. На поясе висел только охотничий нож, сзади за ремнём торчал маленький топорик.
Сначала я испугался, но минут через десять понял, что он только хочет прогнать меня со своего участка, и немного успокоился, но всё время с ним разговаривал, больше для себя, чем для отпугивания медведя. Самое неприятное было в том, что в темноте я его совсем не видел, и, когда он затихал, было непонятно, ушёл он или, наоборот, бесшумно приближается. Медведь может пройти по самому захламленному месту так, что его не услышишь и в пяти метрах. Я в этом уже однажды смог убедиться, когда сидел на лабазе у привады, а медведь подходил к ней. Казалось, что он вообще не касается земли ногами.
Минут через двадцать я подошёл к месту, где тропа пересекала плотные заросли кустарников возле маленькой речушки, и здесь хруст сучков под медвежьими лапами стих, а сам он смолк, перестал фыркать.
Темень и полнейшая тишина. Только речка еле слышно булькает.
Я остановился и выждал ещё минут десять. Входить в эту стенку кустарника было страшновато – вдруг медведь как-то зашёл спереди и ждёт меня там в кустах. Однако делать было нечего – не ночевать же на тропе, – и я пошёл вперед, отклоняя левой рукой ветки, а в правой сжимая свой маленький топорик, который, случись что, едва ли бы мне помог.
Но всё обошлось. Граница участка этого медведя, наверное, проходила где-то перед кустами, и, как только я её пересёк, он отстал от меня. Однако в полной безопасности я себя почувствовал, когда вышел к Печоре, забрался в лодку и оттолкнул её от берега. Всё это я помнил и теперь, подкрадываясь к оленю, посматривал в глубину леса, в ту сторону, откуда тогда появился медведь.
Подходил я к оленю, мне показалось, целую вечность, а прошло всего-то четверть часа.
За эти минуты я подобрался к нему шагов на двадцать. K последней сосне я буквально полз, распрямился только за её стволом, но всё равно не поднимался с колен, чтобы стать незаметнее. Тут бинокль уже не был нужен, тем более что с севера забусило, посыпал мелкий дождик. Не дождик даже, а какая-то водяная пыль, бус, как говорят на севере. Стёкла бинокля стало забивать.
Но и невооруженным глазом я рассмотрел во всех подробностях этого, даже для заповедника редкого зверя. Расстояние до оленя было такое, что достать его медведю, будь он на моём месте, хватило бы нескольких прыжков – в осоке проползти ещё десяток метров, а там уже два броска, не больше. Мне даже слышно было, как олень срывает и пережёвывает веточки ивы.
За годы работы в заповеднике я видел северных оленей неоднократно, но только с воздуха, при авиаучётах численности копытных. На земле, к тому же так близко – в этот единственный раз.
Я мог бы пугнуть его и посмотреть, как он бежит по болоту, закинув рожища за спину, но мне не захотелось его тревожить. Зачем? Только для того, чтобы дать ему понять, что я здесь хозяин? Да и хозяин ли я в тайге? Ведь это его место. Ну и пусть кормится спокойно, посматривая в глубину бора и слушая, нет ли там опасности.
Так же тихо, как подходил к нему, я стал отступать, прячась за стволами сосен, и ушёл. Олень так и не узнал, что человек был рядом с ним.
Ружья у меня, как обычно, не было, хотя даже невооружённый человек и даже в заповеднике кажется зверю врагом. Что поделаешь – так уж мы их приучили. Я же был очень доволен собой – ведь сумел же вплотную подойти к чуткому дикому зверю, полюбоваться и уйти обратно, не спугнув его! Значит, научился всё-таки растворяться в тайге, словно её коренные обитатели. Ну что из того, что куропач напугал меня чуть не до смерти, а с лосем мы увидели друг друга почти одновременно? От оленя-то меня отделяло чистое пространство в два десятка шагов, а я притаился за стволом самой последней сосны. Дальше было только болото, а на нём дикий северный олень, не подозревающий, что совсем недалеко стоит и смотрит на него человек.
Да, это был везучий день, но в тоже время и невезучий. По странной какой-то причине я не взял в тот раз на маршрут ни фотоаппарата с телевиком, ни кинокамеры, хотя раньше без них в лес не выходил. Какие бы кадры были!
И всё же почему-то мне кажется, что, возьми я тогда с собой аппаратуру, не встретились бы мне тем июньским днём на тропе, ведущей к Гусиному болоту, ни лось, ни куропач, ни северный олень.
Поднять налима
Печора омеляла. Проехать на моторе можно только по глубоким местам, «по фарфатеру», как говорит соседский мальчик.
Время для рыбалки мало подходящее. Окуни перестали хорошо брать, за хариусами далековато ехать надо, к большим перекатам. Остаются только язи да налимы, которые неплохо ловятся на подпуска с наживкой-пескоройкой.
Григорий, капитан самоходной баржи, по прозвищу «скопа» говорит: «Самое время налимов поднимать. Поедем?» Григория прозвали скопой за неистребимую страсть к рыбалке и удивительную способность находить и добывать рыбу в любое, даже самое глухое время и неклёвую погоду. Ну, а поднимать налима, колоть его острогой – любимое занятие рыбаков на Верхней Печоре. И дело-то, скажем прямо, запрещённое – острога! Однако пораньше утром, когда только солнышко выглянет, глядишь, и умчалась лодка вверх или вниз по реке к отмелым местам, где в летнюю жару отлёживаются налимы. А я что? Хуже других?
Печора омеляла. Видно песчаное дно сквозь прозрачную воду. У берега приткнулся мой "Днепр".
Солнце только-только встало над лесом и греет мне затылок. Я заплыл на моторе выше огромной отмели у Свахиной косы, заглушил его и сплываю по течению в полнейшей тишине. С берегов тянет запахами летнего утреннего леса – нагретой хвоей, болотными мхами, багульником. Над спокойной, чистой водой, пока ещё не взбаламученной носящимися целый день «казанками» да «днепрами» – лёгкий прозрачный туман. Солнце у меня за спиной и дно просматривается далеко впереди лодки. Я стою в носу, а в руках у меня острога, которую взял у соседа.
