Читать онлайн Князь-волхв бесплатно
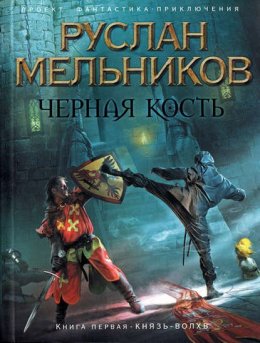
От автора
Прошу учесть Уважаемого Проницательного Читателя, что Ищерское княжество вымышленное, и его не следует путать с мещерскими землями. Также недопустимо утверждать, будто упомянутый в романе Острожец имеет какое-либо отношение к реально существовавшему Городцу. И, конечно, совершенно неуместны прямые аналогии между книжными героями и историческими личностями. Император Феодорлих II Гуген не имеет ничего общего с Фридрихом II Гогенштауфеном, а хан Огадай – с сыном Чингисхана Октаем. Равно как нет абсолютно никакой связи между магом Михелем Шотте и известным при дворе Фридриха II астрологом Михаилом Скоттом. И уж тем более не нужно отождествлять царевну Арину с сестрой никейского (а впоследствии – византийского) императора Михаила Палеолога Ириной. Все прочие аллюзии, могущие возникнуть при чтении книги по независящим от автора причинам, тоже излишни.
Пролог
Бурлила и весело поблескивала на солнце небольшая, но быстрая и опасная речушка, коварные водовороты которой утопили бы даже опытного пловца. Возле горбатого мостика, переброшенного через шумный поток, нес службу дальний дозор Вебелингского замка.
Служба, не в пример бурной реке, текла спокойно и однообразно. Здесь, на отдаленных подступах к крепости его величества Феодорлиха Второго, властителя Священной Германо-Римской Империи, не происходило ничего, ну то есть абсолютно ничего, заслуживающего хотя бы маломальского внимания. На широком тракте, ведущем к мосту, и открытых, хорошо просматриваемых лугах на противоположном берегу не появлялось ни одной живой души, на рогатки, перегораживавшие дощатый настил, никто не покушался, и мостовая стража вот уже вторые сутки маялась от безделья и скуки.
Полдюжины кнехтов лениво позевывали, почесывались и поплевывали в реку. Чуть поодаль, в тени одинокой сосны, дремал, привалившись к шершавому стволу, долговязый рыцарь. Его массивный глухой шлем и вложенный внутрь подшлемник валялись в траве. На коленях лежал длинный меч в ножнах. Глаза рыцаря были прикрыты, зато с гербовой котты, надетой поверх кольчуги и стального нагрудника, на мост грозно взирала бычья голова. Такая же голова украшала и треугольный щит, подвешенный на сухой сук.
В стороне паслись стреноженные лошади. У самой воды молодой оруженосец чистил рыцарского коня белой масти. Именно глазастый юнец и заметил первым темное пятно, движущееся по безлюдному тракту.
При ближайшем рассмотрении пятно оказалось черной монашеской рясой, и встрепенувшаяся было стража, вновь расслабилась. В самом деле, какую опасность может представлять одинокий богомолец?
Росточка путник был невеликого, сложения – худощавого. Просторная ряса, судя по цвету бенедиктинская, висела на нем, как тряпка на пугале и зияла прорехами. Рваную рясу подпоясывала длинная, грубая веревка того же черного цвета, небрежно обмотанная вокруг талии. Оба конца веревочного пояса зачем-то были пропущены в дыры между широкими складками балахона и упрятаны где-то под полами рясы. На груди покачивался простенький деревянный крестик. Широкий куколь, наброшенный на голову и тщательно затянутый у подбородка, скрывал смиренно опущенное лицо. То ли монах пообещал Господу во искупление грехов хорониться от солнечного света, то ли лик имел настолько уродливый, что избегал показывать его окружающим.
При ходьбе странник опирался на небольшой, чуть выше пояса, посох с острым металлическим навершием на конце и с тремя широкими железными кольцами посередине. Впрочем, едва ли пилигрим сильно нуждался в такой подпорке: шагал он как сильный и опытный ходок, нимало не притомившийся в пути.
Бенедиктинец явно намеревался перейти на противоположный берег, и ни мостовая стража, ни преграждавшие путь рогатки его не смущали. Это было любопытно. Это могло хотя бы ненадолго развеять скуку.
Когда монах уже подходил к мосту, от группки стражников отделился рослый воин в легкой кольчужной рубахе и широкополой каске-шапеле. Взвалив на плечо короткое копье, кнехт чуть сдвинул рогатки, протиснулся в образовавшуюся щель, вновь закрыл за собой проход и направился навстречу путнику.
– Святой отец, нельзя вам на тот берег! – пробасил страж. – К Вебелингу никого пускать не велено.
Маленькая фигура в черном одеянии даже не замедлила шага. Незнакомец двигался себе дальше, будто не видел и не слышал ничего вокруг. Вставшего на пути вооруженного стражника пилигрим обошел стороной, словно дерево или пень.
– Святой отец, да вы никак оглохли?! – вновь окликнул его озадаченный кнехт. – Сказано же: дальше ходу нет. Поворачивайте назад.
Ответа не последовало. Уста монаха либо сковывал обет молчания, либо путник просто не желал разговаривать. Странный бенедиктинец упрямо двигался к мосту, проход через который был закрыт. Для всех закрыт. Для странствующих служителей божьих – тоже.
– Слышите меня, святой отец? – кнехт уже следовал позади шустрого клирика и едва за ним поспевал. – Обойдите замок южным трактом, если невтерпеж. Потом продолжите путь…
Монах закивал невпопад, чуть колыхнув плотную ткань большого капюшона. Кивал пилигрим быстро и часто: по кивку на каждый шаг. Только шагал он при этом по-прежнему к мосту. За рогатками зашевелились кнехты. Поднялся разбуженный рыцарь с быком на груди. Юный оруженосец, забыв о коне, с интересом пялился на противоположный берег. Намечалось развлечение.
– Вернетесь за холмы, дойдете до первой развилки… – объяснял копейщик путнику.
А непонятливый бенедиктинец уже вступал на мост. Все так же согласно кивая. Все так же не сбавляя скорости.
– … Там свернете направо, к лесу…
А острый конец монашеского посоха уже – тук-тук-тук – бодренько стучал по дощатому настилу.
– …Потом пойдете прямо. Потом…
А монах уже подходил к перегораживавшим мост рогаткам. Туда же с противоположного берега подтянулись хмурые стражники, которые, в отличие от своего товарища, явно, не были склоны к долгим словесным увещеваниям.
– Да куда ж ты прешь-то, осел чернорясный! – семенивший позади бенедиктинца кнехт, наконец, взорвался. Терпение копейщика кончилось, запас уважения к духовному сану исчерпался. – Стой, тебе говорят! И это… капюшон сними! Нечего морду прятать!
Левой рукой стражник схватил пилигрима за плечо. Правой – поднял копье, намереваясь хорошенько наподдать непонятливого клирика древком. И…
Что-то странное произошло в следующий миг. Монах, вроде бы, и не делал ничего особенного, а посох в его руке вдруг взметнулся вверх, словно бы сам собой. Острый железный набалдашник оторвался от досок и ударил снизу под подбородок кнехта, за кожаный ремешок, удерживавший на голове каску.
Удар был точным и сильным. Острие посоха проломило кадык, разорвало артерию. И с влажным смачным хлюпом вынырнуло из пробитой шеи. Тугая красная струя окропила доски моста и заградительные рогатки.
Хрипящий, хлещущий кровью человек отшатнулся к невысоким перильцам. Повалился навзничь – спиной ломая хлипкие перильца. Выроненное копье полетело вниз сразу. Его хозяин на миг задержался над водой. Одной рукой копейщик держался за пробитое горло, другой – беспомощно хватался за воздух. Увы, воздух оказался плохой опорой. Над краем моста мелькнули ноги в грязных сапогах. Кнехт с шумным всплеском ушел на дно. Мутный бурлящий поток окрасился в красноватые оттенки.
* * *
– Тревога! – истошно проорал кто-то.
Раздалась крепкая солдатская брань. Всполошившиеся стражники хватались за оружие. Один из кнехтов, отступив назад, прилаживал к арбалету зарядный рычаг «козьей ноги». Стряхнув остатки сна, к мосту спешил бычий рыцарь, без шлем и щита.
– Взя-а-ать! – басовито закричал рыцарь, на ходу вырывая из ножен длинный прямой меч. – Схватить его!
На прежнем месте остался только оруженосец. Растерявшийся юнец стоял столбом со скребком в руке, с вытаращенными глазами и с отвисшей челюстью. Рыцарский конь тоже удивленно смотрел на мост, где события уже развивались вовсю.
Бенедиктинец легко перемахнул через заостренные колья рогаток. Словно огромная черная птица перепорхнула: только хлопнули в воздухе подол и широкие рукава рясы.
Монаха тут же обступили кнехты. Участь безумца казалась предрешенной. Два копья справа. Боевой топор на длинной рукояти и булава слева. Щиты теснят к рогаткам. И вот-вот подоспеет рыцарь с мечом. И арбалетчик уже вкладывает болт в взведенный самострел.
У дерзкого клирика с палкой в руках не было никаких шансов. Но палка эта… вдруг…
Раз – и руки пилигрима провернули посох.
Два – и посох преломился надвое.
Три – и из-под дерева показалась полоска темной стали.
В правой руке бенедиктинец держал диковинный потаенный меч – не очень длинный, прямой и узкий, без эфеса, без дола, с односторонней заточкой, с резким скосом на конце, образующим острие. Верхняя часть монашеского посоха оказалась удлиненной рукоятью, вполне пригодной не только для боя одной рукой, но и для обоерукого хвата. Нижняя – полая, укрепленная железными кольцами – представляла собой ножны. Ее бенедиктинец сжимал в левой руке. И не просто так сжимал.
Сильный взмах… Палка-ножны описала широкую дугу перед лицами воинов, подступавших слева. Кнехты прикрылись щитами. Только это им не помогло.
Ножны были потаенным вместилищем не только для клинка. От резкого движения из нижней части посоха вылетел какой-то едкий порошок. Размазанная пыльная струйка окутала головы двух стражников. Вопли, проклятья, стоны… Побросав щиты и оружие, оба кнехта схватились за глаза.
Рыцарь с быком на груди больше не требовал хватать чернорясного путника живым.
– Убить! – прокричал он. – Убить монаха!
А бенедиктинец уже расправлялся с другой парой стражников. Убивал он – не его. Причем, делал это клирик быстро, умело и хладнокровно.
Темный, не отражавший света клинок легко, как хворостину, срубил наконечник с копья, целившего в грудь пилигрима. Второе копье отвели в сторону крепкие ножны, вовремя подставленные под удар. Два ответных удара монаха были столь стремительными, что практически слились в один.
Рубящий…
Узкая полоска зачерненной стали рассекла кольчужную рубаху и, отмечая свой след другой полосой – широкой, кровавой, – прошла через плечо и грудь ближайшего копейщика. Из пальцев разрубленного кнехта выскользнуло бесполезное древко с косым срезом на конце.
…И – колющий.
Шагнув вперед, монах с силой выбросил руку на всю длину. Ткнул окровавленным клинком под нагрудную пластину второго копейщика. Пропорол и доспех, и живот. Плечом спихнул раненого в реку.
С воющими кнехтами, ослепленными неведомым порошком, бенедиктинец расправился еще быстрее.
– Ваша милость! – предупреждающе прокричал арбалетчик и вскинул заряженный самострел.
Бычий рыцарь, не оглядываясь, отпрянул от моста – с пути арбалетного болта. Рявкнул через плечо:
– Стреляй!
Воинствующий клирик, однако, опередил их и на этот раз. Черный монах уже бросил под ноги меч и ножны. Правая рука бенедиктинца нырнула в прореху под левым рукавом дырявой рясы и тут же резко, с подкрутом дернулась обратно, словно пуская по воде плоский голыш. И в самом деле, в воздухе мелькнуло что-то маленькое, темное, приплюснутое. Одно, второе, третье…
Глухой стук. Звон металла о металл. Вскрик.
От шлема арбалетчика отскочила черная металлическая звездочка с отточенными до бритвенной остроты лучами. Еще одна такая же застряла в ложе самострела. Третья торчала между глаз стрелка.
Арбалетчик покачнулся. Отшагнул назад. Рука судорожно сжала пусковую скобу. Сорвавшийся с тетивы болт полетел вверх и в сторону. Над мостом. За реку.
* * *
Арбалетчик стал шестой жертвой монаха-убийцы, однако рыцарь, потерявший всех своих кнехтов, был столь же упрям и бесстрашен, как и животное, изображенное на его гербе. Бычий рыцарь приближался к противнику, удерживая клинок перед лицом на тот случай, если придется отражать смертоносные черные звезды. Но пилигрим больше не метал свои диковинные снаряды и не хватался за меч.
Отступив на шаг, на два, на три – и тем немного увеличив дистанцию, монах неожиданно рванул из-под рясы конец черного веревочного пояса. А впрочем, пояса ли?
Под широкой полой укрывался аккуратно свернутый моток прочной веревки с диковинным кинжалом-крюком на конце. Такая же затемненная, как у потайного меча и метательных звездочек, сталь. Два клинка на одной рукояти. Один – прямой, обоюдоострый. Другой – загнутый, будто птичий клюв или острие боевого молота, больше похожий на миниатюрный серп с односторонней внутренней заточкой.
Именно это оружие пилигрим намеревался использовать против рыцарского меча. Веревку бенедиктинец придерживал левой рукой. В правой сжимал рукоять раздвоенного кинжала.
Расстояние между противниками сокращалось. Монах, уперся спиной в рогатки. Бычий рыцарь поднял клинок, намереваясь одним ударом покончить с опасным богомольцем. Не вышло.
Резким боковым взмахом справа бенедиктинец метнул кинжал-крюк в ноги противнику. Веревка с грузом на конце захлестнула лодыжки рыцаря. Темная сталь звякнула о блестящие поножи. Крюк, словно коготь, зацепился за позолоченную шпору.
Тяжелый длинный меч так и не дотянулся до монашеского куколя. Клирик дернул веревку на себя. Дощатый настил ушел из-под ног рыцаря, и тот рухнул навзничь. Затылок, не защищенный шлемом, глухо стукнулся о сухое дерево.
Фигура в черной монашеской рясе коршуном налетела на обмякшего мечника. Удар под запястье – и малопригодный для ближнего боя меч выскользнул из ослабевших пальцев.
Поверженный рыцарь успел, правда, левой рукой рвануть из-за пояса кинжал милосердия, но ловкий противник перехватил и ее. Руку с мизерекордией, целившую под черный капюшон, он легко, в одно движение, преломил о подставленное колено. Хрустнула кость. Звякнул о дерево выпавший кинжал. Громкий крик огласил окрестности.
Бенедиктинец рывком перекатил орущего рыцаря со спины на живот. Оттянул ворот кольчуги. Нанес короткий, и не то чтобы очень сильный, не удар даже – тычок твердыми, как железо, пальцами. Пальцы ткнули под шею, в верхнюю часть хребта. В какую-то особую точку между позвонков.
Позвоночные диски шевельнулись и чуть сдвинулись. Чуть-чуть, самую малость. Крик оборвался.
Нет, бычий рыцарь не был мертв. Скованный и обездвиженный невидимыми оковами, потерявший всякую чувствительность и не ощущающий даже боли, он прекрасно видел и слышал все происходившее вокруг, но не мог при этом пошевелить хотя бы мизинцем. Да что там пошевелить: он не мог сейчас даже стонать. Даже дышать в полную грудь не было сил. Рыцарь лишь жадно ловил воздух мелкими-мелкими глотками.
Задерживаться над парализованным противником монах-убийца не стал. Подхватив свой крюкастый кинжал, он метнулся на стук копыт.
Это мальчишка-оруженосец, выйдя, наконец, из оцепенения, вскочил на неоседланного господского коня. Юнец решил не испытывать судьбу в единоборстве с нечистью, каким-то чудом облачившуюся в монашескую рясу. Ибо только нечисть, но никак не обычный человек, способна была сотворить то, что было сотворено.
Держась за белую гриву, оруженосец отчаянно колотил пятками по конским бокам. Рослый жеребец зарысил, набирая скорость… Скакун, привыкший к острым шпорам, жесткой узде и более крепкой руке, разгонялся неохотно. Но все же разгонялся. Однако и демон в черной рясе никого не собирался отпускать живым с речной заставы.
Безжалостный пилигрим не только дрался, но и бегал так, как не доступно человеку из плоти и крови. Оглянувшись, оруженосец в ужасе увидел, что пеший пилигрим нагоняет его, скачущего на коне! Черная фигура словно летела над землей. Ноги монаха мелькали так быстро, что трудно было уследить. Широкая ряса развивалась, подобно крыльям. Веревка от крюка-кинжала, будто хвост, волочилась сзади.
Порывом ветра с головы преследователя сорвало капюшон. Под монашеским куколем открылось чужое, нехристианское лицо. Плоское, желтое, с маленькими злыми щелочками глаз.
Перепуганный оруженосец заорал в самое ухо коня, зарылся лицом в гриву, не желая больше смотреть и видеть. Преследователь, не останавливаясь, подтянул веревочный хвост, размахнулся…
Крюкастый кинжал полетел вдогонку всаднику.
Беглец ощутил хлесткий удар по левому плечу. Перед глазами мелькнула черная веревка… Изгиб темного металла.
А в следующий миг заточенный с внутренней стороны крюк серпом полоснул по незащищенному горлу.
Юный оруженосец, которому уже не суждено было стать рыцарем, не успел даже всхрипнуть. Пальцы судорожно вцепились в гриву. Натянулась, как струна на лютне, волосяная веревка.
И крюк срезал. Сорвал.
Голову. Целиком.
Отделенная от тела, она мячиком… комком волос… растрепанным клубком шерсти отлетела в сторону.
Мгновение, два или три обезглавленный наездник еще каким-то чудом продержался на голой спине жеребца, брызжа вверх из шейного обрубка кровавым фонтаном. Потом безжизненное тело оруженосца соскользнуло на землю.
Белый конь в алых пятнах человеческой крови ошалело мчался дальше уже без всадника и без понуканий.
* * *
За сбежавшим жеребцом желтолицый иноземец в черной бенедиктинской рясе гнаться не стал. Он вновь накинув на голову капюшон, поднял с земли окровавленный крюк-кинжал и, намотав на руку веревку, неспешно вернулся к мосту. Пилигрим собрал и вложил в потаенный кармашек метательные звездочки. Затем вытер о траву и спрятал в ножны-посох короткий меч из темной стали. И лишь после этого склонился над обездвиженным рыцарем.
Вслух черный монах не произнес ни слова. Слова сейчас были не нужны. Монах просто смотрел в лицо беспомощного пленника. Смотрел долго, молча, не моргая, ломая волю и гипнотизируя взглядом.
Однако на поверженного рыцаря смотрел не только он. Не он один. Через узкие глазки-щелочки, едва различимые в тени капюшона, из невообразимой дали взирали и другие глаза. Чьи-то. Невесть чьи. Колдовские. Чародейские. Давящие. Перемалывающие.
Неумолимый взгляд ИНЫХ глаз становился все более отчетливым и явственным. ИНОЙ взгляд постепенно заполнял глаза человека в рясе, глаза-посредники, лишь переносившие сюда, в это «здесь» и в это «сейчас» взор истинного ХОЗЯИНА.
Взгляд неведомого колдуна – сильного и могущественного – проникал глубоко в душу и мозг бычьего рыцаря. Взгляд пронзал сердце и забирался под череп. Взгляд буравил насквозь, бесцеремонно ощупывал потаенные уголки разума и настырно ворошил память. Взгляд ГОВОРИЛ. Взгляд ВОПРОШАЛ. И было… это непостижимо, это необъяснимо, но, все-таки, было ясно, о чем спрашивал тяжелый колдовской взгляд из неведомого далека. И не было ни сил, ни возможности ему противиться.
«Где?»
Безмолвный голос, неслышная, особая речь, состоящая не из слов, и даже не из образов, не знающая языков, звуков и жестов, но понятная обоим – и тому, кто спрашивал, и тому, кому надлежало отвечать на вопросы. И кто не отвечать не мог.
Невозможно не ответить на вопросы, которые задаются ТАК.
«Где спрятана Кость? Черная Кость?»
И не нужно было толмачей, чтобы переводить вопросы. Нужно было только мысленно выстраивать ответы. Только честные ответы. Других потому что сейчас не дано. Не время и не место потому что сейчас для других.
«Не знаю. Не понимаю».
Рыцарь с бычьим гербом на нагрудной котте не лгал и ничего не скрывал. В ТАКОЙ беседе нет места ни лжи, ни скрытности. Он действительно не знал, и он, в самом деле, не понимал, о чем идет речь… о чем течет мысль. О чем его вопрошают ИНЫЕ глаза.
И у вопрошающего не было оснований усомниться в искренности ответа.
«Что?»
Вопрошающий задавал новый вопрос.
«Что лучше всего охраняется в крепости, куда ведет эта дорога?»
Безмолвная речь опять лилась из глаз в глаза. И через глаза-посредники, поблескивающие под черным капюшоном.
«Донжон, – покорно и без промедления отвечал рыцарь черному монаху и тому, кому монах служил. – Главная башня замка. Центральная башня за внутренней стеной. Ее верхний этаж».
«Как?»
Настойчивый вопрос пульсировал в висках вместе со стынущей кровью.
«Как туда добраться?»
И рыцарь воссоздавал в памяти Веберлингский замок. Полностью, во всех подробностях. Все, что знал, все, о чем помнил. ИНЫЕ глаза впитывали новое знание, но не вбирали его в себя, а передавали монаху-посреднику, которому надлежало войти в крепость и проникнуть в главную башню.
Потом чародейский взгляд ИНЫХ глаз исчез, бесследно растворившись в блестящих щелках черного монаха с желтым лицом. Руки пилигрима опустились на голову рыцаря, словно одаряя страждущего последним благословением. Крепкие пальцы чуть шевельнулись, сдвигая шею.
Хруст.
И чувства вернулись. А с ними – боль. Резкий, непереносимый всепоглощающий всплеск ее на бесконечно долгий миг наполнил, заполнил, переполнил все.
И вновь бесчувствие. Теперь уже полное, абсолютное. И – конец.
Боль ушла. Навеки. Всякая боль.
Бычья морда на гербовой котте больше не двигалась в такт слабому дыханию. Лишь ветерок, гуляющий над рекой, шевелил расшитую ткань на груди мертвеца. Стекленеющие глаза рыцаря – голубые и холодные – неподвижно смотрели в небесную синеву.
Иноземец в бенедиктинской рясе спустился под мост. Прежде чем продолжить путь по чужой земле, следовало отмыть одежду от чужой крови.
Глава 1
– Великий хан Огадай шлет сердечный привет и искренние пожелания долгих счастливых лет жизни своему возлюбленному сыну, правителю германских, италийских и прочих земель Западной Стороны, достойнейшему Хейдорху из славного рода Хоохенов…
Речь держал глава татарского посольства Бельгутай. Многоопытный нойон из знатного мунгитского рода, низкорослый, крепкий и кряжистый степняк с обветренным лицом и непроницаемыми раскосыми глазами говорил неторопливо, взвешивая на невидимых весах каждое слово. Однако не избегая при этом опасных слов. На шее посла висела золотая пайзца Великого хана, оберегавшая жизнь Бельгутая лучше тумена отборных тургаудов. Но только не в этих землях. В этих землях охранная пайзца теряла свою силу.
– … достойнейшему Феодорлиху из славного рода Гугенов.
Ищерский дружинник Тимофей владел языками степняков и латинян в совершенстве, и был поставлен при посольстве толмачом. Усердно, с торжественно-серьезным видом, он переводил на немецкий сказанное Бельгутаем. Переводил, усмехаясь про себя.
«Сердечный… искренние… возлюбленному… достойнейшему… славного…» – все эти словеса были не более, чем дипломатическим лукавством. Истинная же суть витиеватой речи Бельгутая заключалась в другом: Великий хан устами своего посла называет могущественного европейского монарха, императора необъятной Германо-Римской империи Феодорлиха II Гугена, не братом-ровней, а сыном и, тем самым ставит латинянского правителя в подчиненное положение. Бельгутай упрямо подчеркивал это раз за разом, не страшась императорского гнева.
– …Великий хан заверяет горячо любимого сына в дружественности своих намерений, – продолжал Бельгутай. – Но Великий хан выражает недоумение и глубочайшее сожаление по поводу вторжения германских рыцарей в северные уруские земли и захвата не принадлежащих немцам городов: Юрьев, Копорье, Изборск, Псков, Новгород…
Бельгутай перечислял.
Тимофей добросовестно повторял названия павших градов.
Феодорлих слушал. Молча. Пока – молча.
Аудиенция, против ожидания, проходила не в неприступной швабской крепости – родовом Вебелингском замке Гугенов, куда, собственно, и направлялся Бельгутай, а на изрядном отдалении от императорской цитадели – в баварских землях. Сюда, к берегам Дуная, со всех концов Европы сейчас стягивалось несметное разногербовое воинство. Здесь же расположилась временная ставка Феодорлиха.
Почему германо-римский император пожелал встречать послов на полпути к своему замку, было не совсем понятно. То ли Феодорлих не доверял чужакам, которые могли бы высмотреть для татарской конницы удобные подходы к крепости. То ли император стремился продемонстрировать силу стекающейся под его знамена рати. А может быть, имелись и иные соображения. Так или иначе, но ханское посольство под охраной проводили от восточных границ империи в этот необъятный воинский стан.
Шатер Феодорлиха высился в самом центре лагеря. Тяжелый полог, расшитый золотом и удерживаемый толстыми подпорками-бревнами, поражал своими размерами. Просторный, как горница в княжеских хоромах, императорский походный шатер вмещал в себя и пышно разодетую свиту, и знатных рыцарей, и многочисленную вооруженную стражу, внимательно следившую за каждым движением послов.
– Как, должно быть, известно мудрейшему императорскому величеству, урусы являются добрыми соседями и союзниками Великого хана, – речь посла текла как вода из неиссякаемого источника. – Более того, их земли, входят в Дужучи-улус, а их коназы исправно платят хану дань и, следовательно, могут рассчитывать на военную помощь и защиту с его стороны. По этой причине посягательства германских рыцарей на северные земли сильно беспокоят Великого хана и вызывают с его стороны озабоченность не вполне понятными поступками возлюбленного сына-императора…
«Возлюбленный сын-император» – высокий, крепкий и жилистый тевтон средних лет, восседал на высоком походном троне с резной спинкой, подобно неживому истукану. Все пространство позади трона закрывала плотная занавеска. Вероятно, за ней располагалась опочивальня. А может быть, пряталась дополнительная стража.
Феодорлих не шевелился. С плеч императора ровными и прямыми, словно вырубленными зубилом каменотеса складками ниспадала тяжелая мантия, обшитая мехом горностая. На голове Феодорлиха сверкала драгоценными каменьями массивная золотая корона, похожая на круглую зубчатую башню. Крупные самоцветы, вмурованные в желтый металл, особо подчеркивали рыжеватый оттенок длинных ухоженных волос. Сильные руки лежали на широких подлокотниках, украшенных оскаленными львиными мордами. Феодорлих смотрел поверх голов. Император, казалось, был сейчас далек от всего, происходящего у подножия трона. Глаза его будто и не видели ханских послов.
Зато послов внимательно изучали другие глаза, взгляд которых особо выделялся среди прочих взглядов. В них, в глазах этих, не было ни насмешливого любопытства праздной свиты, ни кичливого презрения благородных имперских рыцарей, ни настороженной подозрительности стражей-телохранителей. В них крылось что-то иное – гораздо более опасное.
Глаза, так встревожившие Тимофея – огромные, черные, пронзительные – принадлежали маленькому сморщенному человечку неопределенного возраста. Неестественная худоба, заостренные черты лица и редкая козлиная бородка делали его облик смешным, однако придворным шутом он не был. Не бывает шутов с такими глазами.
Одетый в длиннополую и широкорукавную красную накидку, в легком красном колпаке, свисающем к левому плечу и подвязанном у подбородка узкой тесемкой, в красных остроносых башмаках, латинянин расположился на невысоком стульчике у ног Феодорлиха. Что само по себе удивительно: этот большеглазый и козлобородый был единственным, кто осмеливался сидеть в присутствие императора. Кому дозволялось сидеть…
Кого Феодорлих мог одарить такой привилегией? Советника и мудреца, мнением которого особенно дорожит монарх? Нет, не в этом дело. Не только в этом, по крайней мере.
Незнакомец в красном, словно восполняя недостаток внимания со стороны Феодорлиха к ханским посланцам. Он всматривался в каждого колючими пытливыми глазами. И всякий раз, когда его неприятный взгляд скользил по Тимофею, русич кожей, плотью, всем своим существом ощущал враждебные магические фибры и настырную чужую волю, бесцеремонно пытавшуюся влезть в душу и разум, норовившую прочесть сокрытые мысли и познать потаенные чувства.
Чтобы выдержать такое, мало было просто сопротивляться. Чтобы не открыться такому, следовало иметь волю, укрепленную силой охранных заклинаний. Если бы не колдовская защита, которую предусмотрительно поставил над ним князь-волхв Угрим Ищерский, вряд ли Тимофей устоял бы под натиском этого взгляда.
Придворный чародей – вот кем являлся латинянин, носивший одежды цвета крови… И притом, чародей не из слабых.
* * *
Тимофей чувствовал, как течет пот по спине. В глазах полыхали багровые блики. А глаза латинянского колдуна давили все сильнее, глаза старались прорвать незримый волховской щит. Напряжение росло. Но, к счастью, дело близилось к концу.
– В знак своего расположения, Великий хан передает возлюбленному сыну-императору скромные дары…
Бельгутай выдержал паузу.
Татарский нойон был, все же, опытным послом. На самом деле дары, привезенные из Орды, представляли собой немалое сокровище. Золото и меха, драгоценные каменья и оружие изумительной работы, дорогие одежды и лучшие кони из ханских табунов – все это было достойно императора. Однако в подчеркнутой «скромности» подарков крылся тайный намек. Хан Огадай через своего посланца давал понять, что обладает еще большими богатствами и нисколько не обеднеет после щедрых даров.
– …И Великий хан надеется, что недоразумение, связанное с северными урускими землями, будет улажено без ненужного кровопролития, – завершил, наконец, свою речь Бельгутай.
Тимофей закончил перевод.
В шатре повисло томительное молчание. Заключительные слова кочевника можно было расценивать и как заверение в дружбе и как предупреждение или даже угрозу.
Теперь оставалось ждать ответного слова. Приказа казнить дерзких посланцев или повеления миловать.
Феодорлих нехотя возвращался из неведомых далей, где по сию пору блуждал его взор. Император опустил глаза, нарочито небрежным взглядом скользнул по лицам послов. Покосился на колдуна у своих ног.
На миг Тимофею показалось, что между Феодорлихом и магом произошел краткий безмолвный диалог. Почудилось даже, будто латинянский колдун кивнул. Соглашаясь? Давая знак? Или позволение? Позволение императору?!
Феодорлих заговорил.
– За дары – благодарю, – голос монарха звучал негромко, но внушительно. – Хан проявляет достойный пример поистине королевской щедрости. Ответные подарки вам вручат при следующей нашей встрече.
Тимофей переводил слова Феодорлиха, склонившись к самому уху татарского нойона, и лишь потому увидел, как дернулась – едва-едва заметно, но все же дернулась – щека Бельгутая. Слабая тень недовольства (только тень – большего послу не позволено) скользнула по каменному лицу степняка. Еще бы! Бельгутаю было от чего яриться: латинянский император сознательно избегал именовать Огадая ВЕЛИКИМ ханом.
– Что же касается всего остального… – Лицо Феодорлиха утратило былую невозмутимость. Глаза вспыхнули. Брови сошлись у переносицы. В голосе отчетливо звякнула сталь. – У меня есть только один отец. Достославный Феодорлих Первый Огненнобородый. И никакого иного отца над собой признавать я более не намерен. Равно, как и ничьей власти. Запомните и передайте хану мои слова. Сыновьями пусть он называет своих вассалов.
Нет, император вовсе не витал в облаках все это время. Глядя поверх их голов, Феодорлих, внимательно слушал послов. И – главное – слышал каждое произнесенное слово.
– Теперь о русских княжествах…
Тень гневливой суровости покинула лик монарха. Губы императора неожиданно скривились в изумленной улыбке.
– Разве это я воюю земли русинов? Разве под моим предводительством взяты Псков, Новгород и прочие северные города? Разве не магистры Тевтонского и Ливонского орденов, объединившись друг с другом и призвав под свои знамена европейское рыцарство, провозгласили крестовый поход в восточные земли?
– Но разве шатры прусских и ливонских крестоносцев не стоят в этом лагере? – бесстрастно спросил в свою очередь Бельгутай. Тимофей столь же бесстрастно перевел слова степняка. – Разве рыцарские ордена не выполняют волю вашего величества? Разве осмелились бы магистры сами, без одобрения императора и без наущения из Рима, тоже, впрочем, подчиняющегося вашему величеству, объявлять походы, собирать рыцарские отряды и нападать на соседей?
По шатру прокатилась волна недовольного гула. Подобный ответ-вопрос со стороны послов при желании можно было счесть непозволительной дерзостью. Однако Феодорлих предпочел улыбнуться. Еще раз. И еще шире.
– Хан Огадай хорошо осведомлен о тонкостях европейкой политики, что, несомненно, делает ему честь. Но ведь он, насколько я могу судить, разумный человек. А зачем двум умным и могущественным властителям портить отношения из-за клочка никчемной русинской земли, когда вокруг так много непокоренных народов и недоделанных дел?
Ах, никчемная русинская земля?! Тимофей мысленно скрежетал зубами, но внешне сохранял спокойствие, как и подобает посольскому толмачу. Тимофей переводил…
– Хан еще не подчинил полностью своей власти восточные царства за Длинной стеной и южные страны, – продолжал Феодорлих. – Его конница не вытоптала персидские земли и не испробовала крепость своих мечей на сарацинских шлемах. Как видите, я тоже кое-что знаю. А потому спрашиваю…
Феодрлих выдержал паузы, прежде чем задать вопрос. Затем четко и внятно произнес:
– Стоит ли скудная дань, собираемая с русских княжеств, раздора между нами? Или дружба со слабыми раздробленными русинами хану Огадаю важнее прочного мира со мной?
– Урусы – соседи и союзники Великого хана, – сухо заметил Бельгутай.
Тимофей перевел.
– Это всего лишь слова, – небрежно отозвался император. – Любой союз действенен лишь до тех пор, покуда он выгоден. Когда же вреда от него оказывается больше, чем пользы, когда союз становится ненужным и тем более опасным, от него отказываются.
– Так поступают правители запада? – в почтительном тоне Бельгутаева вопроса и в холодно-бесстрастном переводе Тимофея не было слышно ни упрека, ни насмешки. Однако ропот в шатре усилился. Какой-то молодой рыцарь с вышитыми на синей гербовой котте золотыми львами потянул из ножен клинок. К счастью, горячего юнца вовремя одернули более сдержанные соседи.
– Так поступают разумные правители, – процедил сквозь зубы Феодорлих. – Почему хан Огадай столь сильно дорожит дружбой с русинами? Зачем владыке степей понадобилась дикая и холодная земля, покрытая непроходимыми лесами и непролазными болотами?
Феодорлих чуть подался вперед, впившись взглядом в лица татарского нойона и толмача. Маг, сидевший у ног императора, тоже не сводил глаз с Бельгутая и Тимофея. Тимофей почти физически ощущал, как тяжелый взгляд латинянского колдуна бьется о волховскую защиту ищерского князя. Бьется, но никак не может проломиться.
Зачем? Вот вопрос, который, действительно, интересовал латинян. Они, в самом деле, хотели знать: зачем? Больше всего, они сейчас хотели знать именно это.
– А зачем дикая и холодная земля урусов понадобилась могущественному императору? – вновь вместо ответа спросил Бельгутай.
И вновь Тимофей перевел вопрос на немецкий.
– Посол! – губы Феодорлиха дрогнули. – Не слишком ли ты много себе позволяешь? Не забывай, моему терпению есть предел, а в этом лагере хватает палачей.
– Я лишь делаю то, что мне поручено: говорю слова и задаю вопросы от имени Великого хана, – спокойно, не отводя глаз, произнес Бельгутай. Тимофей переводил произносимые фразы сразу же – слово за словом. – Я должен вернуться к своему повелителю с ответом самое позднее через месяц. Если я не появлюсь к оговоренному сроку, это будет наихудшим из всех возможных ответов.
Бельгутай поклонился – низко и почтительно.
Феодорлих вздохнул – глубоко и шумно.
– Пока никакого ответа я не услышал, – продолжал Бельгутай. – И я не знаю, что мне сказать Великому хану об уруских землях, захваченных германскими крестоносцами. Только этим, и ничем другим, объясняется моя настойчивость, которая, возможно, была ошибочно принята за дерзость. Однако, уверяю вас, ваше величество, я никого не желал оскорбить.
Император и маг снова переглянулись. Островерхая шапочка колдуна чуть шевельнулась, обозначив слабый кивок.
Феодорлих повел ладонью, извещая об окончании аудиенции:
– Ступай посол. Ответ получишь позже. А пока ступай.
* * *
– Фу-у-ух, крысий потрох! – выдохнул Тимофей, вытирая лоб рукавом.
Противный липкий пот все еще тек ручьями. Сердце в груди не желало утихомириваться. Но послы уже отъехали от императорского шатра достаточно далеко, и можно было дать волю чувствам.
– Нешто закончилось все, наконец?! – пробормотал Тимофей, поглаживая верного гнедка и осматриваясь вокруг. Солнце уже клонилось к закату. – Прямо, как гора с плеч! А я уж думал, головы нам поснимают за такие речи…
– Закончилось, говоришь? – Бельгутай невесело усмехнулся. – Э-э-э, нет, рано радуешься. Все еще только начинается, Тумфи.
Тимофей не обижался, когда степняки коверкали его имя, непривычное бесерменскому языку. Чего обижаться-то, если даже латинянского императора – и того, вон, ханский посол кличет на свой манер. Главное, что с Бельгутаем можно иметь дело. Пока, во всяком случае, можно. И нужно.
Бельгутай не кичился данной ханом властью и не проявлял спеси, свойственной иным заносчивым татарским царевичам, князькам и темникам, был прост в общении, к посольской свите и охране относился уважительно – не как господин к слугам, а, скорее, как мудрый воевода к соратникам. Оно и понятно. В дальнем походе по чужим и отнюдь не дружественным землям любое посольство со временем становится сплоченным боевым отрядом, в котором от поступков одного человека слишком часто зависит жизнь остальных. А с русичем-толмачом ханский посланник вовсе держал себя как с равным.
Бельгутай был нойоном – кем-то вроде боярина или знатного дружинника-ипата[1] в татарском войске. Тимофей, конечно, в боярах никогда не хаживал, но вот дружинником у Угрима Ищерского тоже числился не из последних. Еще в отрочестве князь выделил его за сметливость и тягу к знаниям. Угрим специально посылал Тимофея к купцам обучаться западным и восточным языкам. Тимофей обошел с торговыми людьми все русские княжества, часто бывал в Новгородских землях и за их пределами, еще чаще – у татар, с которыми ищерцы всегда старались водить дружбу, как с сильным и грозным соседом.
В общем, постранствовать и мир повидать Тимофею довелось – дай Бог каждому. К двадцати пяти годкам он был знатоком иноземных обычаев и толмачом, каких поискать, и, что не менее важно, считался своим человеком при ханской ставке. Настолько своим, что когда Угрим предложил его, «Тумфи-богатура», толмачом в посольство, снаряжавшееся в латинянские земли, татары согласились сразу.
В воинских науках Тимофей тоже преуспел не меньше, чем в языках. Потому и был поставлен сотником в ищерской дружине. Угрим доверял ему как никому другому. Достаточно вспомнить хотя бы, что именно Тимофей с десятком лучших гридей встретил и сопроводил к князю никейскую царевну, спасавшуюся от латинян, которые, вслед за Царьградом, подминали под себя остатки Византийской империи. Черноокая гречанка Арина искала убежища в ищерских землях. И нашла: несколько месяцев назад царевна-беглянка стала супругой князя-волхва – горбатого, старого, ликом далеко не пригожего. Но ведь стала же… Ох, Арина-Арина!
Образ молодой красавицы-княгини всплыл перед внутренним взором Тимофея, не к месту и не ко времени будоража кровь и наполняя сердце непозволительной завистью к господину.
– Сегодня первый день переговоров, – задумчиво произнес ханский посол.
Тимофей тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли и возвращаясь к текущим делам.
– И одному лишь Вечному Небу-Тэнгри ведомо, сколько впереди еще этих дней, – продолжал Бельгутай. – Так что, если Хейдорх пожелает покарать нас за дерзкие речи, времени у него будет предостаточно.
– М-да, Бельгутай, – со вздохом посетовал Тимофей, – служба, однако, у вас, у послов…
– У нас, – поправил татарский нойон. Затем спросил с сочувствием: – Тяжко?
– Не то слово! Будто в сече рубился от зари до заката, да без передыху.
– Непросто с императорами-то разговаривать, а?
– Эт-точно, – согласился Тимофей. И, подумав немного, добавил: – Хотя, знаешь, не в императоре даже дело. Меня другое беспокоит.
– Красный шаман? – бросил на него понимающий взгляд Бельгутай. – Колдун, что сидел у ног Хейдорха?
– Ты тоже почувствовал? – встрепенулся Тимофей.
– Еще бы! – степняк прищурил и без того узкие глаза. – Кто это, знаешь?
Тимофей пожал плечами.
– Знать не знаю, но догадываюсь. Доводилось много слышать от иноземных купцов о некоем Михеле Шотте, что служит при императорском дворе. Говорят, могущественный чародей…
Тимофей выжидательно глянул на татарского посла.
– Так и есть, – кивнул Бельгутай. – В ханской ставке тоже наслышаны о Махал-шамане.
– От купцов?
– И от купцов, – неопределенно ответил степняк.
«А еще – от тайных лазутчиков хана», – мысленно закончил за него Тимофей.
Бельгутай оглянулся на высокий шатер, процедил сквозь зубы:
– Он это, колдун императорский. Точно, Махал-шаман. Больше некому. И, сдается мне, Тумфи, не случайно он здесь. Что-то серьезное задумал Хейдорх. Очень серьезное.
Тимофей фыркнул:
– Вообще-то, о серьезности намерений Феодорлиха можно судить уже по тому, какую рать он собирает. Ты посмотри вокруг, Бельгутай!
А вокруг, насколько хватало глаз, пестрели разноцветные шатры, палатки и навесы, дымились костры и бурлили подвешенные над ними походные котлы. Сновали люди, ржали кони, звенело железо. В воздухе висел несмолкаемый гомон. Многочисленные станы, сливаясь и смешиваясь друг с другом в один, великий и необъятный, тянулись вдоль правого берега Дуная.
Тимофей уже научился различать пестрое императорское воинство по гербам, стягам, вооружению и доспехам. Истинным хозяином латинянского лагеря являлось, конечно же, германское рыцарство. Однако доносившаяся отовсюду лающая немецкая речь была изрядно разбавлена множеством других наречий. Над дунайскими водами расположились также итальянские и испанские, французские и бургундские, британские и моравские, датские и шведские рыцари – все как один шумные, задиристые, хвастливые, каждый при своре оруженосцев и слуг.
Гораздо тише и сдержаннее вели себя потрепанные в недавних стычках с татарами угорские и силезские отряды, отступившие под защиту имперских границ и примкнувшие к силам Феодорлиха. Особняком – под знаменами с черными, красными и белыми крестами – держались молчаливые и неулыбчивые христовы братья: тевтоны, ливонцы, иоанниты-госпитальеры, храмовники-тамплиеры…
В состав императорской армии входила также лучшая европейская пехота, успевшая уже громко заявить о себе на полях сражений. Легковооруженные английские стрелки с длинными, в рост человека, тисовыми луками, лишь немногим уступающими по дальности стрельбы клееным из дерева и кости степняцким номо[2]. Генуэзские щитоносцы и арбалетчики с тяжелыми самострелами. Наемники-кондотьеры других богатых италийских городов – закованные в латы, вооруженные копьями, шипастыми булавами и кистенями на длинных древках. Плохо одетые, почти бездоспешные, но хорошо обученные строевому бою ополченцы швейцарских кантонов с массивными алебардами. Фламандцы с огромными пиками…
Грозный вид чужого воинства волновал, тревожил и угнетал.
– Как тебе все это, а Бельгутай? – напирал Тимофей. – Как тебе эдакая силища?
– Да, армия Хейдорха впечатляет, – согласился ханский посол.
– А для чего, по-твоему, собирают подобные армии, если не для войны?
– Для войны и собирают, – пожал плечами Бельгутай. – Иначе бы нас с тобой сюда не отправили.
– А проку-то с того, что отправили?! – Тимофей в сердцах мотнул головой. – Думаешь, Феодорлих, имея такое войско, прислушается к предупреждению хана и отступится от северных земель?
– Нет, я так не думаю, – спокойно ответил татарин.
– Тогда что мы здесь делаем?!
Ханский посол натянув поводья и окинул его внимательным взглядом. Тимофей глаз не отвел.
– Что мы здесь делаем, Бельгутай? – повторил он свой вопрос. – Все ведь уже ясно. Все было ясно с самого начала. Войны не избежать. Так к чему терять время на бессмысленные переговоры? Или ты приехал сюда не только для того, чтобы говорить с императором? Скажи честно, Бельгутай…
– Честно хочешь, Тумфи? – прищурившись, усмехнулся степняк. – Но тогда и ты ответь мне – и тоже честно. Ты сам зачем примкнул к посольству? С каким напутственным словом послал тебя твой Угорим-коназ?
Улыбка ушла с обветренного лица кочевника, будто стертая незримой рукой, а вот пытливый прищур остался.
– Ты ехал сюда для того лишь только, чтобы переводить чужие речи, или тебе дадено другое задание?
Бельгутай, не моргая, вглядывался в него из темных щелочек-бойниц.
Тимофей стиснул зубы. Все верно. Было! Было задание. Прозорливый нойон, конечно, не знал об этом наверняка, но вполне мог догадываться. «Наблюдай не только и не столько за латинянским императором, сколько за татарскими послами, – велел Тимофею ищерский князь-волхв. – За каждым их поступком, за каждым словом. Смотри, слушай. Все. Всегда. Всюду. Помни: мое защитное слово, произнесенное над тобой, не только оберегает тебя от дурного глаза и чужой магии, но и связывает нас незримой колдовской нитью. Так что я тоже буду смотреть твоими глазами и слушать твоими ушами. Это может оказаться полезным».
* * *
Солнце медленно опускалось за горизонт, озаряя императорский лагерь прощальными багровыми отблесками. Посол и толмач сверлили друг друга холодными изучающими взглядами. Смотрели молча, долго, целую вечность. Так смотрят два хищника из одной дружественной – пока еще дружественной – стаи, случайно задевшие один другого. Случайно или не очень. Задевшие, а после показавшие зубы. По привычке или с тайным расчетом. Показавшие и…
И спрятавшие.
Напряженный момент испытующих взглядов миновал. Бельгутай вновь раздвинул губы в приязненной улыбке:
– Я – посол Великого хана, ты – толмач при посольстве. Пусть все так и остается впредь, Тумфи, договорились? Пусть каждый несет свою службу. Сейчас мне, как никогда, нужен хороший переводчик, так к чему нам усложнять ситуацию? Да, я тоже полагаю, что войны не избежать, но это не дает мне права прекращать переговоры с Хейдорхом.
– Да зачем они нужны, переговоры эти? – прорычал Тимофей. – Кому?! Для чего?!
Два проезжавших мимо всадника в белых, с черными крестами, плащах покосились в их сторону. Взгляды рыцарей ордена Святой Марии были настороженными и недружелюбными. Впрочем, тевтонские братья на татарских послов иначе здесь и не смотрели.
– Ты задаешь ненужные и лишние вопросы, – негромко, но твердо ответил Бельгутай. – Тебя послал сюда твой коназ, меня – мой хан. Им, должно быть, виднее, а мы… мы просто делаем свое дело, не делать которого не можем. Вот и все.
– Все? – Тимофей шумно выдохнул. – Ох, кабы так просто оно было!
Бельгутай снова заглянул ему в глаза.
– Что с тобой, Тумфи? Объясни, что на тебя нашло? В императорском шатре ты держал себя в руках. А сейчас вдруг, ни с того ни с сего… как вы, урусы, говорите?.. Воз-бе-ле-ни-лся. Почему?
– Почему?! – Тимофей сплюнул в сердцах. – Да потому, крысий потрох, что тошно смотреть на все это латинянское воинство и ждать, пока оно двинет на Русь.
Бельгутай неодобрительно покачал головой:
– Послушай, Тумфи, ты же знаешь, Великий хан…
– Что хан?! – злобно прошипел Тимофей. – Что, Бельгутай? Думаешь, мне легче от того, что твой хан и латинянский император делят промеж себя наши земли, словно вынутый из печи пирог? А я…
Вздох, похожий на стон, вырвался из его груди.
– А я вам в этом помогаю.
– Вы, урусы, сами нарезали этот пирог, – беззлобно, но сухо и жестко заметил Бельгутай. – Для других нарезали, для тех, кто окажется достаточно проворен, велик и силен, чтобы проглотить его по частям, не подавившись при этом. Не ищи виноватых на стороне, Тумфи, и уж, тем более, не вини себя, если ваши неразумные конази-честолюбцы никак не могут договориться и не способны принять власть одного над всеми. Кто, как не они, в нескончаемых усобицах растерзали и обескровили ваши земли? Кто, как не они, продолжают заниматься этим по сию пору?
– Хорошо тебе рассуждать, – хмуро процедил Тимофей. – Вам-то повезло, вы-то сами все в едином кулаке собраны. Оттого и в битвах сильны, и в походах удачливы.
– Да, собраны, да, сильны и удачливы, – задумчиво покивал Бельгутай. – Сейчас – собраны, сильны и удачливы.
И почему-то отвел глаза.
– Вот только ты не знаешь, Тумфи, каково нам было раньше, какие междоусобицы кипели в степях Орхона и Керулена[3], как жестоко сражались между собой за скудные кочевья наши курени, рода и племена и сколько доблестных богатуров полегло у отрогов Небесных гор[4]. Неведомо тебе, с какой яростью мы истребляли друг друга. И тебе, урус, не вообразить даже, какой боли и крови стоило нам единство. Но ты прав: нам повезло. Великое Небо послало моему народу Великого Хана – Собирателя Земель и Потрясателя Вселенной. Ибо только по настоящему великому человеку под силу объединить свои враждующие улусы и вознестись над чужими.
В ваших же землях нет пока своего Чингисхана – достойного, честного, сурового, но справедливого правителя, думающего не только о собственном благополучии и о благополучии кучки знатных нойонов-бояр, а о величии всего народа. Вам некого поднимать на белом войлоке к Извечному Синему Небу. В этом ваша главная беда, и в этом ваше несчастье. Ваши конази, Тумфи, как малые дети, мыслят мелко и считают лишь городки и деревеньки – свои, да соседские. Они видят не дальше приграничных поселений. Быть может, оттого так происходит, что нет в ваших землях степного простора, а леса закрывают небо и горизонт. А может быть, ваши души поросли иными лесами, мешающими единению. Никто из ваших гордых коназей не смотрит широко. Никто не мыслит целостной Урусии под своим началом. И – что гораздо важнее – никто из них не согласен вставать под начало другого, более достойного правителя, чем он сам. Потому-то к вам и норовят прийти чужие правители.
– Ага, а в латинянских землях и душах, значит, леса не растут? – огрызнулся Тимофей. – И спесивые имперские курфюрсты, герцоги, графы и бароны, грызущиеся между собой, вот так сразу взяли и покорились Феодорлиху? И воинственные ордена рыцарей-монахов тоже подчинились ему беспрекословно? И богатые вольнолюбивые города открыли ворота? И жители бунтующих провинций сложили оружие? И соседние европейские государи не противились усилению империи? И даже давний враг императорской власти – римская курия, неоднократно обвинявшая Феодорлиха в пособничестве колдовству и отлучавшая его от церкви – вдруг благословила эту самую власть? И все прошло спокойно и быстро, без крови и без розни?
– В том-то и дело, что случилось это именно вдруг и сразу, – ответил Бельгутай. – В том-то и странность, что все прошло спокойно, быстро и бескровно. Так не бывает, не может и не должно быть. Даже Чингисхан объединял степные народы не один год и не один десяток лет. Он добился своего, лишь пролив реки крови, уничтожив непокорных ханов и стерев с лица земли целые племена. Здесь же все вышло иначе.
Бельгутай покачал головой:
– Еще меньше года назад страна немцев и ромеев была таким же изорванным в клочья войлоком, как и твоя Урусия, Тумфи. Но Хейдорх сумел не просто собрать разрозненные лоскутки воедино, он укрепил свою державу и расширил ее границы. За несколько месяцев! Без единой битвы! Такое не в силах человеческих. Такое можно объяснить только вмешательством иных сил. И я не думаю, что Великое Небо-Тэнгри поспособствовало в этом императору-германцу. Вряд ли стал бы помогать ему и латинянский бог, чьи служители уже не раз и не два проклинали Хейдорха. Нет, тут замешан не божий промысел, а, скорее, колдовство.
– Придворный чародей? – нахмурился Тимофей. – Михель Шотте?
Бельгутай утвердительно кивнул:
– Махал-шаман. В нем все дело.
Тимофей недоверчиво смотрел на степняка.
– Хочешь сказать, что создать ТАКУЮ империю под силу колдуну?
– Не всякому колдуну, Тумфи, и не всегда. Многое зависит от того, откуда берут силу колдовские заклинания. Шаманское могущество имеет разную природу, а на свете встречаются источники неисчерпаемой магической мощи.
– Какие, например?
Глаз Тимофея наткнулся на пристальный взгляд степняка. Посол что-то обдумывал. Решал: сказать? нет? Решился. Сказал. Вернее, спросил:
– Ты слышал что-нибудь о Черной Кости, Тумфи?
Бельгутай напряженно следил за лицом собеседника, высматривая каждое движение, каждое дрожание мускула…
– О чем? – изумился Тимофей.
…Но, видимо, так ничего и не выследил.
– Ладно, забудь, – нойон небрежно махнул рукой. Как-то уж нарочито небрежно. – Это неважно. Глупые слухи, пустые сказки.
Ну, нет! Дудки! Теперь уже сам Тимофей внимательно следил за татарским послом. И забывать, конечно, ни о чем не собирался. Впрочем, щелочки-бойницы на обветренном лице степняка больше не смотрели на Тимофея. Взор Бельгутая рассеяно скользил по латинянскому лагерю.
* * *
– Я просто хочу объяснить тебе, Тумфи, что империи появляются или естественным путем, или противоестественным, – спокойно и убаюкивающе текла речь нойона. – Империю создает либо сильный правитель, стоящий над подданными, согласными признавать его силу, либо сильное колдовство, морок и обман, исподволь заставляющие подчиняться чужой воле. Иного не дано. Моему народу милостивым Небом-Тэнгри был послан Потрясатель Вселенной, перед которым склонились прочие ханы. А при Хейдорхе служит могущественный шаман, укрепляющий власть императора с помощью чародейства.
Бельгутай резко повернулся к Тимофею, царапнув его колючим взглядом:
– А кто и что есть у вас, Тумфи, в ваших холодных уруских краях? Справедливый и сильный правитель? Разумные конази или ханы, готовые без ссор и взаимных обид избрать на курултае достойнейшего? Вожди-нойоны и воины-нукеры, поддерживающие лишь одного из многих? Простой люд-карачу, желающий встать под единую руку и как-то выражающий свое желание? Или, быть может, где-то в ваших краях кроется великая колдовская сила, способная сравниться с силой Махал-шамана? Может, твой Угорим-коназ, о котором говорят всякое, втайне владеет такой силой?
Узкие глаза Бельгутая смотрели на него внимательно и без тени насмешки. Слишком внимательно и серьезно они смотрели.
Тимофей скривился. Ну, ведет свой род Угрим Ищерский, хозяин небольшого затерянного в дремучих лесах княжества, от волховского племени. Ну, поговаривают в народе, будто княжий град Острожец возведен на древнем языческом капище и поставлен там неспроста. Ну, знает и умеет князь многое из того, что не доступно обычному человеку. И что?
Да, приколдовывал Угрим понемногу – так, самую малость. Во врачевании, к примеру, ему не было равных. И защитный заговор против черного глаза и недоброй ворожбы на Тимофея, опять-таки, наложил именно князь. Но в ищерских землях, где по сию пору чтут старое язычество, где ведуны и берегини встречаются в каждой деревеньке, а земля буквально пропитана магическими токами, эдакое легкое кудесничество и за чародейство-то не считается.
– Обладал бы мой князь силой, на которую ты, Бельгутай, намекаешь, так давно бы ею воспользовался, – пробурчал Тимофей. – Вся Русь была бы уже под его началом, как латинянская империя под рукой Феодорлиха. И еще неизвестно кто кому дань платил бы: мы твоему хану или хан нам.
– Да, – задумчиво кивнул Бельгутай. – Может быть, и воспользовался бы.
Может быть?! Он еще сомневается, бесермен косоглазый!
– Э, да, чего с тобой говорить-то! – досадливо махнул рукой Тимофей.
Отмахиваясь от дальнейшей беседы.
Сытый голодного не разумеет. И сильный не поймет – нет, не слабого даже, но никак не умеющего собрать в единый кулак свою тоже немалую, в общем-то, силушку. Немалую, но разбросанную, рассеянную, раскиданную. Растрачиваемую на бестолковую и бессмысленную борьбу против себя самой.
Хотя, пожалуй, кривил все же душой Тимофей. Понимали они с Бельгутаем друг друга, хорошо понимали. Но только горше от того понимания было. Тимофей аж давился лютой бессильной злобой, чувствуя в глубине души: прав татарский посол, кругом прав. Как ни крути, а нечем нынче похвастаться Руси-матушке, вконец ослабевшей в междоусобных раздорах. И надеяться ей пока не на что.
Дальше ехали молча. Бельгутай искоса поглядывал на толмача. Тимофей угрюмо смотрел вперед. В голове неподъемными валунами ворочались тяжелые, безрадостные думы.
Вот Германо-Римская империя – это не Русь, это совсем другое дело. Верно ведь подметил ханский посланник: Феодорлиху в последнее время действительно сопутствовала небывалая удача. Везде, во всем. За короткое время латинянскому императору удалось объединить разрозненные немецкие княжества и герцогства, приструнить гордых курфюрстов, вернуть и приумножить влияние в заальпийских областях, подчинить своей воле богатые города Германии, Италии и всю торговую северную Ганзу, сломить сопротивление швейцарских кантонов и урвать изрядные территории у соседей.
Феодорлих умудрился также завершить затянувшееся противостояние императорской короны с папской тиарой в свою пользу. Случилось это после странной и внезапной, но пришедшейся так кстати кончины Геогория Девятого, того самого понтифика, который проклинал и отлучал Феодорлиха от церкви за пособничество чернокнижию.
Со смертью Папы словно бы умерли и все обвинения против императора. Что произошло на самом деле не ведомо никому, но некоторое время спустя святой престол занял если и не прямой ставленник Феодорлиха, то уж во всяком случае не желавший вступать в открытую конфронтацию с императорской властью новый понтифик Оцелесиан.
Заручившись поддержкой Рима, демонстрируя мощь имперской армии и необыкновенную удачливость, Феодорлих легко заключал выгодные договора с европейскими государями. Священная Германо-Римская Империя столь же стремительно набирала мощь на западе, сколь неотвратимо росло на востоке могущество татар. Столкновение было неизбежным, и между двух жерновов попадали раздробленные, ослабленные междоусобными войнами русские княжества.
Большого выбора тут не было: не имея возможности отбиваться от наседавших с двух сторон чужаков, приходилось либо идти под латинян, либо водить дружбу со степняками. Большая часть князей предпочла последнее, рассудив, что татары будут меньшим из зол. Что, впрочем, и неудивительно. Германские рыцари приходили на захваченные земли всерьез и надолго. В завоеванные территории латиняне вцеплялись мертвой хваткой: занимали города и крепости, строили новые замки, огнем и мечом насаждали римскую веру, истребляли или полностью онемечивали население, которое и за людей-то не считали. Степняки же, по большому счету, не особенно зарились на малопригодные для кочевий русские земли и практически не вмешивались в управление княжествами.
Хан, в отличие от императора, предлагал не столько рабство, сколько союз. Да, облагал данью, но не большей, чем та, что сами русские князья платили друг другу или та, что платят младшие ханы старшему. И уж во всяком случае, дань эта оказалась несоизмеримо меньше платы, взимаемой с покоренных народов латинянами.
Собственно, дело было даже не в дани, как таковой. В грядущей войне с западом татарам требовались беспрепятственные проходы по неприветливым русским лесам, продовольствие, фураж и хотя бы мало-мальская поддержка населения. Хану нужны были надежные тылы, а потому кочевники старались не восстанавливать русичей против себя. Наоборот – всячески привлекали на свою сторону. Немало русских ратников, жаждавших поквитаться с латинянами за прежние обиды, вступали в татарские войска. Особенно много желающих приходило из новгородских земель, разоренных тевтонскими и ливонскими крестоносцами.
Орденские рыцари и примкнувшие к ним многочисленные полубратья нанесли удар по северной Руси не случайно. Татарская конница не могла вовремя поспеть на помощь по непролазным болотам и чащобам, а потому новгородцы бились с рыцарями сами. Сопротивлялись отчаянно, но силы оказались неравными, а натиск бронированных «свиней» – внезапным и мощным. К тому же среди купцов – как немецких, так и новгородских, тесно связанных торговыми интересами с Ганзой – нашлись пособнички, открывавшие крестоносцам крепостные ворота.
Северо-западная Русь пала. Толпы беженцев устремились на юг и восток. А вслед за беженцами двинулись рыцарские отряды. Угроза разорения нависла над Полоцким, Смоленским и Ростово-Суздальским княжествами. Да и ищерцы тоже начинали чувствовать себя неуютно.
Татары, пропущенные низовыми русскими князьями и поддержанные ими, нанесли ответный удар с юга. Степняки совершили опустошительные набеги по силезским, моравским и угорским землям, прошлись сокрушительным смерчем вдоль восточных границ латинянской империи от Далмации до Одера, грозя отрезать от Германии Померанию, тевтонскую Пруссию и Ливонию.
Крестоносцы прекратили продвижение по русским землям. Остановились и татары. На время война, о которой пока в открытую не объявляла ни одна из сторон, затихла. Противники накапливали и перегруппировывали силы для нового – решающего – удара. В ставку императора прибыло ханское посольство…
* * *
Императорский шатер опустел. Феодорлих велел удалиться всем, оставив при себе только мага-советника и распорядившись оцепить шатер снаружи, чтобы никто не смел мешать разговору.
Огромный плотный полог, растянутый на бревнах-подпорках, огораживал пространство размером с небольшую замковую залу. Дополнительные тяжелые занавеси, спускавшиеся вдоль стен, скрадывали любые звуки. А колдовское заклинание, произнесенное придворным чародеем, вовсе не позволяло подслушивать тайные беседы. В таком шатре можно было говорить, не опасаясь чужих ушей.
Феодорлих заговорил первым:
– Ты что-нибудь нащупал, Михель?
– Ничего, ваше величество, – вздохнул маг. – Над главным татарским послом свершен защитный ритуал, укрепляющий его волю и препятствующий воле чужой. Магическая защита крепкая, поставлена опытным колдуном. В истинные помыслы ханского посланца я проникнуть не смог.
– Защищен только он?
– Не только, – качнулся красный колпак чародея. – Еще – посольский толмач.
– Толмач? – император удивленно поднял бровь. – Он ведь, вроде бы, даже не из татар?
– Русин, – кивнул маг. – Я узнавал.
– Любопытно… очень любопытно, – холеные пальцы Феодорлиха забарабанили по лакированному подлокотнику трона. – А впрочем, все эти восточные варвары одинаковы. Так, говоришь, русин-переводчик тоже закрыт?
– Да, ваше величество. Его мысли мне прощупать не удалось.
– Кто-нибудь еще, Михель?
– Нет, – покачал головой маг. – Больше магических щитов не стоит ни над кем. Посольская свита и стража открыты.
– И что? – нетерпеливо подался вперед Феодорлих.
– Они не несут в себе никаких тайн. Они просто приставлены сопровождать и охранять, но сами ничего не ведают.
– Значит, истинную цель посольства знают только двое?
– Или у каждого из этих двоих своя цель.
Феодорлих задумался.
– Можно будет что-нибудь выяснить, когда они уснут?
– Не выйдет, ваше величество. Когда человек спит, спят и его сокровенные мысли, и его память. А вот воля не спит. Попытка взломать защиту ничего не даст. Такая попытка только разбудит и насторожит послов.
– Возможно ли вообще пробить их магический щит?
– Если бы при мне были Черные Мощи, – чародей поднял глаза на императора, – это не составило бы труда. Но Реликвия находится в Вебелинге, а вы не пожелали пускать туда послов.
– Пускать чужаков в крепость, где хранится главное сокровище империи, слишком рискованно, – строго оборвал его Феодорлих. – Вывозить Мощи оттуда тем более опасно. Вебелинг – надежное место. Ты сам заговаривал замковый донжон до такого состояния, что туда не проникнет незамеченным ни один колдун.
– Заговаривал, – согласился колдун. – Ни один маг не сможет даже приблизится к крепости.
– А прочих злоумышленников остановят мои дозоры, каменные стены и замковый гарнизон. В общем, забудь пока о Мощах, Михель. Пусть они лежат там, где лежат.
– Да, я все понимаю, ваше величество, – склонился красный колпак. – Просто беспокоюсь, когда приходится удаляться от Мощей.
– Что именно тебя беспокоит? – нахмурился император.
Чародей вздохнул:
– Я уже не могу спрятать Черные Мощи за колдовскими запорами. Слишком много заклинаний произнесено над ними и слишком много запущено магических ритуалов, необходимых для укрепления империи и нуждающихся в постоянной подпитке от Реликвии.
Феодорлих недовольно повел бровью:
– Хватит, Михель! Сейчас ты мне нужен здесь. О Мощах не волнуйся, они находятся под надежной охраной и никуда не денутся из Вебелинга. Подумай лучше о том, как преодолеть колдовскую защиту послов, не прибегая к помощи Реликвии?
Михель развел руками.
– Есть только два способа: либо сломить волю ханских посланцев, что мне представляется маловероятным, либо на что-то отвлечь ее…
– Сломить? Отвлечь? – повторил Феодорлих. Кривая усмешка скользнула по губам императора. – Ты предлагаешь пытки?
– Нет-нет-нет, – трижды дернулся красный колпак. – Как раз пытать послов не следует, ваше величество. Пока, во всяком случае. От любого магического щита может тянуться незримая нить к поставившему его. Маг или маги, закрывшие послов, наверняка, все видят их глазами и слышат их ушами. Возможно, они даже смогут заставить послов покончить с собой, если сочтут это необходимым для сохранения тайны. А от мертвеца не будет проку. Мертвец ничего уже не расскажет. Мертвого не оживят и не подчинят даже Черные Мощи. По крайней мере, одной Реликвии для этого недостаточно.
– Тогда что нам делать, Михель? – хмуро спросил Феодорлих. – Как поступить? Мне нужно знать, с какими помыслами прибыли сюда эти двое.
– Я сказал, все, что мог, ваше величество. Нужно придумать, чем отвлечь внимание послов. Внимание и волю. Целиком.
– И что же, по-твоему, может без остатка поглотить внимание и волю человека?
– Ну-у-у, – маг закатил глаза, – Это могла бы быть, к примеру, вооруженная стычка.
– Стычка? – встрепенулся Феодорлих. – С послами? Это-то как раз устроить проще простого. Внезапно атаковать лагерь татар, заставить их сражаться… Вот только…
Император осекся.
– Ты же утверждал, что колдуны, которые закрыли послов магической защитой, могут заставить их убить себя.
– Могут, – кивнул Михель. – Если тем, кто стоит за послами, покажутся подозрительными наши действия по отношению к ним.
– Значит… – император надолго замолчал, размышляя. – Значит, схватка, о которой ты говоришь, не должна вызывать подозрений.
– Правильно, ваше величество, – улыбнулся маг. – Пусть это будет не смертельная рубка, и не попытка пленить послов, а битва, сражаться в которой глава и толмач татарского посольства пожелают сами, без принуждения и опаски. И притом, не только они, но и другие воины посольства. Так у неведомых пока нам наблюдателей окажется еще меньше поводов для беспокойства. Пусть это будет битва-игра, битва-состязание, достаточно безобидная, но полная боевого азарта и некоторой доли риска. Ее участники должны целиком сосредоточиться на победе, и как можно меньше думать обо всем остальном.
– Погоди-погоди! – хмыкнул Феодорлих. – Кажется, я начинаю понимать, куда ты клонишь, Михель.
Император поднялся с трона и прошелся по шатру. Потом остановился перед магом:
– Не будем откладывать. Начнем прямо сейчас. На подготовку потребуется часа полтора-два, не больше.
– Близится ночь, ваше величество, – напомнил Михель.
– Тебе это помешает?
– Скорее, наоборот, – пожал плечами придворный чародей. – Вечерняя магия сильнее утреней, а ночная – сильнее дневной.
– Вот и я о том же. Зачем понапрасну терять время, если можно сразу получить ответы на все вопросы?
* * *
Татарское посольство располагалось в стороне от латинянского лагеря. Степняки стояли привычным куренем: войлочный шатер нойона в центре, вокруг, на небольшом удалении, кожаные палатки-майхамы нукеров. Только палатка Тимофея лепилась почти впритык к походному жилищу Бельгутая: толмач всегда должен находиться поблизости.
Дозоры несли как обычно – то есть, как в дикой степи и как на вражеской территории – не особо полагаясь на гостеприимство латинян и обещанную императором неприкосновенность. Так что направлявшегося к куреню одинокого всадника бдительная стража заметила еще издали.
Когда молодой рыцарь с гладким мальчишеским лицом и вышитыми золотом на синей нагрудной накидке грозными львами, приблизился к татарскому лагерю, Бельгутай и Тимофей уже ждали гостя перед шатром нойона. Тимофей вспомнил, что во время недавней аудиенции уже видел и это надменное лицо, и этих золоченых львов. Юный рыцарь состоял в свите Феодорлиха. Именно он едва не сорвал переговоры, схватившись за меч.
На нукеров, преградивших путь, всадник даже не взглянул. Гарцуя на горячем вороном жеребце, наездник прокричал по-немецки через головы стражников:
– Я барон Зигфрид фон Гебердорф! Послан его величеством!
Тимофей шепнул в ухо Бельгутаю:
– Говорит, что посланник от Феодорлиха.
Этот вечерний визит был неожиданным и странным. Бельгутай, однако, ничем не выказал ни удивления, ни тревоги и велел страже расступиться.
Фон Гебердорф подъехал ближе. Не сочтя нужным покидать седло, германец заговорил вновь, выпятив губу и свысока обращаясь одновременно к Бельгутаю и Тимофею:
– Его величество сегодня был восхищен смелостью ваших речей, но он полагает, что посланники хана Огадая храбры не только на словах.
Тимофей угрюмо смотрел на молодого рыцаря, однако не спешил переводить. Он пока не понимал, что нужно этому не по годам чванливому немцу.
– Его величество желает оказать вам честь и приглашает вас двоих, а также лучших воинов посольства принять участие в императорском турнире, – продолжал тот. – Турнир состоится сегодня в полночь, и его величество будет рад увидеть на ристалищном поле боевое искусство своих гостей. После этого переговоры продолжатся. Но, конечно, если… – губы германца скривились в глумливой ухмылке, – если доблестные татарские витязи предпочтут наблюдать за боями со стороны…
Фон Гебердорф, так и не закончил фразы. Молокосос смотрел на них насмешливо и вызывающе.
Бельгутай окинул рыцаря холодным взглядом бесстрастных раскосых глаз. Затем повернулся к опешившему Тимофею.
– Тумфи, о чем говорит этот молодой воин и почему он так улыбается?
– Знаешь, Бельгутай, тут такое дело… – Тимофей озадаченно почесал в затылке. – В общем, на турнир нас кличут.
– То-ри-ни? – свел брови Бельгутай, с трудом проговаривая незнакомое слово – Что такое торини, Тумфи?
– Забава такая ихняя латинянская. Ну… навроде наших кулачных боев, или ваших богатурских игрищ, только пышнее и красивше обставленная. Потешная брань, в которой все как в настоящей сече. Рыцари обряжаются в доспехи, вышибают друг дружку копьями из седел, а то, случается, мечами и палицами охаживают.
– Опасное состязание? – блеснули интересом щелочки узких глаз.
– Да как сказать… – пожал плечами Тимофей. – Убивать-то там особо не убивают, но бока мнут основательно. Хотя, случается, порой, и калечат. Но это все равно никого не останавливает. Рыцари показывают в турнирах свое воинское мастерство и добывают славу, без которой им никуда. К тому же на турнирах есть своя выгода: конь и доспехи побежденного становятся трофеем победителя.
– Полезное занятие – турини, – одобрительно кивнул Бельгутай. – Сразу ясно, кто чего стоит в бою. Да и конь с доспехами лишними никогда не будут. Справедливо, что они достаются сильнейшему.
– Так-то оно так. – Тимофей покосился на молодого германца. – Но нас, видать, неспроста туда приглашают.
– В чем ты видишь хитрость, Тумфи? – насторожился татарин.
– Может быть, на самом деле никакого подвоха и нет. Но, насколько мне известно, в турнирах не дозволено участвовать тому, кто не имеет рыцарского звания. А нас с тобой в рыцари, кажись, не посвящали. И потом… Я что-то не слышал раньше о полуночных турнирах. Если Феодорлих так сильно меняет общепринятые правила, значит…
– Значит? – нахмурился нойон.
– Значит, ему это нужно, Бельгутай.
– Зачем? – брови посла вовсе слились в сплошную темную линию над переносицей.
– А кто ж его, крысий потрох, разберет-то?! – пожал плечами Тимофей. Глянул исподлобья на фон Гебердорфа, добавил: – Хотя, посланник Феодорлиха обмолвился, будто императору не терпится посмотреть на наше воинское искусство. То есть, на ваше, я так понимаю, степняцкое, в первую очередь. Может, в этом и кроется причина. Смысл, вроде бы, есть. Если готовишься к войне, следует хорошо представлять, с каким противником придется иметь дело. А императору пока только понаслышке известно, как вы ведете себя в бою.
– Думаешь, стоит отказаться? – прищурился Бельгутай.
– Вообще-то этот немец, – Тимофей бросил еще один быстрый взгляд на фон Гебердорфа, нетерпеливо ерзающего в седле, – говорит, что переговоры продолжатся после турнира. Возможно, Феодорлих вовсе не пожелает вести их, пока собственными глазами не увидит, на что способны твои воины. В общем, тебе решать, что показывать латинянскому императору, а что нет.
Бельгутай ненадолго задумался. Спросил:
– Что бы ты сам посоветовал, Тумфи? Ты более сведущ в латинянских делах.
Мудрый посол никогда не пренебрегал чужими советами, и Тимофей снова поскреб в затылке, рассуждая вслух:
– Вовсе не идти на турнир – значит, прослыть трусами. Пойти и проиграть – лишний раз вдохновить латинян на войну и уверить их в победе. А победить самим – показать свою сноровку и привычную манеру боя. Такая победа может впоследствии дорого обойтись. Хотя победить на ристалищном поле по латинянским правилам будет непросто. Рыцари все-таки более привычны к турнирным боям, чем твои нукеры. Они на этих боях, почитай, с малолетства выросли… – Тимофей тряхнул головой. – Нет, Бельгутай, тут я тебе не советчик. Сам решай. Скажу одно: по рыцарским законам тот, кто отказывается от схватки, покрывает себя позором.
– Не только по рыцарским, – буркнул Бельгутай. – По нашим – тоже. Да и по вашим, уруским, наверное.
Тимофей развел рукам:
– Ну, в общем, да. И по нашим.
* * *
– Так что мне передать его величеству? – не выдержав, встрял в разговор германский рыцарь. – Вы выедите на ристалищное поле или нет?
Бельгутай медлил с ответом. А Гебердорф не умолкал:
– Если вы опасаетесь лишиться лошадей и оружия, то знайте: в этой схватке имущество побежденных не достанется победителям. Его величество желает провести турнир не алчности, но доблести. Достойнейших и сильнейших он щедро вознаградит сам.
Губы Зигфрида фон Гебердорфа вновь изогнулись в глумливой улыбке.
– Или воины хана привыкли сражаться только издали – стрелами, выпущенными из луков – а честного боя лицом к лицу избегают? Знаете, ходят у нас такие слухи. Если это действительно так, то, быть может, вы, хотя бы, примете участие в состязании стрелков? По окончании турнира свою меткость покажут лучшие лучники и арбалетчики императора. Правда, все они… – немец брезгливо поморщился. – Из простонародья они все. Благородных рыцарей среди стрелков мало. В основном, слуги, крестьяне, горожане, да прочий сброд. Вы желаете соревноваться с чернью?
Молодой рыцарь скалился уже во весь рот. Тимофей с трудом сохранял на лице маску безразличия, ощущая в сжатых кулаках свирепый зуд. Да, не просто, совсем не просто состоять толмачом при посольстве.
– Что он говорит, Тумфи? – поторопил Бельгутай.
Тимофей вздохнул поглубже. Перевел слово в слово…
– Избегаем честного боя, значит? – процедил сквозь зубы нойон.
Тимофей неодобрительно покачал головой:
– Послушай, Бельгутай, немец специально нас с тобой задевает. Прямого вызова пока не бросает, но кому-то уж очень хочется вытащить нас на ристалище.
– Избегаем честного боя?.. – вновь почти ласково, но с недоброй улыбкой повторил ханский посол, словно и не слыша толмача. – Ответь-ка ему вот что, Тумфи…
Тимофей охотно перевел слова Бельгутая:
– А у нас, благородный Зигфрид, ходят слухи о том, что ваши рыцари из опасения получить рану, никогда не отправляются на битву, не обвешав себя железом со всех сторон. Говорят, что даже против пруссов, жмудинов и литвинов, вооруженных дубинками и каменными палицами и одетых в звериные шкуры, бесстрашные рыцари воюют только в броне. И на юге, говорят, они сражаются с легкой сарацинской конницей, не снимая лат. А еще, говорят, закованные в сталь рыцари не считают зазорным убивать и топтать конями бездоспешных пеших слуг своих противников. Вероятно, именно это и называется честным боем у благородного рыцарского сословия?
Тимофей с удовлетворением наблюдал, как насмешливая улыбка сходит с самодовольного лица мальчишки, и как лицо это вытягивается все сильнее и все отчетливо покрывается бледными пятнами.
Ай, Бельгутайка, ай, молодец! Славно отшил заносчивого юнца!
Фон Гебердорф, словно кулачный боец, получивший под дых, беззвучно хватал ртом воздух, не зная, что сказать и как ответить. Едва сдерживаемый гнев мешал германцу подобрать нужные слова. А Бельгутай продолжал – спокойно, невозмутимо, назидательно.
– В любой войне каждый из противников идет к победе своим путем, – переводил Тимофей речь татарского посла. – И либо приходит к ней, либо нет. Таково единственное правило войны. Единственное честное правило. А во всем прочем честных войн не было, нет и не будет. Это столь же очевидно, сколь сильно разнятся вооружение, количество и состав войск, крепости и осадные машины воюющих сторон, а также хитрости и уловки, используемые военачальниками. Если бы войны велись честно, благородный Зигфрид, их не возникало бы вовсе. Все споры решалась бы поединком царей, сражающихся на мечах или копьях одинаковой длины и прикрывающихся щитами одинакового размера. Только в нашем несовершенном мире все происходит иначе…
Молодой германец больше не улыбался. И, кажется, мало что понимал из сказанного. Ярость мешала ему должным образом вслушиваться в чужие слова и осмысливать их. Рыцарь метал ненавидящие взгляды то на Бельгутая, то на Тимофея.
– Вы выйдете на ристалище, господин посол? – наконец, хрипло выдавил он. – Вы, ваш толмач и ваши воины?
– Да, – неожиданно жестко и коротко ответил Бельгутай.
– Да, – перевел Тимофей.
Немец удовлетворенно кивнул:
– Я тоже там буду. И непременно постараюсь встретиться с кем-нибудь из вас.
Из татарского лагеря Зигфрид фон Гебердорф не выехал даже – вылетел стрелой. Унесся прочь с видом человека, которого оскорбили до глубины души и который жаждет скорейшего отмщения.
– Ты все-таки решил участвовать в турнире, Бельгутай? – Тимофей повернулся к послу.
– Решил, – кивнул тот. – Мы представляем Великого хана, и никто не должен упрекнуть его воинов в трусости. Мы можем проиграть, но отказаться от боя не можем. К тому же переговоры… Мне приказано продолжать их при любых условиях. Этот турини, как я понимаю, одно из условий императора. Ну а в том, что Феодорлих увидит меня и моих нукеров в деле, ничего страшного нет. Пусть смотрит. А мы, в свою очередь, посмотрим, на что способны в бою его рыцари. Что? Что ты на меня так уставился, Тумфи? Хочешь о чем-то спросить?
– Хочу. А других причин, побудивших тебя дать согласие, нет?
Бельгутая окинул его насмешливым взглядом:
– Тумфи, иногда ты пугаешь меня своей проницательностью. Есть, конечно. Мне нужно знать, зачем Хейдорх так хочет выманить нас на свое полуночное состязание, а, не выехав туда, я этого не узнаю. Кстати, тебя ведь тоже приглашали. Будешь драться?
– А то! – хмыкнул Тимофей. – Драться – оно дело не хитрое. Отчего ж не потешиться?
Тимофей покосился вслед удалившемуся Зигфриду. Кто знает, может, на ристалищном поле посчастливится проучить наглого юнца.
Глава 2
Эта безлунная ночь в закатной стране идзинов[5] ничем не отличалась от тех ночей, к которым привык и частью которых стал Итиро у себя на родине. Ночь была непроглядно-темной и вполне подходящей для того, чтобы при желании и определенном умении растворяться в ней быстро и бесследно.
Свой боевой посох со спрятанным внутри клинком Итиро прислонил к старому замшелому дереву. Затем сбросил с головы широкий островерхий куколь. Снял с груди символ чужого бога, состоящий из двух перекрещенных палочек. И, наконец, все сменное одеяние – камари-кимоно – бесшумно соскользнуло в траву.
Итиро был у цели, так что больше не нужно носить нелепый балахон идзинского монаха со специально проделанными прорезями, облегчавшими доступ к оружию. Ни к чему теперь скрывать под огромным капюшоном лицо, слишком, увы, приметное в краю бледнокожих широкоглазых чужеземцев. Незачем прятать в складках мешковатой одежды потаенное снаряжение воина-тени.
Потом, если все пройдет удачно, Итиро снова наденет сброшенный наряд, и под личиной комусо – странствующего монаха – вернется к колдовской Тропе, перенесшей его в эти земли. Однако в крепость, куда ему надлежало проникнуть сейчас, следовало отправляться в более привычном и удобном одеянии, в котором ничто не сковывает движений. И все – под рукой. И не хлопают предательски на ветру длинные полы и широкие рукава.
Неприступная, полная вооруженной стражи цитадель, огни которой уже виднелись из-за деревьев – это, все-таки, не мост через быструю речушку. Тот мост охранял лишь один идзинский самурай с несколькими слугами, да и то вполглаза. В крепости врагов будет больше, и службу свою они будут нести добросовестнее.
Скинув одну черную одежду, Итиро остался в другой, такой же черной. Под монашеской рясой на нем было синоби-сёдзоку – легкое, практичное и многократно проверенное одеяние воина-тени. Словно сотканная из ночи рубашка-увари, наброшенная сверху куртка-уваппари, широкие штаны-игабакама и пояс-додзиме. Нарукавники-тэкко и ножные обмотки-осимаке. Пустая (пока еще пустая, и потому плотно прилегающая к лопаткам) заспинная сумка-нагабукуро. Мягкие, с раздвоенным – для большого пальца – мыском туфли-варадзи из выделанной кожи и просмоленного холста, позволяющие двигаться тише подкрадывающейся к добыче кошки.
По многочисленным кармашкам, потаенным мешочкам и футлярчикам, спрятанным в одежде, аккуратно разложены полезные мелочи. Вокруг талии, поверх додзиме, обмотана кекецу-сеге – тонкая, но прочная, плетенная из неприметного в темноте черного конского волоса веревка с петлей на одном конце и метательным крюком-кинжалом – на другом. А чтобы полностью слиться с ночью, Итиро закрыл лицо еще более надежной, чем монашеский капюшон, маской-дзукином, состоящей из двух плотных матерчатых полос, между которыми оставалась лишь небольшая смотровая щель.
Теперь следовало проверить тайный меч сикоми-дзуэ. Итиро взял прислоненный к дереву посох. Чуть крутанув деревянную рукоять-цуко, извлек из укрепленных железными кольцами ножен-сая прямой и не очень длинный клинок. Затемненная, едва различимая в ночи сталь, выскользнула быстро и бесшумно.
Простенькая удлиненная рукоять, подходящая для одно– и двуручного боя, удобно лежала в ладони. Отличная балансировка позволяла наносить смертоносные удары одним лишь движением кисти. А прекрасной заточке клинка ничуть не повредила скоротечная стычка с идзинской мостовой стражей.
Итиро взмахнул мечом. Темный клинок рассек воздух без характерного свиста: сказывалось тщательно продуманная форма и отсутствие дола. Хорошее оружие. Правда, сикоми-дзуэ, в отличие от обычной синоби-гатана, не имел над рукоятью защитной квадратной цубы. Но иначе нельзя. Меча с массивной гардой в посохе не спрятать.
Итиро осмотрел железную насадку-кодзири на конце ножен. Пробка сидела надежно, и откручивалась легко. В пространстве между металлической заглушкой и острием клинка, вложенного в сая, оставалось пространство для футлярчика с отравленными иглами-хари. За широкие железные кольца на ножнах Итиро укрепил меч-посох в наспинной перевязи под сумкой-нагабукуро. Затем спрятал монашеский балахон и нагрудный крест в дупле огромного – в три обхвата – дерева.
Несколько медитативных упражнений на концентрацию внимания и пробуждение скрытой энергии ки… Все! Мокусэ ямэ![6] Вот теперь он готов.
Итиро был не только первым сыном[7] в семье, о которой ничего не помнил и не знал, но и первым генином[8] в клане, выкупившем (а быть может, и выкравшим) его еще в младенчестве и заменившем ему семью. Семью суровую, жесткую, порой жестокую, но крепкую и надежную. Итиро был синоби-но мо – человеком, тайно проникающим и похищающим чужие секреты, Итиро был нин-ся – претерпевающим и выносящим лишения[9].
И этим было сказано все.
Бесшумной тенью он выскользнул из леса на открытое пространство. Тень растворилась в невысокой траве. Тень сама стала травой.
* * *
В искусстве куса-гакурэ – маскировки в траве и кустах – Итиро не было равных в клане, а потому к идзинской крепости он подполз столь же быстро, сколь и скрытно.
Вблизи цитадель местного тэнно-сегуна, императора-военачальника, выглядела еще более внушительной, чем издали. Идзинский замок не был похож на те, что Итиро доводилось видеть у себя на родине. Конечно, вовсе уж неожиданным это зрелище для него не оказалось. После стычки на мосту и безмолвного допроса чужеземного самурая, открывшего ему свою память, Итиро представлял, с чем придется столкнуться.
И все же…
Все же свои глаза видят иначе, чем другие.
Крепость была выстроена на удобном каменистом возвышении и словно срослась с ним. Высокие зубчатые стены, сложенные из темных каменных глыб. Выступающие за линию стен массивные башни с частыми бойницами. Неприступные ворота, прикрытые огромным подъемным мостом на толстых цепях. Широкий ров, заполненный стоялой водой. Вал, грозно щетинившийся заостренными кольями. Даже большому войску было бы непросто взять штурмом эту твердыню. Да и не всякий синоби смог бы незаметно проникнуть внутрь.
Наверху часто горели костры и факелы. Кое-где огни освещали нижние бойницы. По каждому пролету стен прохаживалось несколько воинов. Стража была выставлена и на башенных площадках. Фигуры наблюдателей отчетливо выделялись между крепостных зубцов. Время от времени кто-нибудь из воинов, подняв факел над головой, перегибался через ограждение и вглядывался во мрак у подножия стен.
Вооружение этих идзинов оказалось столь же необычным, как и оружие мостовой стражи, перебитой Итиро. Одни воины опирались на короткие копья-яри со странными ромбовидными или узкими гранеными наконечниками. Другие держали топоры, отдалено напоминавшие секиры-оно. В руках у третьих были диковинные боевые дубинки-дзе с шипастыми железными набалдашниками. Идзинские мечи – прямые, обоюдоострые, с плоской крестовидной гардой – не походили ни на самурайские гатана, ни на клинки синоби.
Крепость также охраняли стрелки с укороченными луками, смахивавшими на хонкю[10], только более толстыми и мощными, укрепленными на деревянных ложах и оплетенными веревками. Именно из такой метательной машины чуть не подстрелили Итиро во время боя на мосту.
Были, впрочем, на стенах и обычные лучники. Однако их луки сильно отличались от длинных юми[11], изготавливаемых из дерева и бамбука с таким расчетом, чтобы нижний конец оказался в два раза короче верхнего. Луки чужеземцев были поменьше и попроще, и вряд ли способны были метать стрелы-юмия, превышавшие в длину десять ладоней.
Идзинские воины носили рубахи, плетенные из железных колец. Больше всего такой доспех походил на кольчужные кусари-катабира, не покрытые черным лаком и не нашитые на ткань, но выглядел при этом внушительнее, тяжелее и прочнее. Некоторые стражники были облачены также в непривычные глазу Итиро кожаные и металлические панцири, представлявшие собой безумную помесь до-мару, харамаки, кикко, татами-до и кодзан-до[12] и в то же время не похожие ни на один из них.
Идзинские треугольные и квадратные щиты были не столь велики и тяжелы, как огромные татэ, защищавшие на родине Итиро пеших воинов от стрел противника, а потому крепостная стража могла носить их с собой, навесив на левую руку. Шлемы (самых разных конструкций, от маленьких железных шапочек, до несуразных металлических ведер с узкими прорезями для глаз) тоже имели мало общего как с касками-дзингаса, защищавшими головы легкой пехоты-асигару, так и с самурайскими кабуто.
Взгляд Итиро скользнул с гребня крепостной стены вниз – на ров. Это было первое препятствие, через которое проще всего перебраться вплавь. Но – мокрая одежда, мокрые следы… Слишком заметно, слишком опасно.
Нет, оставлять следы не годится.
Итиро глянул вправо, влево… Отточенное долгими тренировками зрение не подвело. Слева, у внешней кромки рва, он заметил широкий деревянный помост на крепких сваях. Видимо, на эту мощную подпорку днем опускается подъемный мост. Ну а ночью… Итиро улыбнулся: этой ночью деревянная конструкция послужит ему.
Свет крепостных факелов сюда не доставал, а разбитая копытами и тележными колесами дорога, ведущая к мосту, вся аж бугрилась от выбоин, колдобин и ухабов. На дороге, правда, не росла трава, но разве внимание стражи привлечет еще одна темная кочка на обочине, в которую обратит свое маленькое тело Итиро?
Он снял с пояса сдвоенный крюк-кинжал, отмотал веревочный хвост. Прикинул расстояние… Длины веревки недостаточно, чтобы добросить кекецу-сеге до верхнего края поднятого моста или до бойницы в каменной стене. Но так далеко бросать и не нужно. Во-о-он те колья на валу подступают к самому проему под мостом и словно специально поставлены для того, чтобы цеплять за них крюки.
Бросок…
Темный кинжал с загнутым лезвием-крюком мелькнул в воздухе. Следом зазмеилась неразличимая в ночи черная веревка. Кекецу-сеге перелетел через частокол. Упал на вал, не потревожив тишину стуком о дерево. Бесшумно скользнул по земляной насыпи.
Итиро потянул веревку на себя. Клюв раздвоенного кинжала зацепился между двух кольев на той стороне рва. Теперь следовало закрепить веревку на этой…
Сжавшись в комок, Итиро притаился у обочины дороги. По способу перепелки – удзуро-гокурэ – прикинулся маленьким бугорком возле деревянного помоста. Только у этой новой неприметной и неподвижной, вроде бы, кочки имелись руки. И руки эти ловко вязали на свае-подпорке хитрый узел. Такой узел будет держать крепко, пока имеется натяжение, но ослабнет и опадет, как только веревка провиснет.
Невидимая прочная нить протянулась над рвом, как тетива лука. Итиро выждал немного и убедившись, что со стен в его сторону никто не смотрит, скользнул с обрывистой кромки. Он не потревожил ни единого камешка, не уронил в воду ни комочка земли. Неподвижная «кочка» словно перелетела через ров. Вряд ли обычный человеческий глаз способен был разглядеть в ночи быстрое движение размытой тени на фоне черной воды.
Не задерживаясь ни на миг, Итиро перемахнул через заостренные бревна на валу. Оказавшись за частоколом, он отцепил впившийся в дерево крюк кекецу-сеге, ослабил веревку и резко дернул расползающийся узел. Прежде, чем соскользнувший с деревянного помоста веревочный конец коснулся воды, Итиро вырвал веревку из рва.
Можно было двигаться дальше.
* * *
Забрасывать кекецу-сеге на стену Итиро не стал. Слишком высоко. Да и рискованно к тому же: стража, прохаживающаяся по боевым площадкам, может услышать стук металла о камень и заметить темный крюк в освещенной бойнице. Подниматься наверх следовало другим способом.
Итиро вновь обмотал веревку вокруг пояса и вытащил из боковых кармашков крюкастые железные перчатки. «Кошачьи лапы» – сюко – значительно облегчали подъем как по деревянным, так и по каменным стенам. А если к ним добавить еще и асико – шипастые накладки для ног… Итиро добавил. Затянул, привязал к обуви намертво.
Готово. С таким снаряжением он мог цепляться за малейшие щели в кладке. А щелей в стене было немало. Особенно в скальном основании крепости, выступавшем из земли. Да и дальше, выше… Большие грубо отесанные темные глыбы прилегали друг к другу неплотно, раствор, скреплявший плиты, во многих местах выкрошился. Нетренированному человеку без лестницы или веревок эту преграду, конечно, не преодолеть, но опытному синоби такое вполне по силам.
Распластавшись по стене, Итиро начал неторопливый подъем.
Черная фигура, сливающаяся с темным камнем и безлунной ночью, была столь же неразличима на неровной вертикальной поверхности, как и на земле. Дважды из-за крепостных зубцов, справа и слева, выглядывали стражники с факелами, но идзины не заметили ничего подозрительного. Итиро преодолел уже половину пути, когда вынесенный за стену огонь вдруг вспыхнул в третий раз – над самой головой.
Треск. Шипение. Жгучие брызги…
Смоляные капли, слетевшие с факела, окропили ткань маски и куртку, потекли за ворот. По шее словно провели раскаленной проволокой.
Итиро не вскрикнул, не дернулся, не сорвался вниз. Он ничем себя не выдал. Его достаточно долго учили терпеть боль. Вернее, не чувствовать ее в полной мере. Пока над головой трещал факел, Итиро прильнул… прилип… слился с кладкой. Сам стал подобен ей. Щекой, руками, ногами, всем телом – сквозь одежду – он ощущал холод шершавого камня и растворялся в нем.
Граница света и тени проходила у самой макушки Итиро и лишь спасительное имори-гакурэ – умение незаметно лазить по скалам, подобно тритону, – уберегло синоби от идзинского взгляда.
Факел убрали. Смоляная капель прекратилась.
Итиро бесшумно выдохнул. Медленно вдохнул и выдохнул снова, восстанавливая дыхание, возвращая чувствительность онемевшим, ОКАМЕНЕВШИМ членам. Затем оторвался от камня и продолжил подъем.
Он все рассчитал правильно. Легко протиснулся в узкий проем между крепостными зубцами, стремительной тенью скользнул по боевой площадке, пока дежурившие на ней стражники расходились в разные стороны. Перемахнул через невысокую деревянную оградку и повис уже на внутренней стороне стены.
Здесь стены оказались не столь высоки, как снаружи: скалистое основание, как выяснилось, являлось не только фундаментом для внешних укреплений, но и приподнимало весь замок. К тому же, под ногами темнела плоская крыша. Однако прыгать вниз Итиро не решился. Сколь бы мягко и удачно он ни приземлился, звук падения все же насторожит часовых. А висеть на руках Итиро умел часами. Тем более – на стальных когтях-сюко, надетых на руки.
Он подождал, пока по дощатому настилу над головой вновь простучат сапоги стражи. Затем, все так же удерживая тело на весу и не привлекая внимание воинов, расхаживавших сверху, перебрался к деревянной лестнице справа. Спускаться по ступенькам Итиро, правда, тоже не рискнул: доверия они ему не внушали. Ненадежные ступени могли скрипнуть под ногой в самый неподходящий момент. Вниз Итиро скользнул по толстому опорному столбу.
Очутившись под лестницей, он внимательно осмотрел двор – тесный, грязный, плотно застроенный конюшнями, мастерскими, амбарами, складами и жилыми помещениями для воинов и прислуги. В некоторых окнах горел свет, откуда-то доносились приглушенные голоса, но сам двор был темным и безлюдным.
Да, тот идзинский самурай из мостовой стражи, что раскрыл ему план замка, воссоздал в памяти все правильно. Крепостной двор располагался между внешней – неприступной на вид, но уже преодоленной Итиро – стеной и не менее внушительной внутренней цитаделью, крепостью-в-крепости, в самом центре которой возвышалась главная замковая башня – огромная, высокая, округлая. К этой башне вели несколько галерей и на них, увы, тоже хватало вооруженных воинов и факельного света. Да и на верхней площадке башни горели огни и маячили тени дозорных.
Итиро снял железные когти с рук и шипы с ног. Укрываясь в тени, осторожно двинулся к внутренней цитадели. Но не успел пройти и половины пути, как вдруг…
Итиро замер на полушаге и оборвал дыхание на полувздохе. Совсем рядом – за углом – стукнула распахнутая дверь. Из низенького домика с каменными стенами и соломенной крышей вышли, позвякивая железом, двое вооруженных людей. Он их пока не видел, только слышал. По звуку и определил, что двое, что вооружены и что оба находятся на расстоянии вытянутой руки с мечом…
Прижавшись к стене, Итиро поднял правую ладонь. Нащупал над плечом рукоять сикоми-дзуэ. Пальцы сомкнулись вокруг теплого дерева, чуть провернули меч. Теперь можно, вырвав клинок из ножен, сразу же и ударить. Если придется убивать, то сделать это нужно быстро и, по возможности, незаметно. Но лучше бы не…
Не пришлось!
Бряцая доспехами, сонные идзины пробрели мимо, не заметив чужака. Железные рубахи, низко надвинутые шлемы с широкими полями, копья… Один едва не коснулся руки Итиро, согнутой в локте.
Воины пересекли двор и скрылись в небольшой каморке у крепостных ворот. Итиро убрал вспотевшую ладонь с рукояти меча, подавив вздох облегчения. Легкие он наполнял постепенно – мелкими глотками. И на каждый глоточек – маленький пружинистый шажок. Назад, прочь от опасной двери. Итиро отступил вовремя: у ворот показалась еще пара идзинов. Эти следовали уже в обратном направлении – туда, где только что стоял Итиро. И эти шли с факелом.
«Привратная стража, – догадался он, – меняются».
На всякий случай Итиро отступил от факельного света в приоткрытую дверь конюшни. И – новый звук, совсем рядом! Рука вновь дернулась к мечу. Но нет, на этот раз ничего страшного. Всхрапнула лошадь. Лошадь не опасна. Хорошо, что в этой части замка нет псарни. Судя по тому, что Итиро узнал от охранявшего мост идзина, собак держали на противоположной стороне крепости – за внутренней цитаделью. А ветер сейчас как раз дул оттуда. Псы не должны почуять Итиро.
Псы – нет, но что ЭТО?!
В углу конюшни ворохнулось свежее, неподсохшее еще сено. Итиро оценил ситуацию мгновенно. На небольшом – ему по пояс – стожке, под грубой рогожей – два тела. Обнаженные. Мужское и женское. Все ясно. Слуга какого-то самурая уединился с девицей из замковой челяди в укромном уголке. Не повезло…
Любовники уже выпростались из-под грязной тряпки, вертят головами и растерянно хлопают глазами. Слабые отблески факела с улицы едва-едва пробивались сквозь щели в дощатых стенах конюшни. Света мало, но и темнота – не кромешная.
Заметили его? Не успели? Успели… Два бледных лица повернулись к Итиро. Проклятье! Так бывает всегда: сложнее всего укрыться от того, кто таится сам.
Да, точно заметили! Вон, глаза – распахнуты во всю ширь (до чего же все-таки они широки у идзинов!) И уже разинуты рты…
Закричат! Даже если захотят не кричать – все равно закричат. Страх, проникший в души тайных любовников, сейчас сильнее, чем нежелание привлекать к себе внимание.
Но синоби быстрее страха.
Тело Итиро уже делало то, что должно было делать. Само, без вмешательства разума.
Прыжок. И заученное движение в прыжке. Рука – к плечу. Клинок – из-за плеча. Рывок оружия из заспинных ножен, оказавшийся одновременно и стремительным взмахом.
Мягкое приземление на пружинящее травяное ложе, в изголовье перепуганных любовников.
Удар с резким оттягом на себя… Один удар на двоих.
Темная полоска стали отсекла-срезала головы обоим. Быстро, почти бесшумно. Вскрикнуть идзины так и не успели – ни он, ни она. Два шара с человеческими лицами, брызжущие кровью и облепленные пыльной травой, скатились с невысокой пахучей подстилки. Голые обезглавленные тела дернулись под грубым полуоткинутым одеялом. Густые потеки, казавшиеся в полумраке конюшни черными, медленно стекали по стожку.
Встревожено захрипел конь в стойле, но этот шум не привлек ничьего внимания. Когда стражники с факелом, наконец, ушли, Итиро забросал сеном тела и головы убитых и наспех присыпал сухой травой кровавые пятна. Вряд ли кто-то заглянет сюда до рассвета, но все равно осторожность не помешает. Чем позже найдут этих мертвецов – тем лучше.
Итиро вышел из конюшни не очень довольный собой. Первая кровь пролилась прежде, чем он добрался до заветной башни.
* * *
Ворота внутренней цитадели тоже были запертыми и находились под бдительным присмотром сверху. Но Итиро ворота не нужны. Укрываясь в тени хозяйственных и жилых построек, прячась за телегами и неубранным хламом, он продвигался вдоль стен, пока не достиг угловой башни крепости-в-крепости.
Башенка вполне подходила для задуманного. Ее верхние ярусы, расширяясь, выступали над нижними этажами полукольцом зияющих навесных бойниц. К тому же, эта угловая башня, если верить информации, выуженной из памяти идзинского самурая, соединялась переходной галереей с главной замковой башней.
Снова в ход пошли когтистые железные перчатки и ножные накладки, значительно облегчавшие подъем. Снова темная фигура синоби слилась с темным камнем. Снова Итиро карабкался наверх.
Не задерживаясь, он пробрался между узкими – увы, слишком узкими – бойницами второго этажа. Добрался до третьего, где башню окаймлял выступ вынесенных наружу боевых площадок, и над землей нависали широкие амбразуры, предназначавшиеся для уничтожения врага под самыми стенами. Из таких бойниц можно было не только метать стрелы и копья, но и бросать камни или лить кипяток. Конечно, обычный человек не смог бы протиснуться снизу в такое отверстие.
Итиро – смог.
Повиснув под бойницей, он долго прислушивался. И, лишь убедившись, что на башенной площадке нет стражи, заглянул внутрь. Внутри было темно и тихо. Итиро просунул правую руку, надежно зацепившись шипами сюко за внутренний край бойницы. Затем втиснул правое плечо. Голову…
Левое плечо не пролезало. Пришлось, стиснув зубы, дернуться всем телом, выламывая суставы. Процедура болезненная, но привычная. Нужно было просто знать, как вынимать кость из суставной сумки. Итиро знал. И знал, и – благодаря долгим годам изнурительных тренировок – умел. К тому же, он мог не чувствовать боли, когда боль мешала. Ну, почти не чувствовать…
Прикусив губу, Итиро вполз… втянул ноющее тело в бойницу. Вправил вывихнутые суставы, снял сюко и асико.
Он оказался в галерее, опоясывавшей башню. Здесь все было подготовлено к тому, чтобы без промедления дать отпор врагу. У стен стояли идзинские луки и самострелы с натянутыми тетивами. Из ниш торчали охапки стрел. Над бойницами громоздились пирамидки камней и висели на треногах медные котлы. Котлы уже были наполнены водой и смолой. Рядом лежали дрова и сухая растопка.
Единственная дверь имела лишь внутренний засов – видимо, для того, чтобы держать оборону до конца, даже если башня будет захвачена. Дверь выводила на темную и узкую винтовую лестницу, ступени которой уходили вверх и вниз. Итиро поморщился. Нехорошее место. Неудобное. Тесно. Мало пространства для маневра. Нет спасительных углов. Одна только закручивающаяся вокруг каменного основания ступенчатая спираль. Темно, но если кто-нибудь войдет сюда с факелом, спрятаться будет негде. И не видно, что происходит впереди и что сзади. А еще – двери по правую руку, и каждая может распахнуться в любой момент.
Что ж, чем скорее он преодолеет опасный участок, тем лучше. Сейчас нужно было подняться наверх, к переходу в главную башню замка. Мягкие кожаные туфли-варадзи бесшумно ступали по лестнице, отмеривая один виток, другой… И – вдруг – шаги! Громкие, уверенные, хозяйские. Вниз, навстречу Итиро, спускались два или три идзина. Точно определить сложно – мешает непривычное эхо.
Итиро толкнул первую попавшуюся дверь.
Заперто.
Вторую…
Открыто. Но, чуть приоткрыв, он тут же затворил ее снова. Дверь выходила на стену внутренней цитадели – ярко освещенную факелами и находившуюся под присмотром стражников. Нет, туда сейчас соваться нельзя.
Что остается? Отходить вниз, уступая дорогу спускающимся идзинам? Но как далеко отходить и как долго? И не загонят ли его те, кто наверху, к какому-нибудь нижнему посту? Тогда придется иметь дело с врагом, атакующим с двух сторон сразу. И тогда вряд ли удастся умертвить всех быстро и бесшумно.
Драться здесь? Тоже рискованно. Тела, кровь… Если кто-то еще пройдет по лестнице, то непременно заметит следы стычки. Тревогу поднимут раньше времени.
Был, впрочем, один способ уклониться от нежелательного боя. Не очень надежный, но попытаться стоило. Лестничный проход здесь достаточно узок, чтобы удерживать, словно палку-распорку, даже его, Итиро, маленькое тело, а значит…
Ра, два… Руки уперты в одну стену, а ноги – в другую. Итиро вскарабкался-взбежал к выступам на потолке, которые тоже являлись частью винтовой лестницы. Замер в горизонтальном положении, напрягшись так, будто пытался раздвинуть башенную кладку ладонями и ступнями. Итиро приготовился в любой момент обрушиться на головы идзинов. Если без этого уже не обойтись.
Ребристый потолок был невысоким и одного-единственного взгляда, брошенного наверх, хватило бы, чтобы обнаружить спрятавшегося человека. Но люди, спускающиеся по лестнице, редко поднимают головы. Обычно люди на лестницах смотрят себе под ноги.
Двое воинов (все-таки их было только двое) прошли мимо, так ничего и не заметив. Факел едва не задел куртку Итиро, провисшую под тяжестью набитых карманов. Жар от трескучего пламени ударил в лицо, и пришлось зажмурить глаза.
Потом свет исчез. Шаги стихли. Где-то внизу громко хлопнула дверь. Возвращаться наверх идзины, вроде бы, пока не собирались. Итиро перевел дух и, расслабив мышцы, соскользнул на ступени.
Его подъем закончился на широкой площадке с двумя нишами-бойницами, горящим факелом на стене и массивной низенькой дверцей напротив лестницы. У двери стоял еще один стражник в рубашке из железных колец и в островерхом клепаном шлеме. На поясе идзинского воина висел меч, а глаза стража – вот ведь незадача! – всматривались в полумрак лестничного прохода как раз в тот момент, когда Итиро выходил из-за изгиба каменной кладки.
Проклятый идзин не дремал. Видимо, уловив смутное движение, стражник подался вперед, неуверенно окликнул шевельнувшуюся тьму и сразу же потянул из ножен меч, открывая рот для нового крика.
Все! Здесь уже не пройти незамеченным, не отступить назад, и не избежать схватки. И мечом на таком расстоянии противника не утихомиришь.
Пароля-отклика Итиро, разумеется, не знал. Как и языка идзинов, а потому ответил иначе. Молча, быстро и безжалостно. Рванул из нарукавного кармашка заостренную с обоих концов металлическую палочку-хасидзе…
Полуоборот. Бросок, в который вложена вся сила руки. Хорошо сбалансированный бодзе-сюрикен, крутнувшись в воздухе, ударил точно в раззявленный рот. Небольшой – в длину ладони – дротик почти целиком вошел между двух рядов крупных желтых зубов. Пригвоздил язык к гортани, перебил связку позвоночника с мозгом. А это – конец. Паралич и практически мгновенная смерть.
Крик, уже готовый сорваться с уст часового, был вбит обратно. Тишину нарушил лишь приглушенный хрип, бульканье… Идзин повалился на лестницу головой вперед.
Итиро вовремя подскочил к нему. Поддержал тело. Подхватил падающий с головы шлем. Да, шлем – это главное. Если бы железка покатилась вниз по ступеням, грохоту было бы на всю крепость.
Он аккуратно уложил подрагивающего мелкой дрожью стражника на пол. На то, чтобы вынуть метательную палочку из раны и обтереть кровь о штаны убитого, времени ушло немногим больше, чем на убийство.
Плохо. Очень плохо! Этот труп никуда не спрячешь. Значит, теперь действовать нужно еще быстрее, чем прежде.
* * *
Дверь, которую охранял идзинский воин, была запертой, и у мертвого стража ключа не оказалось. Зато на уровне груди в толстых досках имелось небольшое, с кулак, прямоугольное отверстие. Не то смотровое окошко – чтобы видеть, кого впускать, не то бойница – чтобы остановить на пороге того, кого впускать не следовало. Через прорезь можно было разглядеть часть крытой галереи, ведущей к главной замковой башне. Длинный и широкий коридор освещала пара факелов в массивных подставках. В стенах зияли бойницы, между которыми прохаживался еще один стражник. Время от времени он поглядывал вниз.
Итиро осмотрел дверной замок. Незнакомая, но, в общем-то, несложная конструкция. Если немного повозиться – открыть можно. Специальный инструмент синоби – связка буравчиков, миниатюрных ломиков, крючков и крючочков, изогнутых под разными углами, заменяли Итиро любой ну, или почти любой ключ. Но в том-то и дело, что повозиться, все-таки, придется. И вовсе без шума не обойтись. Идзин с той стороны двери непременно услышит скрежет взламываемого запора. Значит, для начала следовало убрать идзина. Прямо через запертую дверь и убрать.
Окликнуть? Привлечь внимание? Заставить подойти к двери и проткнуть мечом через смотровое окошко? Нет… Неизвестно, как поведет себя стражник, если заподозрит неладное. Вполне возможно, что не станет приближаться к двери, а сразу поднимет тревогу.
Проще всего было бы достать идзинского воина отравленной стрелой из хонкю. Но ни лука, ни стрел под рукой нет. Зато есть кое-что другое. Итиро снял с наспинной перевязи меч-посох. Вынул и отложил в сторону клинок. Сейчас ему нужен не сикоми-дзуэ, а ножны-сая из-под него. И маленький деревянный футлярчик, вложенный внутрь.
Руки проворно выполняли привычную работу. Раз – и с ножен скручено навершие-кадзири. Два – вынута и открыта миниатюрная коробочка с тремя иглами-хари.
Сами иглы – короче мизинца, прямые и тонкие, как сосновая хвоя. Под острием каждой имеется небольшая бумажная коническая пробка, позволяющая плотно вогнать иглу в отверстие сая и стабилизирующая ее полет. Острые наконечники хари покрыты смертельным ядом из сока тарикобуто, усиленного, к тому же, особыми тайными добавками, которые известны лишь дзенину клана. Такая отравленная «заноза» не летит далеко, не бьет сильно и не протыкает глубоко. Но уж если воткнется, то убивает наповал.
Итиро аккуратно, стараясь случайно не коснуться опасного острия, вставил иглу в узкую прорезь на конце – нет, не ножен уже – духовой трубки-фукибари, в которую теперь превратились ножны. Просунув оружие в окошко двери, он замер, унимая стук сердца. Фукибари-дзюцу – тонкое искусство. Даже толчок крови может помешать точно метнуть ядовитый шип. Да и идзина следовало подпустить так близко, насколько это возможно.
Вот! Сейчас!
Идзин подошел. Идзин стоит в каких-то четырех-пяти шагах от двери и хорошо освещен факельным огнем. Стражник смотрит в ближайшую правую бойницу, подставляя правый же бок. Этот воин тоже одет в железную рубаху из мелких колец, под которой угадывается толстый стеганый поддоспешник. Но ворот рубахи расстегнут, кольчужный капюшон сброшен на спину, а широкими полями шлема прикрыты только уши. Ниже – на шее – беззащитно белеет кожа и пульсирует жилка.
Да, сейчас, именно сейчас! И именно туда!
Итиро набрал в грудь побольше воздуха. Дунул сильно и резко.
Идзин вскинул руку к мочке правого уха. Потом вдруг дернулся всем телом. Пошатнулся. Отступил на слабеющих ногах от бойницы. И еще на шаг. Открыл рот, издав тихий невнятный хрип. Повалился на пол… На этот раз поддержать падающего было некому, но звук падения, запертый в крытой галерее, не вырвался наружу и никого не встревожил.
После недолгих конвульсий стражник затих. Видно было, как из перекошенного рта сочится струйка белесой слюны. Яд тарикобуто действовал, как всегда быстро и безотказно.
Духовая трубка вновь стала ножнами, меч-посох занял свое место в наспинной перевязи. Как и предполагал Итиро, дверь удалось отпереть без особых затруднений. Он вошел в галерею. Осторожно вынул из шеи мертвеца иглу. Таково старое доброе право синоби: чем меньше остается следов, тем лучше.
Итиро обшарил труп. Никаких ключей не было и у этого идзина. Что ж, очень умно… Расставить у запертых дверей вооруженную стражу, способную при необходимости дать отпор, но не имеющую возможности открыть запоры.
Он прошел до конца галереи. Уткнулся в еще одну запертую дверь – маленькую, тяжелую, обитую железными полосами, без смотрового окошка. Это был вход в главную замковую башню.
Приложив ухо к щели у косяка, Итиро долго и напряженно прислушивался. В башне тихонько подвывали сквозняки, но ни шагов, ни позвякивания металла, ни человеческого дыхания он не услышал.
Отмычки и буравчики не подвели и на этот раз. Щелкнул взломанный замок. Дверь со скрипом отворилась. Тишина, темнота… Итиро вновь ступил на винтовую лестницу.
Закручивающиеся спиралью ступени вывели его на верхний ярус башни – в широкий, но короткий изогнутый коридор. Проход заканчивался деревянной лестницей, поднимавшейся к квадратному люку наружной смотровой площадки. Правая часть коридора представляла собой толстую внешнюю стену, в которой зияли глубокие ниши бойниц. Слева располагалась очередная дверь. Судя по всему – тоже запертая. Именно за ней должно храниться то, ради чего Итиро пробрался в крепость.
По обе стороны от двери горели факелы. Перед дверью прохаживался стражник с длинным обнаженным мечом. Итиро, уже наученный горьким опытом, а потому передвигавшийся крайне осторожно, увидел идзина прежде, чем тот заметил его.
Страж был закован в железо с ног до головы. Поверх кольчужной рубахи – нагрудник из металлических пластин, стальные наручи и поножи. На голове – островерхий шлем с опущенным на лицо забралом, напоминавшем защитные маски-хоатэ дорогих кабуто[13]. Видимо, здесь нес службу знатный самурай.
Выждав момент, когда страж отвернулся, Итиро стремительно и беззвучно преодолел разделявшее их расстояние. Когда идзин повернулся снова, Итиро уже стоял перед ним с занесенным мечом.
Темная фигура, выросшая из ниоткуда, и мелькнувшая в свете факелов темная полоска стали оказались последним, что увидел в своей жизни идзинский самурай. Молниеносный удар пришелся под нижний край железного забрала – туда, где шею прикрывала лишь кольчужная сетка. Острие сикоми-дзуэ пропороло кольчугу и рассекло глотку стражника.
Итиро помог хрипящему идзину медленно и без лишнего шума сползти по стене. Теперь можно было заняться дверью. Последней дверью на его пути.
Ничуть не удивившись тому, что ключей не оказалось и у этого стража, Итиро снова взялся за отмычки. Сверху, с наружной смотровой площадки, доносился свист ветра и обрывки чьей-то неторопливой беседы. За дверью было тихо. Вроде бы…
С этим замком пришлось повозиться дольше, чем с предыдущими, но и он, в конце концов, поддался умелым рукам синоби. Итиро вошел в дверь.
Да, все верно… В просторной, округлой комнате не было ни одной живой души. И – ни единого окошка, ни бойницы. Только тяжелые расшитые полотнища свисали вдоль стен. В самом центре – небольшой деревянный помост. На возвышении – серебряная подставка с тремя изогнутыми ножками. А горящие бронзовые светильники, установленные по краям помоста, освещают…
Освещают…
Итиро замер от восторга, наблюдая, как трепещущие огоньки масляных лампадок преломляются в прозрачном, словно отлитом из чистейшего льда, кристалле-коконе, уложенном на треногу. По форме кристалл напоминал яйцо огромной птицы, по сути – драгоценную раку. Его широкие грани были помечены истертыми молочно-белыми знаками, недоступными пониманию непосвященных. А под ними, под неведомыми иероглифами, в гладкую толстую оболочку кокона была вмурована маленькая черная, как уголь, рука. Высохшая. Костлявая. Согнутая в локте. С чистым, ровным срезом на плечевом суставе.
Сухая кожа обтягивала мумифицированную конечность, не скрывая, а лишь подчеркивая очертания выпирающих суставов и суставчиков. Тонкие и длинные – невероятно длинные – скрюченные пальцы как будто стремились сомкнуться на горле невидимого врага. Ногти, больше смахивающие на звериные когти, словно пытались выцарапаться из прозрачного саркофага.
Вне всякого сомнения, это была та самая Кость, за которой пришел Итиро. Черная Кость.
Глава 3
По воле Феодорлиха, являвшегося единственным распорядителем и судьей императорского турнира, ханским послам надлежало открыть ристалищные игрища и сразиться с немецкими рыцарями в первом же бою. Уговорились на групповую схватку-бухурт. Причем, император пожелал непременно увидеть конную сшибку на копьях – гештех, в котором германцы были особенно сильны. Правила оказались простыми, даже, как счел Тимофей, подозрительно простыми. Каждая сторона выставляла десяток воинов в тяжелом боевом доспехе и с привычным вооружением. Условие только одно: копья должны быть тупыми.
