Читать онлайн Воспоминания бесплатно
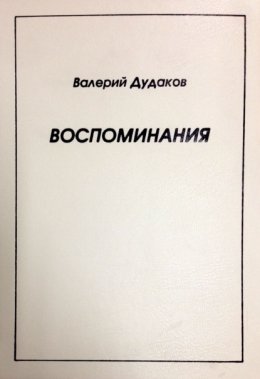
© Дудаков В.А., 2020
© «ПРОБЕЛ-2000», 2020
Предисловие
Я давно хотел написать это, много раз откладывал, надолго забывал. И, скорее всего, так бы и не начал, если бы в журнале не наткнулся на одну страничку. Сонным взглядом просматривая «Новый мир», я за сеткой безликих строк увидел курсивный заголовок «Ранние письма А. А. Ахматовой». И в первом письме всплыла строка-признание, строка-поэма: «Я всегда думаю о прошлом, оно такое большое и яркое». Это произнесла молодая Ахматова. Ей было тогда 17 лет, год стоял 1906-й. Сейчас мне уже за семьдесят, за окном октябрь 2019-го, но я думаю о прошлом, моем и чужом, с болью и нежностью.
Впервые о возможности написать воспоминания я задумался в 1989 году, когда был на самом подъеме творческих сил и возможностей. Все удавалось, каждый день был в радость. Но что-то стало исчезать из памяти, безнадежно забываться. Еще за четыре года до этого я стал писать дневник, сначала с пропусками, нерегулярно, потом постоянно, и вот уже около сорока лет записываю в него не только важное, но и мелочь и опять вспоминаю Ахматову с ее умением «из какого сора» создавать нетленное. Не претендую на это. Высокопарно говоря, эти рассказы – «память сердца», а проще – события моей жизни. Судить о них читателю.
Предполагаемая неполная семейная анкета Дудаковых-Сергеевых
Из самого старшего поколения со стороны матери осталась фотография моей прабабушки с моей матерью на коленях. Маме там четыре-пять месяцев. Как звали прабабку, я не знаю. Ульяна? Судя по тому, что дед Андрей, погибший в 1941 году в декабре месяце, похоронен на Преображенском кладбище и происходил из семьи, жившей в тогдашней деревне Черкизово, его предки были старообрядцы.
В устной традиции, переданной мне теткой Надей (Кыкой), ее деды были мастеровые, один сапожник, другой ямщик, оба выпивали «по-черному», оттого и скончались. Имен их я не запомнил.
По линии матери ее отец, мой дед Сергеев Андрей Сергеевич 1892 года рождения в предвоенные годы работал переплетчиком в прокуратуре. Погиб в 1941 году в декабре. Его жена Сергеева Любовь Федоровна 1895 года рождения работала сортировщицей на фабрике «Красный восток».
По линии отца мой дед Дудаков Пантелей Маркович 1890 года рождения, русский, родился в станице Фащевка, из казаков, работал последние годы кузнецом на шахте № 19 Чистяковского района. Его жена Дудакова Ольга Николаевна 1893 года рождения тоже в Фащевке в казачьей семье, украинка.
В семье отца родилось восьмеро, трое умерло в младенчестве, пятеро выжило, работали в основном шахтерами. В семье матери, кроме бабушек Любы и Мани, было двое – моя мама Алефтина Андреевна и ее младшая сестра Надежда Андреевна.
Более глубокие изыскания своей родословной я не предпринимал.
Я не знаю, с кем бы был в годы Гражданской войны – с красными или белыми. Наше поколение, видимо, последнее, задававшее себе этот вопрос. Для последующих он абсурден. В нас жива атавистическая память «гражданской», может, из-за Отечественной. Дилемма «враг – друг» оставалась для послевоенного поколения еще кровоточащей, а все связанное с несправедливостью режима – болезненным. Как выходец из казаков я мог быть на любой стороне, которая убедила бы в справедливости борьбы за общее дело. Для меня и до сих пор справедливость является главным критерием общественного поступка.
Наш двор
Наш двор состоял из четырех домов и многочисленных сараев. В домах жили люди, в сараях – всякая живность: козы, свиньи, куры, кролики. Каждая семья имела сарай и как склад для дров на зиму, и для хранения ненужного барахла. По обеим сторонам от въезда во двор стояли сложной конфигурации двухэтажные деревянные дома на каменном фундаменте. На вторых этажах этих строений были узорчатые мезонины – террасы с еще просматривающимися резными столбиками, поддерживающими кровлю. Террасы были и внизу, но уже переделанные и испохабленные в предвоенные годы. Видимо, когда-то эти дома были большими дачами, перестроенными под коммуналки на нужды пролетариата. В одном из них жила семья Раевских, «из бывших». Они держались замкнуто, и у них была машина «Победа». Я сомневаюсь, что они принадлежали к дворянству или кастовой интеллигенции, выбитой в первые годы революции из насиженных мест и добитой сталинскими чистками. Вся необычность поведения этой семьи мне запомнилась лишь в слове «маман», которым внук называл бабушку.
В глубине двора стоял одноэтажный, достойного вида домик на три семьи с отдельными входами и прилегающим с одной стороны вишнево-яблоневым садом. Владельцев этого дома в лицо и за глаза звали буржуями, хотя жили они скромно. Наш двухэтажный деревянный барак на каменных столбах с парадной и черной лестницами и коридорной системой был самым убогим. На этажах жили по 12–15 семей с общей кухней, на которой были незатихающие стычки, особенно когда в начале пятидесятых годов в дом провели газ и каждая хозяйка «блюла» свою конфорку по очереди. До этого все пользовались печным отоплением. Печки, как правило, отапливали две соседние комнаты, и топили их по договоренности по очереди.
Наша семья – трое, а затем четверо нас с братом, отцом и матерью, а также две бабушки, Люба и Маня, и сестра матери Надежда – занимала две соседние комнаты по коридору справа от «парадной» входной лестницы на втором этаже. Наша комната была девятиметровая, а бабушкина на три метра больше. До войны дед, две бабушки, моя мать и ее сестра жили в нашей девятиметровой по адресу: Москва, Сокольники, 5-й Лучевой просек, дом 4, квартира 50. В 1941 году в декабре, когда еще не сняли затемнение и только готовилось подмосковное наступление, мой дед Андрей ехал на подножке трамвая. Он развозил почту, по возрасту не был призван на войну. Проходящий мимо грузовик с «ежами» – противотанковыми штуковинами – пробил ему сердце торчащей в стороны проволокой. Дети остались сиротами, на содержании бабушки моей. Моя мать, старшая из детей, пошла работать в сберкассу, не доучившись. В 1944 году она вышла замуж за моего отца, лейтенанта, заместителя командира части по химической защите войск ПВО, 564-го истребительного полка 318-й истребительной авиационной дивизии 1-й Воздушной армии, базировавшейся на аэродроме деревни Суково под Москвой, теперь ставшей частью Москвы. Так мать и отец поселились на 5-м Лучевом просеке, бабушке дали площадь «за выбытием»: кто-то не вернулся с войны.
Общий коридор нашего барака был вечно заставлен какими-то тумбочками, ведрами, завален дровами, под потолком висели корыта и велосипеды, что часто провоцировало ссоры. Туалет – деревянное чудовищное сооружение на шесть человек разом – был за двести метров, почти у запретной зоны с колючей проволокой. Вода бралась из колонки на самом просеке, таскать ее было далеко. Зимой ее возили на санях в больших баках каждый себе, летом приспосабливали и детские коляски.
Наше житие скрашивал маленький садик со столом и навесом, там весной и летом собирались гости, ставили двухведерный самовар, блестевший золотом на солнце. В садике росла малина, смородина, кое-какая зелень, а по забору сорняком прорастал хрен. Фруктовые деревья было посадить негде. Иногда к осени, если не было ранних заморозков, вызревали бурые помидоры, которые закатывали в старые носки и чулки, пока не покраснеют к какому-нибудь празднику.
Праздники справляли дружно – все советские, Масленицу, Пасху. Если погода не позволяла накрыть в саду, то в нашей девятиметровке собирался стол – трофейный, из дубовой фанеровки. Народу собиралось человек двадцать – все свои. На горячее было мясо с картошкой, из закусок помню тертую редьку в масле или уксусе, морковь в томате, сало, квашеную капусту, в которой томились моченые яблоки и клюква, селедку с крупно порезанным репчатым луком, пышные яблочные пироги «плетенкой» и кекс из «чуда», готовившиеся на печке. Пили мало: отец не любил пьянствовать, да и деды не пили, в основном в ход шла наливочка и перцовая настойка, много кваса. Пели песни: «Бродяга» в двух вариантах, «Стенька Разин», «Ехал на ярмарку ухарь-купец», «Хас-Булат удалой», редко современные. Мать танцевала «кабардинку», лихо сотрясая пол и посуду на столе, мы, малышня, забивались под стол, наблюдая, как мелькали ноги танцующих танго «Нинон», «Брызги шампанского», «Утомленное солнце».
Самым большим удовольствием для детворы было гуляние в лесу, сбор в нем грибов и диких ягод, купание в прудах летом и лыжные прогулки зимой. Хотя и весной там было чем заняться, и мы в резиновых ботах, но все равно мокрые, пускали по тонким ручейкам, покрытым бурой пеной, кораблики, вырезанные из коры растущих старых сосен. Ранним летом было весело вырезать свистки из сучков молодых лип, распускавшихся вдоль просеки, ловить майских жуков. Да мало ли чем можно заняться в нашем диковатом месте.
Часто вспоминаю старинные игры: «бояре, а мы к вам пришли», «гори, гори ясно», казаки-разбойники. А была еще круговая лапта, штандер, козел, или отмерной, чижик, жошка, двенадцать палочек, ножички, землемер, колесико, а из азартных – расшибалка, пристенок, позже – чет-нечет. Впрочем, играли только свои, чужаков из других дворов не пускали, вместе играли только в футбол, и если кто-то забредал незваным – мутузили до первой крови. Не любили «пришлых» и наши мужики, кроме заезжавших за «старье берем» татар на телегах. С пришельцами всегда связана была опасность: безобразия, кражи, а то и убийства. Поэтому особенно настырные получали доской «по рогам», часто и без повода. Проявления жестокости были нередки. Мальчишки пуляли камнями в «чокнутого» бондаря, когда он возвращался с работы домой. Сосед, подвыпивши в праздник, гонялся с топором за тещей. Как-то в охотку рубили головы курам и гусям, со смехом наблюдая, как безголовый гусь, из шеи которого фонтаном хлестала кровь, еще некоторое время бегал по двору, натыкаясь на заборный штакетник. С удовольствием осенью резали трофейными немецкими штыками свиней, распинали их тела на дверях сараев и жгли щетину паяльной лампой, ловко наполняя внутренностями стоявшие на земле тазы с кровью и требухой.
Вся наша жилая сторона была отгорожена от леса и посадок колючей проволокой, и долго она стояла еще после войны, охраняемая редкими часовыми. Об эту проволоку не раз ранили свою грудь могучие лоси, прибегавшие во дворы с Лосиного острова. Такой потравленный зверь был очень опасен и свиреп, и загнать его назад в лес бралась только милиция. О проволоку, ржавую и колючую, я поранил голову и лицо, когда отец учил меня кататься на малом двухколесном велосипеде. Чтобы я удержался на нем, он подталкивал меня по дорожке вдоль канавы с одной стороны и колючей проволокой – с другой, пока при очередном толчке я не вылетел из седла и не пролетел под колючей проволокой до ближайшего крепящего ее столба, чудом не выколов глаз, но основательно пропоров кожу на затылке. Весь в кровавых листьях – дело было ранней осенью, – я с ревом возвращался домой, где мать еще больше наказала меня непонятно за что солдатским ремнем. Велосипед был заброшен на черную лестницу навсегда.
Дети нашего двора не без помощи взрослых организовали театр для жителей просека. Я играл, но только в одной пьесе, кажется С. Михалкова, где должен был изображать мальчика, нашкодившего и спрятавшегося под стол, когда приходит переодетая милиционером старшая сестра. Под стол я забился, но выходить из-под него категорически не хотел, смущался и был вытащен кем-то из сердобольных зрителей, окончательно разрушив драматургию пьесы. С тех пор я никогда не играл в самодеятельных спектаклях.
Как-то, когда мне было четыре-пять лет, во дворе летом организовали пионерский лагерь с мачтой, трибуной и линейками. Местная детвора была распределена по отрядам, по четыре-пять человек в каждом, дружно собирались на утреннюю линейку, совместные игры. Но до конца лета все затихло, к тому же нельзя было дошкольникам носить пионерские галстуки: за этим строго следили управдом, местный участковый и «общественники»-стукачи. Участковый был высшим начальством, его все боялись и даже татарку-дворничиху почитали за власть.
Когда я в три года зимой убежал из дома, обиженный какой-то материнской несправедливостью, то привел меня домой милиционер. Наверное, от испуга я назвал ему адрес, когда в Сокольническом парке он остановил меня. Правда, что было делать там пацану трех лет, среди пропахших одеколоном «Шипр» и пивом павильонов. Пацанов было много, они стайками обтекали игравших в шахматы бухгалтеров на пенсии, молодых мамаш с уродливыми колясочками, солдат, заигрывающих с проститутками. Иногда по дороге они обшаривали карманы валявшихся в траве алкашей, вытягивали из них мелочь, оранжевый «Дукат», помятые трешки и рубли. Но один мальчишка, да еще зареванный, злой и одинокий, не мог остаться незамеченным.
Милиционер долго стучал по двери, которая была открыта, и когда на стук собралось несколько женщин, прокричал резким и прокуренным голосом: «Чей мальчик, кто родители?!» Все соседи сбежались посмотреть на пацана, который отмахал три километра по заснеженным просекам, был пойман и с позором возвращен домой. Соседи сочувствовали не мне, а матери – ведь с нее требовали немыслимый штраф в сто рублей. При нашей семейной бедности – отец получал в Министерстве финансов тысячу рублей, бабушка на картонно-резиновой фабрике «Богатырь» шестьсот – этот штраф был разорительным. Кажется, соседи уломали слезами и просьбами милиционера, мать дала ему что-то спиртное и закуски. Взбучку я получил немыслимую, и моя сердобольная тетка-крестная вспоминала позднее, как бабушка Люба бегала вокруг нас с матерью, истошно причитая: «Алька, ты же убьешь его, Алька!»
Тетка и бабушка Люба выходили меня в первый год моего существования. Отец после моего рождения должен быть ехать продолжать службу на Дальнем Востоке. Мать, боясь потерять молодого мужа – старшего лейтенанта, – вскоре поехала вслед за ним, оставив меня трехмесячным на попечении бабушки, рассудившей, что родить нового ребенка Алька еще сумеет, а мужа может потерять в далеких краях навсегда. Так меня и нянчили бабушка с теткой, тетка нередко брала на занятия с собой в институт, где училась на биолога-охотоведа. Неизменная бутылка с соской и молоком лежала у нее в портфеле. Тетке было нелегко, от рождения она была калека со сросшимися на ногах и укороченными на руках пальцами. Ходила она с трудом, переваливаясь, но обладала твердым характером и ясным умом. Когда позже в охотоведческой командировке она упала с огромной сосны от нападения на нее большой птицы во время кольцевания птенцов – говорили, что это был орлан-белохвост, – тетка мужественно пережила и травму позвоночника, спала на досках, делала зарядку, обливалась холодной водой и никогда при мне не жаловалась на жизнь, не считала себя обиженной.
По приезде с Дальнего Востока – а мне было уже больше года – родители застали мелкого, болезненного, но уже упрямого мальчика, который долгое время не хотел их признавать родителями. Младенчество давало себя знать и позднее, до одиннадцати лет я болел всеми детскими болезнями, включая туберкулез легких, желтуху и скарлатину. Мать стойко боролась за мою жизнь, поила козьим молоком, лечила у гомеопатов, часто парила ноги в несносно горячей воде с горчицей из-за многочисленных простуд, закармливала ненавистным мне дешевым рыбьим жиром. Бабушка Маня молилась в церкви за мое здоровье – ведь я был крещеным втайне от начальства отца. Она иногда по праздникам брала меня в церковь то в село Богородское, то в большой собор в Сокольниках. Баба Люба была не очень верующая, хотя в комнате в красном углу стояли иконы и горела лампадка. Она как-то лечила мои болезни заговором, плевала в горящие угли. Мои зубы, первые молочные, когда они стали выпадать, привязывала веревкой к двери и так выдирала. Не любила ездить далеко от дома, даже в гости.
Как-то летом местная детвора, человек девять, возглавляемая двумя старшими по возрасту девочками лет семи, отправилась на экскурсию в сторону Ярославского шоссе, за реку Мазутку. У самого шоссе, напротив фабрики музыкальных инструментов, мы зашли в красивую церковь на пригорке. Когда удивленный священник встретил нас, чумазых, у закрытой церкви и спросил, кто мы и откуда, кто-то соврал, что мы из Ленинграда. Священник не поверил, но впустил нас в полуосвещенную дневным светом предалтарную часть, где я увидел почему-то лежащий у креста череп. Он так меня напугал, что я выбежал стремглав, а за мной и остальные. Позднее я переселился с родителями на проспект Мира в дом, построенный по проекту архитектора Лангмана, с большими бесполезными башнями в три этажа по углам шестнадцатиэтажного дома, коридорами, в которых мы катались на велосипедах, и отсеками на три квартиры у лестницы, где ставился стол для настольного тенниса. Церковь оказалась рядом, и я заходил в нее, напугавшую меня в детстве, но никакого черепа уже не видел.
Страшноватыми воспоминаниями остались и наши сараи с большими пауками-крестовиками, крысами и бездомными кошками. Особенно пугался я, когда при игре в казаки-разбойники по каким-то старым правилам надо было выведать у противника пароль, а чтобы он был посговорчивее, его запирали в какой-то пустующий сарай. Приходил вечер, все темнело, по углам сверкала паутина, шуршали крысы, и я отчаянно орал, пока меня не выпускали, все же допрашивая пароль. Но выдать его я не мог, потому что от страха забывал.
Находясь все время вблизи природы, жили мы по сезону, и зимнее существование резко отличалось от летнего. Особенно трудно было вставать зимой в пять утра и ехать на санях с мамой в магазин в Поперечном просеке, реже – на Ширяевской, отовариваться мукой, сахаром и керосином. Выстоявшим длинную очередь, все это выдавалось нам за скудостью по номеркам, которые писались химическим карандашом на руке. Не важно, ребенок был или взрослый, продукт выдавался «на душу». Эти утренние поездки при едва светящихся на просеке фонарях, многие из которых были побиты хулиганами, вызывали глубокую тоску. Нищету, зависимость и унижение я невзлюбил на всю жизнь и позднее не мог понять, как родители примирялись с этим, как терпели. Конечно, мать моя была мученицей этого быта, но так жили многие.
Брат бабушки дядя Федя жил в сыром подвале, был инвалидом без обеих ног и болел туберкулезом. Его жена, на много лет моложе, не сетовала и благодарила судьбу, что вернулся домой живым, что не схватила милиция, вылавливавшая одно время инвалидов, чтобы не портили вид города. Второй бабушкин брат Павел не вынес этой тяготы и повесился. Но большинство выдерживало: еще жива была память о страшной войне.
Позднее эти люди и составляли то инертное, но страшноватое молчаливое большинство, пугливое, консервативное, но по-своему отзывчивое и доброе.
Мама любила включать радио к моменту начала передач, ровно в шесть утра. Ни на какие призывы к жалости она не реагировала. Редко было включено постоянно, телевизор, кажется, КВН, с круглой глицериновой линзой, появился незадолго до переезда на Ярославку. Благодаря этому чертову садистскому радио я невольно выучивал все пионерские песни, тем более были специальные передачи по их разучиванию. Многие помню до сих пор и иногда развлекаю ими внуков – вот это диковина несусветная!
Для меня понятие «советский человек» выражалось в моих родителях, моих соседях детства на Лучевом. Среди этих ремесленников, мастеровых, служащих, многие из которых не брали книжку в руки, довольствовались газетами, радио с шести утра, патефоном «для души» и только в пятидесятые годы узнали о телевидении, не существовало враждебности к «инородцам». Татары, армяне, евреи, украинцы, русские – все они были сплочены единой жизнью двора, выживали как могли, помогали соседям. Сколько вокруг было калек, юродивых, бездомных, но всех одаривали понемногу жители нашего 5-го Лучевого.
Помню приходившую к нам по праздникам древнюю, как мне тогда казалось, бабу Катю, служившую у кого-то приживалкой. Наша семья одаривала ее гостинцами, и ее и мифического ее внучка Игоречка, о существовании которого мы только слышали. Соседи-армяне угощали меня диковинной яркой хурмой. Бездетная соседка Клава наделяла сладостями. Семья художника Смолина кормила макаронами с пахучим зеленым сыром. Соседские мальчишки давали «самокаты» покататься летом и «драндулеты» – сооружения из гнутого толстого прута – зимой. Не зазорным было и поделиться во дворе сахаром или черным хлебом с солью с присказкой «оставь куснуть».
Поскольку жили в Сокольниках, можно сказать, бедно, то обычным лакомством был поджаренный с яйцами хлеб, посыпанный сахаром. Хорошо помню и сияющие белизной горки рафинада, которые раскалывались щипцами на куски. Чай пили по-старому, вприкуску, из блюдечка, не растворяя сахар, а вылизывая его под кипяток. Значительно позднее, в 1959 году, на выставке достижений Америки в парке Сокольники я попробовал даровую пепси-колу с нефтяным привкусом. Чем-то по вкусу она напомнила мне тогда наш рафинад, который часто хранился рядом с бутылками с керосином в магазине на Поперечном просеке. Этой заморской гадостью мы, мальчишки, упивались всласть, благо даром, до изнеможения и рвоты.
В шесть лет я впервые заработал себе на мороженое, толкая развозную тележку с хлебом по 4-му и 5-му просеку. Продавщица шла рядом, отдыхая, а я был страшно горд первым «гонораром» – брикетом крем-брюле. Первые коньки-«снегурки» мне купили до школы. Они привязывались к валенкам веревками и закручивались палочкой. Первые лыжи были самодельными, из березы, с почти не загнутыми мысами, но катался я на них лихо с трех лет. Когда мне было восемь, то тетка дала мне напрокат «ратафелы» с жестким креплением и ботинками. От радости и гордости я выделывал на них бог знает что, прыгал с трехметровых трамплинов в подмосковной Швейцарии за станцией «Яуза». Потом, в четвертом-шестом классе, я числился одним из лучших лыжников в новой школе.
Еще учась в начальной школе в Сокольниках за уцелевшей и до сих пор пожарной каланчой, мы незаметно привыкали относиться ко всему иностранному с подозрением и враждебностью. Видимо, этой подозрительностью нагружала нас и советская пропаганда. Даже «английская школа», напротив нашей обыкновенной, казалась нам «не нашей», и ученикам ее мы не завидовали, да и знать их не хотели, считая «недотыкомками». Через некоторое время оказалось, что «тыкали» уже они нам, а мы должны им были «выкать».
Зимняя жизнь была самой тяжелой, особенно потому, что я часто болел и в одном из начальных классов проболел три четверти, переходя из больницы в больницу, так что мать буквально выплакала мои оценки в табеле. Летом было вольготно. С первых чисел мая мы начинали купаться в Оленьих, Майских и других прудах. Некоторые из них были дореволюционные, некоторые рыли при нас. В песочных отвалах мы находили окаменелости, называемые «чертовыми пальцами». Был и Чертов мост – старое железное строение, по обе стороны которого до революции были павильоны. Я застал уже только его остов.
В прудах, особенно в «Извилке» близ Чертова моста, водилась мелкая рыба. Набросав ила на дно старой сломанной корзины, мы бродили по колено в воде и жиже, извлекая за улов десять-пятнадцать мелких рыбешек. В воде они казались яркими, вытащенные же из нее, они тускнели, скукоживались и годились лишь на корм кошкам. Вблизи прудов у Яузы находилась всесоюзно известная станция юннатов. Туда мы иногда организовывали набеги за огурцами и помидорами, чтобы утолить голод во время долгого купания.
На этих прудах я выучился лет в пять плавать. До этого опыты плавания были в грязной воде запруд, которые мы сооружали в начале нашего двора во время дождя. Иногда мы забредали в водоем Морозовского особняка на 4-м Лучевом. Вода там была чистая, с головастиками и лягушками, мне по пояс. Над прудом царил огромный грот из кирпича и камня. В самом поместье был детский дом для трудных детей, кажется, описанный в рассказе «Елка в Сокольниках», куда приезжал вождь мировой революции. Дом для трудных, дефективных детей был и на пересечении Поперечного просека и 5-го Лучевого. Когда я учился во втором классе, то по дороге из школы – а летом я шел от пожарной каланчи в Сокольниках до дома пешком три километра – встретил за забором у этого дома знакомого, который вместе со мной в первом классе сидел на задней парте и славился тем, что ел мух из чернильницы. Вскоре у меня стало падать зрение, меня пересадили ближе к доске, чему я был несказанно рад.
Вообще в округе было много домов отдыха, туберкулезных санаториев, детских приютов и каких-то странных, исчезнувших в шестидесятые годы закрытых заведений. Больницами были переполнены Стромынка и Сокольники.
В послевоенные годы Сокольнический парк был одним из мест всенародных гуляний. Свое значение он несколько утратил с появлением ВСХВ, потом ВДНХ в Останкино. За Майскими прудами была большая танцплощадка с игравшим по выходным дням духовым оркестром. Недалеко от нее стоял павильончик курортного типа, где подавались кефир и посыпанные сахарной пудрой сдобные булочки. Мне иногда перепадали по щедрости бабушки эти вкусности из, как мне казалось, другой, малодоступной жизни. Справа, за главным пятачком парка с неизменной раковиной эстрады, находились аттракционы. Среди них наиболее рисковыми были «Бочка» и «Петля Иммельмана» с игрушечными самолетами и, конечно, колесо обозрения, называвшееся чертовым. В уменьшенном виде оно было и на детской площадке.
В послевоенные и пятидесятые годы Сокольнический парк был полон цветов, лесных и садовых. Подснежники, пролески, незабудки, ландыши, лютики, васильки, резеда, мать-и-мачеха, люпин сменяли друг друга с весны до осени. Тяжелым становился воздух, когда цвели желтые и оранжевые в крапинку лилии, черемуха и сирень. Высаживались к майским праздникам тюльпаны, нарциссы, анютины глазки, позднее розы. И все это благоухало и цвело. Мне походы в Сокольнический парк всегда были радостны, тем более если впереди маячила сладкая булочка или эскимо без шоколада за сорок пять дореформенных копеек.
Из оставшихся на всю жизнь ярких впечатлений детства помнится и иногда приходит в ночных снах авария у метро «Сокольники», когда из-за перебежавшего дорогу школьника, кстати, не пострадавшего, столкнулись пять машин, среди них бензовоз. Он взорвался на моих глазах, пламя мгновенно перекинулось на двухэтажный деревянный дом и спалило его вместе с жильцами и находящимися рядом машинами. Шум стоял страшный, но все было мгновенно оцеплено милицией и военными, зевак быстро разогнали.
Пожар был позднее и на соседнем с нами дворе, выгорело вчистую два барака. Начался он ночью, скорее всего от поджога, и многие пострадали. Запах гари долго преследовал меня, пока мы не уехали на новое место жительства.
Из нелепостей, связанных с катастрофами, остался в памяти случай, когда бабушка долгое время не возвращалась с Богородского кладбища. Все были в волнении – сердце у нее было слабое, – наконец бабушка пришла очень уставшая. Оказывается, когда она хотела сесть на трамвай, он ушел у нее из-под носа. На горке около фабрики у трамвая отказали тормоза, и он, набирая скорость, понесся до поворота Яузы, к мосту, где сошел с рельсов, протаранил единственный хлипкий домик на берегу, в нем погибла спящая старушка. Движение было остановлено, двухвагонный трамвай долго вытаскивали, а бабушка благодарила судьбу.
Не драматическим, но оставшимся на всю жизнь впечатлением был поход нашего класса в ближайшую музыкальную школу. Звуки окружили нас с первого и антресолей второго этажа, голос неземной красоты пел арию из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова. Совершенно завороженный, я отстал от группы, куда-то забился и плакал от переполнивших чувств.
В марте 1953 года вся страна скорбела о смерти Сталина. Бабушка лежала на кровати, плакала и причитала, ревели гудки, гул плыл над Сокольниками. Одна моя мудрая тетка сказала ближним, как отрезала: «Хуже не будет». Видимо, со студенческой скамьи она знала что-то неизвестное нам. В 1954 году мы переехали на проспект Мира. Начиналась новая, более удобная жизнь в отдельной квартире, с ванной и собственной кухней, приличными заработками отца, без ночных дежурств у магазинов, но я долго вспоминал свой двор и иногда приходил в него мимо Чертова мостика, прудов, к нашему 5-му Лучевому, его липам и березам, цветущим лугам, полному пения птиц Лосиноостровскому лесу.
Через пятое без десятого (Жизнь на Ярославке)
Яне задаюсь вопросом, зачем это пишу, не пытаюсь с кем-то соревноваться в «литературности», кому-то подражать в точности описаний. Просто это часть моей жизни, кому-то, может быть, интересная. Она уложилась в тот отрезок бытия страны, который кого-то привлекает, а многих отвращает. Правда, в последнее время его все чаще идеализируют, ибо многое забывается, исчезают его свидетели. Мне кажется, и восторгаются им, и ненавидят зря, он и так достоин внимания.
В рассказе «Наш двор» я описал свои первые годы. Вспоминая житье в Сокольниках – а помню его начиная с трехлетнего возраста, – мне кажется, что жил я тогда в другой стране, в другом «надцатом» веке, с другими людьми. Многое в этой жизни было диковатое, опрощенное, как иногда в просторечье звучало у москвичей, «деревенское». И барак на Пятом Лучевом, и лес с грибами и зайчиками, и лоси, забегавшие за колючую проволоку, – все это не московское, не столичное. Не входила тогда в черту города и деревня Суково – теперь Солнцево, кажется. Там жила тетя Саня с семейством многочисленных родственников, в избе с сенями, с пристроенным коровником, там же было и отхожее место. Парное молоко, домашние куличи и наливки, графины с петушком внутри (выдувавшимся из дна этого сосуда да и раскрашенным в цвета радуги), унавоженным огородом, пасхальным звоном, пьяными мужиками (размахивающими в праздники топором), непролазной грязью весной и осенью, золотой рожью и васильками летом.
Молодые мать и отец, она в кружевной шляпке и платье «горохом», он в форме и с погонами – служил в Министерстве финансов, к погонам привык с войны – был в Суково офицером части на аэродроме. Яркая восемнадцатилетняя кустодиевская девица Вера – моя первая «симпатия», мне – то ли пять, то ли шесть лет, но она мне до слез нравится. С тех пор меня никогда не привлекали тонконогие худосочные девицы, прозрачно-бесцветные, как пластиковые трубочки для коктейля. Да и песни были о девицах и молодцах все XVIII–XIX веков. А что потом?
Ярославское шоссе, ставшее проспектом Мира, дом 120, квартира 15 – после Сокольников, с 1954 года и до 1976-го, это стало местом моего проживания. Дом был выстроен по проекту архитектора Лангмана в тяжелом сталинском духе «излишеств». Архитектор в раннедовоенное время был известен несколькими конструктивистскими проектами, но позднее перевоспитался настолько, что наш дом был благословлен авторитетом и самого «генералиссимуса». Не ручаюсь за правду, но его подпись, говорят, стоит под проектом. Эта шестнадцатиэтажная громадина с возрожденческими крепостными башнями по углам до сих пор мрачно довлеет над округой. Облицованный плиткой, с четырьмя нижними этажами в песочного цвета «русте», он теперь похож на какое-то экзотическое мамонтоподобное, но пестрое, как пятнистый зверь, животное – плитка постоянно отлетала, заменялась на вставки другого цвета, руст темнел от кислотных дождей и периодически неряшливо чистился. Дом отодвинут в глубину от магистрали, перед ним сквер, в котором и машину не поставишь – так плотно он засажен кустами и деревьями, что делает его среди почти сплошной линейной застройки еще более одичалым. В шестнадцатиметровых верхних башнях с полукруглыми арками когда-то селились цыгане, там была своя криминальная жизнь – карты, пьянки, поножовщина, – милиция туда не совалась, но сейчас все это вымерло, безлюдно, частично остеклено.
Переехав в этот дом в отдельную однокомнатную квартиру – комната двадцать восемь квадратных метров и двенадцатиметровая кухня, – мать была счастлива и не обращала внимания на такой пустяк, как совмещенный санузел, крохотная прихожая. Зато потолок был три метра двадцать сантиметров, в общем коридоре можно было кататься на велосипеде, а в нашем отделенном на три квартиры – играть в настольный теннис. В кухне даже был мусоропровод и, как оказалось, стал предметом недовольства всех проживающих с ним в доме: запах, тараканы, звоны сбрасываемых разбитых бутылок и постоянные засоры. Мать, конечно, не интересовали ни велосипед, ни теннис, но она наконец навсегда избавилась от таскания на коромысле воды из колонки, бегания наперегонки к сортиру за четыреста метров и купания семейства в корыте. То-то блага советской цивилизации. А рядом еще и Ярославский рынок, в доме продуктовый магазин, промтоварный, в соседнем доме обувной, где иногда «выбрасывали» даже итальянскую обувь, и, извините, ювелирный в нашем доме – впрочем, он ни разу нашей семье не понадобился.
Как все пацаны, я учился в соседней школе, почти такой же, как в Сокольниках, правда, в 1956 году оттуда бережно убрали гипсовый неподъемный бюст Сталина и с круглых барельефов над четвертым этажом исчезли какие-то профили – может быть, просто осыпались от ветхости. В этой школе я дотянул до девятого, откуда ушел поступать в техникум. В те годы учились кто как мог, полно было второгодников, мелких шкодников из неблагополучных семейств, мешающих на уроке учителям, прогульщиков, но пионерские сборы, спорт и нечастые туристические походы сплачивали и трудолюбивых, и бездельников.
До шестого класса я был активным пионером, одно время барабанщиком пионерской дружины, выступал инициатором каких-то затей по уборке класса, территории вокруг школы, оформлял стенгазету (впрочем, и до окончания школы), участвовал в шефстве над младшими классами, на собраниях осуждал девчонок, красивших губы, брови, ресницы – да мало ли, что они могли там накрасить, главное – осудить, или, как тогда говорили «пропесочить», «пригвоздить к позорному столбу» (хуже). В этом иезуитстве я был, к несчастью, не одинок, всякие «проработки» и по другим причинам были еженедельно и от классных руководителей, и от пионервожатых, от дирекции школы и активной общественности – контроль был постоянный, но учащиеся ухитрялись выскальзывать из-под него в сомнительные предприятия постоянно.
Так, я помню, что в пятом классе на осенней прогулке где-то в районе Останкинского парка – для «похода» это было близковато – мы с моим сверстником предварительно купили четвертинку еловой настойки «для папы», втихаря выдули ее, пока разжигался костер, и учительница по литературе, за нами надзирающая, никак не могла понять, что с мальчиками, почему они часто спотыкаются, не смотрят в глаза и отдаляются от группы. Бывали и случаи воровства в классе «по мелочи» – то завтрак у девчонки вытащат, то в гардеробе карманные деньги стащат. Свои карманные деньги у меня появлялись не часто, когда удавалось сдать на воровскую приемную базу валявшийся в изобилии вокруг нашего дома металлолом: куски труб, остатки металлических ферм, строительных лесов, уголков из металла, каких-то болванок неизвестного предназначения. Дело было тяжелое, приемщики нещадно обманывали, помогал мне и младший на семь лет брат. Изредка пополнялся доход и игрой в расшибалку, пристенок, а позднее и чет-нечет – игры азартные и запрещенные, но копеечные.
Из трагикомических событий помню, как ученик по фамилии Хмельницкий – довольно крупный парень в первые годы обучения, но как-то захиревший к восьмому классу – долго тянул руку, учительница не обращала на него внимания, наконец вызвала его к доске для ответа, но он-то хотел в туалет. Около доски и приключилась с ним неприятность «по-большому», он краснел, подтирал пол тряпкой для мела. Близорукая учительница ничего не замечала, мы и видели и чувствовали запах – короче, конфуз был необычайный и так до конца восьмого класса ему не забывался. Конечно, было и достаточно доброе отношение друг к другу, более обеспеченные, те, кто мог перекусить в школьной столовой на переменах, оставляли недоеденные пирожки с повидлом более нуждающимся ученикам, угощали яблоками из редких тогда дачных садов, а то и газировкой за тридцать копеек (после реформы 1961 года – три копейки) с сиропом – правда, остатком от недопитого.
В Сокольниках, где я жил прежде, никогда не обсуждалась национальность каждого жителя – ну, были татары «старье берем», слово «жид» обозначало жадного подростка любой национальности. На Ярославке мы уже знали, что вот этот еврей учится в «музыкалке», обедает в столовой, форма у него шерстяная, а в портфеле всегда бутерброды. Или грузинский подросток – всегда есть карманные деньги, вроде по субботам и воскресеньям подрабатывает на ВДНХ в кафе – однажды даже накормил нас троих сосисками с тушеной капустой в этом кафе, правда, втихаря. Вспоминаю также, что в соседнем со школой доме жили семьи каких-то специалистов из арабских стран – уж чему они учили советских, неведомо, их дети, наши ровесники, учились где-то рядом в «ненашей» школе. Ребята были шумные, драчливые до крови, часто нам наподдавали, мы их не любили и старались встретить поодиночке всей группой, чтобы отомстить. Эти арабчата оставались врагами вплоть до их отъезда – родителей в конце пятидесятых годов стали отзывать из СССР.
Занятия физкультурой, обязательные в четвертом-пятом классе, перешли в увлечение спортом в более старших. Волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, позднее настольный теннис, но не плавание, увлекали поголовно – сдавали нормы БГТО и ГТО с легкостью. У меня был благодаря также занятиям в пионерском лагере третий разряд по шахматам, волейболу, прыжкам в высоту, лыжам и второй по самбо – этим я позднее занимался почти профессионально. Играли за сборную класса, школы, района, на первенствах Москвы. Та же увлеченность спортом была и в пионерских лагерях, где можно было научиться даже водить мотоцикл. Как чемпион пяти лагерей по настольному теннису и игрок футбольной сборной пионерлагеря «Елочки» я иногда пользовался поощрением не ложиться спать в дневное время – тренировки, мол – и позднее, после отбоя ходить на танцы старших отрядов – подыгрывал аккордеонисту «из пионеров» на гитаре. Позднее, став старше, я был уже освобожденным помощником вожатого.
Пионерский лагерь – непременная часть жизни послевоенного поколения. Часто клянут его (лагеря) идеологические основы. Я проводил в нем каждое лето, начиная с шести с половиной лет и до пятнадцати, переходя из младших в старшие отряды, вплоть до помощника вожатого. И это был вовсе не какой-то «карьерный рост», а становление характера, развитие интересов, разнообразие общения. Вся «идейная» часть оставалась «обязаловкой» ритуала: утренние линейки, сборы, знамя, подъем флага, барабанное марширование, командиры отряда, вожатые, звеньевые, дружина – все это проскальзывало между делом. А главным оставалось: спорт, кружки, спектакли, походы, танцы, костры, мальчишки-девчонки, первые чувства.
По многим видам спорта я получил там не только навыки, но и спортивные разряды, занимал призовые места, стал лучшим игроком в настольный теннис пяти лагерей. Причем я научился одинаково играть и левой и правой рукой. Владеть левой я приучал себя с четвертого класса, так, для баловства. Но именно в спорте это пригодилось. В зимнем пионерлагере мы осваивали и зимние виды спорта: лыжи, коньки, навыки слалома. Мне это было несложно – сказывался «сокольнический» опыт.
Там же, в летнем пионерлагере, я научился водить мотоцикл. В старших отрядах любимым развлечением стала игра в четыре руки буги-вуги, где я «сидел» на басах фортепиано, и небольшая компания, запершись в «красном уголке», вопила немыслимые импровизации до хрипоты.
Из более эстетических впечатлений вспоминаю некий рассказ на утреннике, сопровождаемый бетховенской «Лунной сонатой». О чем рассказ, забыл, но музыка пробирала до дрожи. Подобное случилось только позднее, когда дома слушал Пятую симфонию Чайковского. Плакал.
Из других нелепостей помню вечную соревновательную игру «кто больше может». Было это, как правило, летом. Если дежурил по кухне и доставке блюд к столам твой отряд, то втихаря блюда второго ставились не только на стол, но и на колени сидящих за ним и даже на пол. Кто больше съест. Так же разливался компот или кофе. Объевшись и упившись, мы еле выползали из столовой. Помню, как, выпив на двоих 22 чашки кофе, мы легли с товарищем на траву, и этот чертов кофе лился из носа (и ушей)!
В старших отрядах нам дозволялось ложиться на отбой на час-полтора позднее, чем младшим. Я уже научился весьма посредственно аккомпанировать нашему аккордеонисту, тоже из «пионеров», на гитаре. Позднее я играл гораздо более бойко, зная 15–20 аккордов. Но тогда хватало и малого. Под танцы подавался омлет и горбушки черного хлеба. Омлет был нарезан кусками в котле. Мы уже были переростками и к десяти вечера проголодавшимися.
Тогда же, а может, и ранее начались первые поцелуйчики, ухаживания, записочки. Трогательную и нелепую «науку любви» я постигал именно в лагере. Насколько она была целомудреннее теперешних отношений четырнадцати-пятнадцатилетних подростков. Впрочем, как говорят, это уже совсем другая история.
Собственно, летнее времяпрепровождение в детстве делилось на две части: пионерлагерь – обычно одна, реже две смены по 24 дня каждая – и поселок Красный Луч вблизи города Сталино (позднее Торез) у бабушки моей с отцовской стороны. Шахтеры, которыми были потом все члены семьи, не только хорошо зарабатывали и почти ни в чем не нуждались, но и имели порядочные приусадебные участки, богатые сады, плюс виноградник, плюс бахча, участок две-три сотки под кукурузу и делянка для выращивания капусты. Впрочем, это появилось к началу шестидесятых годов. Была еще и живность: гуси, куры, помню даже и корову, свинью, от которых, кажется, во времена правления Хрущева пришлось избавиться – «не положено».
Вишневый приусадебный сад насчитывал свыше сорока вишен, сладчайших, особенно в верхушках крон, чуть подвяленные солнцем ягоды казались слаще меда. А еще сливы с кулак, абрикосы, мелкие, но сахарные груши, наливные яблоки над обеденным столом падали с огромадной вышины прямо в тарелки – благо мелкие, не калечили. Да что там говорить, виноград, терновник, не упоминая помидоров, огурцов, кабачков и разной зеленой мелочи. Все это изобилие подавалось не на тарелочках, а на подносах, жарилось-парилось-мариновалось-сушилось на крышах сараев и погребов. Вишнево-яблочные компоты подавались в эмалированном баке, охлажденные до дрожи в зубах. Помню и блины из желтой яичной муки, тончайшего на просвет узора, по сорок сантиметров диаметром. А борщ с петухом, пампушки с чесноком, малосольные огурцы с медом. Ну, и конечно, реки вина и «четверти» с водкой.
Была, правда, и не праздничная сторона этой жизни. Выматывающая работа, вечная задымленность сернистого воздуха, дымящиеся терриконы угольных шахт и нередкие похороны погибших в забоях горняков. Эти процессии из немалого количества гробов до сих пор мне снятся иногда по ночам. Моя тетка Мария, младшая из сестер отца, чуть не погибла, когда ее волосы затянуло в лебедку, которая тащила «на горы» террикона непригодную для угля породу. Кто-то рядом успел мгновенно обрезать втянутые в механизм волосы, тетка была спасена.
Для нас, пацанов, привлекательной была и балка, по дну которой бежал несвежий ручей, рядом с ним и были капустные делянки. Крутые склоны балки были усеяны гильзами патронов и иногда неразорвавшимися со времен войны снарядами. Мы любили их взрывать в горячем огне где-нибудь на опушке леса, в который и входить-то было неприятно – замусоренный, покрытый несъедобными поганками и перегнившим валежником, он источал неприятный сладковатый запах. Далеко находящийся от поселка пруд, или «ставок», был также негостеприимен, переполнен плескавшимися в мутной воде отдыхающими.
Крупные общественные события, происходящие в это время в стране и за рубежом, нас, детвору пятидесятых, мало касались. Во дворах это не обсуждалось – слишком близко «лежало» сталинское время, дома отец и слова лишнего не мог сказать – раскулаченный дед-казак, послевоенные репрессии в Министерстве финансов, перипетии смены властителей в первой половине пятидесятых годов не располагали к дискуссиям. Отец, по натуре жизнерадостный оптимист, всегда придерживался «линии партии» и никогда не позволял даже обсуждать ее правильность с немногочисленными друзьями.
Совсем не помню Фестиваль молодежи и студентов 1957 года – был все смены в пионерском лагере, но отчетливы воспоминания о «венгерских событиях» 1956 года. И по радио, и в газетах звучало осуждение зверств венгерской контрреволюции по отношению к коммунистам, расправы над их семьями, мучения негашеной известью и другие чудовищные преступления. Для меня это было первой информацией о массовых кровавых бунтах, о «польских делах» были лишь отголоски.
XX съезд коммунистической партии с докладом Хрущева о культе личности нас, мальчишек, тогда не затронул. Некоторое понимание того, что творилось в СССР в сталинские времена и при Хрущеве, пришло только где-то в 1960–1961 годах. Я учился уже в полиграфическом техникуме и был исключен из него за то, что нашему преподавателю истории по фамилии Полторак возразил в резкой форме о невозможности построения коммунизма к 1980 году, как это обещал Хрущев, правда, благодаря связям отца вскоре был восстановлен. В это время я уже спорил с отцом, упрекая его и его поколение в возникновении нового культа личности Хрущева.
Наверное, эта подозрительность к топорно пропагандируемой идеологии родилась у меня из отрицания быта моих родителей, униженных нищетой послевоенных лет, бытовой неустроенностью, сетованиями бабушек и матери на нужду, беспросветность сокольнической жизни, злобу коммунального барачного сосуществования. Отец строил карьеру в Министерстве финансов, трудно, настойчиво, я не сомневаюсь, что он любил свою работу, служба была в его характере. Гораздо позднее я узнал, что его родители были из казачьих семей, вынуждены бежать от преследований, дед менял работу, чтобы не попасть под подозрение о вредительстве.
Я протестовал против образа жизни моих родителей еще подростком, повзрослев, юношей, стал отрицать и ту среду, которая их формировала. Первоначально это выразилось в неприязни к унижению и бедности. Жить как родители я не хотел, идеалы не разделял, способ существования отвергал. Видимо, тогда, на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов, и сложилось мое убеждение идти «боковой дорожкой», нетипичной и нестандартной, не карьерной и не социализированной.
Последний год учебы в школе запомнился менее всего. Мои товарищи стали мне не интересны – я любил читать, рисовать, слушать музыку Чайковского и Берлиоза, а мои товарищи гоняли мяч во дворе и думали, как раздобыть денег на свои увлечения. Даже игры в путешествия, морские походы, где мы должны были прокладывать маршруты для наших судов вокруг земного шара, надевали погоны со звездочками из военторга, присваивали звания и учили названия старинных судов, перестали их интересовать. Один хотел стать бухгалтером, другой – пойти в летное училище, третий занимался радиотехникой, что-то все время паял и собирал. Кстати, с пятого класса он дружил с девчушкой, румяной и полноватой, и, несмотря на все запреты и препоны, в десятом классе они поженились – это я узнал позднее.
С восьмого класса начался отток из школы тех, кто хотел начать трудовую жизнь, устроиться на работу и «доучиваться» в ШРМ – школе рабочей молодежи, большинство же осталось в школе, ставшей одиннадцатилеткой (вместо десяти), с тем чтобы поступать далее в институты, в первую очередь с точными науками. Приходила пора деления на «физиков» и «лириков». Последние, как рифмовалось, были «в загоне».
Как отрадное вспоминается поездка классом в Новоиерусалимский монастырь на Истре. Его стены не были еще во многих местах восстановлены, основной храм в разрухе, изразцы валялись битыми фрагментами в нескошенной сухой траве. Краеведческий музей нам открыл смотритель безо всякого надзора, можно брать в руки из витрин что пожелаешь. Некоторые «ловкачи» пытались утащить музейные экспонаты, но испуганно возвращали их на место. Один из моих товарищей залез на перекрестье связей, когда-то поддерживающих барабан угловой башни, рухнул в проем, сильно повредив ноги. С ним постоянно происходили какие-то жутковатые приключения. Позднее я узнал, что он разбился, выпав с тринадцатого этажа. Но тогда, расположившись на речке, мы варили похлебку в котелке, жарили на костре хлеб, вытаскивая из трехлитровой банки неимоверно «уксусные» зеленые помидоры, закусывая ржаным хлебушком местной выпечки ударявшее в нос ситро местного разлива. Была весна, прохладно, но солнце сияло над полуразрушенным монастырем, обещая его возрождение.
К окончанию восьмого класса я был довольно крепким и строптивым подростком. Позади остались болезни детства: туберкулез, желтуха, постоянные воспаления среднего уха. Благоприятные условия жизни на Ярославке, спорт и невыносимое желание быть «не как все» формировали характер. Уроки труда – слесарное, токарное и плотницкое дело – осваивались «без труда», но совершенно не интересовали, равнодушие было к техническим дисциплинам, точным наукам, складывался типичный гуманитарий.
Читал я очень много, и к пятому классу зрение уже было испорчено близорукостью, только усиливающейся. Первый робкий стих, написанный в третьем классе и понравившийся Агнии Львовне Барто – она была у нас на утреннике еще в старой школе, где я, запинаясь, прочитал его, – не имел прямого продолжения, вплоть до юности, но иногда я вставлял в школьные сочинения о Пушкине, Лермонтове, Некрасове якобы им принадлежащие строфы – так, мне казалось, можно красиво завершить задание. Учителя не всегда верили, но смотрели снисходительно. Кроме стенгазеты, художественные навыки свои я проявлял и в рисовании на доске портретов знаменитых физиков, химиков, математиков, но никогда поэтов или писателей. Видимо, к последним я был более почтителен. Учителя поощряли мои способности. Особенно полюбились мне зарисовки в тетрадку исторических раритетов: скифских гребней, русского оружия, фрагментов битв и сражений. Делал я это неумело, но с любовью.
Кстати о любви – с девочками отношения у меня не складывались, нравственность в пятидесятые годы не подвергалась сомнению, я был робок, и дальше поцелуйчиков и танцев в пионерлагере дело не шло, хотя уже понемногу на общих встречах стало появляться вино. На выпускном вечере восьмого класса я грустил, жевал шоколадно-вафельный кусок торта, запивая ситро, и в веселье не участвовал. Меня утешала разговорами развеселая девица, которую я в пятом классе осудил за крашеные губы. Было тревожно, впереди ждала другая неизвестная мне жизнь, в которую я уже настойчиво рвался.
Когда я пишу о времени отрочества, то и сейчас стремлюсь убыстрить его описание. Для многих оно вспоминается с благодарностью. «Советская коммунальность», скудное, но налаженное сосуществование, общие интересы, значимость, пусть и формальная, ритуалов, любовь родителей и дружба, пионерские песни, линейки, походы, многое другое – это было в основе жизни нашего военного и послевоенного поколения. Обращаясь вспять, я вспоминаю два эпизода, тогда мне показавшихся важными.
До того как я получил профессию, а отец «выбился» в служащие Министерства финансов СССР среднего состава, жили мы скромно, мать считала каждую копейку, потому и летом, а затем нечасто и зимой меня отдавали в пионерский лагерь. Зимний лагерь был демократичнее – не было ежедневных сборов и линеек, пионерских галстуков, уборки территории и слетов – всего-то десять дней. Одним из главных развлечений этой смены был концерт силами ребят. В 12 лет у меня ломался голос, и как последний аккорд дисканта, совершенно неожиданно для себя, я решил спеть «Самое синее в мире Черное море мое». На море я еще никогда не был, но какой-то романтизм, синие снежные вечера, теплота отношений с товарищами и, вероятно, просыпающаяся юношеская чувственность заставили меня пойти на отчаянный этот поступок, наверняка с целью обратить на себя внимание девочек. Дело в том, что по бедности в эту зиму, когда я бурно рос, у меня не оказалось даже обуви для дома, а на вечерние танцы я являлся в папиных сандалиях сорок второго размера в бесконечных прорезах. Было несколько стыдно, но другой танцевальной обуви не было. О приличном костюме и говорить нечего. Девчонки надо мной подхихикивали, тем более что танцевал я неумело – вальс, танго и совсем уже с трудом фокстрот. Другое не одобрялось. Выступил на концерте успешно, последние месяцы моего дисканта заканчивались, публика удивлялась, но повторить этот номер впоследствии я уже не мог – голос сломался. Позднее я понял, что иногда, желая чего-то отчаянно, можно сделать даже то, чего от себя и не ожидаешь, – неоднократно в этом убеждался. Так было в спортивных успехах, в постижении искусства, учебе, публикациях и позднее – в стихосложении.
Второй поступок касался бытовой части моей жизни. Занимаясь самбо, я окончательно избавился от болезней детства, поздоровел и стал увереннее себя чувствовать со сверстниками. Отец, изредка поднимавший на меня руку более для острастки, столкнулся с жестким моим сопротивлением. В последний раз, перехватив и сжав поднятую на меня руку, я ему, твердо глядя в глаза, сказал: «Тронешь – искалечу». На этом наши нечастые стычки закончились навсегда, и он как бы признал мою самостоятельность.
Конфликтов с отцом в целом было гораздо меньше, чем с матерью, которая не могла смириться с моей независимостью. Стычки наши происходили вплоть до моего восемнадцатилетия. Нервная, склонная к истерикам, она в моем отрочестве и юности часто в просторечных оборотах старалась поставить меня на место, и если нельзя было обывательски наказать – поставить на картошку или горох, выпороть всем, что под руку попадется, от веника до офицерского ремня, дать затрещину, – то и нередко многочисленными бытовыми поговорками, характерными для черкизовских обывателей, унижала до слез. Все эти «яйца курицу не учат», «я сама сова, а ты совенок», «хоть в жопу меда налей» – меня часто раздражали. На язык она была остра до старости и смирилась только с внуками.
«Мы все учились понемногу…»
Кончилось школьное обучение, необходимо думать о будущем, выбирать, а оно не казалось простым. Ясно было одно: по совету отца и собственному волеизъявлению путь в одиннадцатилетку был мне заказан, выбор из техникумов ограничен. Три варианта, схожие, но разные, представлялись для дальнейшего обучения: Училище 1905 года, готовившее художников разного профиля со средним образованием, Театральный техникум, выпускавший декораторов, художников по костюмам, работников сцены и т. д., и Московский полиграфический имени Ивана Федорова с художественным уклоном, но готовивший кроме сугубо технических специалистов также полиграфистов и технических редакторов – первых, кто соприкасался с книжным оформлением на многих этапах выпуска полиграфической продукции. Последнее я выбрал не только из-за любви к книге как «источнику знаний» или предмету оформительского искусства. В Полиграфическом техникуме были упрощенные требования на экзамене по рисунку. Сдача остальных предметов меня не волновала: историю, литературу – и устную и письменную – я освоил в школе лучше многого. Пришлось, находясь в пионерлагере последний раз, рисовать кубы, конусы и цилиндры.
Прежде чем сдавать экзамены для поступления, моя родная тетка, выходившая меня в раннем младенчестве, взялась организовать поход на байдарках, в каждой по двое – по реке Угре. Дивные, порой совершенно безлюдные места, ужение рыбы (в тонкостях я его так и не освоил), готовка пиши на костре, купание в этой мелкой, но быстрой реке ежедневно по нескольку раз, мягкий деревенский хлебушек и парное молоко на редких стоянках, тучи комаров и просторы полей, леса с неисчислимым запахом трав, цветов, растений – вот она, Россия, не с «пятачок» Сокольнического парка. Проплывали мы и место стояния на Угре, где в 1480 году бесславно закончилось татаро-монгольское иго. Никаких исторических «отпечатков» там не осталось, быстрый поток широкой, но мелкой речки давно унес в прошлое все их следы.
В техникум я поступил в 1960 году, это было не сложно, хотя получил по недоразумению отрицательную оценку за ошибки в диктанте. Мой настойчивый отец, не веря в такой исход, заставил членов комиссии перепроверить, ошибки не мои, а уже проверявшего. Они были обнаружены, и, несмотря на недостающий проходной балл, я был зачислен – еще бы, единственный мальчик в девчачьей группе. Правда, были в ней еще двое из автономных республик, зачисленных без экзаменов «по квоте». Через полгода их все-таки отчислили за полную неуспеваемость.
Надо сказать, что наша группа была первой дневной «техредов» с уклоном в художественное редактирование. Позднее это не повторялось. Основная преподавательница, которой я буду благодарен до конца своих дней, Татьяна Валериановна Печковская, опытный худред, выпустила сотни, если не тысячи специалистов – технических редакторов. Работали они по всему Советскому Союзу, боготворили Татьяну Валериановну и переписывались с нею. Все три года обучения она как-то по-особенному относилась ко мне, прощала строптивые выходки, наставляла в ремесле, знакомила с литературой и поэзией Серебряного века. Тогда я запомнил несколько стихотворений из двухтомника «Чтец-декламатор» дореволюционного издания – Бальмонта, Минского, Полонского, Брюсова. Еще одна книга, которую она мне даже подарила, была «Выразительный человек» Волконского, бывшего недолгий срок директором Императорских театров. Так началось мое первое знакомство с блистательными постановками, пластикой балета, позднее вылившееся в увлечение С. П. Дягилевым и работой его труппы.
Печковская однажды взяла меня в поездку в Ригу, там мы остановились у бывшей ее ученицы. Завороженный, я бродил по улочкам средневековой и барочной архитектуры, пил кофе со сладостями в уютных кафе, удивлялся чистоте и порядку, вежливости жителей, которые в то время объясняли любезно, как пройти, проехать, найти. Но в целом мне все это показалось не совсем подлинным, сказочно-сочиненным и чужим, искусственным миром. И в дальнейшем, бывая в Прибалтике – жена родилась и восемь лет прожила в Таллине, – я чувствовал себя неуютно. Еще позднее, когда мне были знакомы многие страны Европы, в которых я бывал по многу раз, Прибалтика мне стала казаться и вовсе суррогатом, чем-то безнадежно провинциальным по отношению к Западу. Да простят мне жители Риги, Таллина, Вильнюса. Также меня не привлекало Закавказье, Западная Украина, в которых я бывал, но без удовольствия и позднее.
В техникуме, помимо общеобразовательных и специальных предметов, нам преподавали историю искусства. Лидия Александровна Голубева, приятельница Печковской, окончила вечернее искусствоведческое отделение МГУ уже после сорока лет. Это было третье ее высшее образование. Глуховатая, с глубоким грудным голосом, она посвящала нас в тайны античных миров, средневековых мистерий и возрожденческих новелл, воплощенных в произведения искусства. Видя мой неподдельный интерес к своему предмету, она рекомендовала пойти в Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, где к этому времени был организован Клуб юных искусствоведов. Так я нашел свою мечту, ставшую впоследствии и второй специальностью.
