Читать онлайн История моей одиссеи бесплатно
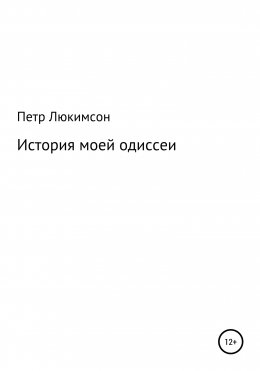
Однажды в «Фэйсбуке» я обмолвился о том, что во время странствий по России со мной произошли две истории, ставшие для меня своего рода символами русского народа и определившие мое отношение к нему.
Сразу после этого на меня обрушились просьбы рассказать о том, как так получилось, что я, мальчик из хорошей еврейской семьи, некоторое время бомжевал по разным городам. Я долго отнекивался, но затем сел писать, слово потянулось за слово, и так появились эти записки…
Глава 1. Собрание
Итак, все началось 22 апреля 1980 года, то есть в тот самый день, когда мне исполнилось 17 лет.
На одной из перемен я объявил классу, что 25 апреля приглашаю всех на свой день рождения, где будет много всяких вкусностей, выпивка и танцы в темноте – в общем, все, как было до того у всех моих одноклассников.
О том, что мама просила не превращать вторую, спальную комнату в бордель, я, понятно, благоразумно умолчал. Квартира у нас была маленькая, двухкомнатная, но найти место для танцев было можно. Сам я никаких танцев танцевать не умел, и потому на днях рождениях обычно стоял, скрестив руки, в сторонке, как любимый мною Арбенин, и всем своим видом, показывал, что мне чужды подобные игры тела, ибо я погружен в раздумья о вечных вопросах бытия.
Точно так же я собирался вести себя и на своем дне рождения, но не пригласить весь класс было нельзя – меня же приглашали!
Сразу после последнего урока я вышел из школы и направился к автобусной остановке. Я спешил, так как знакомая продавщица книжного магазина обещала мне за трешку продать книжку Евтушенко с новой поэмой «Непрядва», и я жил предвкушением мига, когда возьму в руки этот сборник с большим портретом поэта на бумажной обложке.
Утром мать дала три рубля на книжку, и теперь они хрустели в кармане вместе с 50 копейками, которые предназначались на пачку болгарских сигарет. Чтобы меня не обвинили во лжи, скажу сразу, что я прекрасно помню, что они в то время стоили 35 копеек. Но у нас в Баку продавались из-под полы за 50, и никто против этого не возражал. Книжка Евтушенко, кстати, тоже по номиналу стоила 90 копеек…
Однако не успел я пройти и десяти шагов, как меня нагнали два одноклассника, взяли зачем-то под руки, и объявили, что мне надо вернуться в школу, так как сейчас начнется срочное комсомольское собрание.
Я напомнил, что пока еще не комсомолец, хотя двумя днями ранее по настоянию родителей все-таки подал заявление в комсомол, поскольку без этого поступление в вуз, да еще с моей пятой графой представлялось уж совсем проблематичным.
В ответ ребята пробурчали что-то не очень внятное о том, что я обязан быть на этом собрании, и по-прежнему держа под руки с двух сторон повели обратно в школу, хотя я вовсе не пытался вырваться. Мне было удивительно, зачем я вдруг понадобился нашим комсомольским вожакам, но не более того. Никаких дурных предчувствий у меня не было. Мысленно я продолжал представлять, как возьму в руки книжку Евтушенко и прочту первые строчки: «Я пришел к тебе, Куликово поле, намахавшись уже кулаками вволю…»
Когда меня ввели, весь класс был в сборе. Как выяснилось, для проведения «комсомольского суда чести». И суд этот должен был быть надо мной.
Признаюсь, это меня уже озадачило, так как я совершенно не понимал, какие же обвинения мне собираются предъявить.
Нет, разумеется, я не был белым и пушистым ангелом с крылышками.
За 17 лет жизни я успел совершить несколько поступков, за которые мне было стыдно, прежде всего, перед самим собой, и мне бы очень хотелось, чтобы их в моей жизни вообще не было. Но и злодеем я точно не был – за многими моими одноклассниками были поступки куда похлеще, о которых все знали, но никто не собирался их за это вот так, почти официально судить.
Пока я пытался понять, что же такого страшного сделал, меня поставили у доски лицом к классу, а наш комсорг уселась за учительский стол, держа в руках стопку листов. Присмотревшись, я понял, что это – мои собственные письма.
Дело в том, что, будучи в ту пору очень влюбчивым мальчиком, я в начале учебного года втрескался в одноклассницу, стал встречать ее по утрам у дома и провожать в школу, неся наши портфели и болтая по дороге обо всем на свете. А чтобы окончательно завоевать сердце любимой, стал посылать ей по почте письма, в которых разыгрывал из себя этакого Печорина, успевшего окончательно разочароваться в людях, видящего во многих одноклассниках будущих подхалимов и карьеристов, и вообще совершенно ничтожных людей – включая тех, что были самыми популярными ребятами в классе. Ну и попутно высказывал все, что я думаю о том, что происходит вокруг и об окружающем обществе в целом.
Не забыл я, разумеется, упомянуть в этих посланиях о том, что в нас обоих течет кровь самого умного и талантливого народа на планете, а потому она должна понимать меня лучше, чем другие.
Потом эта девочка дала мне понять, что, увы, любит другого. Я написал ей злое дурацкое письмо, в котором пообещал, что она все равно будет моей, даже если для этого мне придется ее изнасиловать. Но через месяц я успокоился, и на школьном вечере влюбился в другую девушку, из девятого класса, и стал посвящать ей стихи, часть из которых я и сегодня вспоминаю со сладким стыдом – при всей их неумелости было в них некое обаяние юношеского чувства.
И вот сейчас комсорг громко, хорошо поставленным голосом зачитывала отрывки из тех моих писем, переданных ей моей прошлой любовью, и констатировала, что именно из них следует.
Следовало же, по ее мнению, вот что:
1) Что я – законченный антисоветчик, ненавидящий Советскую власть и уверенный, что рано или поздно СССР распадется и рухнет в тартарары.
2) Что я считаю евреев самой умной нацией, стоящей выше других, а потому уверен, что для любой девушки лучше всего любить именно еврея.
3) Что я презираю многих своих товарищей по классу, и в первую очередь – тех, кто занят активной общественной работой.
4) Что моя главная цель в жизни – переспать с какой-нибудь девочкой, и ради этого я готов на все.
Не стану скрывать, что я был совершенно ошарашен не столько такой кучей обвинений (большая часть которых была, к моему стыду, справедливой), сколько предательством той, в которой еще полгода назад видел гения чистой красоты, свою Лауру и Беатриче в одном лице, и поверял ей самые сокровенные мысли, никак не ожидая, что эти письма могут попасть в чужие руки.
Поэтому все, что говорили по моему поводу другие выступающие, я почти не воспринимал, тем более, что все речи сводились к одному – что такому подонку, как я, не место ни в нашем замечательном классе, ни в нашей школе, ни вообще в советском обществе.
Припомнили мне и слова о том, что я готов был изнасиловать девушку…
– Но ведь не изнасиловал! – постарался я превратить все в шутку. – Спросите ее сами: я ее и пальцем не тронул. Ну разве что пару раз за руку держал…
Но шуток и оправданий понимать никто не хотел. У нас был элитный класс, но те самые ребята, с которыми у меня только вчера вроде были отличные отношения, все до одного умницы и мечтавшие стать великими физиками, вдруг стали каким-то одним двадцатиглавым драконом, в едином порыве изрыгавшем на меня огонь.
Кульминационный момент суда настал, когда комсорг подняла над головой и показала классу еще один листок.
– И вот этот человек два дня назад подал заявление на прием в комсомол, хотя теперь мы все понимаем, что членство в ВЛКСМ нужно ему исключительно для поступления в университет, чтобы он мог потом делать карьеру. То есть он и есть самый настоящий карьерист, хотя и обвинял в этом других. Лично я считаю, что он недостоин высокого звания комсомольца! – сказала комсорг.
– Недостоин! Гад он! Подонок! – загудел в ответ класс.
– …И если в нем еще осталась хотя бы капля совести, то он сейчас заберет свое заявление и порвет его! – продолжила комсорг, и протянула мне листок.
– Без проблем! – сказал я, и на глазах у всех разорвал заявление, изо всех сил стараясь сдержать накатившие вдруг слезы обиды.
– Ну вот, теперь вы все видите, как он относится к комсомолу! Как легко он это сделал! – торжествующе произнесла комсорг.
В заключение комсомольский суд чести единогласно решил, что класс объявляет мне полный бойкот – все отныне должны вести себя так, словно меня не существует.
Не помню, как я вышел из школы и как доехал до дома – о походе в книжный уже не могло быть и речи.
Я понимал, что жизнь кончена, что мне больше нет места нигде – ни в классе, ни в родном городе, где, по большому счету, кроме одноклассников у меня не было друзей: с первого класса я учился далеко от дома, почти не знал никого из дворовых ребят, и все время проводил либо в школе, либо наматывая километры по городу, сочиняя стихи и обходя книжные магазины и магазины канцтоваров. Канцтовары – это была еще одна моя тайная слабость, которой я несколько стыдился.
Родители были на работе, сестра в музыкальной школе, младший брат в детском саду, так что в квартире я был совершенно один.
Меня трясло. Ощущение, что жизнь кончена, усилилось, но вместе с ним в голове начал вариться странный, совершенно дурацкий план о том, что мне надо теперь бежать из города и вернуться через много лет, чтобы доказать всем, как они во мне ошибались…
Бежать надо было не куда-нибудь, а в Москву, найти там Евгения Александровича Евтушенко, которому вроде бы понравились некоторые мои стихи (а точнее, как он выразился, «застенчивая наглость ваших строк»), попросить его приютить меня на время и поступить в Литинститут, представив две опубликованные к тому времени в местной газете поэтические подборки. Ну, а дальше я вернусь в Баку уже знаменитым поэтом – не Пушкиным, конечно, но хотя бы чем-то вроде Батюшкова или Багрицкого.
И пока на улицах будут расклеивать афиши о моем поэтическом вечере, я будут стоять на балконе своего номера на десятом этаже гостиницы «Москва» и смотреть на простирающийся у моих ног город…
О том, что будет с родителями, когда они обнаружат мое исчезновение; что для поступления в любой институт нужен хотя бы аттестат зрелости и обо всем прочем я вообще не думал. Больше того – я даже не подумал, что человеку, решившему уехать в Москву, нужен хотя бы паспорт и билет на поезд.
Я просто подошел к забитому в преддверии празднования дня рождения холодильнику, прожевал кусок колбасы, оставил на столе ключи, вышел из квартиры и захлопнул дверь.
На вокзал я пошел пешком, купив по дороге пачку пахучих сигарет «Золотое руно».
Некоторое время я бродил по вокзалу, и мысль ехать в Москву с каждой минутой только крепла. Затем вышел на перрон, где как раз начиналась посадка на поезд Баку-Москва, и подняться на него мог любой желающий.
Став в тамбуре, я стал смолить одну сигарету за другой, думая, что скажу проводнику, когда он начнет проверять билеты. Тамбур был с этой точки зрения лучшим местом – если тот сюда и заглянет, то еще нескоро.
Через некоторое время поезд тронулся, и в окне замелькали бакинские пригороды. Уже пронеслись мимо Насосная и Баладжары.
Разумеется, до этого я не раз путешествовал с родителями на поезде в Прилуки, к бабушке, а потому знал, что даже самый старательный проводник начнет проверку билетов и раздачу постельного белья не раньше, чем минут через сорок, а то и через час, и потому время у меня было. В тот момент, когда он появится из своего купе, надо будет просто перейти на стык между вагонами, и там переждать. А дальше проверок (так, повторю, я думал) уже почти не бывает, и я смогу доехать зайцем до Москвы, или почти до Москвы, откуда можно будет добираться и электричками.
Когда мы проехали Сумгаит, в голове вдруг полыхнула мысль о том, как будет сходить с ума мама (именно мама, а не отец!), когда обнаружит мое исчезновение, но я поспешил загасить ее, как окурок – если я вернусь, то потом придется идти в школу, к этим…
Нет, это было невозможно, немыслимо – ни в той школе, ни в городе мне больше не было места. «Прощай, Баку! Тебя я не увижу! Теперь в душе печаль теперь в душе испуг…» – всплыли в голове есенинские строчки, а за ними, как вагоны за паровозом, потянулись и все остальные, и некоторое время я стоял, проговаривая про себя любимые стихи. Потом о чем-то болтал с заходившими переговорить в тамбур взрослыми мужиками и, оставшись один, снова мерно покачивался под перестук колес.
О чем я думал, что собирался делать дальше?
Да ни о чем – в голове не было ни одной мысли! На душе было как-то очень легко от того, что я разрубил этот узел, и обратной дороги теперь нет.
Все мое внимание сосредоточилось на глубине вагона, и как только на другом конце показался проводник, я рванул на себя дверь перехода, и оказался между двумя грохочущими железяками, на которых вполне можно было стоять…
Не знаю, сколько времени я провел на этом стыке, но довольно долго – когда я снова выглянул в тамбур, проверка вроде бы закончилась, и я смог вздохнуть спокойно.
За окном тем временем стемнело, и, дымя сигаретой, я видел, как по вагону бродят счастливые, довольные жизнью люди, которых никто не называл гадами и подонками. Некоторые уже переоделись и шли в тамбур с полотенцами, чтобы умыться, другие направлялись справить нужду, третьи – на перекур, так что дверь позади меня то и дело хлопала, и время от времени меня обдавало вонью вагонного туалета.
Часам к одиннадцати вечера я понял, что не учел одного: в какой-то момент времени все эти едущие в Москву по билетам счастливчики улягутся спать, я останусь единственным бодрствующим на весь вагон, и тогда меня точно поймают.
Пришлось снова перебраться на стык вагонов, и именно там меня и поймал делающий обход начальник поезда – так я впервые узнал о существовании этой должности.
Разговор у нас вышел короткий: узнав, что я еду без билета, он отвел меня в купе проводника и велел ссадить на первой же ближайшей станции. Но поезд был дальний и скорый, остановки не частыми, так что следующая станция была только через час с небольшим.
Вот так, часа в два ночи меня и высадили на станции, носившей странное название Биледжи.
Где именно находились эти самые Белиджи, я не знал, да и сейчас не знаю – то ли до, то ли после Дербента. Оказавшись на перроне, я поежился – апрель подходил к концу, но здесь ночью все еще было прохладно, а я вышел из дома в тот самом виде, в каком был в школе – в белой рубашке на голое тело (мое поколение бакинцев не признавало маек) и темно-синем костюме, совсем недавно сшитом у лучшего армянского портного города и очень ладно на мне сидевшем.
Вообще, признаюсь в те дни я очень нравился самому себе: в девятом классе я еще был «жиртрестом», «гямбулом» и «пончиком», но на последних летних каникулах с помощью простой диеты и упражнений довел свой вес до 60 кг при росте 162 см, у меня были карие глаза с поволокой, загадочное выражение лица и длинные, почти до плеч волосы. Короче, я выглядел именно так, как в моем представлении должен выглядеть "настоящий поэт", и теперь оставалось только стать им на самом деле.
Вообще-то длинные волосы мальчикам в нашей школе носить категорически запрещалось, но директор Людмила Ивановна преподавала в старших классах историю, я был ее любимчиком, о чем знала вся школа, и потому мне разрешалось многое из того, что запрещалось другим. Возможно, это обстоятельство тоже сыграло свою роль в том, что со мной произошло, но об этом я подумал лишь много лет спустя.
Походив взад-вперед по перрону, я зашел в небольшой зал вокзала, который был пуст. Абсолютно. Ни души. Свет притушен, касса закрыта, стоявший в углу буфет заперт на замок.
И это было замечательно! Я лег на одну из прислоненных друг к другу кресел-скамеек из толстого дикта, и, положив руки под голову, попытался заснуть.
Но тут в голове снова начали крутиться все события теперь уже вчерашнего дня. Снова возник перед глазами наш класс, комсорг зачитывающая мои любовные письма, осуждающее гудение голосов….
Я все еще никак не мог понять, как такое могло со мной произойти; как ребята, со многими из которых я учился с первого класса, которых я считал если и не близкими друзьями, то хорошими товарищами, и никому из которых (это я знал абсолютно точно!) не сделал ничего плохого – могли вдруг вот так, в одночасье меня возненавидеть. А в том, что они меня в тот момент презирали и ненавидели, не было никаких сомнений. Вслед за этим в памяти всплыл Димка – мой лучший и, пожалуй, единственный друг в классе.
Димки на том комсомольском собрании не было – это точно! То есть он знал, что оно готовится, мог бы встать на мою защиту, но не захотел! Предпочел просто уйти, и это было уже самое настоящее предательство!..
* * *
Разумеется, я тогда просто не мог знать, что Димки Григорьева там просто не могло быть: комсорг готовила собрание втайне не только от меня, но и от него – требовала, чтобы никто не болтал, так как Димка с его взрывным характером мог выкинуть еще тот фортель, а ей нужно было единогласное одобрение. Именно поэтому мы спокойно вместе вышли из школы, затем я направился на автобус, а он – к себе домой. Тут-то меня и догнали, и повели на собрание – убедившись, что мы с ним разошлись…
Не знал я и того, что именно Димка первым поднял тревогу по поводу моего исчезновения.
В тот день отец был на вахте в море, мать с сестрой и братом, как обычно вернулась домой после семи, и мое отсутствие ее не удивило – у меня на семь вечера был назначен урок у репетиторши по химии, которая жила в другом районе города. Мне нравилось ходить к ней пешком, и пешком же обычно я от нее и возвращался, что-нибудь сочинив по дороге.
Кроме того, хотя официально урок длился 45 минут, химичка, пожилая старая дева, любила поболтать со мной о новых книгах и спектаклях в городском театре, и иногда я засиживался у нее часа по два, а то и больше.
Так что раньше половины одиннадцатого вечера мать меня бы точно не спохватилась. Но в восемь к нам позвонил Димка.
– Петьку можно? – спросил он, как обычно.
– Нет, он на уроке, – ответила мать.
– Светлана Яковлевна, его надо найти! – выдохнул Димка. – Мне только что рассказали, что они с ним сделали… В общем, они его затравили. По подлому. А меня там не было! Говорят, Петька был белый, как мел и выходил из школы, словно пьяный… Его надо найти, Светлана Яковлевна, пока он с собой что-нибудь не сделал!
Мать позвонила репетиторше, и когда та сказала, что я на урок не явился, стала звонить Людмиле Ивановне.
– Приезжай немедленно ко мне, – скомандовала та. – Поедем вместе к Григорьеву выяснять, что там произошло.
Потом у моих одноклассников была куда более веселая ночь, чем у меня.
В десять вечера Людмила Ивановна собрала в школе весь класс, и устроила каждому форменный допрос.
– Запомните! – сказала она, – Если с ним, не дай Бог, что-то случится, ни один из вас не сдаст выпускной экзамен, как минимум, по истории! Я сделаю вам всем такой аттестатный балл, что вы можете забыть о поступлении в вуз. Возможно, меня после этого уволят, но прежде я всем вам поломаю жизнь! Если с ним что-нибудь случится…
Затем она разделила класс на небольшие группы, каждая из которых должна была искать меня по городу – по микрорайонам, поселку Мусабекова, в центре и на Приморском бульваре.
– А вдруг он вляпается в какую-то историю, свяжется с ворами или бандитами? – предположила мать.
– Главное сейчас, чтобы он нашелся живым и здоровым. Ни в какую грязную историю он не вляпается – это я знаю точно, так как знаю его лучше всех других! Как тебе, Света, вообще такое могло в голову прийти?! – отрезала Людмила Ивановна.
Но всего этого я, повторю, тогда не знал.
* * *
Проснулся я часов в шесть – от того, что кто-то сел мне на ноги и с грохотом поставил у скамейки чемоданы. Вокзал постепенно заполнялся людьми; как сейчас бы сказали, лицами кавказской национальности, мешавшими русский с незнакомым мне гортанным наречием.
Белиджи оказались главной станцией округи, и сюда стекался народ со всех окрестных поселков. Окошко кассы было уже открыто, и кассирша бойко выдавала билеты. В семь часов открылся буфет, и я почувствовал, что чертовски голоден.
Дождавшись, когда он заработает в полную силу, я протянул буфетчику трешку, попросил сигареты «Аэрофлот», горячий чай и сэндвич с голландским сыром.
– Какими судьбами из Баку? – поинтересовался буфетчик.
– А откуда вы знаете, что я – из Баку? – удивился я.
– Да я не знаю – я слышу! Ваш бакинский акцент ни с каким другим не перепутаешь! – улыбнулся он во весь золотозубый рот, протягивая рубль с мелочью сдачи.
Доев бутерброд, я вышел на перрон покурить и обдумать, куда двигаться дальше, и в этот момент передо мной словно из воздуха возникли трое ребят явно все той же неопределенной «кавказской национальности». Двое из них были примерно моими ровесниками, а третий, в какой-то куцой кацавейке и больше, чем на голову ниже меня, был лет четырнадцати.
– Закурить есть? – спросил один, самый высокий из троицы.
Говорят, что во многих городах России с этого вопроса обычно начинаются все неприятности. Но у нас в Баку это был просто вопрос, и, как и полагалось по нашему городскому этикету, вместо ответа я молча протянул початую пачку.
Они присели рядом, и мы вчетвером задымили.
– Откуда? – спросил высокий, явно бывший заводилой этой троицы.
– Из Баку. А вы?
– Из Махачкалы. Ты один, что ли?!
– Один. Из дома ушел.
– Это бывает. Мы вот тоже одни, потому что лучше с собаками жить, чем с нашими родителями…
– Да нет, у меня родители нормальные. Хорошие у меня родители! – заступился я за папу с мамой.
– А чего тогда сбежал? Разве от хороших бегают? Слушай, а давай с нами! Мы тоже собираемся поездить, только не в Москву. Есть города и получше – Дербент, Нальчик, Грозный, Пятигорск. Будешь воровать с нами.
Признаюсь, такого поворота я не ожидал.
– Нет, воровать я не хочу, – твердо сказал я.
– Да не боись ты, мы тебя научим! Это на самом деле просто. Видишь "малого": он через любую решетку и даже форточку пролезть может.
– Нет, я не буду! – упрямо повторил я, но вместе с тем чувствуя, что эти ребята мне нравятся. Не знаю, чем, но нравятся – пусть они и воры. И когда они предложили выйти с ними «посмотреть город», я согласился.
Смотреть, собственно говоря, было нечего.
Белиджи оказались скучным поселком, с двумя продуктовыми магазинами и одним книжным, в котором книги стояли не на полках, а были просто сложены на полу, на русском и не на русском вперемешку. Я, помнится, зацепил взглядом двухтомную «Антологию дагестанской поэзии» на русском, и пожалел, что нет денег ее купить.
Часов до двух мы болтались по поселку без дела, и за это время я узнал, что двое из моих спутников – родные братья, а третий – их друг; что они уже пару месяцев, как бросили школу и ездят вот так, подворовывая то одно, то другое, по всему Дагестану.
– Что-то я проголодался! – сказал высокий. – Надо зайти в магазин и что-нибудь спи&дить.
– Зачем пи&дить? Можно купить. Вот, у меня и деньги есть! – сказал я, вытаскивая из кармана желтоватую рублевую бумажку и почти рубль мелочью.
– Деньги – это хорошо! – сказал высокий. – Ладно, давай так: ты пойдешь в магазин, купишь буханку хлеба и две бутылки лимонада, а потом мы вернемся на вокзал, и там поедим.
Я направился к магазину, и новые приятели последовали за мной. Через полчаса мы были снова на вокзале, отошли в сторонку и сели на травке. Высокий расстелил на траве куртку, и я выложил на получившуюся из нее скатерть хлеб и лимонад. И тут ребята стали откуда-то доставать три банки кильки в томатном соусе, плитки шоколада, пачку лимонных вафель и даже горсть конфет «раковые шейки».
– Как видишь, жить можно! – сказал высокий, мастерски открывая перочинным ножом банку с килькой.
Затем он посмотрел на меня и сказал «малому»:
– Пойди принеси ему банку сайры. Не видишь, он – интеллигент!
На этой сайре «малой» и спалился: продавец схватил его за руку, когда он запихивал консервную банку в карман, и потащил в милицию.
Еще через четверть часа к нам подошли два милиционера и повели в участок…
* * *
К моему удивлению ребята не только не впали в панику, но и даже не огорчились такому повороту. Скорее, наоборот – им было весело, и они стали отпускать шуточки в сторону сторожившего нас перед какой-то дверью «мусора». Но мне было не до шуток – я впервые оказался в милиции, и слабо представлял, что меня ждет дальше.
– Ты что, забздел? – спросил высокий. – Не бзди, сейчас увидишь, что будет!
Тут дверь приоткрылась, и из нее раздался окрик:
– Магометов, давай сюда эту шпану по одному.
Первым «одним» стал почему-то именно я – может, просто тому, что сидел ближе всех к двери. Хозяин кабинета оказался начальником этого отделения (или Детской комнаты?) милиции.
Уже немолодой мужик с аккуратными усиками над губой, был он то ли старлейтом, то ли капитаном, сейчас уже не помню. Пусть будет капитаном. Самое удивительное, что, не будучи русским, он оказался большим любителем русских народных сказок.
– Ну, ой ты гой еси, добрый молодец! Из какого-ты роду-племени? – произнес он, раскладывая перед собой какие-то бланки.
– А у нас здесь, что – передача «В гостях у сказки»? – вспомнив свое школьное кавээновское прошлое ответил я в унисон. Страха почему-то по отношению к нему у меня не было.
– С чувством юмора у тебя, я вижу все в порядке, – усмехнулся он. – Документы, говорю, предъяви. Как фамилия, имя, отчество, год рождения, ну и все остальное…
– Национальность… – подсказал я.
– Национальность твоя мне до лампочки. А вот место жительства – нет. Так есть документы?
– Дома забыл, – сказал я чистую правду. – Нет никаких документов…
– Почему-то я так и думал, что дома забыл. Так как зовут?
– Петр.
– И почему я должен в это поверить?
Я пожал плечами – ничего другого мне просто не оставалось.
– И давно воруешь, Петр? – сказал он, указывая на выложенные на столе консервные банки, шоколад, хлеб и все остальное.
– Может, кто и ворует, не знаю. Не видел, – ответил я. – Я не ворую. За хлеб и лимонад я деньги заплатил. Можете продавца спросить.
– Верно, заплатил. Чтобы отвлечь внимание и дать своим подельникам воровать. Они тебя сейчас сами сдадут, увидишь. Магометов! – выглянул он в коридор. – Ну-ка введи еще одного, самого мелкого…
И тут сержант Магометов вошел в кабинет и доложил:
– Нету их, товарищ капитан! Сбежали. Прямо из-под носа сбежали! Хрен знает, как так вышло… На секунду отлить отлучился – очень уж приспичило!
Дело становилось хуже – теперь все могли свалить на меня, и я это понял.
Минуты три я выслушивал, как капитан на смеси нескольких языков объяснял сержанту, что тот – не милиционер, а пассивный гомосексуал, с матерью которого он занимался оральным сексом, а заодно отдавал приказ найти трех сбежавших маленьких пассивных гомосексуалов. Наконец, сержант Магометов удалился, явно сомневаясь, что ему удастся выполнить задание по поимке своих братьев по сексуальной ориентации.
После чего «гражданин начальник» уселся за стол и совершенно спокойным тоном, словно это был совсем другой человек, спросил:
– Так как тебя, говоришь, полностью звать-величать? И живешь ты где?
Это прозвучало настолько доброжелательно, что я расслабился и решил, что лучше всего просто говорить правду. И стал рассказывать, как поссорился с классом, вышел из дома, в чем был, без паспорта, как сел в поезд – и вот оказался здесь, в этих их Биледжах.
Говорил я долго, многословно, а он слушал, что-то записывал на своем бланке, и время от времени задавал вопросы о том, что у меня за школа, кто мои родители, почему я решил отправиться именно в Москву и все такое прочее.
И чем дальше, тем больше этот мужик – то ли аварец, то ли чеченец, то ли кабардинец, я этого не разбирал, знал лишь, что не русский – вызывал у меня доверие. Он даже внешне чем-то напомнил мне отца.
Затем он отложил ручку в сторону и посмотрел мне в глаза. В упор.
