Читать онлайн Империя законности. Юридические перемены и культурное разнообразие в позднеимперской России бесплатно
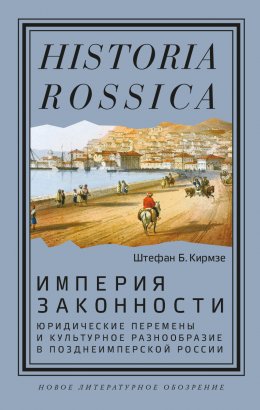
БЛАГОДАРНОСТИ
В русском переводе моей книги я не буду воспроизводить полный текст благодарностей, опубликованный в англоязычном издании «Империи законности». Вместо этого я хотел бы отметить ряд моментов, которые могут быть интересны русскоязычной аудитории. Более подробно об истории создания книги вы можете прочитать в ее первом издании.
Это исследование было бы невозможно без неизменной помощи сотрудников архивов в Крыму и Казани в период с апреля 2009 года по ноябрь 2013-го. Они помогали мне не только в поиске документов, но и в расшифровке рукописных текстов XIX века. Последнее было крайне важно: в то время как предписания и официальные отчеты, написанные от руки, не представляли для меня особой трудности, лаконичные распоряжения и неформальные ответы вышестоящих учреждений местным следователям, полиции и другим лицам, стоявшим на низшей ступени имперской иерархии, оказались настоящим испытанием даже для натренированного глаза. Я особенно благодарен Асе Зариповой из Симферополя и Лилии Хасаншиной из Казани за то, что им периодически приходилось подолгу разбирать со мной эти материалы, благодаря чему были услышаны голоса многих людей, которые иначе остались бы неучтенными. Я также благодарен Казанскому федеральному университету, особенно Искандеру Гилязову, Рамилю Хайрутдинову, Раилю Фахрутдинову, Диляре Усмановой и Светлане Тахтаровой за постоянную организационную поддержку, за то, что они пробудили и постоянно поддерживали мой интерес к татарской истории.
Ранние версии или части некоторых глав этой монографии были опубликованы в таких журналах, как Slavic Review, Ab imperio, Acta Slavica Iaponica и Journal of Modern European History, и многие замечания и предложения редакторов и рецензентов этих журналов так или иначе повлияли на развитие моих идей и аргументов. Йорг Баберовски, Ханнес Грандиц и Майкл Ходарковский дали подробные и содержательные отзывы на раннюю версию моей монографии, представленную в Университет Гумбольдта в марте 2017 года в рамках моей хабилитации. Многие другие, в том числе Джейн Бербэнк, Татьяна Борисова, Билл Бауринг, Иэн Кэмпбелл, Франциска Дэвис, Норихиро Наганава и Масуми Исогай, ознакомились с отдельными разделами, вошедшими в эту книгу, и их проницательные комментарии и замечания были для меня бесценны. Более того, я в особенности обязан анонимным рецензентам, приглашенным издательством Кембриджского университета, чьи чрезвычайно подробные и неравнодушные комментарии привлекли мое внимание ко многим неточностям и упущениям. Оба рецензента оказали мне большую поддержку и дали конструктивные и полезные советы по заключительной редакции рукописи. Я учел подавляющее большинство их предложений, а в тех немногих случаях, когда я не последовал их советам, я сделал это после долгих размышлений и консультаций с другими коллегами.
Отзывы и рецензии на «Империю законности» были самыми обнадеживающими. Однако, чтобы учесть некоторые соображения, высказанные по поводу книги, я изменил ряд формулировок в русскоязычном тексте. В условиях мрачной реальности 2022 и 2023 годов и растущего международного антагонизма тем более важно напомнить себе о важности законности в позднеимперской России и тщательно ее исследовать.
Основная работа над этим проектом велась с начала 2010 по начало 2017 года, и ни один семилетний проект немыслим без постоянной поддержки семьи и друзей. Хотя мне хочется думать, что во время реализации этого проекта я был более спокоен и терпелив, чем на протяжении большей части работы над моей первой монографией «Молодежь и глобализация в Центральной Азии», честно говоря, скорее всего, это не так. Длительные академические проекты отнимают все силы, и завершить их можно только в том случае, если окружающие готовы поддержать тебя на этом пути. Мне повезло, что все они меня очень поддерживали и выражали недовольство только в небольших и щадящих дозах, особенно когда я на несколько месяцев пропадал в российских и украинских архивах. Мои родители оказывали мне неизменную поддержку, и я с гордостью и радостью посвящаю им этот перевод, равно как и оригинал книги. Мой друг детства Константин Кузнецов заслуживает благодарности не только за то, что пробудил мой интерес к России и изучению русского языка в раннем возрасте, но и за то, что я всегда с нетерпением ждал каждой поездки в Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге, а также за время, проведенное с ним и его семьей в Великом Новгороде, спустя почти тридцать лет после нашей первой встречи. Хотелось бы, чтобы обстоятельства были иными и мы могли вместе отпраздновать публикацию этого перевода – в свое время мы это обязательно сделаем. Дружба сильнее всяких политических авантюр. Кроме того, Энди и ребята всегда находили нужные слова (жесты или звуки), когда требовалась поддержка, утешение или критика. Какой бы подход они ни выбрали, он обычно оказывался правильным.
В издательстве «Новое литературное обозрение» я благодарен бывшему редактору Александру Семенову за его первоначальную поддержку, а нынешнему редактору Игорю Мартынюку – за его постоянное содействие и стремление дать жизнь этому переводу. Наконец, и это самое главное, переводы – это не механическое переложение с одного языка на другой. Это издание не существовало бы без той магии, которую вложил в него Александр Ланге, придав написанному мною тексту совершенно новый голос и жизнь. Я в восхищении от звучания этого перевода, но нет необходимости говорить, что я несу полную ответственность за любые оставшиеся недочеты.
ВВЕДЕНИЕ
19 мая 1871 года, в 4 часа утра, татарский поселянин Куртпедин Менгли Амет оглу вошел в полицейский участок небольшого крымского городка Карасубазар весь в крови1. Ранее той же ночью четверо молодых татар напали на приехавшего в город за покупками Куртпедина, ударили его ножом и ограбили. Куртпедин с трудом добрался до принадлежащей татарам кофейне, где остановился на ночь, а когда рана перестала кровоточить, отправился на поиски полиции.
Все началось в кабаке, где Куртпедин познакомился с четырьмя татарами и провел с ними несколько часов, распивая водку. Когда совершавший обход помощник пристава Тимофеев зашел в кабак и попросил посетителей закругляться, Куртпедин заплатил за всю компанию крупной купюрой, что привлекло внимание его собутыльников. Вместо того чтобы проводить поселянина домой, молодые люди завели Куртпедина в «глухой переулок», где и напали на него, ударив ножом в бок, а затем скрылись, прихватив его бумажник2.
На следующее утро, узнав от Куртпедина о преступлении, Тимофеев вместе с пострадавшим оправился обыскивать местные кабаки, и к полудню все четверо грабителей были задержаны3. В тот же день городовой врач был вызван в полицейский участок, где обследовал и жертву, и подозреваемых. В его заключении содержалось подробное описание ран Куртпедина и были зафиксированы многочисленные царапины, порезы и пятна крови на телах подозреваемых – следы недавней драки. Затем полиция передала дело прокурору при недавно созданном окружном суде в Симферополе, столице Крыма; прокурор решил предъявить четверым татарам обвинение в разбое.
Четыре месяца спустя дело было передано на рассмотрение присяжным. Кандидат на судебные должности Мениров был предложен судом в качестве переводчика с русского на крымскотатарский на время процесса. Все стороны одобрили это предложение4. Это была стандартная процедура в многоязычных судах Российской империи. Весь открытый судебный процесс, включая перекрестный допрос, прение сторон и удаление присяжных в совещательную комнату, занял около пяти часов. В то время как коллегия присяжных, состоявшая из мещан, чиновников, купцов и крестьян Симферополя и Симферопольского уезда, отвергла обвинение прокурора в том, что подсудимые покушались на жизнь Куртпедина, заседатели признали их виновными в умышленном разбое. В итоге по решению суда молодые люди получили от шести до восьми лет каторжной работы в крепости.
Эта книга представляет собой исследование изменений в отношениях между государством и обществом в контексте судебной системы Российской империи после Великих реформ 1860‐х годов. В ней рассматривается влияние правовых реформ и практик на взаимодействие обычных людей и государственных институтов с середины 1860‐х до середины 1890‐х годов. Вместе с тем обсуждение правовых изменений в Российской империи связано с анализом государственной политики управления территориальным и культурным разнообразием. Оценка положения, которое в прошлом периферийные территории и меньшинства занимали в правовой системе, позволяет определить, в какой степени суды способствовали интеграционным процессам: интеграции окраин империи и ее центра и интеграции «других» в составе империи и остального общества. Таким образом, в данной работе очерчивается постепенная и в то же время неравномерная и неполная правовая унификация, протекавшая в условиях разнообразных динамичных и территориально специфических форм правового плюрализма. Иными словами, цель этой книги – попытаться пролить свет на характер позднеимперских правовых культур, их взаимодействие, противоречия и неоднозначность, а также на их восприятие в различных слоях общества.
Карта 1. Губернии и области Российской империи (Европейская Россия), начало 1880-х
Это исследование сочетает в себе обсуждение права и правоприменения в позднецарской России с анализом централизованного государственного управления многокультурной империей. В нем рассматривается судебная реформа 1864 года и сформировавшаяся на ее основе правовая система как область межкультурного взаимодействия. Данное исследование содержит анализ как самого процесса внедрения современной судебной системы в Крыму и Казани – двух регионах, выделявшихся культурным разнообразием (см. карту 1), так и его последствий. Особое внимание при этом уделяется положению нерусского населения в пореформенной правовой системе, следствия которого анализируются в рамках данного исследования по двум направлениям. Во-первых, обсуждается значение правовых изменений для религиозной и национальной политики Российской империи, а во-вторых, взвешиваются вероятные преимущества использования имперского ракурса в изучении российской правовой системы и реформаторского процесса в целом.
В этой книге судебная система рассматривается с нескольких сторон. В ней обсуждаются как представления, легшие в основу новых судов, так и участники юридического процесса, сыгравшие важную роль в правовых изменениях: сенаторы, юристы и служащие правоохранительных органов. Помимо анализа по нисходящему и восходящему принципам, в этой работе используется сравнительный региональный подход. Особое внимание при этом уделяется двум регионам, что позволяет выделить сходства и различия в опыте внедрения и местном восприятии реформ. Как субъекты права в Казани и Крыму пользовались новыми судами и как суды воспринимались ими? Оба эти региона можно назвать «промежуточными территориями»: бывшими приграничными землями с исторически самостоятельным социальным, экономическим и политическим устройством, которые к середине XIX века преимущественно считались частью имперского центра. В этой книге описываются реакции местных юристов и чиновников на новую судебную систему, а также последствия, к которым привело участие крестьян и мещан в судопроизводстве. Таким образом, правовая сфера рассматривается как пространство взаимодействия юристов, полиции и простых участников судебных процессов, в рамках которого они соприкасаются с государственной политикой и оказывают влияние на нее. Кроме того, данная работа проливает свет на взаимодействие и каналы коммуникации между местными институтами и имперским центром, предлагая этнографический подход к изучению повседневного управления в России середины – конца XIX века.
НОВЫЕ СУДЫ ДЛЯ ИМПЕРИИ
В 1860‐х и 1870‐х годах царь Александр II (1855–1881) принял ряд законодательных актов, которые изменили характер самодержавного правления. Наиболее важными из этих так называемых Великих реформ были крестьянская реформа (1861), освободившая крепостных крестьян, университетская реформа (1863), судебная реформа (1864), реформа местного самоуправления в сельской местности (1864) и городах (1870), а также введение всеобщей воинской повинности в рамках военной реформы (1874)5. Так, правовые изменения были лишь одним из элементов мозаики мер, направленных на превращение империи в современного и конкурентоспособного международного игрока. При этом судебная реформа была, возможно, как утверждает Ричард Пайпс, «самой успешной из всех Великих реформ»6. Несомненно, преобразование правовой системы было радикальным шагом. Российские реформаторы ввели гласные суды, устное прение сторон и независимую судебную систему, тем самым внедряя европейские правовые принципы и судебные модели. Новые процессуальные нормы и судебная система представляли собой результат избирательного заимствования и последующего тщательного переосмысления правовых моделей Англии, различных германских государств и особенно Франции7.
Судебная реформа была призвана создать простую и эффективную правовую систему, или, по словам императора Александра II, «суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных Наших»8. Для этого был создан целый ряд новых институтов9. Мировые судьи, избираемые новообразованными земствами, органами местного самоуправления, были введены на уездном уровне для рассмотрения мелких споров и правонарушений. Все тяжкие преступления и гражданские споры, в которых стоимость имущества или взыскиваемого ущерба превышала 500 рублей, рассматривались так называемыми окружными судами10. Юрисдикция этих судов распространялась на большие территории, обычно охватывая целые губернии. Во многих уголовных делах новые суды полагались на суд присяжных.
Кроме того, были созданы судебные палаты для контроля работы окружных судов и учета растущего числа профессиональных юристов, находящихся под их юрисдикцией, то есть тех, которые могли работать адвокатами и судьями в определенном месте только после регистрации в местной палате. Эти учреждения также рассматривали дела о злоупотреблении служебным положением, преступлениях против государства и служили в качестве апелляционных судов по некоторым гражданским и уголовным делам. Каждая палата отвечала за суды и адвокатов судебного округа, который обычно охватывал несколько губерний. К середине 1880‐х годов судебные палаты появились не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в Харькове, Тифлисе, Одессе, Казани, Саратове, Варшаве, Киеве и Вильне; в последующие два десятилетия их число возросло до четырнадцати – новые палаты открылись в Иркутске, Омске, Ташкенте и Новочеркасске (см. карту 2). В то же время число окружных судов выросло с 41 в начале 1870‐х годов до 98 в 1914 году.
Карта 2. Судебные округа Российской империи, 1886
Судебная реформа была детищем нового класса просвещенных юристов и бюрократов11. С 1839 года незадолго до этого основанное в Санкт-Петербурге Императорское училище правоведения – пансион для подростков-дворян, предлагавший юридическую подготовку в дополнение к дворянскому образованию, а также изящные искусства, – обеспечивало государство постоянным потоком выпускников, которых стали называть «правоведами»12. Вскоре это новое поколение юристов стало сомневаться в компетентности и авторитете существующего юридического сословия, чье обучение в университетах и лицеях сводилось в основном к механическому заучиванию и применению законов13. Молодые юристы считали себя полной противоположностью таких машинально работавших бюрократов. Как сказал один из них, их вдохновлял новый тип человека: «Это был великосветский юноша, который все умел, все знал, был красавец, богат, любезен, умен и блестяще образован…»14
Правоведы были не единственной опорой реформы. В середине XIX века в российских университетах также произошли количественные и качественные изменения. В период реформ число юридических факультетов и студентов постоянно росло, а юридическое образование постепенно превращалось из профессионального обучения в абстрактную науку. К концу 1860‐х годов почти половина студентов в России получала юридическое образование, и даже в губернских судах доля высших судебных чиновников со специальным юридическим образованием за короткое время выросла примерно до 70%15. К началу ХX века в империи работало более 20 000 государственных служащих, адвокатов, прокуроров и судей16.
Реформа дала новые возможности тем юристам, которые критически относились к самодержавию. Адвокаты могли выступать с критикой несовершенства правящего режима, поскольку их речи не подвергались цензуре и часто полностью печатались в прессе. Некоторые судебные процессы привлекали большие толпы. Неудивительно, что профессия адвоката вскоре стала прибежищем для политических активистов, которые использовали судебные процессы в качестве площадок для призывов против самодержавного правления. Поскольку таким образом суды приняли черты парламента, историк Йорг Баберовски даже назвал судебную реформу «первой конституцией России»17.
Однако из‐за того, что многие юристы имели дворянское происхождение, они были мало заинтересованы в подрыве монархии. Продвигая идею правового государства по образцу европейских правовых систем, эти либеральные реформаторы в первую очередь призывали к большей юридической последовательности, предсказуемости и независимости. Для достижения этих целей реформа полностью отделила судебную власть от административных и правоохранительных органов империи18. Если при старом порядке многие судебные задачи возлагались на полицию, чьи выводы затем подкреплялись решениями судей, а губернаторы имели право вмешиваться в судебные дела, то с 1860‐х годов судебные чиновники могли действовать гораздо более независимо19. Реформы 1770‐х годов ввели отдельные суды для каждого сословия на уровне уездов и губерний; судебная реформа 1864 года, напротив, создала суды общей юрисдикции, которые, как правило, были открыты для всех. Это было значительным изменением, несмотря на то что сельское население по-прежнему полагалось на управляемые крестьянами деревенские суды для рассмотрения мелких споров и преступлений. За редким исключением, все подданные империи были равны перед законом.
Это утверждение требует некоторого пояснения. Не существует единого определения понятия «равенства перед законом», и те, кто понимает его как равные права и обязанности для каждого человека, не смогут применить его к Российской империи (или, если угодно, к любой другой империи). Имперское феодальное общество состояло из сословий, каждое из которых было наделено определенными правами и обязанностями. Доступ к образованию и государственной службе, помимо прочего, ограничивался сословной принадлежностью. Дворяне, в частности, пользовались большим количеством привилегий. Однако если равенство перед законом понимать более узко, как предлагает специалист по конституционному праву Сюзанна Бэр, «как равный доступ к правоохранительной системе и равное обращение в правовой системе»20, то этот термин становится полезным для российского случая, несмотря на то что в этом равенстве все еще есть исключения и оговорки. Последние также рассматриваются в книге. Новые суды были площадками, на которых привилегии не имели большого значения. Дворянин, совершивший преступление против крестьянина, не мог рассчитывать на снисхождение со стороны судьи и присяжных. Более того, окружными судами подчеркивалось, что приговоры основываются на доказательствах и более высокий социальный статус не имеет никакого значения в зале суда. Как отметил в 1891 году журналист одной из крымских газет, просидев неделю на публичных процессах в Ялте: «Мы с удовольствием заметили, что и начальству нашему спуску не дается, а известно, что у нас начальство престрогое, само спуску давать никому не любит…»21 Многие судебные дела, рассмотренные в этой книге, подтверждают это впечатление. Это касается и гражданского права. Спор о собственности или заключенном договоре, как правило, решался на основе доказательств, а не социального положения или религиозной принадлежности участников процесса.
Этому новому ощущению равенства способствовало множество факторов, в том числе новые правила судопроизводства, а также подготовка и нравы адвокатов. Всего за несколько лет до этого император Николай I (1825–1855) выразил свою неприязнь к адвокатской профессии следующим образом: «А кто <…> погубил Францию, как не адвокаты! <…> Пока я буду царствовать – России не нужны адвокаты, без них проживем»22.
К 1860‐м годам эта точка зрения уже перестала быть приемлемой. Замена механического применения законов абстрактными правовыми принципами создала спрос на юристов. Этот спрос еще более усилился в связи с ростом значимости состязательного судопроизводства, в котором все стороны стали представлять адвокаты. Таким образом, судебная реформа дала толчок профессионализации права.
Предсказуемо, что новые юристы и их принципы встретили значительное сопротивление, особенно со стороны полиции и губернаторов23. Поскольку для каждого отдельного обвинения теперь требовались реальные доказательства, правоохранительные органы больше не могли использовать суды для наказания всех тех, кого они считали нарушителями порядка24. Чиновники сами могли легко стать объектом судебного преследования. В конце 1820‐х годов начальник российской политической полиции все еще мог публично заявить, что «законы пишутся для подчиненных, а не для начальства»25. Судебная реформа не только создала правовую инфраструктуру и процессуальные нормы, облегчавшие привлечение чиновников к ответственности, но и помогла укомплектовать суды профессионалами, которые без колебаний выносили решения против представителей власти. Превышение полномочий вдруг стало самым страшным преступлением – жаловались служащие полиции26. Такие опасения были оправданы, поскольку реформа поставила судебную власть выше правоохранительных органов и тем самым позволила простым людям привлекать их к законной ответственности за их действия.
Распространение новых судов отражало более общие закономерности развития государственного управления. Как правило, новые государственные институты сначала возникали в двух столичных регионах империи – Санкт-Петербурге и Москве, – затем появлялись в других губерниях Европейской России и, наконец, внедрялись на недавно присоединенных территориях. Такое пространственное расширение государственных институтов также способствовало постепенной интеграции бывших пограничных территорий27. Новые суды следовали тому же принципу. Судебные палаты были впервые созданы в двух метрополиях империи в 1866 году, откуда новые принципы и процедуры постепенно распространялись во всех направлениях28.
Российские губернии и раньше не были «беззаконными». Специально назначенные чиновники, известные, в частности, как недельщики, или даже прокуроры выполняли полицейские и судебные функции при региональных военачальниках по крайней мере с начала XVII века29. Судебные споры стали широко распространены в России раннего Нового времени, но они рассматривались органами государственного управления и полицией (включая губернаторов) и в значительной степени полагались на государственные учреждения и служащих в Москве30. Начиная с XVIII века российские правители пытались расширить провинциальное судопроизводство, и, после того как результаты усилий Петра I в 1720‐х годах оказались недолговечными, к концу века сословные суды Екатерины II охватили большую часть центральной России31. Однако уже спустя двадцать лет эти суды были вновь упразднены для крестьянства. Пока крестьяне были собственностью своих помещиков, не было необходимости в государственной судебной системе в сельской местности32.
Хотя реформированные суды 1860‐х годов не были первыми судебными институтами, проникшими в провинцию, масштаб их распространения в последующие несколько десятилетий был беспрецедентным. Первоначально проект по распространению законности казался осуществимым только в двух категориях регионов: в традиционных центрах Европейской России и на прилегающих промежуточных землях, таких как Крым, Казань и степной регион юга России, который был охвачен окружными судами в Харькове, Воронеже, Саратове, Новочеркасске и станице Усть-Медведицкой. Однако несколько промежуточных территорий остались нетронутыми. Например, в Оренбурге и Уфе новые суды были учреждены только в 1892 году, поскольку правительство сочло эти регионы слишком слабо интегрированными в систему государственного управления. Более отдаленные регионы, как правило, присоединялись позже, в основном из‐за больших расстояний, отсутствия инфраструктуры и вытекающих из этого логистических проблем для правоприменения. Так, Крайний Север, Сибирь, степной район и Средняя Азия перешли на новую правовую систему только между 1896 и 1899 годами (см. карту 2)33.
Распространение нового порядка также зависело от культурной среды. Во-первых, культурные факторы привели к различиям в судопроизводстве. Например, хотя законодатели и рассматривали Южный Кавказ как достаточно «развитую» в культурном и инфраструктурном смысле территорию для введения новой системы, они решили не внедрять суд присяжных в большинстве районов Тифлисского судебного округа. Суд присяжных также не был введен в Польше и поначалу в прибалтийских губерниях, а также в степных районах и Туркестане: знание русского языка, языка нового суда, в этих регионах было слишком низким и не позволяло пользоваться услугами присяжных. Во-вторых, культурные особенности повлияли на порядок включения территорий в новую систему. Регионы, населенные людьми, которых считали культурно неполноценными, как правило, попадали в конец списка. Особенно со времен правления Екатерины II (1762–1796), а в какой-то степени и раньше российские правители рассматривали свое взаимодействие с населением недавно завоеванных регионов с позиции цивилизаторской миссии34. И хотя, как и во многих империях, была сформулирована идея о том, что правовая реформа может ускорить цивилизационный процесс, предполагаемые различия в уровне развития населения заставляли власти полагать, что основанные на универсальных правовых принципах и открытые для всех инклюзивные суды могут быть введены только там, где уже существует умеренный уровень «развития». Такие районы, как степные территории с их кочевыми и полукочевыми обитателями, не подходили для этого. Член специальной комиссии, изучавшей пригодность таких районов для новой судебной системы, например, пришел к выводу, что «киргизов» нельзя судить по российским законам35: «От киргиза, при другом племенном организме и при других условиях среды и стихии, нельзя требовать одинакового понимания и взгляда на преступления и проступки, как от русских и от других европейцев…»36
Это сделало дискуссию о том, какие группы населения или, скорее, какие территории следует включить в новый правовой порядок, еще более релевантной. Крым и Казань считались достаточно развитыми для того, чтобы в них был введен новый правовой порядок. В Симферополе, столице Крыма, в апреле 1869 года открылся окружной суд, который подчинялся недавно созданной судебной палате в Одессе, а в Казани судебная палата и окружной суд были открыты осенью 1870 года. Раннее распространение нового судебного порядка на эти регионы было примечательным из‐за попадания под юрисдикцию новых судов большого количества нерусского населения. Татары-мусульмане были особенно многочисленны в этих двух регионах, которые до аннексии Российской империей Казани в 1552‐м и Крыма в 1783 году были независимыми мусульманскими ханствами. На самом деле, учитывая разнообразие религиозно-этнических групп в обоих регионах, судебная реформа обеспечила новой правовой инфраструктурой большое количество чувашей, мордвы, греков, караимов, немцев, армян и других.
Постепенное распространение новых правовых принципов и судов указывает на более широкие сдвиги в имперской политике. Александр II стремился повысить степень вовлеченности населения, пусть даже это участие не предполагало плебисцитов или выборов, и поэтому он преподносил свое правление как основанное на принципе взаимной любви и расположения между собой и преданным ему народом37. Будучи убежденным в преобразующей силе государства, его правительство способствовало развитию институтов, призванных позволить простым людям принимать участие в жизни имперского общества. Суды были одним из многих элементов новой «общественной жизни», в которую также входили театры, школы, призывная армия и органы местного самоуправления38. Благодаря их появлению население в целом стало ощущать «новую близость с государством»39. Кроме того, это привело к переходу от прежней модели правления: если раньше каждый завоеванный народ получал особые условия, предусматривавшие конкретные права, привилегии и обязанности, то, начиная с Великих реформ, условия были большей частью равными40. В этом процессе существовали исключения, но тем не менее вектор развития был определен. И хотя политика эпохи реформ отчасти объясняется стремлением достичь большего единообразия и эффективности, многие из этих мер отражали и другую тенденцию: растущее внимание к принципам современной гражданственности41.
Однако, несмотря на все ее новации, реформа должна была проводиться в рамках прежней самодержавной системы. Установление равенства перед законом не сопровождалось равенством в других сферах жизни. Если использовать предложенное Т. Х. Маршаллом противопоставление различных видов прав, то до того, как император был вынужден пойти на уступки после революции 1905 года, у подданных не было ни политических, ни тем более социальных прав42. Более того, российские правители XIX века лишили значительную часть населения даже самых основных гражданских прав: свободы личности, свободы мысли, слова и веры, права владеть собственностью и заключать договоры43.
При столь ограниченных правах установление равенства перед законом было удивительным. И все же это не было чем-то исключительным. Все империи, хотя и в разной степени, поощряли определенное равенство на фоне различных видов неравенства. Правоведы напоминают нам, что «законодательство о равенстве не всегда представляет собой целостный свод правовых норм, но как пример правового плюрализма законодательство о равенстве является более или менее последовательным, иногда амбивалентным и даже порой противоречивым»44. Право на политическое равенство или равенство перед законом не обязательно влечет за собой культурное или социально-экономическое равенство. В Российской империи относительное равенство в новых судах контрастировало с прямым и косвенным давлением в других сферах общественной жизни. Россия оставалась страной, полной противоречий: необычайно авторитарной, но в отношении некоторых аспектов своей правовой политики более открытой – другие скажут «современной» – по сравнению с сопредельными или заокеанскими колониальными империями.
РАСШИРЕНИЕ ПРАВ МЕНЬШИНСТВ
Специалисты в области права определяют empowerment как усиление способности работать в рамках имеющейся системы, успешно действуя внутри существующих структур власти, но при этом отмечают, что это понятие не следует путать с «эмансипацией», которая идет дальше и подразумевает анализ этих структур и противодействие им45. В России правовая реформа не смогла разрушить существующие структуры власти, так как многие иерархические отношения сохранялись – от особого статуса русского языка и Русской православной церкви до прав, предоставляемых высшим сословиям, в которых меньшинства были недостаточно представлены. Тем не менее новые суды помогли расширить не только права этнических и религиозных меньшинств, но и многих других групп.
Прежде чем в первой половине XIX века они были определены более четко (подробности см. в следующей главе), права этнических и религиозных групп формировались в течение длительного времени, претерпевая частые изменения в процессе развития. Затем судебная реформа придала некоторым из этих прав новый смысл, поскольку создала механизмы, позволяющие простым людям – неважно, русским или нет – добиваться их соблюдения. На этом фоне дискуссия о том, являются ли 1860‐е годы или законодательство николаевского периода переломным моментом в правовой политике XIX века, выглядит несколько схоластичной46. Изменения происходили постепенно, и сменяющие друг друга комплексы решений постепенно способствовали трансформации правового порядка.
Меры, затрагивающие меньшинства, всегда зависели от конкретной социальной группы и обстоятельств. Вместо проведения систематической политики имперская элита вырабатывала множество предложений и решений, специфика и развитие которых зависели от конкретных лиц и учреждений. Более того, речь не шла о «меньшинствах». Это понятие является более поздним, и его обычно связывают с появлением современного национального государства и стремлением к достижению национального единообразия. В качестве нормативного термина оно получило широкое распространение в конце XIX – начале XX века, когда дипломаты начали использовать его как инструмент в переговорах между великими державами47. Подобно своим европейским коллегам, представители имперских элит в России говорили о правах меньшинств только в контексте международной политики, избегая этого понятия при обсуждении внутренних вопросов48. Поскольку они видели разнообразие имперского общества как нечто присущее империи, при этом предостерегая от влияния «инородцев», особенно евреев, они не считали какие-либо «меньшинства» нуждающимися в защите. В то же время к концу XIX века нерусские составляли большинство, а именно 57% всего населения империи49. В таких регионах, как Крым, их доля была еще более высокой.
Тем не менее эти обстоятельства не исключают использования самого понятия «меньшинства». Во-первых, «меньшинства» и «политика меньшинств» – это аналитические термины. Такие понятия редко используются самими историческими акторами. Во-вторых, в данной книге речь идет не только о двух регионах. Основа излагаемой аргументации касается значительной части позднеимперской России, и поэтому важно использовать термины, способные охватить имперскую политику и специфику ее восприятия, независимо от местных особенностей. Язык правовой реформы и лежащая в ее основе концепция были в значительной степени схожи по всей империи. То, что татары, чуваши, армяне и другие составляли большинство в некоторых районах, не умаляет того обстоятельства, что в империи в целом они сталкивались со структурной дискриминацией – русские являлись, безусловно, наиболее влиятельной социокультурной группой. Самое главное, что термин «меньшинства» подчеркивает не только подчиненное положение таких групп населения, но и постепенное расширение их прав и возможностей. Как показала политолог Дженнифер Джексон-Прис, «меньшинства» существовали в Европе на протяжении веков. Так как они были «чужаками», их инаковость в первую очередь определялась религией и только с конца XIX века была заключена в рамки национальности50. Таким образом, значимость принадлежности к меньшинству менялась с XVII по XX век. В Российской империи дело обстояло иначе. После многовековых репрессий и нетерпимости татары и другие народы стали пользоваться правами и возможностями, обычно не свойственными имперскому правлению, и приобрели статус, не сильно отличающийся от статуса национальных меньшинств XX века.
Так или иначе, царская Россия с ее гибкой и неоднозначной, даже противоречивой политикой в отношении недоминантных этнических и религиозных групп не выделялась в Европе XIX века. В большинстве империй проводилась широкая политика в диапазоне от культурной гомогенизации до принятия культурных различий51. Российская элита, в свою очередь, склонна была считать, что культурные различия между народами естественны и желательны; и поскольку она гордилась имперским разнообразием, она также придерживалась определенной степени правовой дифференциации52. Поэтому, несмотря на все попытки унификации, плюралистический правовой порядок России продолжал учитывать местные верования и обычаи.
Новые окружные суды, однако, уделяли мало внимания этнической и религиозной принадлежности, что заставляет задать важный вопрос. К каким выводам может привести постановка акцента на культурных различиях при обсуждении судебной системы, если она часто нивелировала их существование? Зачем изучать роль и поведение татар, греков или караимов в условиях, когда эти группы вели себя так же, как и все остальные, и отношение к ним было практически таким же? Существует несколько причин для изучения пореформенной правовой системы именно через призму культурных различий.
Во-первых, упор на меньшинства в Крыму и Казани не только помогает выявить множественность правовых культур в Российской империи, но и побуждает к более широкому осмыслению этого вопроса в контексте сравнительного анализа. Правда, непоследовательность политики империи в отношении меньшинств затрудняет какие-либо обобщения. В рамках исследовательской работы можно сделать лишь небольшие наброски отдельных социальных групп и исторических периодов. Однако, хотя эта книга акцентирует внимание на татарах-мусульманах, поскольку они были самой многочисленной группой внутренних «других» в изучаемых регионах, она также предлагает более общие наблюдения. Некоторые меньшинства – в частности, еврейское население и более отдаленные общины в Сибири, Туркестане и на Северном Кавказе – следовали особым траекториям, в большей степени зависящим от контекста53. Важно отметить, что, хотя отношения каждой группы с имперским государством имели определенные особенности, история татар-мусульман не является исключительной и во многом схожа с опытом других меньшинств в Крыму, Казани и за их пределами. Кроме того, фокус на изучении татар связывает данное исследование с быстро растущим объемом литературы о мусульманах в Российской империи. Татары были ключевым мусульманским меньшинством; примерно до 1800 года законодательство, касающееся мусульман, относилось в основном к татарам54.
Во-вторых, внимание к этнорелигиозным группам в пореформенных судах необходимо потому, что национальность и религия имели большое значение в России XIX века. Хотя для большинства юристов вопрос культурного разнообразия не представлял интереса, многие из их современников интересовались этим вопросом. Писатели, ученые и государственные управленцы были чрезвычайно озабочены «другими» внутри империи, составляя множество этнографических описаний и особо подчеркивая культурные различия между ними55. В частности, в правительственных кругах, в прессе и в других сегментах зарождающейся публичной сферы разгорелись дебаты о роли мусульман. Смогут ли они когда-нибудь быть полностью интегрированы? Можно ли им доверять во время войны? Насколько они фанатичны? Подобные вопросы звучат на удивление знакомо для читателя XXI века. Такое внимание к культурным различиям делает крайне важным изучение примеров, где на первый план выходят равенство и единообразие. Тогда как историки склонны уделять больше внимания провалу имперской политики, дискриминации и репрессиям, пусть подобная дискриминация и имела место, эта книга призывает к более всестороннему анализу.
Наконец, внимательное изучение связи между правовой, религиозной и национальной политикой – как бы непоследовательна и беспорядочна она ни была – помогает выявить идиосинкразию поздней царской России как имперского государства. Два историографических события указывают на то, что эта книга может быть включена в более широкий исторический контекст: появление «новой» имперской истории, которая подчеркивает культурное взаимодействие и гегемонию в большей степени, чем имперские завоевания и государственное управление56, а также большого количества литературы, ставящей Российскую империю в один ряд с Британской, Османской и Габсбургской57. Эта книга закладывает основу для дальнейшего межимперского сравнения.
Я уже упоминал о ряде направлений научных исследований, на которые опирается данная работа и которые она дополняет. Следующий раздел дает более четкое представление об общем исследовательском контексте.
ПРАВО, ПРАВОВОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ И ИМПЕРИАЛИЗМ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Российская империя и ее правовые институты часто ассоциируются с произволом, коррупцией и отсутствием верховенства закона. В классическом исследовании Р. Пайпса, например, отмечается, что многие ключевые законы никогда не публиковались, что власть имущим не нужны были суды и законы, чтобы добиваться своего, а простые люди «избегали судебных разбирательств, как чумы»58. Многие современники разделяли этот снисходительный взгляд на правовую сферу. Писатели XVIII и XIX веков в своих литературных произведениях подробно останавливались на невежестве и продажности судей, а юристы регулярно осуждали медлительность и произвол старых судов59. И хотя ученые уже начали ставить под сомнение образ несправедливых, медленных и коррумпированных дореформенных судов60, этот образ, безусловно, наряду с реально существовавшим ограничением гражданских прав, укрепляет идею о том, что Российская империя по-прежнему далека от идеала правового государства (Rechtsstaat). Такие писатели, как Лев Толстой, также помогли поддержать представление о том, что судебная реформа принесла мало изменений, утверждая, что крестьянство по-прежнему игнорировало совокупность законов, созданных только для того, чтобы служить интересам элиты61.
Поэтому неудивительно, что в исследованиях, посвященных имперской России, не сразу приняли во внимание достижения социальной антропологии, социально-правовых исследований и общей имперской истории – областей, в которых ученые десятилетиями проводили исследования повседневного правового взаимодействия62. Изучением империи занимались почти исключительно историки. Немногие из них обсуждали правовую систему, а те, кто это делал, как правило, фокусировались на юридических спорах, изменении законодательства и институциональных реформах63. В их работах было описано становление нового поколения профессиональных юристов, которые руководствовались беспристрастностью в своих решениях и помогли проложить путь к правовым изменениям. Эти исследователи проследили эволюцию гражданского и уголовного права до и после судебной реформы. Они изучили дискуссии вокруг самой реформы, уделив особое внимание вызывавшему много споров внедрению судов присяжных. Они выявили сильные и слабые стороны созданных в результате реформы правовых институтов. И, что особенно важно, они проанализировали последствия новой правовой системы для самодержавного правления. Однако, поскольку в качестве источников они использовали в основном мемуары и публикации чиновников и юристов, не в последнюю очередь из‐за ограниченного доступа к архивам во время холодной войны, они одновременно воспроизводили взгляды петербургской и московской элит.
В этих исследованиях не уделялось особого внимания как нерусскому населению империи, так и правовому плюрализму. То, что анализ правовых реформ и судебной системы все еще обходит меньшинства стороной, по крайней мере, частично объясняется сохраняющимися стереотипами об имперском общественном устройстве. Имперское общество обычно понималось в терминах бинарной модели: массы крестьян с традиционными взглядами, противопоставленные образованной городской элите, – каждые со своими собственными нормами и установками64. То, что многие источники XIX века поддерживали это бинарное видение общества, отчасти объясняет его живучесть в научных кругах. Советские историки часто рисовали более нюансную картину правового взаимодействия в сельской местности, рассматривая изменения и их социально-экономические условия во времени. Однако они также подчеркивали важность классовой борьбы и тем самым способствовали устойчивости образа непреодолимых различий65. Логическим выводом из таких предположений было то, что изолированные и живущие в общинах средневекового типа крестьяне не нуждались в государственных институтах, в том числе правовых; вместо этого они руководствовались собственными правовыми нормами и сознанием66. Некоторые считали возникший дуализм не иначе как «правовым апартеидом»67. Защитники самодержавия разделяли эту точку зрения, утверждая, что ни крестьянство, ни власти не хотели усиления правового порядка и не нуждались в нем. Например, в 1883 году епископ Уфимский и Мензелинский отверг окружные суды и юристов как часть нового бюрократического аппарата западного образца, в котором Россия не нуждается68. По его мнению, только железной рукой можно решить проблему «общего бессудия» в сельской местности.
Образ самодостаточных и однородных крестьянских общин поддерживался ростом научных обществ и экспедиций69. Начиная с середины XIX века эти общества выпускали большое количество не только общих этнографических исследований о деревенской жизни, но и предлагали описания того, что они считали «обычным правом»70. Так они способствовали фольклоризации и экзотизации сельского населения. Нигде это не проявлялось сильнее, чем в случае этнических и религиозных меньшинств: если русская деревня воспринималась как мир, отделенный от цивилизованного общества, то нерусская деревня представляла собой иную вселенную. То, что татары и другие группы придерживались своего «обычного права» и мало интересовались государственными судами, редко вызывало сомнения71. Предполагалось, что меньшинства отделены от остального общества социальной, правовой и культурной пропастью.
Таким образом, этнографические исследования деревенской жизни были далеко не безобидным академическим занятием. Как и в других империях, они не только помогали властям получить больше знаний о населении, чтобы его лучше контролировать, но и позволяли систематически выделять и объективировать различные группы населения и их правовые практики. Кодификация этих практик, другими словами, не только не обнаружила местные законы – она их создала. Как утверждали специалисты по антропологии права в течение десятилетий, «обычное право» – это не столько пережиток прошлого, сколько колониальная конструкция, «изобретенная традиция», продвигаемая великими державами для облегчения и поддержания колониального правления72. В России складывалась аналогичная ситуация. При содействии ученых и местных посредников царские власти вслед за другими имперскими державами попытались зафиксировать в кодифицированном своде законов то, что на самом деле представляло собой совокупность подвижных местных норм. Этот процесс требовал переговоров и сотрудничества с местными элитами, которые заставляли имперских чиновников определять одни практики как «обычные», отвергая другие, часто для того, чтобы получить преимущества для себя73.
С 1990‐х годов изучение царской России расширилось и, благодаря полученному доступу к архивам по всей Евразии, все больше внимания стало уделяться изучению империи, пространства и культуры. В своем стремлении шире рассматривать культурное разнообразие и взаимодействие между центром и периферией в истории России Андреас Каппелер сделал упор на пространстве как ключевом элементе исследования, где территории и регионы, а также связи между этими регионами являются основными единицами анализа74. Одним из результатов этих тенденций стало появление новой области исследований, ориентированной на дискурсивное присвоение империей бывших пограничных зон и их фактическую колонизацию75. Спорные дискуссии о политике в отношении меньшинств и «русификации», которые уже играли заметную роль в советский период, вновь вышли на авансцену76. Подобные дискуссии способствовали усилению культурной чувствительности и увеличению разнообразия в более широких дебатах о гражданстве и религии77. Еще одним результатом повышенного внимания к пространству и культуре стал интерес к повседневной жизни в провинции, городах и деревнях, удаленных от Санкт-Петербурга и Москвы78. Это помогло зафиксировать повседневный характер взаимодействия государства и общества и продемонстрировать, что городское и сельское население использовало государственные институты для регулирования самых разных аспектов повседневной жизни. При этом подобные исследования показали, что межэтнические отношения зачастую были далеко не враждебны.
В то время как культурным практикам уделяется все больше внимания, наблюдается и резкий рост исследований правовых практик в центральных районах империи. Вслед за антропологами права и специалистами по социально-правовой истории историки, анализируя разрешение конфликтов и поведение тяжущихся сторон, стали широко использовать архивные материалы, включая судебные иски, свидетельские показания, приговоры и протоколы судебных заседаний79. Внимание к изучению империи также позволило исследователям заняться анализом юридической практики в пограничных регионах, таких как Северный Кавказ и Центральная Азия, где особые правовые режимы сохранялись, продолжали меняться и даже поощрялись со стороны власти80. Эти периферийные регионы, однако, представляют собой особые случаи, поскольку они были присоединены только в XIX веке и не были полностью интегрированы в гражданско-административную структуру империи. У меньшинств были лишь немногие права, привилегии и возможности, которыми они пользовались на промежуточных территориях.
Периферийные регионы отличались не только большим культурным, но и административным и правовым разнообразием по сравнению с центральными районами России. К ним относятся Крым и Казань, другие губернии Волго-Камского региона, степи юга России и большая часть других территорий, расположенных по краям старой Московии. Несмотря на внутренние различия, эти регионы отличались и от центральной России, и от дальних рубежей тем, что сохраняли культурную неоднородность, характерную для периферии, при этом постепенно сливаясь с центром как в народном воображении, так и в практике административного управления81. Тем не менее понятие «промежуточные территории» является изменчивым и ситуативным. Оно отражает скорее краткосрочные, чем долгосрочные тенденции. Эта категория помогает выявить общие черты разных регионов, но в то же время она скрывает разнообразие. Сеймур Беккер был, безусловно, прав в том, что в поздней царской России сосуществовали различные типы империй82. Каждый регион был уникален в своих отношениях с центром, с другими регионами и с территориями за пределами имперских границ. Более точные концепты могут помочь отразить региональные особенности, например понятие Келли О’Нилл «Южной империи», которая включала Крым: не столько территория, определенная формальными границами, сколько открытое пространство, сформированное торговыми и миграционными потоками, которые процветали благодаря множеству пересекавших эти границы дорог, рек и морскому сообщению83.
В то время как промежуточные территории становятся объектом анализа во все большем числе работ, они остаются недостаточно изученными с юридической точки зрения. Существующие работы по Крыму и Казани посвящены постепенному включению этих регионов в состав империи, анализу меняющейся политики в отношении меньшинств, изучению религиозных, особенно мусульманских, организаций и их взаимоотношений с государством, а также взаимодействию и диалогу между центральными, региональными и местными акторами84. Однако, поскольку эти исследования уделяют лишь незначительное внимание правовым вопросам и игнорируют повседневное взаимодействие нерусского населения с государственной судебной системой, они не в состоянии проследить важность правовых институтов для строительства империи и их роль в выравнивании и скреплении разнообразного и глубоко иерархического общества.
Когда в середине 1860‐х годов юристы представляли свой доклад о возможности введения реформированных судов в Крыму и Казани, им, возможно, и в голову не могло прийти создавать специальные правила или институты для нерусского населения. Отчет не содержал никаких этнических или религиозных соображений, кроме общих заявлений о том, что эти два региона культурно неоднородны, и введение окружных судов было рекомендовано без каких-либо оговорок85. Поскольку дискриминация меньшинств была обычным явлением на протяжении веков, а значительная часть нерусского населения империи, особенно к востоку от Уральских гор, оставалась юридически отделенной (см. следующую главу), поразительно, что к периоду Великих реформ казалось бесспорным и даже естественным распространить новую правовую систему на промежуточные территории и предоставить всему их населению равный доступ к этой системе. В данной книге показаны последствия этого выдающегося решения и сохраняющейся двойственности интеграции и дифференциации не только для судебных реформ в России, но и для имперскости России в целом. Хотя я согласен с Валери Кивельсон и Рональдом Суни в том, что царская Россия, как и другие имперские образования, стремилась осуществлять свое правление посредством культивирования различий, а не интеграции или ассимиляции, я утверждаю, что реформированные суды подорвали эту форму управления и стали мощным толчком к достижению большего равенства86. В то же время данное исследование подчеркивает неоднозначность этих событий. Промежуточные территории позволяют проследить конфликт между стремлением к большему единообразию, признанием, даже поощрением различий и сохраняющейся дискриминацией. Хотя в Крыму и Казани усилия по интеграции этнических и религиозных «других» были более значительными, чем в отдаленных приграничных районах, меньшинства продолжали занимать неопределенное положение.
Анализируя споры и преобразования в имперском центре, а также взаимодействие государства и общества в залах суда и деревнях, данное исследование рассматривает ряд вопросов и обстоятельств: замысел и саму идею реформированных судов; принятие новых правил и процессуальных норм в Крыму и Казани; возникшее при этом взаимодействие между различными нормативно-правовыми порядками; организацию и проведение судебных процессов; сложные взаимоотношения между обычными людьми, представителями правоохранительных органов и юристами. Рассматривая политику, правовое взаимодействие и практику обращения в суд, эта книга также проливает свет на ряд более широких исследовательских проблем: право как средство модернизации, право как орудие империализма и право как инструмент интеграции меньшинств. В ней исследуется не только степень, в которой правовые реформы были предтечей введения принципа «верховенства права», основанного на европейских образцах, но и значение возникшей правовой системы для расширения и поддержания имперского правления. Российский историк культуры и социолог Борис Миронов характеризует Российскую империю между 1830 и 1906 годами как «правомерное» государство, то есть еще не «правовое» государство, а государство, в котором закон стал единственным определяющим критерием «преступления» и в котором все права, предоставленные населению, тщательно охранялись все более совершенными государственными институтами87. В последующих главах идея «правомерной империи» подвергается эмпирической проверке, исследуется масштаб и опыт этой «правомерности» среди обывателей в Крыму и Казани.
Несмотря на частое упоминание «позднеимперской России», в этой книге я преимущественно затрагиваю период с середины 1860‐х до середины 1890‐х годов. О потрясениях, предшествовавших революциям 1905 и 1917 годов и после них, уже написано немало. Корин Годен справедливо отмечает, что гораздо меньше внимания было уделено не столь зрелищным «повседневным контактам между чиновниками и крестьянами на уровне деревни в периоды относительной политической стабильности»88. Три десятилетия после Великих реформ, пусть и относительно, представляют собой один из таких стабильных периодов. В эти десятилетия не обошлось без террористических акций, рьяных поисков настоящих и мнимых революционеров, периодических восстаний и беспорядков на западной и южной границах. Однако за пределами столичных центров и некоторых приграничных регионов основная масса населения была гораздо меньше охвачена политическими волнениями, чем до или после этого периода. В научных трудах революционный пыл 1900‐х и 1910‐х годов, как правило, объясняется нерешенными проблемами и тлеющим недовольством после Великих реформ, и, исходя из этого, никакое обсуждение пореформенных лет не может закончиться их революционной кульминацией. Однако, хотя такая причинно-следственная связь между недовольством и протестом часто подразумевается, доказательства этому весьма скудны. Безусловно, можно полагать, что революция была продуктом деятельности наиболее активных участников политического процесса в некоторых частях империи после 1900 года и что она произошла вопреки относительной стабильности предыдущих десятилетий, а не вследствие глубинных проблем. События, описанные в этой книге, возможно, даже в немалой степени помогли избежать системного кризиса89. Конечно, недовольство было, но, как показывают многие эпизоды из новейшей истории, недовольство не означает революцию. Именно поэтому имеет смысл изучать период с середины 1860‐х до середины 1890‐х годов как самостоятельный, а не как прелюдию к неизбежным потрясениям XX века.
Уделяя основное внимание Крыму и Казани, эта книга вступает в дискуссию об интеграции мусульман в Российской империи. Позицию, высказанную татарским историком Ильдусом Загидуллиным, можно рассматривать как пример аргументации, часто используемой в работах местных ученых, а также в некоторых западных и советских публикациях90. Загидуллин придерживается жесткой дихотомии, согласно которой имперская политика в отношении казанских татар рассматривается через призму антагонистических отношений между империалистическим российским государством и угнетенным меньшинством. Для него пореформенные годы стали продолжением «национального и религиозного гнета» более ранних периодов91. Он отводит ключевую роль в поддержании неослабевающей хватки государства судам, полиции и другим государственным институтам92. По его мнению, новые суды были инструментом порабощения нерусского населения. Историки Айдар Ногманов и Диляра Усманова во многом разделяют эту точку зрения, добавляя при этом некоторую пространственную дифференциацию: в целом, по их мнению, в Казани политика была более репрессивной, чем в Крыму и на более отдаленных территориях93.
Любое противопоставление имперского государства угнетенным меньшинствам маскирует куда более сложную действительность. Татары XIX века испытали на себе широкий спектр политических решений: как в Крыму, так и в Казани центральные и местные власти неоднократно применяли против них насильственные меры, тогда как в других случаях они помогали сохранить мусульманскую идентичность. Роберт Джераси и Галина Емельянова проследили это многообразие политических мер на примере борьбы за власть и разногласий как внутри министерств и других государственных учреждений, так и между ними. Что касается Крыма, то О’Нилл документально подтвердила попытки частично восстановить и преобразовать, а не просто уничтожить местную застройку и окружающую среду, где по-прежнему ощущалось сильное татарское влияние94.
Данное исследование развивает эти аргументы и точку зрения, что мусульмане не жили в консолидированных общинах, обособленных от остального общества. Исследования мусульман в России до сих пор, как правило, были посвящены религиозным и «коренным» институтам; в них обсуждались трансрегиональные и трансимперские связи и сети, но никак не интеграция мусульман в общеимперские институты95. Неудивительно, наверное, что в этих работах подчеркиваются культурные различия. Эта книга, напротив, не посвящена ни мусульманским институтам, ни мусульманской правовой культуре – для этого пришлось бы гораздо подробнее исследовать практику разрешения споров муллами и имамами, а также вопросы неформального урегулирования конфликтов. Здесь речь идет о том, как этнические и религиозные меньшинства взаимодействовали с судами и другими институтами, введенными в 1860‐х годах. При этом подробно рассматриваются отношения, которые нерусское население поддерживало со своими русскими соседями. То, что татары составляли крупнейшее меньшинство, a в Крыму даже большинство населения, объясняет тот факт, что они занимают особое место в последующих главах. С небольшими изменениями, однако, основные аргументы также справедливы для караимов, греков, армян, чувашей, мордвинов и представителей других этнорелигиозных меньшинств.
Рассмотрев, как мусульмане использовали различные правовые институты для урегулирования религиозных споров, Роберт Круз уже предложил своевременное противоядие тезису, что отношения между мусульманами и государством были враждебными96. Однако он также не учел многие временные и региональные различия и таким образом преувеличил значение своих выводов, настаивая на том, что власти сделали ислам опорой имперского общества и что мусульмане стали рассматривать государство как гаранта своих прав97. Натан Спаннаус привел более убедительные аргументы: сосредоточившись на судебных разбирательствах дореформенного периода, он показал, что между мусульманами и российским государством существовали неоднозначные, но тесные отношения98. Данная книга развивает этот тезис и применительно к пореформенным годам. Однако самое главное – в ней утверждается, что взгляд на татар преимущественно через призму их набожности и религиозного воспитания не дает представления ни об их повседневной жизни, ни о многомерности их идентичностей. Жизнь татар в первую очередь определялась тем, что они были крестьянами, землевладельцами, поденщиками или мелкими городскими чиновниками; богатыми или бедными, преступниками или законопослушными, религиозными или равнодушными к религии; они принадлежали к различным этническим, гендерным и возрастным группам. Большинство из них были частью обедневшего сельского населения и не имели средств, позволявших богословам, интеллектуалам и купцам регулярно перемещаться между регионами или даже империями.
Сочетая в себе внимание к вопросам имперского государственного строительства, правам меньшинств и правовой практике, эта книга призвана представить более детальную картину интеграции мусульман в позднеимперское общество. В отличие от большинства исследований российского империализма и национальной политики, она посвящена правовому взаимодействию; и в отличие от большинства исследований правовой практики, она помещает судопроизводство в более широкие рамки культурного разнообразия Российской империи.
СТРУКТУРА КНИГИ
В первой главе представлен общий тематический контекст данного исследования. В ней приводится обзор изменений социальных и религиозных различий в Российской империи с середины XVI до начала XX века, а Великие реформы 1860‐х годов рассматриваются в более широкой исторической перспективе. При этом особое внимание уделяется изменению положения меньшинств, а затем подробно объясняется масштаб и значение изменений, осуществленных в ходе судебной реформы 1864 года. Кроме того, в этой главе обсуждается возникший на значительной территории империи правовой плюрализм – развивающаяся, регулируемая государством сеть судов, а также сельские, религиозные, «обычные» и другие правовые формы. При этом подчеркивается сосуществование и взаимодействие различных правовых культур во времени и пространстве.
Остальные главы книги посвящены Крыму и Казани. Они содержат анализ процесса внедрения новых судов в этих двух регионах, а также их восприятие и реакции местного населения. Поэтому в большей части книги основное внимание уделяется не столичным законодателям, а юристам из небольших городов, чиновникам среднего и низшего звена, а также простым людям, как внутри, так и вне судебной системы. В частности, вторая глава посвящена Крыму и Казани в пореформенный период. В ней не только обсуждаются экономические и демографические траектории этих двух регионов и формы управления ими, но и прослеживается изменение их положения в имперском воображении. В третьей главе рассказывается о введении окружных судов в Казани и Симферополе, уделяется внимание подготовке, внедрению и восприятию новых институтов. Четвертая глава обращается к постановочной стороне правосудия, анализируя устройство пореформенного суда, репрезентацию присутствия монархии и принципы скромности и равенства в суде, представительство меньшинств, а также эффект судебных разбирательств, сказывающийся на присутствующих в зале суда. Особое внимание уделяется воспитательному значению судебных заседаний, призванных превратить участников процесса в «нравственно стойких», законопослушных граждан.
В пятой главе рассматриваются особенности активного использования татарами-мусульманами и другими меньшинствами окружных судов при рассмотрении гражданских и уголовных дел, при этом наиболее яркой формой такого взаимодействия являлось скорее примирение, чем конфликт. Далее, в шестой главе, приводится возражение к этому тезису и разбираются случаи, когда мусульманское население не сотрудничало с государственными институтами, включая судебную систему, полицию и местную администрацию, или даже откровенно сопротивлялось им. Большинство из этих случаев были связаны с земельными вопросами и страхом принудительного обращения в христианство в Поволжье. В Крыму, где угроза насильственного обращения была меньше и где земля была измерена и размежевана раньше, большинство оставшихся споров удалось разрешить в суде к 1870‐м годам. Наконец, в заключительной главе, посвященной «кризисному» 1879 году, когда восстания волжских татар были жестоко подавлены казанскими властями, рассматривается один из случаев, где существующий правовой порядок разрушился и уступил место произволу. Этот пример показывает, что хотя к концу 1870‐х годов формализованное верховенство права приобрело значительный авторитет, ему по-прежнему бросали вызов самодержавные порядки.
ОБ ИСТОЧНИКАХ
Данное исследование опирается на разнообразные источники, включая архивные записи, газеты, мемуары, отчеты и статьи, написанные местными чиновниками и юристами XIX века. В отличие от предыдущих исследований пореформенной правовой системы, которые в основном основывались на трудах известных юристов и министерских отчетах, в данной работе новый правопорядок рассматривается с региональной точки зрения. Поэтому, помимо анализа документов, хранящихся в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге, в книге использованы многочисленные материалы о деятельности местных судов и юридической практике из Национального архива Республики Татарстан (НАРТ) в Казани и Государственного архива Автономной Республики Крым (ГААРК) в Симферополе99. Кроме того, в книге проанализированы статьи местных газет обоих регионов, а также используются публикации в общероссийской прессе.
Хотя региональный подход и предлагает новый взгляд на правовую культуру, опираясь на него, можно составить лишь неполную картину. Концентрируясь на взаимодействии простых людей с государственными институтами, такой подход сталкивается с общей проблемой в исследованиях малых городов и аграрных обществ: большинство источников были написаны представителями элиты, а не народа. Фокус на правовых институтах делает эту проблему еще более острой, поскольку разбирательства и речи в залах суда – и сделанные на их основе записи – отражают существовавшие асимметричные властные отношения, то есть господство одних и подчинение других100. Поэтому использование таких источников – это не просто реконструкция голосов подчиненных. Закон также не является нейтральным и беспристрастным, он всегда выгоден одним и наносит ущерб другим101. Эта проблема также усугубляется тем, что, в то время как данная книга посвящена этническим и религиозным меньшинствам, большая часть архивных документов и публикаций была написана представителями русского большинства102.
По-настоящему удовлетворительных решений этих проблем не существует. Сельские жители – будь то татары, русские или другие – мало что могли сказать о правовых институтах; а поскольку они часто не умели читать и писать, мы узнаем об их действиях и восприятии только в опосредованной форме. Российская элита обычно изображала сельских жителей необразованными грубиянами, враждебно относящимися к государственному законодательству и регулированию. Татарская элита, в свою очередь, игнорировала государственную правовую систему в своих трудах, по крайней мере в рассматриваемый период. Большинство из них были купцами или богословами, занимавшимися исламской мыслью и практиками, а не юристами и журналистами, включенными в обсуждение правовой реформы. Однако то, что мусульманская интеллигенция уделяла основное внимание религии, вряд ли можно считать доказательством того, что мусульманское население волновали исключительно религиозные вопросы. До 1905 года татароязычным изданиям, за редким исключением, не разрешалось затрагивать светские проблемы103. Более того, у татарских интеллектуалов были свои интересы. Им нечего было сказать о повседневных заботах крестьянства, которое составляло подавляющее большинство татар-мусульман в Крыму и Казани. Жизнь сельских жителей не была обусловлена исключительно или даже преимущественно исламскими религиозными институтами и нравственными предписаниями. Несмотря на то что анализ государственных документов приводит к проблеме предвзятости источников, он все же может помочь составить взгляд «снизу», увидеть более полную картину взаимодействия государства и общества, подчеркивающую как противоречия, так и уступки. Хотя источников, на основании которых можно составить представление о мыслях сельских масс, немного, есть множество документов, указывающих на то, чем занимались люди в деревнях.
Со временем в доступных нам сегодня документах обнаруживались различия и делались изменения, что накладывает определенные ограничения на работу с ними. Причина отсутствия внимания к ХX веку в данном исследовании не только сугубо историографическая, она также связана с этими изменениями в документах. Во-первых, последние двенадцать лет имперского правления ведение учета было весьма специфическим, что оказало влияние и на окружные суды. Статистика преступности показывает поразительные изменения после 1906 года. В период с 1880 по 1905 год количество уголовных дел, рассматриваемых в год, колебалось от 2000 до 3800 в Симферополе и от 3000 до 4500 в Казани104. На протяжении всего этого периода наибольшее количество дел в обоих окружных судах приходилось на различные виды краж. После революции 1905 года функции судебной системы изменились105. Так как мелкие преступления передавались в нижестоящие суды, количество рассмотренных дел в абсолютном выражении резко сократилось: в 1906 и 1907 годах в Симферополе рассматривалось всего 500 дел в год, а в Казани – от 800 до 900. В то же время в условиях революционных потрясений тех лет окружные суды все больше и больше занимались вопросами государственной безопасности. Если раньше государственные преступления, восстания и сопротивление властям занимали в этих судах лишь незначительное место, то внезапно такие политические преступления стали составлять от 20% до 25% всех уголовных дел в Симферополе и 35–42% в Казани. То, что в последующие годы данные показатели снова снизились, не значит, что 1906–1917 годы можно рассматривать в контексте предыдущих реформ. Необходимо более подробное исследование этого вопроса, чтобы проследить сложное переплетение преемственности и преобразований.
Во-вторых, архивы Казани и Симферополя специфически отображают и преподносят период 1905–1917 годов. Так, несмотря на то что ежегодно по-прежнему рассматривались сотни обычных уголовных и гражданских дел, информация о них в архивах практически отсутствует. Причина исчезновения документации, вероятно, была довольно банальной. Поскольку большинство этих дел было реорганизовано архивистами в сталинский период, не исключено, что в это время были приняты решения о сохранении политических дел и изъятии с полок неполитических дел, чтобы подчеркнуть полицейско-государственный характер ненавистной царской администрации. В последующие десятилетия эта тенденция сохранялась. Так, документы и в Казани, и в Симферополе подтверждают, что в 1980‐х годах неполитические дела были уничтожены в большом количестве (в описях они отмечены как «уничтоженные»)106. В результате сохранилось лишь небольшое количество неполитических дел, относящихся к началу ХX века, что делает качественный анализ деятельности окружного суда в этот период практически невозможным.
Существующие досье и отчеты также должны рассматриваться критически. Статистические данные часто были неполными. Отдельные религиозные, этнические или социальные группы не принимали участие в переписях, опасаясь репрессий или по культурным причинам. Некоторые мусульмане и христиане, заклейменные как «сектанты», равно как и другие преследуемые группы, избегали государственного учета или прямо сопротивлялись ему107. Например, то, что в городе Ялта в 1889 году было зарегистрировано 287 мужчин-мусульман, но только восемь женщин-мусульманок, вероятно, больше связано с отказом от общения с чиновниками-мужчинами, чем с их фактической численностью108. Этнографические исследования не обязательно были более точными, чем официальная статистика, поскольку некоторые из них опирались на одни и те же источники. Например, в многотомном исследовании А. Ф. Риттиха по этнографии России просто воспроизводилась искаженная статистика, предоставленная местной полицией109.
Статистические данные о судебных заседаниях столь же обрывочны. Хотя главные газеты Крыма и Казани часто публиковали списки присяжных заседателей для предстоящих процессов, иногда они этого не делали. Наше представление о составе присяжных заседателей в имперской России остается частичным и приблизительным. «Судебные резолюции», публиковавшиеся в прессе с конца 1860‐х годов, дают более подробную информацию о том, как в прессе освещалась работа новых судов, но и в них имеются свои проблемы: хотя в этих документах и указывался предмет судебного разбирательства, постановление суда и имена тяжущихся (в гражданских делах) или обвиняемых и потерпевших (в уголовных делах), они не следовали какому-либо единому стандарту. В одних перечислялась сословная принадлежность основных участников процесса, в других – нет; почти ни в одном случае не упоминалась их этническая или религиозная принадлежность. Иногда пресса и вовсе не публиковала «резолюций» или приводила только перечень отдельных судебных разбирательств. Таким образом, эти списки могут быть лишь приблизительным указанием того, какие правовые вопросы рассматривались на судебных процессах, кто обращался в суд и какие решения принимались судом.
В некоторых случаях статистические данные были полностью выдуманы. Государственные комиссии предостерегали от использования «произвольных цифр» в случаях, когда чиновники не могли найти нужную информацию110. Наконец, статистические данные вряд ли были непредвзятыми. Как показал Остин Джерсилд на примере Северного Кавказа, где местная статистика в основном состояла из коротких историй, документирующих ужасные преступления и наказания, статистика преступлений могла вестись таким образом, чтобы оправдать законодательные изменения. Эти записи способствовали созданию мифа о «варварских» местных жителях и «цивилизованных» русских и подкрепляли требования об усилении контроля111. Таким образом, статистика могла использоваться в качестве инструмента политики, но зачастую она была столь же необъективна, как и другие источники.
Пресса дает представление о развитии пореформенной правовой системы. По крайней мере, до середины 1870‐х годов Александр II считал, что освещение реформ в прессе обеспечит им народную поддержку, благодаря чему возник журналистский жанр судебных очерков112. Репортеры стали подробно освещать новые гласные судебные процессы, описывая все обстоятельства дела, атмосферу в зале суда, особенности языка жестов и поведения подсудимых, судебных чиновников и зрителей. Многие очерки содержали выступления прокуроров и адвокатов в полном объеме. Юристы и журналисты часто подчеркивали воспитательный аспект таких публикаций. Например, главная региональная газета Казани пообещала «распространить в нашем обществе юридические понятия», а затем добавила, что качественные публикации могут помочь выявить случаи несоблюдения процессуальных норм113. Либерально настроенные наблюдатели настаивали на том, что на прессе лежит моральная обязанность обличать ошибочные судебные решения114. Однако с середины 1870‐х годов, по мере того как цензоры начали распространять списки запрещенных тем и предупреждать редакции о недопустимости комментариев к официальным заявлениям, освещение судебных процессов стало более избирательным115.
Тем не менее газеты никогда не рисовали безобидную картину происходящего. Как и сегодня, дела об убийствах или противостоянии властям привлекали особое внимание, поскольку именно в них читатели могли почувствовать драматизм и увидеть публичную критику общественного и политического строя. Публикации зачастую были полны домыслов, носили сенсационный характер, опирались на слухи и были направлены на увеличение числа подписчиков. Освещение дел, связанных с меньшинствами, было далеко не беспристрастным. Русские и государственная судебная система в публикациях, как правило, играли цивилизаторскую роль в борьбе с «отсталыми» местными жителями: государственные суды изображались как героические институты, например «спасающие» девушек, которые были изнасилованы или похищены нерусскими116. Это были далеко не невинные очерки. Как и в других имперских контекстах, защита женского тела служила оправданием колониального господства117. В то же время между газетами существовали различия, которые отражали не только политические пристрастия, но и отношение к нерусскому населению. Например, региональная газета «Казанские губернские ведомости» критиковала столичную прессу за искажение местных историй и публикацию «сказок» о непокорных татарах118. Газеты, выходящие на других языках, кроме русского, как правило, представляли дела в менее империалистических терминах, однако и они уделяли особое внимание наиболее сенсационным историям. Примечательно, что единственная газета на татарском языке до 1905 года, «Терджиман-Переводчик», издававшаяся в Крыму с 1883 года, при обсуждении процессов с участием татар в Казанском и Симферопольском окружных судах чаще всего писала о жутких убийствах. Если рассматривать исключительно прессу, то она является сомнительным путеводителем по судебной практике. В данной книге газетные статьи используются в основном в качестве дополнительных иллюстраций и для анализа общественного восприятия судебной реформы и правовой деятельности.
Недостатки различных типов документов могут быть сглажены только путем тщательного сравнения и изучения разнообразных источников, что позволит увидеть, как они подкрепляют, дополняют или же опровергают друг друга.
Глава I
ПРАВА МЕНЬШИНСТВ И ПРАВОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В этой главе основные тезисы настоящей книги рассматриваются в более широком контексте развития прав, обязанностей и общих правовых преобразований в Российской империи. В ней приводится историческая справка и многолетняя историческая перспектива, необходимые для понимания новизны судебных и в целом общественных изменений 1860‐х годов. Вслед за обсуждением меняющейся роли религии и социального статуса, а также анализом преемственности и изменений в управлении культурным разнообразием в империи на протяжении веков, рассматриваются преобразования, связанные с судебной реформой 1864 года. В данной главе также проанализирован плюралистический правовой порядок, который продолжал характеризовать царскую Россию, а также прослеживаются неоднозначные отношения между правовой интеграцией, с одной стороны, и поощрением культурных и правовых различий – с другой.
МАРКЕРЫ РАЗЛИЧИЙ: СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС, РЕЛИГИЯ И ГРАЖДАНСТВО
Россия XIX века была глубоко иерархическим обществом. Социально-экономические иерархии переплетались, а иногда и вступали в противоречие с языковыми, религиозными, политическими и другими иерархиями. Практика деления людей на категории по таким критериям не только позволяла государству осуществлять административный контроль, но и имела вполне конкретные последствия для жизненных перспектив и ожиданий людей. Поскольку каждая из категорий населения наделялась определенными правами, обязанностями и привилегиями, групповая принадлежность имела значение на всех уровнях и в значительной степени определяла повседневную жизнь.
На протяжении большей части существования империи социальный статус и религия служили ключевыми критериями для категоризации людей119. Хотя в середине XIX века национальность, определяемая по языковому признаку, приобрела большую значимость и в последующие десятилетия стала включаться в (некоторые) официальные документы, она никогда не превосходила по важности другие критерии классификации120. В то же время в результате растущего социального разнообразия, имперской экспансии и демографического роста реальные и мнимые различия как внутри сословий и религиозных общин, так и между ними становились все более размытыми.
С начала XIX века подданные Российской империи юридически подразделялись на четыре крупные социальные группы, так называемые «состояния»: дворянство, духовенство, городские обыватели и крестьянство121. Эти группы включали в себя целый ряд подгрупп, а их границы были довольно подвижными. Например, в рамках обширной категории «крестьяне» права, обязанности и повседневная жизнь государственных крестьян отличались от прав, обязанностей и повседневной жизни крепостных и более мелких потомственных крестьянских групп, включая (нерусских) податных крестьян. В то же время важнейшим различием, затрагивающим все эти группы, было различие между теми, кто должен был платить подати (крестьяне и большинство городских обывателей), и теми, кто не платил подати (дворяне и духовенство). Включение в податной список означало унизительный правовой статус и обременительные условия, такие как ограничение мобильности, рекрутские повинности и угроза применения телесных наказаний. Это создало пропасть между привилегированными и непривилегированными подданными империи122. Однако, с точки зрения религиозных меньшинств, это деление едва ли было существенным.
В России раннего Нового времени группы нехристиан, населявшие недавно завоеванные земли, обычно сохраняли отдельный правовой и экономический статус, выплачивая дань (ясак) вместо налогов123. Со временем преференции для царских подданных, принадлежавших к Русской православной церкви, стали более систематическими. Хотя при Петре I (1682–1725) правящая элита стала формировать имперское государство в более светских рамках, замена в 1721 году независимого Московского патриархата на контролируемый государством Святейший синод в качестве высшего органа управления церковью не только усилила центральный контроль над религией, но и привела к слиянию Русской православной церкви с государством: связи, которая была разрушена большевиками лишь спустя почти двести лет. Русское православие стало определяться как «первенствующая и господствующая вера» империи, что было подтверждено в «Своде законов Российской империи» в 1832 году124.
На этом фоне включение большого количества нерусского и неправославного населения в реестр налогоплательщиков в XVIII и XIX веках бросило вызов существующей иерархии и религиозной сегрегации. Это налагало новые обязательства на внутренних «других» России, что для обычных людей имело большое значение. Казанских татар, например, наверняка меньше заботил их переход из числа облагаемых ясаком в разряд податных, который произошел в 1718 году, чем тот факт, что экономическое бремя податного населения было в пять раз выше, чем у обложенных ясаком крестьян125. Тем не менее хотя логика этой политики была экономической и глубоко прагматичной, она также была шагом к большему единообразию и интеграции ранее отчужденных групп. Подушная подать оставалась односторонним бременем для городских обывателей и крестьян, однако с годами подушный налог взимался со все меньшим вниманием к культурным различиям.
Тем не менее основным маркером прав, обязанностей и привилегий оставалось подданство, или гражданство, как мы бы назвали его сейчас. В случае с Россией ситуация была действительно уникальной. В то время как многие империи характеризовались конкурирующими формами суверенитета и большим количеством граждан, не являющихся подданными, Российская империя была разнообразным, но гораздо более централизованным государством. Подавляющее большинство жителей России были подданными государя, однако распространение статуса подданных не означало единообразия среди них. Этот статус лучше всего понимать в узком смысле, как формальное членство в государстве, а не как статус, предоставляющий равные права126. На протяжении веков он развивался по определенной схеме: за редким исключением, империя сначала давала подданство только что завоеванным народам, а затем договаривалась об особых условиях с новыми подданными – точнее, с различными социальными группами на новых территориях – или навязывала их127.
Эта сложившаяся с годами практика была нарушена в 1860‐х годах, когда были приняты меры по расширению принципа равенства. Хотя дворяне продолжали пользоваться большими привилегиями, чем мещане и крестьяне, а нехристиане на многих недавно завоеванных территориях оставались вне сословной структуры, в зале суда все эти люди стали равны. Дворянин, обвиненный в убийстве, мошенничестве или любом другом уголовном преступлении, имел не больше прав, чем крестьянин; и, хотя дворяне имели преимущества, поскольку могли позволить себе чаще обращаться в суд, крестьянин формально имел равные возможности выиграть дело против дворянина. Каждый человек мужского пола становился субъектом гражданского права, независимо от вероисповедания, национальности или сословия. Неудивительно, что после Великих реформ резко возросло количество заключаемых договоров128. Частная собственность из привилегии стала общепринятой правовой нормой.
У нового равенства были свои пределы. Империя продолжала восприниматься и управляться не столько как система прав и привилегий, сколько как совокупность социальных барьеров129. Крестьяне и некоторые меньшинства по-прежнему подвергались серьезным ограничениям. Часто подобные ограничения не были прописаны в общих законах, а указывались в примечаниях. Сосуществовали различные типы ограничений: одни относились ко всему нерусскому населению, другие – к нехристианам, третьи – к некоторым национальностям. Евреи часто исключались из общих правил: хотя почти каждый закон о подданстве, месте проживания и многих сферах гражданского права был написан в универсалистском ключе, за ним обычно следовало примечание, в котором оговаривались отдельные нормы для еврейского населения130. Аналогичным образом крестьяне оставались в своего рода обособленном сегменте общества: так как многие из них после раскрепощения продолжали быть финансово и юридически привязанными к крестьянским общинам, они еще не могли действовать как независимые субъекты гражданского права; кроме того, они должны были использовать свои собственные социальные, экономические и судебные институты для урегулирования мелких правонарушений и незначительных гражданских споров131.
Хотя подданство все больше понималось в секулярных терминах, религия оставалась ключевым фактором управления. Имперское общество было действительно «сгруппировано по конфессиональному признаку»132. Власти продолжали использовать вероисповедание как один из организационных критериев. Ни один подданный императора не имел права не исповедовать какую-либо религию. Поскольку государство понимало религию прежде всего с точки зрения практики, оно могло приписать кому-либо определенную веру, а затем поручить полиции следить за выполнением соответствующих религиозных предписаний. Фактические убеждения людей были гораздо менее важны, чем их официальный религиозный статус133. Хотя власти особо следили за прихожанами Русской православной церкви (особенно новообращенными), надзор осуществлялся и за религиозной практикой в других общинах134. Во многих случаях государство привлекало и использовало существующие институты этих общин, включая школы, и священнослужителей для продвижения образования, насаждения определенного порядка и ведения учета рождений, браков и смертей135. Поскольку ключевые практики гражданского права (присяги, браки и т. д.) оставались разными для каждой из конфессий, религиозные различия продолжали определять повседневную жизнь вплоть до конца существования империи136.
Российские правители и имперская элита также публично демонстрировали важность религии. Несмотря на то что они продолжали гордиться культурным разнообразием империи и ее многонациональным дворянством, они, как правило, опирались на образы и символику Русской православной церкви. Православная церковь зависела от государства, не в последнюю очередь потому, что нуждалась в помощи государственной администрации и полиции для реализации религиозных доктрин и политики. Однако, поскольку государство использовало церкви и приходское духовенство для поддержания контактов с населением, оглашения указов и разъяснения своей политики, эта зависимость и выгода были взаимными137. Таким образом, церковь использовалась как инструмент проведения государственной политики138. Такую же функцию в определенной степени выполняли и спонсируемые государством мусульманские религиозные учреждения139.
Со временем, однако, произошли определенные изменения. При Петре I моральный авторитет и общественная значимость церкви снизились. Среди правящей элиты утвердился сугубо прагматичный взгляд на церковь как на поставщика образования и общественных благ140. Только когда в 1812 году возникла угроза наполеоновского вторжения, элита вновь обратилась к религиозному образу правителя – благочестивому царю, помазаннику Божьему, полному решимости спасти «Святую Русь» от некрещеного захватчика141. Однако именно восшествие на престол Александра III в 1881 году вновь сделало религиозные церемонии важнейшим элементом императорского двора142. Связь между церковью и государством стала особенно тесной в последние два десятилетия XIX века143.
В то же время влияние религии на политику государства в конце XIX века не следует преувеличивать. Использование религиозных символов продолжало носить в основном практический характер: главным образом оно выражало стремление элиты символически отобразить и тем самым укрепить авторитет и единство государства. Помимо религии, получили распространение и другие критерии определения прав и обязанностей различных групп населения, в том числе в зависимости от образа жизни (оседлый или кочевой) и продолжительности существования той или иной территории в составе империи144. Поэтому люди, исповедующие одну и ту же религию, могли иметь совершенно разный правовой статус. Например, одни подчинялись военному правлению, а другие находились в гражданской юрисдикции. Права и институты, предоставленные кочевникам-мусульманам в степях, отличались от прав и институтов мусульманского населения купеческих городов Кавказа и Средней Азии, а также от прав и институтов оседлых волго-уральских татар. Как правило, мусульмане, проживавшие на недавно завоеванных территориях, получали существенную автономию, в то время как те, кто давно проживал в составе империи, стремились к максимальной интеграции145.
КРАТКИЙ ОБЗОР: УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫМ РАЗНООБРАЗИЕМ, 1552–1917 ГОДЫ
Изменение правового положения меньшинств тесно связано с экспансией и меняющимся самосознанием Российской империи. На протяжении большей части раннего Нового времени правители России понимали народ как совокупность людей, населявших их земли146. Преданность царю, а не общая религия, была главной особенностью этого многоконфессионального народа. Завоевание Казанского и Астраханского ханств в 1552 и 1556 годах привело в Московское государство большое количество нерусского и нехристианского населения (особенно мусульман и анимистов), что сделало его по-настоящему многокультурным. Однако если монгольские Чингисиды были одним из главных родов в ранней Московии, то к концу XVI века только небольшая группа татарских мурз (знати) все еще могла претендовать на происхождение от Чингисидов и сохранять высокое общественное положение147. Большинство же царских подданных-мусульман в лучшем случае могли надеяться на улучшение своего социального положения через военную службу. Кроме права носить оружие, этим так называемым «служилым татарам» в обмен на их усилия жаловались земельные наделы (поместья). Однако они по-прежнему не допускались к ключевым государственным должностям148.
Хотя мусульмане были неотъемлемой частью государства и общества, их воспринимали как культурно неполноценных и обращались с ними соответственно149. Конструирование их идентичности как «других» осуществлялось посредством языковой категоризации, которая выделяла их как иноверцев, иноземцев или инородцев, и политических актов, таких как присяга на верность. Очень важно, что особый экономический статус являлся ощутимым свидетельством их подчинения: мусульмане и другие нехристиане в Казани раннего Нового времени должны были платить ясак (денежную или натуральную дань). Эта дискриминация стала еще более выраженной после середины XVII века, когда в первом российском своде законов, Соборном уложении 1649 года, было введено различие между русскими и нерусскими служилыми людьми; их служба и владение землей отныне регламентировались по-разному150. Постепенно православие стало ключевым критерием лояльности, так что со временем переход в православие сделался необходимым условием для получения многих прав и привилегий. Только переход в православие мог окончательно изменить правовой и экономический статус человека и прочно включить прежних мусульман и анимистов в имперское общество. Однако большая часть мусульманского населения предпочитала не переходить в другую веру, и поэтому Россия продолжала развиваться как культурно разнообразное государство. После победы над Швецией в 1721 году Россия объявила себя «империей» западноевропейского типа. С этого момента ее многонациональная элита управлялась сувереном и бюрократией западного образца и была объединена общей культурой, черпающей вдохновение в Западной Европе151.
Упоминания о Казани раннего Нового времени намекают на то, что конфессиональная политика была неразрывно связана с отношением государства к нерусскому населению. Поскольку большинство русских были православными, большинство татар – мусульманами, большинство поляков и литовцев – католиками и т. д., религиозные сообщества часто приравнивались к этническим группам. Это совпадение этнической и религиозной идентичности с годами было ослаблено церковными расколами, обращениями в другую веру и имперской экспансией. В Поволжье существовало значительное число кряшен, или «крещеных татар», увеличение и уменьшение численности которых говорит о том, что татарская идентичность не оставалась статичной152. На побережье Черного моря также обосновалось множество неправославных христианских конфессий, групп инакомыслящих и сект, что позволило усомниться в предполагаемой связи между русскостью и православием Русской церкви. И все же в целом отождествление этнической и религиозной идентичности оставалось фактом жизни значительной части населения и решающим фактором государственной политики. Принятие новых законов об управлении территориями часто происходило с учетом особенностей местных религиозных общин, а конфессиональная политика нередко была нацелена на конкретные этнические группы, за исключением случаев, когда речь шла о православных отступниках. Так или иначе, то, что этническая и религиозная идентичности не всегда отождествлялись, не влияет на основные тезисы этой книги.
Государственная политика в отношении меньшинств была непоследовательной и изменчивой. Каждая из групп меньшинств была по-своему определена в законе; а поскольку в большинстве случаев принимаемые законы оспаривались на местном, региональном или центральном уровнях, политика по отношению к меньшинствам существенно различалась во времени и пространстве. Государственные и церковные институты часто расходились во мнениях относительно направления и реализации проводимой политики153. В то время как власти в основном были заинтересованы в стабильности и поэтому как можно меньше вмешивались в религиозную жизнь меньшинств, православная церковь стремилась усилить свое влияние и привести в лоно церкви все больше неверующих. При этом православная церковь не была монолитом. Святейший синод так и не выработал последовательной позиции в отношении миссионерской деятельности. Высокопоставленные священнослужители и местные священники, как правило, скептически относились к терпимости и конфессиональному плюрализму154. Однако в приграничных регионах архиепископы обычно были заняты укреплением позиций церкви и поэтому были склонны мириться с местными различиями и игнорировать указания митрополита о необходимости миссионерской деятельности. Аналогичные противоречия проявлялись и в государственном управлении. Органы местной власти могли отказаться следовать политике невмешательства и объединиться с представителями церкви, захватывая имущество, закрывая культовые сооружения и оказывая давление на меньшинства с целью заставить их принять православие155.
Несмотря на такую непоследовательность, в имперской политике по отношению к меньшинствам прослеживаются некоторые более широкие тенденции и этапы. Указ Екатерины II «О терпимости всех вероисповеданий» (1773) и реформы, проведенные ею в 1780‐х годах, несомненно, стали переломным моментом. До этого периоды относительной терпимости чередовались с волнами давления и преследований, но в целом религиозному разнообразию не уделялось особого внимания156. Екатерина преимущественно заменила насильственные меры политикой убеждения. При ней ислам получил официальный правовой статус, а мусульманам и некоторым другим религиозным общинам было разрешено строить свои собственные культовые сооружения. Более того, пассивная терпимость к меньшинствам быстро трансформировалась в их активную интеграцию. У мусульман появилось собственное духовенство, причем наиболее высокопоставленные его представители получали жалованье от российского правительства157. Также были учреждены органы конфессионального управления, ответственные за назначение духовного руководства, управление культовыми сооружениями и решение вопросов семейного и наследственного права. Хотя эта ассимиляция и институционализация религий, отличных от русского православия, была вдохновлена идеями Просвещения о толерантности, она также была глубоко прагматичной. Как объясняет Пол Верт, включение неправославных конфессий в многоконфессиональное устройство империи позволило сделать их более управляемыми и при этом оставить их дискурсивно «чужими»158. В конечном счете политика Екатерины была направлена на то, чтобы убедить религиозные меньшинства, в частности мусульман, добровольно принять российское господство.
Однако политика Екатерины в отношении внутренних «других» оставалась избирательной. Не все меньшинства в равной степени выигрывали от поощрения конфессионального разнообразия, а некоторые и вовсе не получали от этого никакой выгоды. Всеобщая свобода вероисповедания не была гарантирована, и различные религиозные общины, особенно анимисты и те, кого считали еретиками и сектантами (включая членов Униатской церкви в западных губерниях), продолжали подвергаться преследованиям или сталкиваться с серьезными ограничениями. Более того, институционализация конфессионального разнообразия была уравновешена противоположной тенденцией – проведением политики, направленной на унификацию российского государства. Поскольку Екатерина отвергала любые посягательства на свой суверенитет, она упразднила автономные украинские и казацкие образования (Гетманщину и Запорожскую Сечь в 1764 и 1775 годах соответственно) и отменила особые права, которыми обладали балтийские немцы (1775)159.
Тем не менее ее усилия по включению меньшинств существенно отличались от прежней политики. После ее правления общий принцип веротерпимости в основном сохранялся, однако усилился уровень государственного управления и контроля, а политика стала более систематической. При Николае I представители мусульманской, еврейской, католической и протестантской религиозных общин были обязаны регистрировать все рождения, браки и смерти. Имамы обязывались вести так называемые «метрические книги» в Поволжье с 1828 года и в Крыму с 1832 года160. В течение предыдущих ста лет подобный учет велся исключительно для православных, что фактически лишало религиозные меньшинства гражданского статуса. Введение метрических книг наделило эти меньшинства «правами состояния»: были официально признаны их сословные привилегии, семейные, имущественные и наследственные права, им было разрешено поступать на государственную службу и в учебные заведения, за некоторым исключением161. Распространение метрических книг на неправославных подданных ознаменовало начало формирования правовой субъектности для представителей этих групп. В то же время, продолжая опираться на духовенство для ведения учета населения, правительство так и не приняло универсального способа учета: в то время как на Южном Кавказе мусульмане стали официально заноситься в метрические книги только в 1873 году, другие группы и вовсе не подлежали подобному учету162.
Зарождение правовой субъектности для основной массы крымских и волжских татар было обусловлено еще одним фактором. В начале 1830‐х годов обширный и лишенный системы корпус имперских законов был, наконец, объединен в свод законов. В издаваемом регулярно с 1832 года «Своде законов Российской империи» татары Тавриды и Казани перестали быть юридически обособленной группой: теперь, отнесенные к категории казенных крестьян, мещан, купцов или казаков, они были включены в общую социальную структуру империи163. Однако «Свод законов», наряду с введением учета в метрических книгах для неправославных, был направлен не столько на эмансипацию этих групп населения, сколько на их упорядочение и стандартизацию. Таким образом, «Свод законов» скорее утвердил и укрепил старые иерархии. Многие законы относились к раннему Новому времени и содержали элементы религиозной дискриминации. Например, паспортизация и кодификация прав на проживание в период с 1830‐х по 1850‐е годы утвердила многие существующие ограничения для еврейского населения. Евреям было отказано в праве проживать за пределами черты оседлости – территории, охватывающей ряд западных губерний от Балтийского моря до Черного. В некоторых губерниях им также было запрещено проживать в определенных городах, городских кварталах и даже на улицах; исключения делались только при особых обстоятельствах, например при поступлении в университет или на государственную службу164.
Другие группы подвергались откровенным гонениям: в отдельных случаях насилие применялось для борьбы со старообрядцами и сектантами. Особенно сурово обращались с сектами, считавшимися опасными, такими как скопцы. Поначалу они находились под защитой екатерининской политики веротерпимости, но с 1820‐х годов многие из них были привлечены к ответственности за ересь, их имущество было конфисковано, они подвергались телесным наказаниям и изгнанию165. В западных провинциях грекокатоликов еще более планомерно заставляли отрекаться от папской власти и переходить в Русскую православную церковь166. Униатская церковь, представлявшая большинство восточных католиков, в 1839 году была распущена как самостоятельная церковь, а многие связанные с ней монастыри были закрыты.
В начале и середине XIX века также наблюдалась дальнейшая дифференциация различных групп имперских подданных. Продолжающаяся экспансия в регионы с преимущественно нерусским населением и их колонизация превратили империю во все более неоднородное образование. Начиная с 1822 года большинство нехристианского населения Сибири, а затем Средней Азии и Кавказа было отнесено к новой правовой категории инородцев. Как отдельная группа, указанная в «Своде законов», инородцы стояли вне социальной структуры империи. Хотя они пользовались определенными привилегиями, такими как освобождение от воинской повинности, они были подданными второго сорта и рассматривались как нижестоящие по отношению ко всем социальным стратам имперского общества167. В то же время эта категория была подвижной и состояла из постоянно меняющегося числа подгрупп168. В нее входили кочевые и полукочевые народы Азии, горцы Северного Кавказа, коренное городское население Туркестана и (долгое время) евреи. Татары-мусульмане в Крыму и Волго-Камье первоначально были включены в состав высшей подгруппы инородцев и таким образом интегрированы в сословную структуру; однако к середине XIX века в списках инородцев они уже не упоминаются169. Со временем этот термин приобрел также неофициальное значение «нерусские», и к концу века он широко использовался без каких-либо правовых коннотаций именно в этом смысле170.
Так, законодательство Российской империи в отношении этнических и религиозных групп оставалось бессистемным. Некоторые законы распространялись на конкретные религиозные группы независимо от места их проживания, другие – только на отдельные сословия внутри этих групп. Многие нормы устанавливались и применялись только в определенных регионах. Например, на Южном Кавказе действовали особые правила проживания и передвижения, согласно которым не проводилось различия между христианами и мусульманами, однако они предусматривали ограничения для тех, кто относился к христианским сектантам, таким как старообрядцы и молокане171. Такая территориальная дифференциация в правовом регулировании привела к растущей раздробленности внутри религиозных общин. В то время как татары в Поволжье и Крыму все больше встраивались в имперское общество, татары на Урале и в Сибири, а также мусульмане в Средней Азии и в некоторых частях Кавказа оставались инородцами, обособленными от него.
В 1850‐х и 1860‐х годах произошел следующий сдвиг в государственной политике. Движение в сторону большего равенства, которое пронизывало многие Великие реформы, было, по крайней мере частично, результатом новой концепции гражданственности. К 1860‐м годам светское понятие «гражданственность» (гражданское сознание или гражданское воспитание) стало вытеснять представление о России как о веротерпимом и в то же время в значительной степени сегрегированном многоконфессиональном государстве172. Попытки унифицировать империю предпринимались по всем направлениям. Введение всеобщей воинской повинности, например, привлекло в армию и на флот большое количество неправославных: в 1879 году в Казанской губернии в армию было призвано почти столько же татар (1747), сколько и русских (1990)173. При этом полки, сформированные по этноконфессиональному признаку, в основном исчезли. Безусловно, предложенная идея гражданственности имела русско-христианскую составляющую, поскольку имперская элита полагала, что русификация (обрусение) и переход в русское православие в итоге привьют гражданственность населению174.
В целом сдвиг от имперской концепции, подчеркивающей толерантность и лояльность, к унитарному национальному государству, стремящемуся к социальной интеграции, был лишь частичным175. Ограничения в отношении меньшинств сохранялись. В то время как некоторым были предоставлены уступки и привилегии (например, в 1862 году было отменено обязательное согласование проектов мечетей), на других, особенно католиков и лютеран на западных окраинах империи, оказывалось все большее давление с целью заставить их обратиться в православие176. Некоторые этнические и религиозные группы, как и большинство обездоленного населения империи, по-прежнему имели ограниченные права на свободу передвижения и проживания177. Главным образом важна была лояльность: группы и народности, считавшиеся благонадежными, интегрировались все активнее, в то время как те группы населения, которые воспринимались как потенциально опасные, обычно подвергались изоляции и репрессиям.
Политику в отношении меньшинств также следует рассматривать в контексте более общих тенденций формирования общественной мысли XIX века. Дебаты о национальном государстве и национальности, разгоревшиеся в Европе после Французской революции, повлияли и на российскую интеллигенцию. Растущее число интеллектуалов, духовенства и военных обратилось к русскому национализму, базирующемуся на этнической почве и бросающему вызов государственной концепции России как династической империи, управляемой европеизированной элитой. Многие из них находились под влиянием немецкого романтизма и историзма, согласно которым нация на разных этапах развития рассматривалась в языковом и этническом отношении. Подобные влияния стимулировали споры о природе русскости, что способствовало отчуждению людей иного этнолингвистического или религиозного происхождения и усилению чувства превосходства над ними. В то же время появилась тесная связь между русским национализмом и православием.
Тем не менее монархия не переосмыслила себя в этнических терминах. В рамках теории официальной народности, выдвинутой в 1830‐х годах, этническая принадлежность была отвергнута: согласно этой концепции, «народность» определялась как характерный для России сплав имперского господства и самодержавной монархии, при котором жители империи как единый народ добровольно передавали власть в руки государя178. В этом монархическом представлении, утверждавшем единство государя и его подданных, русский народ не был ни «этнической» нацией, где нация приравнивается к доминирующей этнической группе, ни «гражданской» нацией, определяемой в терминах гражданства доступного для всех этнических групп.
Однако в ходе XIX века значимость определения нации по языковому признаку возрастала. Особенно после 1881 года упор делался на продвижение великорусской культуры, включая русское православие. Хотя веротерпимость оставалась официальной политикой вплоть до конца имперского правления, национализм привел к ужесточению репрессивных мер против внутренних «других» России. На них были направлены миссионерские кампании Русской православной церкви, училищные советы устанавливали контроль и ограничения в отношении нерусских школ и их преподавателей, а законодатели продолжали отказывать неправославному населению в таких правах, как право на прозелитизм и светскую прессу179. Интеллектуалы, церковные деятели и чиновники все чаще рассматривали меньшинства через призму национальной и конфессиональной борьбы, что не в последнюю очередь объясняется тем, что империя столкнулась с конкурирующими национальными движениями (польским, грузинским, финским и т. д.), войнами с Османской империей и с исламскими сообществами на Северном Кавказе180. Российские государственные деятели и мыслители предсказывали постепенное слияние всех народностей империи в единый народ уже в начале XIX века, но лишь начиная с последней четверти столетия они активно стали способствовать сближению и слиянию меньшинств империи с русским населением181. При Александре III (1881–1894) дискриминация меньшинств стала практически неотъемлемой частью государственной политики182. На смену существовавшей до этого непоследовательности в политике пришла активная поддержка православной церкви, особенно в балтийских и западных губерниях183. В этих регионах продвижение русского языка сопровождалось жесткими ограничениями в отношении местных языков и культурной деятельности: польские университеты были ликвидированы, а украинский язык почти полностью подавлен в период с 1847 по 1905 год184.
В некоторых политических движениях возник повышенный интерес к формированию населения, исходя из этнонациональных и конфессиональных приоритетов государства. Хотя власти обычно всячески препятствовали эмиграции, к концу XIX века они разрешили евреям, татарам, ногайцам, немецким переселенцам (колонистам) и некоторым другим сообществам покинуть империю навсегда, при условии что они никогда больше не ступят на российскую землю. Иногда государство даже поощряло отъезд и помогало в осуществлении планов185.
В сферах права и самоуправления влияние нерусского населения было ослаблено. И вновь под удар попало преимущественно еврейское население. Законы, принятые в 1877 и 1879 годах, вводили новые суды в западных губерниях, но при этом они предписывали местным администрациям собирать информацию о количестве евреев, проживающих в каждом районе, чтобы процент евреев, входящих в состав присяжных заседателей, не превышал их долю в местном населении, и решение о еврействе должно было приниматься на основании имени; кроме того, старшина присяжных должен был быть христианином186. В 1884 году эти правила были распространены на шесть юго-западных губерний, включая Таврическую187. Однако за пределами западных приграничных районов изменения, сделанные в 1870‐х и 1880‐х годах, практически не повлияли на повседневную работу судов. Они также не оказали существенного влияния на участие мусульман в судебных процессах и не изменили религиозный состав коллегии присяжных188.
Что же касается доступа к адвокатуре, то с 1889 года нехристиане, желавшие получить статус адвоката, должны были обратиться за разрешением в Министерство юстиции, впрочем, с удовлетворением таких ходатайств обычно проблем не возникало189. Как и квоты, введенные для присяжных, эти ограничения были направлены в первую очередь против евреев190. Хотя некоторые юристы, такие как Анатолий Кони, Игнатий Закревский и Владислав Желеховский, выступали против этих мер, российские законодатели отстаивали их, утверждая, что моральные принципы других религий не всегда соответствуют потребностям христианского государства191. В более же практическом плане, заметив непропорционально большое число евреев среди адвокатов в некоторых частях страны – отчасти из‐за того, что евреям редко разрешалось поступать на государственную службу, – они предостерегали от «переполнения» судебной системы «неблагонадежными в нравственном отношении лицами»192.
Мусульмане также пострадали от дискриминационной политики. Если в качестве юристов и присяжных они могли действовать без особых ограничений, то в вопросах самоуправления они столкнулись с некоторыми запретами. После 1884 года мусульмане не имели права занимать должность старосты в селах и небольших городах193. Вскоре после этого все нехристиане были исключены из состава школьных попечительских советов194. Хотя они и могли избираться в городские думы и земские собрания, созданные в результате Великих реформ, доля нехристиан первоначально не могла превышать одной трети мест195. В 1892 году эта доля была снижена до одной пятой везде, кроме Польши, Туркестана, Закаспийской области и части Кавказа. Евреи, за некоторыми исключениями, были отстранены от участия в местном самоуправлении196. Из этих наблюдений можно сделать два вывода: во-первых, центр прилагал все больше усилий для уменьшения влияния «других» в составе империи; во-вторых, эти усилия продолжали быть избирательными и бессистемными.
Более того, дискриминация была не только прямой, но и скрытой. В отличие от евреев, татарам-мусульманам в основном разрешалось находиться на государственной службе, однако на практике мало кто из них соответствовал сословным и образовательным требованиям. На службу принимали только дворян, сыновей чиновников, ученых, художников и купцов первой гильдии. Те, кто принадлежал к малообеспеченной части населения, платившей подушную подать, могли поступить на службу только при условии получения среднего образования. Доступ в университеты был ограничен аналогичным образом. При этом, поскольку обучение в татарских школах (мектебах) не засчитывалось, у подавляющего большинства татар не было шансов удовлетворить условия получения высшего образования или поступления на государственную службу. Так, в XIX веке мусульмане составляли не более 1,5% студентов Казанского университета197. К 1897 году лишь 3,5% поволжских татар владели русским языком, а татар, имевших право на государственную службу, было и того меньше, поскольку в их число входили и женщины, которым не разрешалось поступать на государственную службу в принципе198.
Очевидно, что вопросы образования, языка и доступа к государственной бюрократии и администрации были связаны между собой. Как предупреждал татарский ученый и издатель Исмаил Гаспринский (Гаспыралы), «служебная деятельность и карьера для мусульман не закрыты, но нам необходимо, во-первых, подготовить к тому наше молодое поколение…»199. И в Крыму, и в Казани татары, как правило, были крестьянами, ремесленниками, торговцами и купцами, и в результате лишь немногие из них прошли через российскую систему образования и получили необходимую подготовку. Таким образом, причины сохранявшегося неравенства были сложнее, чем простые ограничения, налагаемые на меньшинства. Кроме того, следует помнить, что основная масса крестьянского населения находилась в схожих условиях200. Механизмы отстранения людей от власти были основаны в первую очередь на социальных, а не этнических или религиозных различиях.
Положение меньшинств изменилось после революции 1905 года. В Манифесте 17 октября 1905 года права верующих и религиозных общин больше не обсуждались с точки зрения веротерпимости, а впервые рассматривались в контексте гражданских прав. Расширение свободы совести включало свободу вероисповедания, свободу объединений и собраний, а также свободу слова. Представители меньшинств теперь могли открывать свои собственные печатные издания. Что еще более важно, как и другие граждане империи мужского пола (при условии, что они были старше 25 лет и не относились к определенным категориям, таким как солдаты и офицеры), они получили политические права: в качестве избирателей и кандидатов они теперь могли принимать участие в выборах в только что созданную Государственную думу.
Таким образом, эволюция прав меньшинств в России следовала западноевропейской модели, согласно которой ранние положения о терпимости к религиозным меньшинствам, выраженной в предоставлении им свободы вероисповедания, уже являвшиеся частью Вестфальского мира (1648), со временем были расширены и стали включать сначала гражданские, а затем и политические права201. Однако в России гражданские и политические права были предоставлены гораздо позже, чем в большинстве стран Европы, и просуществовали всего несколько лет.
В 1906 году крестьяне получили дополнительные права: теперь они могли, помимо прочего, свободно передвигаться и выбирать место жительства, однако ограничения прав евреев, цыган, инородцев, к которым на тот момент не относились татары-мусульмане, и других групп населения сохранялись. Им по-прежнему было отказано в праве иметь паспорт, необходимый для передвижения по стране. Несмотря на это, различные законопроекты, обсуждавшиеся в последующие годы, были призваны положить конец остаткам дискриминационных норм, особенно в отношении старообрядцев, но в целом отношение к меньшинствам осталось неравным202. Они периодически подвергались нападкам со стороны органов власти и отдельных лиц, особенно чиновников министерств народного просвещения и внутренних дел, а также церкви. Хотя реформаторы и стремились поставить все религии в равные условия, тесные связи между самодержавным правителем и православной церковью, которая сопротивлялась потере своего доминирующего положения, обрекали религиозное равноправие на провал203. Религиозная принадлежность продолжала диктовать наличие тех или иных прав, начиная с религиозных прав на переход в другую веру и прозелитизм и заканчивая более широкими правами, такими как право занимать государственные должности.
Новообретенные свободы также способствовали росту и политизации религиозного и национального самосознания204. В некоторых регионах с многочисленным еврейским и польским населением яростный антисемитизм, местный национализм и борьба с националистической деятельностью привели к взрывоопасной ситуации. В начале века на большей части западной и юго-западной окраины империи произошла эскалация насилия: вооруженные нападения на российских чиновников (Вильна, 1902; Одесса, 1905; Варшава, 1905) и сотни погромов еврейского населения205. Менее масштабные погромы также имели место в Крыму (Симферополь и Феодосия, 1905)206. Однако по сравнению с остальной территорией современной Украины полуостров оставался на удивление спокойным местом.
В целом империя относилась к своим меньшинствам с «прагматической гибкостью»207. Некоторые историки утверждают, что, несмотря на периоды большей терпимости, центр всегда руководствовался одной политической установкой: христианизацией внутренних «других» империи с последующей русификацией и ассимиляцией, включающей правовую унификацию208. По мнению историков, придерживающихся такой точки зрения, моменты уступчивости были кратковременными, тактическими маневрами. И действительно, российские интеллектуалы и политики консервативных взглядов часто призывали к ассимиляции нерусского населения в русскую нацию и настаивали на том, что растущая колонизация юга и востока поможет поглотить коренное население. Начиная с 1870‐х годов они приступили к реализации поселенческих и образовательных программ, стремясь придать этой колониальной миссии новый импульс209.
Тем не менее как центральная власть, так и ее региональные представители старались как можно лучше учитывать местные интересы и культурные различия. К репрессивным мерам они прибегали в основном тогда, когда чувствовали угрозу сепаратизма. То, что в таких случаях применялась сила и предпринимались попытки насильственного обращения в православие, не может скрыть того факта, что, как правило, конфликты решались путем уступок и примирения. Несомненно, политика в отношении меньшинств отражает долгосрочный курс на интеграцию. Однако эту тенденцию лучше всего рассматривать как рациональный процесс стандартизации и централизации, направленный на устранение различий в административной практике и защиту территориальной целостности государства210. Так как сохранение стабильности обычно имело приоритет, унификация оставалась частичной. Правительство в первую очередь заботилось о безопасности и экономическом регулировании – стабильность для него была гарантом экономической прибыли211. Культурная гомогенизация так и не стала одной из главных политических задач, а имперская политика оставалась бессистемной и реагировала только на те процессы, которые были ей неподконтрольны.
ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ: РАВЕНСТВО, ЗАКОННОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В противоречивом контексте растущей интеграции и сохраняющейся дискриминации судебная реформа стала переломным моментом. Она не только фактически отделила судебную власть от исполнительной и ввела целый ряд новых институтов, но и способствовала развитию правовых понятий, которые до этого играли в Российской империи в лучшем случае незначительную роль: гуманность, равенство, подотчетность, беспристрастный правовой формализм и справедливость. Это не могло не отразиться и на отношении к меньшинствам.
Юристы, руководившие новыми судами, стали придавать большое значение соблюдению формальных правил. В день принятия судебной реформы (20 ноября 1864 года) правительство ввело в действие подробный Устав уголовного судопроизводства и Устав гражданского судопроизводства212. Эти своды формальных правил регламентировали работу новых судов. Они ввели принципы гласности и устного состязательного судопроизводства, предполагавшего участие профессиональных адвокатов, и содержали множество процессуальных норм, ключевые элементы которых изложены в последующих главах. В повседневной практике соблюдение этих правил, конечно, варьировалось, но юристы нового поколения, как правило, гордились добросовестностью своей работы, а некоторые даже не получили ни одной процессуальной жалобы213. В архивах окружных судов сохранилась переписка между прокурорами и помощниками прокуроров, подтверждающая озабоченность правильностью процедуры. Например, младших сотрудников суда ругали за предоставление неполной информации о подсудимых, за то, что они не сообщили суду об отсутствующих свидетелях, и за несоблюдение правила предоставлять материалы предстоящих дел в отдельных досье214. После таких жалоб следовали требования немедленно предоставить недостающую информацию и впредь придерживаться установленных процедур.
Но новое поколение юристов не просто отстаивало недавно принятые нормы судопроизводства, многие из них с такой же яростью защищали общеправовые принципы. Хотя основные гражданские права по-прежнему не соблюдались в отношении религиозных меньшинств, крестьян, женщин и других социальных групп, судебная власть стала весьма решительно выступать в защиту существующих личных прав и новых правовых принципов. Она не могла защитить права, которые никогда не были предоставлены (например, такие, как свобода печати или свобода совести), но в условиях самодержавия и неравенства и такая защита была выдающимся достижением. Если снова воспользоваться термином Миронова, империя превращалась в «правомерное» государство.
Не в последнюю очередь введение индивидуальной ответственности в 1832 году и презумпции невиновности в 1860‐х годах означало, что людей больше нельзя было обвинять и осуждать без доказательств. Уголовные дела, рассмотренные в Казанском окружном суде в период с 1870‐х по 1890‐е годы, показывают, что прокуроры и присяжные отказывались осуждать (или даже обвинять) недифференцированные группы крестьян за нападения на людей или преступления против собственности215. Вместо этого, когда не удавалось с уверенностью доказать, что преступное деяние было совершено конкретными лицами, большинство обвиняемых освобождалось. Само по себе присутствие в толпе не являлось преступлением. Выводы, сделанные судом при рассмотрении случая нападения толпы татарских крестьян на русского волостного старшину Бабушкина из‐за помощи в землеустройстве, были обычным явлением:
Принимая во внимание, что никто из допрошенных при следствии лиц не указал, кто именно из числа жителей деревни Пинигери производил насилие над старшиной Бабушкиным, что таковых лиц не мог заметить и сам Бабушкин, что сельский староста Файзуллин при первом допросе также ни кого не мог указать, что за сим указание сего свидетеля при вторичном допросе на привлеченность к делу лишь представляется единственным против них, а посему и слабою уликою, что указание вины на Сабита Мухамед Вахитова в своей неопределенности представляется мне весьма слабою уликою, я полагал бы дело <…> отклонить216.
Иными словами, подозреваемым в сопротивлении властям перестали по определению выносить обвинительный приговор. Каждый человек – будь то русский, татарин или любой другой – теперь считался невиновным, пока его вина не была доказана, и поскольку реформы возложили бремя доказательства на сторону обвинения, обычные люди были в определенной степени защищены от произвола. В некоторых громких политических делах власти, правда, настаивали на виновности подсудимых еще до суда217. Однако в обычных уголовных делах новые принципы, как правило, соблюдались.
Эти принципы означали больше работы для стороны обвинения, а доказать чью-либо вину было непросто. Помощник прокурора, занимавшийся делом, в котором сто татар сожгли дом помещика, жаловался в 1880‐х годах, что суды вынуждены оставлять преступное деяние безнаказанным, когда невозможно доказать вину подозреваемых:
[Губернатор,] конечно, передает дело нам, суду… а мы что сделаем? Виновных нет. Никто не сознается. Улик не имеется218.
Консерваторы были потрясены тем, что суды теперь отказывались сажать людей в тюрьму в случаях, когда очевидно были нанесены телесные повреждения и ущерб. Они жаловались на правовую защиту, которой пользовались нарушители порядка, особенно татары. Так, в 1883 году епископ Уфимский и Мензелинский пожаловался Константину Победоносцеву, обер-прокурору Святейшего синода, фактическому светскому руководителю Русской православной церкви, что русские больше не в состоянии защищать недавно приобретенные земли от местных татар. С чувством глубокого разочарования он писал: «Кому же охота убить татарина, чтобы попасть в Сибирь?»219
Пореформенный правовой порядок также отражал новое внимание к вопросам гуманности, что проявилось в стремлении к справедливому обращению с подсудимыми и заключенными (например, в разрешении держать в тюрьме домашних животных, книги и пользоваться другими удобствами, а также находиться в суде без цепей)220. Телесные наказания постепенно уходили из уголовной практики: хотя они сохранялись в качестве исправительной меры для крестьян вплоть до начала ХX века, некоторые из наиболее жестоких их форм, такие как клеймение и розги, были выведены из употребления в 1866 году221. Это не обязательно останавливало работников местных правоохранительных органов в применении этих мер, но давало жертвам право обратиться в суд, чтобы заставить виновных ответить за свои действия.
Гуманность также повлияла на присяжных. Вопрос о том, совершил ли кто-то преступление, зачастую был менее важен для присяжных, чем моральные качества преступника, его жизненные обстоятельства и возможные последствия для него. Вынести обвинительный приговор бедной крестьянке, которая от отчаяния убила своего жестокого мужа, для многих присяжных не представлялось возможным. Такая практика вызывала много критики, и многие наблюдатели пришли к выводу, что российский суд присяжных был скорее гуманным, чем справедливым222.
Различные понимания справедливости сосуществовали в Российской империи. Они не укладываются в бинарную модель правовой культуры, которую историки России использовали на протяжении десятилетий: модель, согласно которой российские реформаторы жили в мире Просвещения, в то время как подавляющая часть населения имела собственное правосознание, уходящее корнями в иные социальные, религиозные и моральные нормы223. В то время как решения, принятые на основе обычного права, отражали местные представления о морали, законы и принципы правового государства, как утверждается, часто противоречили представлениям людей о том, что хорошо и что плохо. Тем не менее одной из особенностей российской правовой системы второй половины XIX века было то, что она поощряла использование моральных доводов. Преступление продолжало рассматриваться в нравственных терминах: газеты преподносили открытые судебные процессы по уголовным делам как возможность проследить «общественные нравы» и как отражение того, «чем мы грешны»224. Запрашивая статистическую информацию о преступлениях по округам, власти требовали данные о «народной нравственности»225. Новый институт суда присяжных усилил значение нравственных аргументов. Многим состоятельным людям удавалось уклоняться от участия в суде присяжных путем покупки медицинских справок или других документов, объясняющих их отсутствие, поэтому в этих судах работали в основном мещане и крестьяне, не имевшие ни таких материальных средств, ни юридического образования. В результате рассмотрение дел и принятие решений в большей степени зависело от личного чувства справедливости, чем от абстрактных правовых норм. Многих присяжных мало заботило, был ли нарушен тот или иной закон; вместо этого их интересовали причины, обстоятельства и последствия преступления. Для них было важно, украл человек 70 копеек или 70 рублей, сколько времени он находился в предварительном заключении и какое наказание можно было ожидать в случае обвинительного вердикта226. Либералы объясняли, что суд присяжных – это не суд юристов, в котором профессионалы автоматически следуют законам, а суд, в котором преобладают здравый смысл и справедливость227. Именно это и критиковали противники института присяжных: по их мнению, определение виновности слишком часто основывалось на здравом смысле и «вздорных соображениях», а не на юридических знаниях228.
Однако, согласно некоторым новым исследованиям, важность моральных соображений и большое количество оправдательных приговоров не могут быть объяснены социальным составом коллегии присяжных229. Количество оправдательных приговоров было примерно одинаковым независимо от происхождения и положения присяжных. Юридическое образование или его отсутствие не были решающим фактором. Принимавшиеся присяжными решения были в большей степени связаны с новыми представлениями о человеке, размыванием понятий вины и вменяемости в уголовном кодексе и расширением состязательности судебной практики. Во-первых, последнюю треть XIX века характеризовало изменение представлений о поведении человека: гуманистические теории о свободе воли постепенно уступили место акценту на социальные и (или) биологические факторы, объяснявшие преступную деятельность230. Если считалось, что совершенное действие являлось реакцией на социальные изменения или естественные побуждения, его невозможно было осудить. Известны многочисленные случаи – как в Казани, так и в других городах, – когда присяжные собирали деньги для оправданных убийц или начинали благотворительные акции в поддержку молодых преступников231.
Что еще более важно, мораль была закреплена в уголовном кодексе империи, который различал виновность и вменяемость. Люди, совершившие преступление, не обязательно были «виновны» в нем (поскольку их физическое или психологическое состояние могло повлиять на их действия). Именно юристы или присяжные должны были смотреть за рамки улик и определять «виновность» людей232. То, что признавшиеся преступники могли считаться «невиновными», не было связано с юридическим невежеством – это было логическим следствием глубокой морализации уголовного кодекса империи, побуждавшей юристов уделять особое внимание вопросу виновности.
Третьим фактором, объясняющим важность нравственных аргументов, является появление состязательного суда, в рамках которого присяжных просили принять чью-либо сторону. Расширение принципа состязательного судопроизводства означало, что все стороны должны были участвовать в прениях и допросах, после чего присяжные заседатели принимали решение233. Этот принцип не только повышал позиции адвокатов, чьи риторические навыки теперь могли решить исход дела, но и усиливал значение разнообразных представлений о справедливости и честности. Адвокаты, которые чаще всего выигрывали свои дела, обычно взывали к совести присяжных. Они делали акцент на нравственном аспекте дела, а не утомляли аудиторию техническими деталями или юридической терминологией. Успешные адвокаты понимали, что право являлось не столько абстракцией, сколько динамичным процессом, в рамках которого отстаивалась справедливость, и понимали, как примирить законность с народными представлениями о ней234.
Консервативные критики пореформенного правового порядка, которые склонны были называть суды присяжных «судом улицы» и «общественным самосудом», настаивали на их неэффективности, обычно насмехаясь над высоким процентом оправдательных приговоров235. Тем не менее постепенное усиление новых судов было не просто либеральной фантазией. К концу XIX века значительная часть населения уже проголосовала ногами, стекаясь в суды по гражданским делам и массово заявляя о преступлениях, в том числе и представители российских меньшинств. Архивы Казанского и Симферопольского окружных судов полны дел, в которых татары и представители других народностей инициировали гражданские споры или сообщали властям о преступлениях, совершенных в их общинах. Справедливо предположить, что именно сочетание вышеупомянутых принципов судопроизводства способствовало привлекательности новых судов: более независимое, формализованное и предсказуемое судебное разбирательство в сочетании с тем обстоятельством, что новая система поощряла нравственные аргументы, которые люди хорошо знали и понимали.
Тем не менее новые принципы оставались спорными, и суды придерживались некоторых элементов старого порядка. Продолжение использования николаевских гражданского и уголовного уложений означало, что религиозные нормы и различия сохраняли свое значение в некоторых областях гражданского и даже уголовного права236. Суды по-прежнему могли налагать церковное покаяние в качестве наказания (на православных), а богохульство, святотатство, вероотступничество и прозелитизм считались уголовными преступлениями, только если совершались против господствующей в империи веры. Более того, в условиях сохраняющейся правовой фрагментации новые правовые принципы продолжали применяться избирательно.
В этой книге я обычно говорю о правовых культурах во множественном числе. Это требует некоторого пояснения, поскольку термин «правовая культура» встречается в литературе в разных значениях237. Специалисты по правовой и интеллектуальной истории Сьюзен Ева Хойман и Франсез Нетеркотт используют это понятие для анализа дискуссий о преступлении и наказании, а также о верховенстве закона в имперской России238. С позиции более практико-ориентированного подхода Джейн Бербэнк использует понятие правовой культуры для обозначения «взаимодействия народа с законом в волостных судах»239. Я склонен согласиться с исследователем права Дэвидом Нелкеном, который объясняет, что это понятие становится наиболее полезным, особенно в целях сравнения, когда оно понимается как относительно стабильные модели юридически ориентированного поведения и установок. Нелкен объясняет:
Исследования, в которых идея правовой культуры находит свое место, направлены на изучение эмпирических особенностей восприятия права, а не на установление всеобщих истин о природе права…240
То, как юридические изменения были задуманы и восприняты, находится в центре данного исследования. Использование множественного числа «правовых культур», кроме того, подчеркивает, что в любой момент времени и в любом месте существовало множество представлений о праве и его применении. Отчасти причиной такой множественности был институционализированный правовой плюрализм.
ПРАВОВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Неразрешенное противоречие между одновременным стремлением к унификации и фрагментации породило сложные формы правового плюрализма. Тем не менее констатация того, что для Российской империи был характерен плюрализм правовых порядков, мало о чем говорит. Ученые-юристы утверждают, что правовой плюрализм является нормой даже в современных либеральных демократиях241. В каждом обществе так или иначе приходится обеспечивать совместное существование и функционирование различных форм правового порядка, в том числе и судебного. Задача, таким образом, состоит в том, чтобы найти специфику каждого случая правового плюрализма. Важно определить, основывается ли он на сосуществовании различных правовых систем, их интеграции или конкуренции. Каковы региональные различия? Как он развивается с течением времени и как формируются и взаимодействуют друг с другом его составляющие?
Историки империализма и колониализма обычно описывали правовой плюрализм в терминах «многоярусных» правовых порядков, в которых важность «государственного права», расположенного на самой вершине, неуклонно возрастала242. Многие исследователи подчеркивали двойственность обычного права и имперского колониального права, навязанного извне243. И действительно, колониальные державы имели тенденцию создавать свои собственные суды для рассмотрения споров, затрагивающих их интересы («суды колонизаторов»), в то время как споры, связанные с семейными, религиозными или культурными вопросами, рассматривались в рамках местных правовых институтов («суды колонизированных»)244. Наиболее быстро и глубоко колонизаторы брали контроль над местным уголовным правом не в последнюю очередь, потому что рассматривали отмену существующих форм наказания как часть своей цивилизаторской миссии. Следом, как правило, «модернизировалось» местное коммерческое и контрактное право, в то время как семейное и наследственное право были объектом поздних и непоследовательных изменений245. Зачастую принципы семейного права, основанные на религиозных ценностях, собирались и систематизировались при помощи местных посредников и затем фиксировались в соответствии с предпочтениями европейских колонистов246.
Выделяя триаду исламского (адат), обычного и государственного права, исследования, посвященные изучению мусульманского опыта, значительно расширили рамки анализа правового плюрализма в колониальном контексте247. Однако такая классификация проблематична. Во-первых, как и идея двойственности правового поля у колонизаторов и колонизированных, такое разделение на три правовые сферы не соответствует юридической практике. Участники правового процесса считали себя членами более чем одного правового сообщества, и поэтому они регулярно обращались к различным правовым институтам – подобное пересечение границ между правовыми сообществами заставляет усомниться в существовании упорядоченных правовых систем248. Во-вторых, любой случай правового плюрализма может быть интерпретирован по-разному. Например, государственное право может иметь четко установленные отношения с адатом и религиозным правом, но при этом с точки зрения ислама или другой религии конкурирующие правовые порядки будут рассматриваться в совершенно ином ключе249. Таким образом, правовой плюрализм – это также и множественность представлений о правовом плюрализме.
В-третьих, ни один из сосуществующих источников и систем права нельзя рассматривать как нечто однородное и неизменное. Практически в любом культурном контексте государственное право представляет собой мозаику правовых систем250. Социальные историки и антропологи права также оспаривают дихотомию государственного и обычного права: они опровергают утверждения об обычаях как об «орудии слабых» и демонстрируют участие государства в возведении определенных обычаев в ранг закона251. Как правило, в любом наборе нормативных предписаний все они опираются друг на друга и приспосабливаются друг к другу. Примеров тому множество и в случае Российской империи. Охват и значение государственного права менялись и разнились от региона к региону. Адатское право на Северном Кавказе, например, было сначала исламизировано местными элитами в период с конца XVIII до середины XIX века, а затем русифицировано имперскими чиновниками, которые стремились остановить растущий интерес к исламу252. Получившийся в результате правовой порядок представлял собой эклектичную смесь из разнообразных правовых источников и практик.
Кроме того, правовой плюрализм был неразрывно связан с борьбой за власть. Становление государственного права было не естественным процессом, а результатом постоянной борьбы, или «юрисдикционной политики»253. Это противостояние, как правило, было наиболее выраженным в бывших колониях и пограничных районах империй и приводило к различным правовым конфигурациям. Лорен Бентон вводит различие между полицентричными правовыми порядками, при которых государство является лишь одной из многих правовых инстанций, и государствоцентричными правовыми порядками, которые характеризуются господством государства как источника права254. Более того, она различает сильные и слабые формы правового плюрализма: в то время как первая характеризуется установленными правилами взаимоотношений между различными правовыми органами и институтами, вторая не имеет формальной структуры. Если оценивать Российскую империю в соответствии с этой аналитической моделью, то в ней утвердилась сильная, государствоцентричная форма правового плюрализма. При этом фактическое правовое господство государства существовало лишь в некоторых регионах, включая Крым и Казань, в то время как в более отдаленных регионах нормы государственного права не играли столь значительной роли.
Как выглядел правовой плюрализм в Российской империи? Множественность нормативно-правовых порядков развивалась отнюдь не только в регионах с большим числом меньшинств. С середины XIX века правовая система включала в себя волостные суды, куда крестьяне могли обратиться с незначительными исками и по вопросам мелких преступлений. Судьи, которые сами были из числа крестьян и не являлись квалифицированными специалистами, принимали свои решения на основе местных обычаев, уделяя мало внимания правовым принципам, введенным судебной реформой255. В то же время, будучи формально связанными с высшими судебными инстанциями, крестьянские суды не составляли самостоятельной правовой сферы256. С середины 1860‐х годов они сотрудничали с окружными судами и мировыми судьями, которым также рекомендовалось учитывать «обычаи» при рассмотрении дел. При этом наряду с этими судебными инстанциями существовали и самостоятельные церковные, военные и коммерческие суды.
В многонациональных регионах правовой плюрализм был еще более разнообразным. В Туркестане, Степном крае, Сибири и Дагестане власти стремились выявить законы местного населения, основанные на обычаях, которые затем с разной долей успеха кодифицировались и ставились под контроль. В большинстве случаев это приводило к созданию отдельных общих судов для местного населения, которые существовали наряду с военными и имперскими судами, рассматривавшими дела с участием русских. Таким судам было рекомендовано рассматривать уголовные и имущественные дела в соответствии с адатом, хотя в некоторых случаях тяжкие преступления выводились из-под их юрисдикции, при этом наказания должны были соответствовать российскому законодательству, а в гражданских и семейных делах им разрешалось ссылаться на нормы шариата257. В некоторых регионах они были обязаны регистрировать каждое дело в «настольных журналах», чтобы впоследствии составить сборники прецедентов, использовавшиеся как руководство для судей258. Таким образом, государство намеренно легализовало и ассимилировало местные суды на приграничных территориях, создавая государствоцентричную правовую систему, включавшую в себя различные процессуальные и нормативно-правовые порядки259.
Там, где влияние ислама было особенно сильным, адатское право применялось в противовес исламским предписаниям260. В этом отношении Россия ничем не отличалась от других империй261. Тем не менее суды коренных народов Дагестана все больше и больше взаимодействовали с представителями имперского центра и ориентировались на его правовые принципы262. В соседних Кубанской и Терской областях, включая территорию современной Чечни, попытки государства институционализировать и приспособить местные суды были менее успешными: уже через год, в 1870 году, они были оставлены, а вскоре после этого была введена модифицированная форма суда присяжных263. Причиной такого резкого поворота стал быстрый рост численности славянских поселенцев и отток местного населения в горные районы.
В других районах империи со значительным мусульманским населением, включая Поволжье, Крым и Южный Кавказ, власти придерживались иного подхода. Отвергая адат как нечто устаревшее, они пропагандировали общеимперские законы среди местного населения, перенимая при этом некоторые элементы шариата и адаптируя их к нуждам империи264. Чтобы расположить к себе волжских татар, уже в 1649 году, в первом своде законов («Соборное уложение»), Россия признала законы шариата и официально разрешила их применение в некоторых гражданских делах265. В то время как Московское государство преимущественно отказывало нерусскому населению в доступе к судебной власти, которая на тот момент была неотделима от исполнительной, к XVIII веку у татар появились свои собственные, привязанные к определенной территории и утвержденные государством судьи, каждый из которых имел небольшое количество солдат и отвечал за решение целого ряда юридических вопросов266. В 1730‐х годах в некоторых районах Волго-Уральского региона государство начало привлекать к решению правовых проблем исламских ученых, известных как ахунды, в обязанности которых входило толкование и применение шариата267. Однако более систематическая интеграция исламского права в государственную правовую систему произошла только в последней четверти XVIII века. В «духовного рода делах», таких как вопросы богослужения и назначения имамов, а также в некоторых областях гражданского права мусульмане теперь могли официально обращаться к исламским судьям, назначаемым недавно созданными государственными религиозными органами: «Оренбургское магометанское духовное собрание» в Уфе было учреждено в 1788 году и отвечало за мусульман Поволжья, а «Таврическое магометанское духовное правление», созданное в 1794 году и находившееся в Крыму, ведало делами мусульман Тавриды и западных губерний268.
В начале и середине XIX века, когда введение метрических книг привело к более систематическому учету мусульман и других меньшинств, юрисдикция различных правовых институтов и взаимоотношения между ними были определены более четко. Тем не менее выбор в рамках правового поля оставался ограниченным. В области уголовного права татары могли формально заявить о преступлении и тем самым добиться его расследования государственными правоохранительными органами или же сделать это неформально. В отличие от Кавказа, в Туркестане или Степном крае исламские судьи и другие местные судебные инстанции не имели юрисдикции по таким делам. В степных областях ситуация изменилась, когда Степное положение 1891 года вывело многие преступления из-под юрисдикции местных судов. В гражданском праве возможности выбора в правовом поле были лишь немногим шире. Большинство земельных и имущественных споров между татарами решалось специальными государственными комиссиями или государственными судами, как и все дела, в которых хотя бы одну из сторон представлял не татарин. При обоюдном согласии в делах о браке, наследственном праве, включая имущественные претензии после развода, и непослушании детей можно было обращаться к утвержденным государством исламским богословам и священнослужителям: хатибам, имамам или муллам. Если одна из сторон была недовольна решением, она могла обратиться в вышестоящую религиозную организацию, в суды ахундов и кади, или духовные собрания, или же добиться пересмотра дела в обычном суде269.
Существование этих правил не означало, что люди обязательно им следовали. Мусульмане часто обращались в тот судебный орган, который с наибольшей вероятностью мог принять решение в их пользу270. В частности, для решения семейных споров многие обращались в государственные суды и органы администрации как в суды первой инстанции, несмотря на то что, строго говоря, они имели право обращаться в них только с кассационными жалобами271. Другими словами, формальная судебная иерархия не определяла реальную юридическую практику. По крайней мере, именно такая картина складывается из исследований дореформенного периода272. Однако начиная с 1860‐х годов судебные иерархии уже нельзя было игнорировать. В то время как отношения между исламскими судебными институтами, которые так и не были до конца определены, оставались размытыми (ахунды постепенно потеряли свою значимость ко второй половине XIX века), государственные учреждения теперь уделяли больше внимания процессуальным вопросам. В рамках рутинных организационных заседаний окружные суды и мировые судьи перед рассмотрением дела сначала обсуждали важнейший вопрос о подсудности или судебной юрисдикции. На большинстве таких заседаний значительное количество дел отбиралось и передавалось в другие суды, как религиозные, так и светские. В то же время с созданием независимой судебной власти губернаторы и полиция утратили большую часть своих судебных функций. Иными словами, больше не было смысла обращаться в администрацию и правоохранительные органы с обычными гражданскими и уголовными делами.
В целом юрисдикции различных судебных инстанций были не только ясно размечены, но и все более контролируемы. У татар было мало шансов заниматься «forum shopping», как называют антропологи права практику перемещения тяжущихся между различными формами права (религиозным, государственным или обычным)273. Подданные Российской империи, татары или нет, не могли насладиться «изобилием правовых возможностей», которым пользовались жители, например, Британской Индии, где различные колониальные власти конкурировали друг с другом, предоставляя тяжущимся сторонам широкое пространство правового выбора274. На фоне четко очерченных юрисдикции и постепенной интеграции татар-мусульман в государственный правовой порядок неудивительно, что во время Великих реформ в Казани, Крыму и на Южном Кавказе вопрос о создании местных судов не обсуждался. Новые окружные суды придерживались николаевской системы правового плюрализма, а юрисдикция исламских судей осталась практически неизменной275. Однако новые суды не только уделяли больше внимания вопросам юрисдикции, но и предоставили мусульманам и другим меньшинствам доступ к новым принципам и процедурам судопроизводства, работникам суда и формам участия в судебных процессах.
В целом продвижение адата в большей части Центральной Азии и Кавказа бросило вызов исламскому праву, в то время как в других регионах оно было институционализировано. Одновременно на всей территории империи предпринималось все больше усилий для дальнейшей правовой унификации и интеграции. К началу ХX века центральная власть стремилась полностью отменить судебную практику, основанную на обычном праве. Департаменту духовных дел в Санкт-Петербурге было поручено составить «Сборник постановлений шариата по семейному и наследственному праву», который был издан в 1913 году276. Теперь исламское право, в противовес обычному праву, казалось более совместимым с современной правовой системой. К 1899 году новые окружные суды действовали, с небольшими различиями, от Балтийского моря до Ашхабада в пустыне Каракумы и Якутска в северо-восточной Сибири. И если бы начало Первой мировой войны не помешало планам по внедрению «общей правовой культуры» империи на Северном Кавказе, этот последний бастион правовой раздробленности мог бы также рухнуть277.
Хотя правовая унификация в Российской империи так и не была завершена, после 1860‐х годов она существенно продвинулась вперед. Сохранение правового плюрализма можно объяснить тем, что империя оставалась в затруднительном положении: ей так и не удалось примирить необходимость модернизации и учет позиции меньшинств, необходимость повышения административной эффективности и усиление единства, а также необходимость поощрения иерархий, различий и господство над ее бесправным населением. Именно поэтому в данном исследовании во многом прослеживаются подобные противоречия. В то же время увлечение культурными различиями в Российской империи как среди мыслителей и политиков того времени, так и среди современных исследователей, возможно, также способствовало тому, что больше внимания уделялось правовому разнообразию. В то время как различия были ключевым элементом в управлении империей, равенство и унификация становились все более выраженными в правовой сфере, в которой доминировало государство, и в расширяющихся правовых институтах.
Противоречия между стремлением к большему единообразию, признанием (и даже поощрением) различий и сохраняющейся дискриминацией были довольно очевидными на промежуточных территориях, таких как Крым и Казань. Однако, прежде чем исследовать появление новых судов в этих регионах и последствия этого для имперского управления, мы подробнее остановимся на Волжской губернии и юге Крымского полуострова во времена Великих реформ.
Глава II
C ОКРАИНЫ – В ЦЕНТР: КРЫМ И КАЗАНЬ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА
В этой главе рассматриваются два региона, занимающие центральное место в данной книге, а также обсуждаются географический, политический, экономический и культурный аспекты исследования. В то время как основное внимание уделяется эпохе Великих реформ, этот период представлен в контексте долгосрочных тенденций и изменений в Крыму и Казани на протяжении всего XIX века. В данной главе проводятся временное и пространственное сравнения и подчеркиваются не только различия между двумя регионами, но и их общие черты.
Во-первых, интересно рассмотреть изменчивость и неоднородность образа Крыма и Казани в имперском воображении. Несмотря на то что оба региона считались отличными как от периферии империи, так и от ее центральных районов, в дискуссиях и на практике они все больше воспринимались как часть имперского центра. Во-вторых, речь пойдет о демографическом составе обоих регионов, изменении их институционального устройства (в правовой, административной и религиозной сферах) и формы управления ими. Наконец, обсуждаются социально-экономические условия в Казани и Крыму, при этом пристальное внимание уделяется последствиям миграционных процессов. Во всех этих вопросах на первый план выходит положение татар-мусульман, которые составляли наиболее многочисленную группу внутренних «других» империи – как в Крыму, так и в Казани.
Кроме того, в данной главе сравнивается правовое, религиозное и социально-экономическое положение волжских и крымских татар, что позволяет обсудить более общий вопрос о социокультурном разнообразии промежуточных территорий. Наконец, межрегиональный и протяженный во времени анализ показывает, что, хотя эпоха реформ в некоторых отношениях и была новаторской, многие связанные с ней институты и политические меры, а также формы институционального взаимодействия не были беспрецедентными и, несмотря на значительные особенности Крыма и Казани, у этих двух регионов было много общего.
НАКАНУНЕ РЕФОРМ: МЕНЯЮЩИЕСЯ ОБРАЗЫ И СУДЬБЫ
После своего завоевания в XVI веке Казань быстро заняла ключевую позицию в растущей империи. В вопросах этноконфессиональной политики и отношений между центром и периферией Казань служила образцом управления в пограничных регионах на протяжении столетий278. К середине XIX века город по-прежнему отличался от остальной империи и сохранял свойственную ему лиминальность. По словам Джераси, он был «микрокосмом российской гибридной идентичности» – одновременно «окном на Восток» и самим Востоком279. Несмотря на включение Казани в систему гражданского управления империи, консерваторы продолжали считать ее «одной из самых трудных для управления по разнородности ее смешанного населения, по мусульманскому фанатизму, по бывшей там неурядице и запущенности»280. Хотя Казань была и культурным центром, она все еще считалась взятой в кольцо «темных масс населения бывшего Казанского царства»281. В своем отчете о ревизии деятельности государственных учреждений в Казани, Уфе и Оренбурге в 1881 году сенатор Михаил Ковалевский отмечал: «Губернии, ревизия которых была возложена на меня, значительно уклоня<ются> по своим этнографическим условиям от общего типа губерний Великороссийских <…> Мною <…> были приложены все старания, чтобы при обсуждении общих вопросов отделять явления нормальные от тех, которые порождаются местными условиями»282. Как и соседние губернии, Казань эпохи реформ была отнюдь не «нормальной».
Сергей Викторович Дьяченко изучал право в Харьковском университете, затем полтора года служил в Санкт-Петербургском окружном суде, после чего летом 1870 года ему предложили присоединиться к группе юристов для поездки в Поволжье. В задачу группы под руководством сенатора князя Михаила Шаховского входили анализ работы существующих судебных учреждений в Казани и ее окрестностях и подготовка к введению новых судов. Двадцатичетырехлетний Дьяченко так вспоминает о своем прибытии в город:
8 августа рано утром мой пароход тихо причалил к казанской пристани; издали виднелась Казань, живописно раскинувшаяся над луговой стороной Волги. Жаркое летнее солнце играло яркими лучами на церквах, белых домах и на Сумбекиной башне. Я был молод, на сердце было жутко при виде большого города для меня совершенно чуждого, где не было ни души знакомой. <…> Привыкнув к вечной суете на улицах столицы, я был поражен, въехав в Казань, подавляющей уличной пустотой, которая царствовала здесь местами. <…> Напрасно искал я развлечений, людей – их не было: город вечно дремал непробудным татарским сном…283
Молодой юрист описал многие ключевые особенности Казани того времени: природную красоту города, культурное и архитектурное великолепие и богатство, внушительные размеры. Однако впечатления Дьяченко не были исключительно положительными. Человеку, прожившему предыдущий год в Санкт-Петербурге, Казань казалась серой и провинциальной и навевала сонливость. Это Дьяченко, по крайней мере частично, объяснял татарским влиянием.
Если на таких людей, как Дьяченко, Казань производила впечатление экзотического татарского города, то жителями более восточных или южных регионов Казань воспринималась как исключительно русский город. Этот контраст подчеркнул журналист Константин Аскоченский, который переехал из Казани в Астрахань в конце 1860‐х годов:
Приезжая в Казань из внутренних губерний, вы не можете обойти вниманием восточной ее типичности; приезжая в Казань из Астрахани, вы почувствуете себя в русском городе, и восточный тип Казани почти не бросится вам в глаза после пестроты астраханской азиатчины284.
Иными словами, наличие или отсутствие восточных черт зависело от самого смотрящего. Но и представления о провинциальности тоже. Один казанский журналист заметил в 1871 году:
Господин, недовольный провинцией, побывавший в Петербурге <…> приехавши в Казань, проклинает ее несчастную, что в ней нет газового освещения, нет гранитных тротуаров, что балерины танцуют хуже Грантцевой…285
Уделяя особое внимание театру, журналист отметил, что провинциальному городу не под силу угнаться за уровнем изысканности, достигнутым в столицах империи. С легкой иронией он добавил, что на сцене казанского театра можно услышать французские слова, произнесенные с нижегородским акцентом. В то же время он настаивал на том, что «наш театр может уступить только столичным», подтверждая тем самым давнее притязание Казани на звание третьего города империи.
Русский писатель Петр Боборыкин, который учился в Казани в 1853–1855 годах, позже сравнил волжский город с Москвой и родным Нижним Новгородом, заключив: «Большой губернский город показался мне таким же как Нижний, побойчее, пообширнее и все-таки провинцией»286. Аскоченский, напротив, говорил о Казани как о большом мегаполисе, где живут уважаемые люди, и сравнивал его со своим новым домом – Астраханью:
У вас университетская корпорация <…> благодаря симпатиям казанцев к ученым интересам; у вас купеческий клуб, где танцуют искренне, с истинным увлечением; у вас вечера, где не прикасаются – или по крайней мере в мое время не прикасались – жидове самаритяне, где веселятся с такой приличной сдержанностью, точно совершают религиозный обряд; у вас театр на самом видном месте…287
Казань в данном случае не только город, в котором устраивались развлекательные и светские мероприятия, но и территория устоявшихся имперских иерархий. Дореформенное казанское общество гордилось не только своими частными балами и музыкальными вечерами, но и своей элитарностью. Самые знатные и богатые семьи города не поддерживали отношения ни с кем за пределами своего узкого социального круга, отказываясь принимать на светских мероприятиях даже высших имперских чиновников и полностью игнорируя университетскую публику288. Однако в более отдаленной Астрахани подобные иерархии так строго не соблюдались. Аскоченский жаловался: «У нас тоже есть клуб, только, увы, без общественного раскола: и сливки, и подонки общества все вместе»289.
То, что казанское общество было более дифференцированным, во многом связано с давней ролью города как административного и торгового центра восточной части империи. Образование также имело решающее значение. Учреждение Императорского Казанского университета в 1804 году (всего лишь четвертого по счету после Московского, Дерптского/Тартуского в Эстонии и Виленского) еще больше укрепило положение города и способствовало притоку дворян и талантливых молодых людей со всей России. Великолепие зданий, построенных в стиле русского классицизма, не могло не производить впечатления на тех, кто впервые попадал в Казань. Журналист и юрист Константин Лаврский, приехавший в Казань в 1860 году из небольшого городка Нижегородской губернии, так вспоминал свои первые ощущения от Казанского университета:
Здание университета в глазах новичка-студента долго казалось каким-то священным храмом, внушающим невольное желание снять шапку и с благоговением прислушиваться к торжественному гулу шагов, разносимому эхом по темным коридорам. Университетский двор, со своей оригинальной обстановкой – ротондой анатомического театра, башней обсерватории, флюгерами над физическим кабинетом, с памятником Державину и величественной лестницей, ведущей со двора в главное здание – представлялся чем-то вроде древней площади в Афинах…290
Прокладывая путь для систематической подготовки будущих административных, юридических и преподавательских кадров, университет создал благоприятные условия для быстрого внедрения реформированной судебной системы в Казани. С 1845 по 1855 год в городе преподавали такие юристы, как Дмитрий Иванович Мейер и Семен Викентьевич Пахман, вдохновившие целые поколения юристов в области гражданского права291. В то время как большинство их студентов по окончании университета, как правило, поступали на службу и становились частью имперской бюрократии, Мейер часто побуждал своих студентов строить юридическую карьеру, и многие последовали его совету292. «Могу сказать вам наверное, – писал профессор одному из них в конце 1840‐х годов, – что в канцелярии… вы не закрепите своего юридического образования и что во всех цивилизованных странах мира судебное поприще составляет цель правоведа-практика»293.
Однако вплоть до 1860‐х годов сфера практического права находилась в неудовлетворительном состоянии и была в недостаточной степени развита. Хотя Императорское училище правоведения и давало профессиональную подготовку молодым дворянам, которые затем работали в министерствах и других административных учреждениях, такое образование не развивало абстрактное юридическое мышление и не поощряло теоретические дискуссии. Университетские юридические факультеты были не многим лучше: в дореформенный период студенты просто заучивали указы и своды законов, и лишь немногие профессора затрагивали вопросы теории и практического применения права294. Мейер так писал своему другу о новом, другом виде права, который необходимо ввести в университетах:
Я же хочу науки и практических ее последствий <…> Моя наука жадно изучает жизнь и для этого прислушивается и к сходке крестьян, вчитывается в конторские книги помещика, перебирает переписку купцов, шныряет по толкучему рынку, якшается с артелью рабочих, взбирается на судно к бурлакам, усаживается, как дома, не только в кабинете с книгами, портфелями и разными petit riens, но и в конторе бородача или усача-маклера, в архиве суда и в самом суде, стараясь не замечать, что здесь смотрят на нее не совсем благосклонно295.
Впоследствии учебники Мейера стали стандартом для российских университетов, но ранняя смерть в 1856 году не позволила ему лично наблюдать за становлением новой юридической науки.
Тем не менее в 1850‐х годах до начала преобразования оставалось уже совсем недолго. За десять лет Казанский университет внес значительный вклад в возникновение и развитие общественных дискуссий. При Николае I российские университеты были относительно закрытыми учреждениями, подозрительно относившимися к искусству, гуманитарным наукам и всему иностранному, и в то же время строго следившими за соблюдением военной дисциплины296. Курсы, как правило, были скорее общими и не предполагали специализации, ношение формы было обязательным, а к студентам относились скорее как к школьникам, а не ученым297. Университетская реформа 1863 года предоставила университетам значительную автономию и упразднила ограничения на количество абитуриентов и набор преподаваемых предметов, превратив университеты в современные, активно развивающиеся образовательные учреждения298. Открытые дискуссии и официальные дебаты стали обычным явлением. Администрация Казанского университета даже предоставила студентам собственные суды, в которых избираемые из числа студентов судьи рассматривали мелкие споры и правонарушения299. Численность и социальный состав студенческого корпуса также претерпели значительные изменения. Если в 1865–1866 годах в Казанском университете обучалось чуть более 300 человек, то в 1880 году их число достигло 733300.
Сразу же после судебной реформы почти половина студентов первого курса Казанского университета выбрали изучение права, во многом потому, что новые судебные учреждения открывали широкие возможности для дальнейшей профессиональной деятельности301. Лаврский, поступивший на юридический факультет в начале 1860‐х годов, отмечал в своих воспоминаниях, что слухи о скором введении судов присяжных и независимой адвокатуры делали профессию юриста привлекательной302. Он настаивал на том, что именно общественная значимость юридической профессии и атмосфера благородства, окружавшая ее, объясняли быстро растущую привлекательность карьеры юриста303. Другие ученые также подчеркивали, что студенты и исследователи в российских университетах 1860‐х годов отличались особым энтузиазмом304. При этом образование также предоставляло возможности для социальной мобильности. Доля дворян среди студентов Казанского университета снизилась с 30% в начале 1860‐х годов до 10–15% к началу следующего десятилетия. На протяжении 1870‐х годов основную массу студентов составляли сыновья ремесленников, мещан и представителей духовенства305.
Университетские дворы, коридоры и открытые лекции стали площадками для обмена мнениями о новых судах и реформах в целом. Это было особенно важно, поскольку цензура по-прежнему препятствовала обсуждению либеральных идей в прессе, и лишь немногие из казанских профессоров-либералов – даже из тех, кто имел на это разрешение, – пытались публиковать свои политические идеи306. Открытие в 1860 году большой студенческой «курительной», где студенты вскоре стали собираться и днем и ночью, чтобы читать газеты, курить, сплетничать и дебатировать, способствовало активному обмену идеями и быстро превратилось в «любимое местопребывание всего студенчества»307. За пределами университета эту функцию выполняли салоны, клубы и другие подобные места, где представители образованного общества могли свободно общаться и обмениваться мнениями. Все эти заведения составляли часть зарождающейся общественной сферы, которая, в определенной степени, также способствовала смешению различных социальных групп. Университеты с растущим разнообразием их студенческого состава породили новую социальную прослойку молодых профессионалов. Досуговые учреждения, такие как театр, также этому способствовали. Уже в 1850‐х годах Боборыкин отмечал, что недавно открывшийся в Казани театр собирал самых разных людей, включая студентов, дворян и средний класс, в который входили и татарские купцы308. Тем не менее преобразования в имперском обществе были еще далеко от завершения:
Из небольшого числа мест, где находится наше общество, и притом вместе, не подразделяясь на касты, как это, к несчастью, видим доселе на наших общественных балах, – есть театр. Здесь, под одной крышей, нередко даже рядом, вы встречаете таких лиц, присутствие которых вместе нигде из мест общественных удовольствий даже немыслимо309.
К 1880 году даже в таких небольших городах, как Чистополь, появились театры, где актеры-любители (обычно военные) устраивали любительские представления. И хотя такие постановки были далеко не блестящими, люди охотно их посещали310.
Однако устоявшиеся иерархии и институционализированные различия было трудно разрушить. В Казани подобные социальные разграничения в значительной степени определяли положение татарского населения. Аскоченский объяснял:
У ваших татар вон какие громадища-дома в татарской слободе, а у нас ни один, кажется, татарин не имеет каменного дома. Ясно, что тут разница в карманах. У вас татарин летит на таком огнелошади, что иди ты по Воскресенской после самых жарких начальнических распеканий, а все-таки не удержишься, чтобы не проводить глазами господина в бобровой шапке и в лисьей шубе; у нас татары – народ весь пеший <…> Есть у вас и миллионеры из татар и даже с филантропическими заведениями на свой счет для однородцев <…> У вас на Воскресенской татарский магазин с двухаршинными цельными стеклами и четырьмя или пятью комми; у нас в целом городе не найдется татарской лавки. <…> Татарина астраханского вы не встретите ни в клубе, ни на гуляньях, ни в других общественных сходках; в Казани я встречал их и в клубах, и на гуляньях и т. п. Ясно, что между татарами казанскими прорывается подчас общественный прогресс, о чем астраханские татары даже и не думают311.
И действительно, как я объясню далее в этой главе, к середине XIX века в Казани сформировался многочисленный татарский купеческий класс. Представители этой неоднородной группы не только занимались коммерческой деятельностью и благотворительностью, но и участвовали в общественной и политической жизни города.
Тем не менее, хотя Казань и сохраняла свою экзотическую привлекательность и мультикультурность, она все больше походила на средний российский город. Бывшая татарская столица, некогда один из крупнейших городов России, на протяжении веков была аванпостом Москвы и Санкт-Петербурга на востоке страны и одновременно служила центром миссионерской подготовки, направленной на обращение в христианскую веру внутренних «других» этого региона312. В начале пореформенного периода Казань отличалась феноменальным приростом населения, которое с 1858 по 1885 год увеличилось более чем в два раза: с 60 000 человек до 140 000313. Однако подобное увеличение численности населения не было исключительным для данного периода (другие города значительно превзошли Казань). Развитие государственных институтов в провинциях совпало с промышленной революцией и сопровождалось ухудшением условий жизни в сельской местности, что привело к значительному оттоку населения в города. Новые вакансии на предприятиях и фабриках, в школах и конторах привлекали в губернские центры как рабочих, так и профессионалов, в то время как высокая рождаемость и нехватка земли заставляли крестьян перебираться на заработки в города. Эти изменения коснулись многих регионов, включая Казань, которая постепенно теряла свое особое положение.
Экономические причины также ставили Казань в невыгодные условия: поблизости было мало природных ресурсов, а объем промышленного производства оставался небольшим по сравнению с другими городскими центрами Поволжья и Урала. Благосостояние города по-прежнему зависело от торговли. Расширение империи и некоторые инфраструктурные решения способствовали снижению статуса Казани: центр торговли и управления азиатской части империи постепенно смещался на восток, а с середины 1870‐х годов железная дорога, соединяющая Москву с Уралом (и в конечном итоге с Сибирью), была проложена через Самару, обойдя Казань почти на 320 километров и превратив ее в провинциальную глубинку, куда можно было добраться в основном на пароходе314.
Во многих отношениях Крым был такой же глубинкой. Большинство городов были настолько же, если не более, провинциальными. В то же время с момента своего присоединения в 1783 году Крым стал ядром проекта имперского строительства в России: в то время как преобразование инфраструктуры и различных сооружений, от садов до религиозных и светских зданий, помогло воплотить имперскую идею в материальном плане, дискурсивно полуостров был включен в состав имперского центра315. Для обеспечения структурного единообразия империи уже в 1784 году Крым присоединен к новообразованной Таврической области, позже переименованной в Таврическую губернию (см. карту 3). Название «Таврическая губерния», указывающее на связь с древней цивилизацией тавров, окутанной легендами, подчеркивало европейское прошлое Крыма и тем самым позволяло отвергнуть притязания Османской империи на полуостров. Эта политика была частью более широкого «Греческого проекта» Екатерины II, в соответствии с которым постройки и памятники воплощали и прославляли эллинское наследие Крыма, а крымскотатарские, турецкие и казацкие географические названия заменялись греческими316. Так возникла новая столица – Симферополь (бывший Ак-Мечеть), а также Севастополь (Ахтиар), Евпатория (Кезлев) и Феодосия (Кафа). Греческие купцы сыграли ключевую роль не только в заселении завоеванного черноморского побережья и новых городов, таких как Одесса, где греческий, наряду с итальянским, стал одним из основных языков, но и в поддержании связей Крыма с Эгейским миром317. И все же, поскольку большая часть татарского культурного ландшафта – мечети, святыни и другие исторические места – осталась нетронутой, а отношения с Османской империей продолжали быть прочными, Крым также сохранял ощутимое татарское влияние. Таким образом, полуостров одновременно выполнял несколько функций: он был связующим звеном России с черноморским и средиземноморским пространствами; он был первым «Востоком» империи и, таким образом, служил для России своеобразным свидетельством ее принадлежности к Западу318; также он представлял собой экспериментальное пространство для быстро развивающихся методов и стратегий имперского строительства.
Карта 3. Таврическая губерния и Крымский полуостров, начало 1880-х
В течение первых сорока с небольшим лет российского правления Крым оставался малонаселенным – там проживало преимущественно нерусское население. Высшее петербургское общество редко вспоминало о нем, да и в целом полуостров считался далеким экзотическим местом. Существенные изменения произошли после того, как в 1823 году новый генерал-губернатор, князь М. С. Воронцов, приобрел земли на южном побережье Крыма. Была быстро построена дорога из Симферополя через горы в приморский поселок Алушта, которая вскоре была продлена до Ялты. В 1840 году один из русских туристов заметил, что Ялта превращается «из ничего» в «очень красивый город»: «…на каждом шагу встречаются новые строения, повсюду деятельность»319. К середине 1840‐х годов дороги окончательно соединили живописный южный берег с остальной частью Крыма320. Тем не менее инфраструктура полуострова все еще оставалась неразвитой: когда выпускник Училища правоведения Александр Серов в 1845 году был назначен в Таврическую уголовную палату в Симферополе, ему потребовалось более месяца, чтобы добраться до Крыма из Санкт-Петербурга321. Тем временем Севастополь – военно-морской порт – стабильно развивался, достигнув к середине века численности населения в 35 000 человек. Однако вплоть до Крымской войны он играл второстепенную роль как в стратегическом плане, так и в общественных дискуссиях322.
Новой столице полуострова уделялось еще меньше внимания, и многие из тех, кто ее посетил, нелестно отзывались о ней. Для молодых специалистов, таких как Серов, который прожил в Симферополе с 1845 по 1848 год, Крым, несмотря на виноградники, пляжи и развлечения, скорее ощущался как ссылка323. Серов писал своей сестре: «Право плакать хочется, когда подумаю, какое варварство меня окружает»324. Он не нашел в крымской столице ни театральных, ни музыкальных событий, достойных упоминания, и тосковал по «шумной общественной деятельности, которой кипят большие города»325. Временами его назначение в Крым и вовсе ощущалось как наказание: «Я живу в глухом, уединенном губернском городе, лишенном всякой общественности, не вижу и не слышу ничего по искусствам…»326
Поначалу экзотическая чуждость Крыма помогала отвлечься. Полуостров с его турецкими банями, ханским дворцом и многочисленным татарским населением отличался от всего, что молодой чиновник когда-либо видел. Покинув Симферополь, он с уверенностью заключил: «Но Крым решительно – не Россия: русского во всей местности ничего нет. Крым, как и Кавказ, решительно Восток…»327
В самой столице татарское влияние было менее заметным. Тем не менее, по словам одного из друзей Серова, прибывшего в Симферополь в 1848 году, город был «полутатарским»328. Как и в Казани, русские очевидцы были поражены восточным влиянием. Ак-Мечеть, небольшой татарский городок, выбранный в качестве резиденции таврического губернатора и переименованный в Симферополь в 1785 году, сохранял смешанную идентичность, в которой сочетались «азиатские» и «европейские» элементы329. Как сам город, так и его христианское население росли медленно. Татарский квартал так и не был снесен, а в 1818 году было дано официальное разрешение на строительство домов «на азиатский манер»330. В отличие от Севастополя, где почти исключительно русский город заменил татарский поселок Ахтиар, в крымской столице к середине XIX века татары по-прежнему составляли более 60% населения331. По мнению большинства образованных русских, присутствие татар являлось угрозой для порядка и препятствием на пути к прогрессу. Так, один русский офицер, проезжая через Симферополь в 1840 году, выразил свои мысли следующим образом:
Что вам сказать о самом Симферополе? Во-первых, он некрасив, а во-вторых, здесь мало пахнет Русью. Татары, безвкусие и неопрятность; неопрятность, безвкусие и татары – вот его физиономия332.
Плачевное состояние города автор объясняет татарским влиянием, что становится понятно из его описания бывшей столицы Крымского ханства, расположенной примерно в 30 километрах от Симферополя:
Несмотря, однако ж, на сумерки, нам не трудно было заметить, что в Бахчисарае по-прежнему грязно и неопрятно. Паломники пророка и внутри России остаются верными своим народным привычкам333.
Однако не все так мрачно. На южном побережье офицер остановился в селе Алупка и был им очарован:
Почти каждый дом окружен красивыми орешниками, а в самой середине усадьбы возвышается прекрасная мечеть, которой золотой купол и луна блистают в зелени деревьев очень приятно334.
Он также отметил чистоплотность и гостеприимство своих хозяев, добавив, что хотя они и не решались пить вино, от водки они не отказывались335. Хотя подобные описания не были редкостью в то время, многие русские современники ассоциировали татар в первую очередь с ленью, неряшливостью и равнодушием336.
Крымская война (1853–1856) стала переломным моментом для образа и положения Тавриды. Теперь состоятельные туристы приезжали не только полюбоваться природной красотой побережья, но и увидеть крепость и порт Севастополя – священную землю, на которой русские солдаты отважно сражались во время войны337. Знаменитая осада Севастополя широко освещалась в прессе, а стихи и рассказы, основанные на личном опыте, включая «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, помогли вписать образ страдания, самопожертвования и ощущение общей угрозы в имперскую коллективную память. Напоминания о боли и мужественной борьбе были вписаны в городское пространство Севастополя: разрушения были повсеместными, улицы, площади и холмы, на которых расположен город, получили названия в честь героев войны, а сам он постепенно превратился в «музей под открытым небом, состоящий из памятников, мемориалов и памятных досок»338. Следует отметить, что таким образом конструируемая историческая память была выраженно русской: татары и другие народы практически не играли никакой роли в истории о защите родины, разве что выступали в качестве предателей.
К 1860‐м годам Крым стали обсуждать по всей России и вне контекста войны. Как и в 1820‐х годах, приобретение собственности сыграло решающую роль в росте благосостояния Крыма. В 1860 году императорская семья купила Ливадийский дворец под Ялтой. Восхищенные живописными окрестностями, они вскоре превратили дворец в летнюю резиденцию, что положило начало моде на отдых в Крыму. В течение нескольких лет множество туристов и ялтинцев приезжали в Ливадию, чтобы прогуляться по парку в надежде увидеть царскую семью или посмотреть фейерверк в честь дня рождения одного из членов императорской фамилии339. К 1869 году быстро растущее число отдыхающих заставило власти Одессы, Симферополя и городские управы Ялты, Севастополя и Феодосии начать дискуссию о недостаточном количестве и разнообразии гостиниц в Крыму340.
Люди, привыкшие к холоду и мрачности Петербурга, были очарованы крымской природой. Юлия Горбунова, чей муж управлял Ливадийским имением с 1874 по 1880 год, так описывала свои первые впечатления в августе 1874 года:
Темно-синее море блестело тысячью искр. <…> Темные кипарисы, виноград, обвивавший террасу, невиданные деревья, горы и этот упоительный воздух – все поражало меня своей новизной341.
Прогресс не заставил себя долго ждать. Наряду с благоустройством гаваней и развитием морской транспортной инфраструктуры, ключевыми толчками к развитию Крыма стали открытие в 1874–1875 годах железнодорожного сообщения между Севастополем и остальной Россией и решение о восстановлении Черноморского флота. Туризм вскоре превратился в индустрию, поскольку курорты, рассчитанные на средний класс, стали вытеснять прежние императорские санатории, ориентированные на дворянство342. В Ялте за короткое время появились десятки пансионатов, и некоторые очевидцы утверждали, что город «рос не по дням, а по часам»343. В то же время восстановление Севастополя стало одной из главных задач. В начале 1860‐х годов в городе проживало менее 7000 человек, и даже десять лет спустя ученый-путешественник Евгений Марков все еще называл Севастополь «мертвецом», архитектурно прекрасным, но в то же время выжженным и опустевшим344. К середине 1880‐х годов реконструкция шла быстрыми темпами. В 1886 году Алексей Зяблов, студент инженерного факультета из Москвы, записал в своем путевом дневнике:
Севастополь! Сколько воспоминаний и радостных, и горестных проносится в уме при одном этом имени! <…> 20 лет лежал Севастополь в развалинах, но вот пронеслась весть о возрождении Черноморского флота – город словно проснулся от долгой летаргии, встряхнулся и начал оправляться с изумительной быстротой. [Другой путешественник] Карпов, бывший здесь 3 года назад, говорит, что просто не узнать Севастополь…345
Симферополь также успешно развивался и уже не являлся объектом насмешек. Во время повторной поездки в Крым в 1880‐х годах Марков отметил:
Симферополь <…> превратился теперь в настоящий европейский городок. Он производит милое впечатление своими беленькими, чистенькими домиками, своими тополевыми аллеями, своими зелеными садами <…> Татарский элемент его населения стал заметен гораздо менее чем это было еще несколько лет назад. Магазины, дома, учебные заведенья разрослись сильно. Уже многих местностей узнать нельзя после девяти лет отсутствия346.
Образ Крыма, как и Казани, претерпевал быстрые изменения, которые отчасти объяснялись предполагаемым влиянием татар-мусульман. Перемены, однако, происходили не только в коллективном воображении: в обоих регионах наблюдался рост населения, развитие инфраструктуры и общественной жизни. В то же время благодаря выдающимся успехам в сфере образования и экономики усиливалась социальная дифференциация. Тем временем отношение империи к меньшинствам и, в частности, к татарам продолжало меняться, отличаясь при этом в Крыму и Казани. В следующем разделе этот процесс рассматривается подробно.
УПРАВЛЕНИЕ ТАТАРАМИ В КРЫМУ И КАЗАНИ
Составляя около 30% населения в Казанской губернии и еще более значительный процент в Крыму, татары-мусульмане были самой многочисленной группой нерусского населения в обоих регионах347. В Крыму, который входил в черту оседлости, также проживали тюркоязычные евреи – называемые крымчаки (евреи-раввиниты) и евреи-караимы (независимое, неталмудическое религиозное течение в иудаизме). Кроме того, на полуострове также были сообщества армян, греков, неправославных русских и иностранных «колонистов» (особенно немецких и швейцарских протестантов, а также переселенцев с Балкан). В Волго-Камье это были ранее анимистические (но все чаще переходящие в православие) общины тюркоязычных чувашей и финно-угорских марийцев, а также немногочисленные общины кряшен (также известных как «крещеные татары»), мордвы, вотяков, поляков, евреев и немцев – вместе с татарами они относились к внутренним «другим» империи348.
Карта 4. Казанская губерния, начало 1880-х
В Крыму и Казани существовали разные модели расселения этнорелигиозных групп. Русские заселяли всю Казанскую губернию, составляя большинство или значительное меньшинство практически во всех уездах (см. карту 4)349. Татары составляли большинство населения в Мамадышском и Казанском уездах (за исключением самой Казани, которая была преимущественно русской), а также в Тетюшском уезде. Значительная доля русских и татар проживала в Чистопольском, Лаишевском, Спасском и Свияжском уездах. В западной части губернии, напротив, преобладали черемисы (Царевококшайский уезд) или чуваши (Ядринский, Цивильский, Козьмодемьянский и Чебоксарский уезды); русские составляли от 9% до 23% населения западной половины губернии, в то время как татары были заметно представлены (более 20%) только в Царевококшайске.
Большинство деревень были монорелигиозными и моноэтническими. К 1860‐м годам только 6% всех казанских татар жили в «смешанных» деревнях, и лишь в немногих из них проживали русские (татары чаще жили вместе с чувашами, черемисами, мордвой и другими)350. В Крыму смешанные деревни возникли в результате межэтнических браков, оттока татар (и периодического возвращения эмигрантов) и одновременной колонизации этих земель славянскими, немецкими и другими поселенцами351. В любом случае, хотя большинство татар и проживали в моноэтнических поселениях, в последующих главах показано, что они активно участвовали в социальном и экономическом обмене со своими соседями.
Татарские деревни были сосредоточены вдоль северных и восточных границ Казанской губернии, в густо заросших лесом районах, удаленных от основных городов, рек и других торговых путей. Татарские историки объясняют, что русское правление с 1552 года, по сути, превратило татар из разнородной группы в крестьянское население352. Действительно, ко второй половине XIX века 95% поволжских мусульман жили в деревнях353. Столица губернии и большинство других городов региона были в основном населены русскими, которые в то же время составляли значительную часть крестьянства. В Крыму, для сравнения, славянское население в основном проживало в трех городах – Симферополе, Севастополе и Керчи354. Татары же составляли большинство населения в небольших городах и в сельской местности. Как и в Казани, они были вытеснены с более плодородных земель, расположенных к северу и к югу от Крымских гор355. Евреи, караимы, греки и армяне также составляли существенную часть городского населения полуострова, в то время как в Поволжье нерусское население (за исключением небольшого числа евреев, поляков и немцев), напротив, старалось не селиться в городах.
Важно отметить, что эти два региона имели разные демографические траектории. То, что процент татар в Крыму сокращался, в то время как в Казани их численность оставалась стабильной, во многом связано с эмиграцией в Османскую империю, особенно после Крымской войны (1853–1856). И по мере того как многие татары уезжали, прибывало все больше русских, украинцев и представителей других этнорелигиозных групп. В Ялте, превратившейся из татарского центра торговли в курортный город, население становилось все более разнородным: в 1870 году мусульмане по-прежнему составляли более трех четвертей всех родившихся в Ялте (а православные – менее одной шестой); к 1901 году ситуация стала противоположной: теперь православные составляли 65% населения, а мусульмане – всего 6,2%; в городе также появились крупные общины евреев, протестантов, римокатоликов, армянокатоликов, армяно-григориан и караимов356.
И все же, несмотря на происходящие изменения и не в последнюю очередь благодаря обратной миграции, численность крымских татар оставалась высокой. В период с 1866 по 1884 год численность татар в Крыму увеличилась с 109 305 до 151 204 человек357. К середине 1880‐х годов мусульмане по-прежнему составляли 42,7% населения полуострова: хотя среди городских жителей их было не более 18%, в сельской местности они представляли собой явное большинство (64%)358. К 1917 году численность мусульман сократилась в городах – до 12% и в деревнях – до 42%359. И хотя эти данные свидетельствуют о сокращении численности татарского населения, они также подчеркивают, что вплоть до конца имперского правления татары оставались основной этнорелигиозной группой в крымских деревнях и селах.
Культурные различия между казанскими и крымскими татарами заставляют усомниться в практике объединения этих двух групп общим названием «татары». Например, в то время как в Поволжье служилые татары начали добавлять русские суффиксы «ов» и «ев» к своим фамилиям вскоре после присоединения Казани, крымские татары никогда не меняли своих тюркских имен. Эти две общины были не просто частью одной этнической группы, рассеянной по всей территории Евразии. В значительной степени именно советская политика институционализировала упрощающий этноним «татары» для обозначения целого ряда различных групп, в том числе и для того, чтобы наказать крымских татар за их якобы сотрудничество с нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны360. Крымские и казанские татары различались и продолжают различаться как языком, так и своим историческим опытом и культурными практиками361. Однако в данной книге речь идет не столько о таких различиях, сколько об изменении отношений между государством и обществом. Опыт крымских и казанских татар в России эпохи реформ, хотя и различался, тем не менее вполне сопоставим.
Несмотря на то что Крым и Поволжье были переданы под гражданское управление вскоре после их включения в состав Российской империи, к началу XIX века Крым все еще входил в состав генерал-губернаторства. Эти крупные территориально-административные единицы, состоявшие, как правило, из нескольких губерний, возглавлялись генерал-губернаторами, которые осуществляли военные функции и контролировали работу губернаторов вверенных им губерний. В результате крымские власти подчинялись не только симферопольскому губернатору (как главе Таврической губернии), но и Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губернатору, находившемуся в Одессе362. Зависимость от процветавшего черноморского порта усилилась после включения Таврической губернии в состав Одесского учебного округа (1832), военного округа (1862) и судебного округа (1869). В то же время Симферополь напрямую управлялся из столицы: если губернская администрация, включая губернатора как главу администрации и полицию, подчинялась Министерству внутренних дел, то местная судебная система постоянно взаимодействовала с Министерством юстиции (хотя после судебной реформы в ведении этого министерства формально осталась только прокуратура). В результате лишь часть переписки между правоохранительными органами и министерствами проходила через Одессу. Хотя в Казани существовали аналогичные уровни управления и юрисдикции, большинство из них находилось в самой Казани. Поэтому ключевые вопросы решались либо в самом городе, либо непосредственно в Санкт-Петербурге.
В Крыму и Поволжье по-разному решались вопросы обустройства татарского населения. В Казани и Оренбурге и разных других городах татары были отделены от остального городского населения и проживали на окраинах, в татарских слободах, или в сельской местности. В период с 1780‐х по 1850‐е годы отдельные органы управления, известные как «татарские ратуши», обслуживали городское татарское население, занимаясь вопросами членства и регистрации в гильдиях, торговли и передвижения, сбора налогов, предоставления кредитов и погашения долгов363. В этих учреждениях также работали исламские судьи, рассматривавшие гражданские дела364. Но татары могли и отказаться от юрисдикции и услуг ратуши (в противном случае они должны были оплачивать их содержание), и тогда они оставались под прямым российским управлением. Между 1834 и 1855 годами местная администрация и вовсе запретила казанским татарам обращаться в городские магистраты по юридическим спорам, в основном в целях сокращения расходов, и передала все татарские дела в татарскую ратушу365.
В Крыму не было светских учреждений, предназначенных для управления татарским населением, подобных казанским ратушам, и татарское население было частично предоставлено само себе. В 1787 году князь Г. А. Потемкин, генерал-губернатор Новороссии, как стали называть обширный степной регион к северу от Черного моря, поручил губернатору недавно образованной Таврической области принять срочные меры для того, чтобы столица бывшего ханства, Бахчисарай, оставалась исключительно татарским городом366. По словам губернатора, «от простых татар, а особенно живущих на плоской части полуострова, можно ожидать добрых хлебопашцев», однако он предупредил, что местные муллы ведут агитацию против новых властей367. Поэтому меры по умиротворению населения приветствовались. Любой нетатарин, желавший поселиться в Бахчисарае, должен был получить специальное разрешение от губернских властей. Несмотря на то что в течение XIX века эту исключительность не удалось сохранить, перепись 1897 года показывает, что в городе все еще проживало более 11 000 татар и чуть более тысячи славян368. В центрах торговли, Карасубазаре и Евпатории, также по-прежнему преобладали татары369.
Начиная с правления Екатерины II, империя стремилась институционализировать и контролировать, а не игнорировать или объявлять вне закона мусульманские религиозные институты. Эта политика затронула как Крым, так и Казань. Крымское духовное управление было заимствовано непосредственно из Османской империи и, как и его аналог в Оренбурге, возглавлялось муфтием (в неофициальном обиходе оно называлось муфтиятом)370. В обоих регионах духовные собрания отвечали за все религиозные вопросы и назначение исламских сановников. Они также были наделены юрисдикцией в решении вопросов семейного и наследственного права среди мусульман371. При этом большинство гражданских споров решалось имамами, избранными на уровне общин, а затем одобренными государством. Отношения между этими имамами, исламскими судьями районного уровня (обычно называемыми ахундами в Поволжье и кади в Крыму), духовными собраниями и муфтиятом регулировались лишь в некоторой степени, и формальная иерархия на практике часто игнорировалась372. Практически ежегодно лишь одна седьмая часть гражданских дел, решавшихся на основе шариата, рассматривалась Оренбургским магометанским духовным собранием373. Духовные собрания могли использоваться в качестве апелляционных инстанций теми, кто был недоволен решениями местных исламских судей. Учреждение духовных собраний также привело к тому, что мусульмане постепенно стали отождествлять шариат с их деятельностью374. Однако, по мнению российских критиков, подобные институты в основном укрепляли самосознание мусульман, а не помогали процессу культурной ассимиляции375.
Как и в других частях империи, в Крыму и Казани в дореформенный период существовала сложная система правовых институтов: некоторые из них предназначались для конкретных сословий, другие – для отдельных городов или религиозных общин; при этом, как и в случае с взаимодействием между исламскими правовыми институтами, зачастую их деятельность практически не регулировалась, а предписания не соблюдались. Особенно сложная ситуация сложилась в Крыму. Во-первых, Симферопольское духовное управление мусульман было официально создано только в 1831 году376. До этого российские власти просто использовали бывшие османские должности муфтия, кадиаскера и пяти кади, округа которых фактически сохранились со времен Крымского ханства377. Российские власти назначили им государственные оклады и поручили выполнение разнообразных административных задач378. Во-вторых, хотя изначально в России крымские мусульмане имели право владеть землей в соответствии с местными законами и имели доступ к арбитражу в судах кади (даже в спорах с переселенцами), большинство земельных конфликтов вскоре стали рассматриваться специальной государственной комиссией (см. ниже)379. В 1830‐х годах были предприняты попытки более четко определить полномочия различных судебных инстанций, но они принесли лишь частичные результаты: неформальные соглашения и нечетко определенные юрисдикции продолжали оставаться нормой. О’Нилл, безусловно, права, отмечая, что к этому времени крымская правовая культура впитала в себя многочисленные элементы различных правовых и культурных традиций, в том числе османский канун-наме, шариат и обычаи, заимствованные из степных культур380. В-третьих, другие религиозные общины имели свои собственные административные органы. Таврическое и Одесское духовное управление караимов было открыто в Евпатории в 1837 году и взяло на себя задачи по регистрации рождений, смертей и других важных для караимов жизненных событий от имени государства, а также по разрешению споров в религиозных и семейных вопросах381. Католики и армяно-григорианцы не имели своих органов управления в Крыму: католики подчинялись епархии, расположенной в Саратове, а армяно-григорианцы находились под юрисдикцией Кишиневской епархии.
Во многом благодаря сохраняющейся численности татар, евреев, греков, армян и других меньшинств государственные и церковные власти в Крыму придерживались более прагматичного и примирительного подхода, чем в Казани382. Таврическая и Симферопольская епархия была учреждена только в 1859 году383. Уже тогда, в отличие от Казани, управляющий Таврической губернией предостерегал от православного прозелитизма, а представители церкви в Крыму, как правило, воздерживались от прямой миссионерской деятельности (несмотря на периодическое давление со стороны архиепископа в Одессе или митрополита в Москве). Таким образом, религиозная автономия крымских татар соблюдалась в большей степени, чем в Поволжье. Во время Крымской войны (1853–1856) к крымским мусульманам относились как к потенциальным предателям, побуждали к отъезду или даже насильственно переселяли384. Этот опыт в очередной раз заставил тысячи людей бежать, привел к опустению целых деревень и, несомненно, помог вписать в коллективную память крымских татар страдания и лишения, связанные с ним. Однако, несмотря ни на что, к началу века татары по-прежнему составляли крупнейшую общину в четырех из пяти крымских уездов. Возможно, имперские власти извлекли важный урок из военного периода и с 1860‐х годов вновь предпочли более примирительный подход – это может быть одним из основных факторов отсутствия в Крыму эпохи реформ массовых беспорядков, которые подробно обсуждаются в шестой главе385.
Различные подходы к миссионерской работе отражали более широкие различия в отношении к этнорелигиозным меньшинствам в обоих регионах. В Поволжье большинство оставшихся там представителей меньшинств были из числа бывших или по-прежнему практикующих анимистов, к которым власти продолжали относиться либо с жалостью, либо с пренебрежением. Российские элиты отвергали их веру как «грубые суеверия» или относились к ним как к «детям природы», которых империя должна была приручить и цивилизовать. Возможность распространения на них политики веротерпимости, не говоря уже об институциональной поддержке, даже не рассматривалась386. И в Крыму не все меньшинства были поставлены в равные условия. На еврейское население формально распространялись те же ограничения и дискриминационные меры, которые существовали по всей империи. Караимы, настаивающие, как правило, на своем отличии от иудаизма, в 1837 году были официально признаны религиозной группой, в результате чего было учреждено Таврическое и Одесское духовное управление караимов. Как и мусульманам, армянам, грекам и европейским «колонистам», караимам была предоставлена автономия в религиозных и некоторых административных и юридических вопросах, однако некоторые ограничения продолжали действовать вплоть до их полного отделения от еврейской общины в 1863 году387. Многочисленные запреты, напротив, были наложены на считавшихся евреями крымчаков (раввинитов). При этом местные чиновники зачастую не представляли, как их можно распознать и как с ними обращаться, поскольку многие из крымчаков говорили и одевались как татары, особенно в таких городах, как Карасубазар388.
РАСХОЖДЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТРАЕКТОРИЯХ: ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС, ПОВИННОСТИ И МИГРАЦИЯ
То, что мусульмане по-разному управлялись в Крыму и Казани, во многом связано с их различным экономическим, социальным и военным положением. С момента присоединения Казанского ханства царь использовал татарскую элиту в качестве кавалерии для защиты границы, предлагая ей взамен земельные наделы. Таким образом, на приграничных территориях постепенно сформировалась мусульманская знать, чье положение было основано на военной службе. Служилые татары получили более высокий статус, чем крестьяне, проживавшие в их поместьях, но уступали как татарским мурзам, так и высшему московскому обществу389. С середины XVII века их статус понизился, в основном потому, что ситуация с безопасностью в Казани улучшилась и русская армия больше не нуждалась в кавалерии390. Русская элита также стремилась приобрести земли на границе, поэтому власти не были склонны продлевать татарам право на пользование пожалованными землями.
В то время как площадь земель, находившихся под управлением татар, продолжала сокращаться, различия между положением русских и татар стали уменьшаться сразу в нескольких аспектах. Многие представители татарской элиты, вынужденные Петром I и его наследниками выбирать между обращением в христианство и потерей собственности и привилегий, предпочли сохранить свою мусульманскую веру, отказаться от земли и стать частью государственного крестьянства. Многие были переведены в разряд лашманов, новой категории (в основном нерусских) служилых людей, созданной в 1718 году вместе с учреждением Петром I Казанского адмиралтейства для управления кораблестроением. Десятки тысяч служилых татар из деревень и бывших ясачных крестьян, а также небольшое количество мордвинов и чувашей попали под контроль адмиралтейства. Они занимались тяжелой работой по рубке и перевозке леса для царского флота391. Лишь немногие татарские дворяне продолжали владеть землей: к 1782 году в Казанской губернии насчитывалось 34 290 служилых татар мужского пола, но только 555 татар-землевладельцев392. В то же время остальным мусульманским дворянам были предоставлены примерно те же привилегии, что и русской аристократии393.
Хотя подавляющее большинство татар-мусульман было частью обедневшего сельского населения региона, между 1775 и 1860 годами сформировалась новая элита, состоявшая из татарских купцов и предпринимателей394. К началу XIX века мусульмане составляли 32% от всех гильдейских купцов Казани395. Промышленная революция, начавшаяся в конце 1840‐х годов в Поволжье и приведшая к созданию множества мыловаренных заводов, текстильных, кожевенных и меховых фабрик, способствовала дальнейшему развитию этого нового экономического класса: к 1857 году одна треть всех 263 промышленных предприятий Казанской губернии принадлежала татарам396. Именно они разъезжали по улицам Казани на своих «огнелошадях», посещали клубы и театры, владели крупными магазинами на центральных улицах города, о которых уже шла речь в этой главе. Отдельные татарские семьи, такие как Юнусовы, Апанаевы, Якуповы и Арсаевы, были особенно состоятельными предпринимателями и землевладельцами и напрямую общались с императорской семьей397.
В 1718 году сельское население Казанской области, за исключением лашманов, стало платить подушную подать вне зависимости от религиозной принадлежности. В некотором отношении татары-мусульмане были в лучшем положении, чем их русские соседи, по крайней мере на начальном этапе: поскольку большинство из них были государственными крестьянами или «свободными сельскими обывателями», а не крепостными, они сталкивались с меньшими ограничениями, чем многие русские398. В борьбе с попытками местных помещиков закрепостить татарских крестьян в 1720 году Петр I даже издал указ, согласно которому они должны были быть немедленно отпущены399. В итоге среди крепостных, освобожденных в Казанской губернии в 1861 году, было 214 649 православных и только 71 мусульманин400.
Татары, однако, как правило, служили в армии дольше, чем их русские соседи. На протяжении многих лет от татар требовалось обеспечивать императорскую армию рекрутами401. В Рекрутском уставе 1831 года были закреплены установленные в XVIII веке положения, согласно которым военная служба была обязательной для всего населения, платившего подушную подать. В условиях мирного времени каждый рекрутский округ должен был обеспечивать вооруженные силы небольшим числом рекрутов, менее десяти, на каждые 1000 душ, годных к военной службе402. Хотя для некоторых групп населения (например, исламских сановников, мусульман, принявших христианство, гильдейских купцов и татарских крестьян, числившихся за помещиками в Крыму) были предусмотрены исключения и особые правила, казанские татары были включены в рекрутские списки403. Выгодные условия и привилегии по-прежнему больше зависели от социального положения, чем от этнической или религиозной принадлежности. Тем не менее, стремясь сделать процедуру призыва более эффективной, в 1853–1854 годах власти ввели отдельную процедуру рекрутского набора для татар: в Казанской, Астраханской, Пензенской и других губерниях, где татары составляли значительную часть населения, были созданы Татарские рекрутские участки для учета и набора татарских солдат404. Срок службы зависел от уровня образования, но обучение в мусульманских школах по-прежнему не учитывалось405.
Крымские татары также служили в вооруженных силах империи. Однако, в отличие от Поволжья на протяжении почти всего раннего Нового времени, где вторжения кочевых племен и восстания были частым явлением, Крым оставался спокойным пограничным регионом. Полуостров так и не стал милитаризованной территорией с большим количеством гарнизонов, состоящих из местных служилых людей. Так как после поражения в Русско-турецкой войне 1787–1791 годов Османская империя отказалась от всех претензий на Крым, для удержания полуострова под контролем не требовалось большой армии. Власти довольствовались созданием двух Таврических дивизионов конного войска в несколько сотен человек, основную часть которых составляли молодые мурзы406. Создание этих дивизионов и последующее введение постоянного эскадрона численностью около 230 человек наложило расходы на содержание крымскотатарского населения, но избавило его от всеобщей воинской повинности до 1874 года407.
Начиная с 1860‐х годов социально-экономическое положение ухудшилось, хотя и по-разному, в обоих регионах. Значительное увеличение численности населения, индустриализация и экономический рост, повысившие значимость частной собственности, и освобождение крестьян от крепостной зависимости в совокупности вызвали стремительно растущий дефицит земли в Поволжье. Несмотря на то что после реформ земства выделяли бывшим крепостным земельные наделы, эти участки были слишком малы. К 1880‐м годам земли стало так мало, что так называемые «переселенческие поезда», состоявшие в основном из русских, покидавших Казань в поисках новых сибирских земель, стали обычным явлением в уральских губерниях408. Хотя государственные крестьяне получали более крупные наделы, экономическое положение этих крестьян зависело от этнической принадлежности, и наименее состоятельными из них оказывались татары409. Подробнее об этом говорится в шестой главе. Здесь же достаточно отметить, что в пореформенный период проблема получения земли была ключевой для волжских татар410. Почти 89 000 этих обедневших крестьян и бывших сельских ремесленников работали по найму на предприятиях растущей в регионе промышленности411.
В Крыму освобождение крепостных имело меньшее влияние. Чтобы сделать малонаселенные степи юга России и черноморского побережья более привлекательными для внутренних мигрантов, администрация ввела ограничения на крепостничество. В этих регионах лишь небольшое количество помещичьих хозяйств владело крепостными. Важно отметить, что частные владения составляли лишь половину территории, а треть этих земель принадлежала людям, которые не имели права использовать труд крепостных: купцам, казакам, европейским «колонистам», евреям, караимам и другим412. Оставшиеся помещики-дворяне, хотя и имели право владеть несвободными крестьянами, как правило, полагались на наемных рабочих413. В период с 1823 по 1844 год князь Воронцов ввел ограничения против помещиков, которые пытались ввозить крепостных из центральных губерний или закрепощать местных крестьян, проживавших на территории их поместий. В 1827 году он даже убедил правительство принять закон, который предоставлял беглым крепостным свободу и позволял им оставаться и работать в Новороссии в качестве наемных рабочих414.
Демографические изменения и земельные вопросы в Крыму определялись совокупностью факторов, однако особую роль играла миграция. Отток татар из Крыма начался сразу после его присоединения. Новые власти не проявляли особого интереса к признанию земельных прав местного населения, которое к 1782 году сократилось до 50 000–60 000 жителей мужского пола, в основном татар, а также нескольких тысяч крымчаков и караимов415. За четыре года до этого население Крыма все еще составляло около полумиллиона мужчин и женщин416.
Вскоре после завоевания полуостров и прилегающие территории стали рассматриваться как регионы, где можно было выделить землю российскому дворянству и иностранным колонистам и куда можно было переселить крестьян из других губерний417. По сравнению с другими частями Новороссии Крым был не столь важным направлением для внутрироссийского переселения; на полуострове власти больше внимания уделяли попыткам завоевать лояльность татар, которые продолжали занимать ключевые позиции в важнейших институтах, таких как Дворянское собрание, вплоть до 1830‐х годов418. Тем не менее, чтобы заполнить опустевшие деревни, власти приглашали государственных крестьян из наиболее густонаселенных регионов центральной России и современной Украины, а также солдат и «заштатных церковников» переселиться в Крым419. Большинство татар, греков, армян, турок, итальянцев, «цыган» и евреев было записано в государственные крестьяне – в Крыму их называли «поселянами»420. Кроме того, перспектива получить неосвоенные земли привлекла в Крым османских и польских подданных, особенно греков, молдаван и украинцев с польских земель421. Европейских иммигрантов, наряду со старообрядцами и «сектантами», как правило, держали подальше от полуострова. В приграничные регионы власти предпочитали переселять внутренних мигрантов из числа православных, так как в случае необходимости их можно было призвать на военную службу422. Тем не менее десятки немецких и швейцарских семей получили землю в Крыму, где основали «колонии», которые процветали в течение последующих десятилетий423. Эти колонисты составляли отдельную правовую категорию до тех пор, пока в 1871 году универсализирующие веяния эпохи реформ не привели к отмене их особого статуса и большинства привилегий424.
Как и в Казани, в Крыму остро стоял вопрос землевладения. После присоединения Крыма перераспределение земель было проведено в спешке и бессистемно425. Князь Потемкин раздал своим приближенным почти 15% территории: обычно это были небольшие, но дорогие наделы, принадлежавшие эмигрировавшим ханам или мурзам426. Кроме того, он привлек в новую администрацию многих татарских дворян. Примерно в то же время, что и казанские татары, крымские беи и мурзы были включены в табель о рангах и, таким образом, получили те же права, что и другие аристократы, пусть и только на бумаге; и хотя некоторым из них было трудно доказать свое дворянское происхождение из‐за отсутствия документов, другие получили большие земельные наделы427. Татары продолжали владеть достаточным количеством земли, чтобы с ними приходилось считаться: в начале XIX века они по-прежнему составляли три четверти от всех представителей элиты, владевших заселенной землей в Крыму428.
Простые татарские крестьяне, напротив, в большинстве своем находились в тяжелом экономическом положении. После 1783 года как русские, так и татарские землевладельцы начали присваивать сопредельные территории. Они знали, что, хотя подобные земельные захваты являлись незаконными, нарушителей не преследовали429. Более того, если до российского завоевания крестьянские наделы существовали практически в каждом поместье, то новые (особенно русские) землевладельцы не привыкли к такому порядку и стали налагать на крестьян (в основном татарских) обязательства, которые мало чем отличались от крепостного права430. Также было много случаев, когда татарские земли обозначались как «пустые», что позволяло на них претендовать. Эта практика была настолько распространена, что власти были вынуждены осудить ее отдельным указом (1796)431. В некоторых случаях крестьянские общины принудительно переселялись432.
Многие земельные вопросы в Крыму оставались нерешенными вплоть до середины XIX века. В период с 1802 по 1848 год земельными спорами занималась специальная земельная комиссия. Хотя она рассматривала большое количество споров между людьми самого разного социального положения, в ней преобладали представители дворянства, и она была склонна служить их интересам433. Татары также могли обращаться в существующие суды в Симферополе для рассмотрения своих земельных претензий, но эти сословные суды имели репутацию медленных и коррумпированных, к тому же они комплектовались из служащих администрации434.
Однако в некотором смысле положение сельского татарского населения в Крыму было лучше, чем в Казани435. После присоединения полуострова крымские татары получили ряд привилегий. Они освобождались от уплаты подушной подати, и до 1874 года их не могли призвать в армию. Если у крымских татар были средства, они могли владеть землей и продавать ее, менять своих помещиков или переезжать на казенные земли. Декрет, принятый в 1827 году, подтвердил многие из этих привилегий436. Тем не менее сохранялись и ограничения (например, на количество земли, которую можно было продать или сдать в аренду), а некоторые привилегии зачастую существовали только на бумаге.
Начиная с 1830‐х годов Петербург стал критичнее относиться к традиционной политике имперского строительства в Крыму. До сих пор она была направлена на обеспечение стабильности путем принятия разнообразия и местных особенностей, однако теперь отдельные аспекты местной элитарной культуры стали восприниматься более негативно, а татарское влияние было постепенно снижено437. Крымская война и ее последствия вновь изменили демографическую ситуацию. Все больше татар уезжало в Османскую империю, в то время как прибывали новые славянские поселенцы. К концу 1860‐х годов процесс стирания местных особенностей шел полным ходом. На смену запутанному множеству прежних административных и правовых институтов пришла гораздо более централизованная и единая система, которая действовала на большей части территории империи. Начался заключительный этап интеграции Крыма в состав России.
В этой главе Крым и Казань были рассмотрены как промежуточные территории. Несмотря на то что восприятие, управление и местная специфика Крыма и Казани во многом отличались от ситуации в центральных регионах империи, к началу реформ они уже не могли считаться типичными приграничными землями. Во многих районах Казани и почти во всех районах Крыма среди жителей сельской местности по-прежнему преобладало нерусское население, однако в обоих регионах оно было вытеснено с наиболее доходных земель. В городах русское население либо уже находилось в большинстве, либо постепенно становилось доминантным. И в Крыму, и в Казани Российская империя нашла свое воплощение как в архитектуре, так и в разделении и организации земель и прочно вписалась в систему общественной организации.
В большинстве случаев этот процесс быстрее развивался в Казани; однако в некоторых вопросах инфраструктуры и организации земельных отношений Крым был более интегрирован в структуру имперского управления (в шестой главе этот вопрос подробно рассматривается применительно к землевладению). Так или иначе, оба региона двигались по разным траекториям как относительно своей роли в общеимперском воображении, так и в вопросах управления. К 1860‐м годам крымские города Симферополь и Севастополь, а также южное побережье полуострова начали процветать, в то время как Казань постепенно теряла свое формально привилегированное положение среди других городов региона. Проявление татарской идентичности в Поволжье было, возможно, менее заметным, чем в Крыму, по крайней мере в городской среде, но она при этом была более стабильной, а отток населения из региона был незначительным. Что касается Крыма, то здесь татары преобладали и численно, и социально, однако в течение XIX века их влияние несколько ослабло.
То, что перемены в Казани эпохи реформ были столь ощутимы, во многом связано с новыми социальными, образовательными и правовыми институтами, которые помогли развить только зарождавшуюся публичную сферу. Частичная политизация общественной жизни, усиление социальной дифференциации и смешение социальных групп были одними из ключевых последствий. Расширение университета и профессионализация правовой сферы не только способствовали этим процессам, но и дали толчок социальной интеграции и правовой унификации. В этой главе упоминается тот факт, что татары были частью формирующейся публичной сферы; эта тема будет развита и в следующих главах, особенно в той части, которая касается участия в правовой жизни.
Светская жизнь дворян в Крыму в основном ограничивалась общением на курортах и в санаториях, здесь было мало салонов, театров и прочих культурных мест. Не было и университета, как в Казани, или другого учебного заведения, которое могло бы способствовать развитию среднего профессионального класса. Большинство жителей полуострова не имели необходимой подготовки для административной работы, не говоря уже о судебных должностях. Среди татар было мало богатых купцов и предпринимателей, которые могли бы стимулировать экономический рост и способствовать дифференциации мусульманского общества – среди них преобладали землевладельцы и безземельные рабочие. Тем не менее, внедряя новые институты и методы управления, имперское государство постепенно проникало в местное общество. Путешественники отмечали, что к началу 1870‐х годов многие мужчины из числа крымских татар уже могли изъясняться на русском языке, а некоторые даже свободно владели им438. Среди причин частого общения на русском языке были земельные споры. Как мы увидим в следующей главе, потребность в точных землеустроительных работах и правовом регулировании – одна из причин, по которой введение новой судебной системы в Крыму считалось необходимым.
Глава III
ПРОВЕДЕНИЕ ПРАВОВЫХ РЕФОРМ: НОВЫЕ СУДЫ В КАЗАНИ И КРЫМУ
В данной главе обсуждается география распространения правовых реформ, а также дискуссии вокруг их реализации и переговоры по их проведению в Крыму и Казани. Для лучшего понимания контекста, в котором проводились реформы, сначала рассматриваются изменение пореформенного политического климата и политизация, пусть все еще и слабая, зарождающейся публичной сферы, которая также коснулась таких губернских городов, как Казань. Прагматические соображения относительно ресурсов и инфраструктуры сыграли не менее важную роль, чем политические и идеологические вопросы, связанные с властью и распределением полномочий. Реформа требовала тщательного согласования на губернском и местном уровнях, при этом, поскольку ряд лиц и учреждений продвигали свои позиции и отстаивали конкретные интересы, процесс проведения реформ периодически прерывался в результате разнообразных споров. В главе описывается как сам переговорный процесс, так и конкретные противоречия, возникавшие между сторонами, а также составляется подробный этнографический портрет коммуникаций и административного взаимодействия в пореформенной России.
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО КЛИМАТА
Середина 1860‐х годов была необычным временем. После проведения Великих реформ либералы в российской политической и интеллектуальной элите, казалось, наконец-то добились своего. Во множестве победоносных статей, речей и иллюстраций ключевые политические и культурные деятели прославляли Александра II, альтруистичного «царя-освободителя», как поборника гуманности и справедливости. Однако, хотя реформы и привели к отмене крепостного права, увеличили участие населения в работе государственных учреждений и создали независимую судебную систему, они не были направлены на построение открытого, демократического общества. Реформы не предоставили ни свободу мысли, ни свободу слова, поэтому запугивание, цензура и аресты тех, кто критиковал власти, и особенно царя, оставались обычным явлением. Александр II преподносил свои реформы не как законодательное расширение прав, а как проявление христианской любви и благочестия, и, согласно этому видению, в реформах не было места ни для политической демократизации, ни для создания представительных учреждений439.
Неоднозначный характер эпохи реформ также отразился на устройстве и деятельности политической полиции. Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, учрежденное в 1826 году для выявления и устранения угроз императорской власти, в середине века расширилось, вызывая страх у жителей крупных городов империи; тем не менее до 1880‐х годов в нем работало лишь несколько десятков сотрудников. В период Великих реформ Третье отделение все еще нельзя было в полной мере считать профессионально сформировавшимся ведомством440
