Читать онлайн Четвертый корпус, или Уравнение Бернулли бесплатно
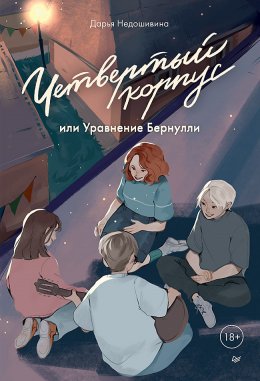
За день до
Острой пикой упирается в небо уличный флагшток. Немного позади, шагах в десяти от него, начинается ряд недавно побеленных гипсовых трибун. Каждая из них имеет свою высоту – от метра до полутора. Самая высокая стоит точно в центре. За ними возвышается гипсовый задник в виде незавершенного эллипса. Он тоже недавно побелен и пуст. Опустел он давно, но смотреть на этот белый эллипс многим до сих пор непривычно.
Если бы сейчас был год, скажем, 1984-й, когда мы с Анькой только пришли в этот мир и до нашего знакомства оставалось еще десять лет, то белый гипс украшали бы суровые профили вождей и алые знамена. А в 2005-м единственным украшением этого места стал конец гирлянды из разноцветных флажков, свисающей с растущей рядом березы.
Флагшток, трибуны и задник – это линейка, место для проведения торжественных мероприятий. Напротив трибун, выстроившись в ровные шеренги, легко могут поместиться полторы сотни человек, а то и все две, если последние ряды встанут на грунт волейбольной площадки.
Если от нее пойти прямо, оставив за спиной линейку, то можно попасть к главному корпусу – двухэтажному зданию с низкими широкими ступеньками перед стеклянной дверью. Эти ступеньки и дверь делают его похожим на советский универмаг с обязательным галантерейным отделом и отделом игрушек, где возле касс стоит шило для чеков.
На фасаде главного корпуса, в его верхнем правом углу, выложена мозаикой бабочка с сиреневыми крыльями, а верхний левый угол – пуст. Пустота эта такая же вопрошающая, как и пустота задника, с которого сняли портреты вождей, но здесь тоже видна гирлянда из флажков. Она вьется по перилам пожарной лестницы, проржавевшей и потому незаметной на фоне рыжих стволов сосен, а затем ползет по веткам молодых берез, посаженных вдоль дорожки, ведущей к жилым корпусам. Всего их четыре. Ближе всех к главному корпусу находится второй. За ним по направлению к линейке, утопая в кустах цветущей сирени, стоит первый. От него быстрее всего можно дойти до изолятора – кирпичного домика с никогда не гаснущей лампочкой над крыльцом. «Не звонить!» – написано возле кнопки звонка.
Если сойти с крыльца изолятора на бетонную дорожку, то можно увидеть четвертый корпус. В незамкнутом эллипсе задника как раз окажется нужный подъезд. Четвертый корпус считается самым дальним. Его так и называют: самый дальний. Но дальний он только относительно общежития для персонала, что иногда бывает даже кстати.
Четвертый и третий корпуса отделены друг от друга пригорком. С него спускается вниз тропинка. Сухая, пыльная, с молодой травкой в трещинках, она идет мимо молодых деревьев, посаженных, скорее всего, прошлой осенью, затем делает петлю вокруг поляны незабудок, огибает домик в виде гриба, а дальше ведет к ручью. Если сойти с тропинки в бурьян, а затем пойти между сосен, то можно выйти к лесной дороге. За ней будет место весьма необычное: там стоит бревенчатый дом, на крыльце которого однажды пела сама Милен Фармер.
Немного дальше, за бетонным забором, можно обнаружить устье ручья. Там он едва заметен и тих, но в месте пересечения с тропинкой становится до обидного бурным. Несколько лет назад рабочие построили через него мостик. Этого можно было не делать, но тропинка ведет к складу, нужному и популярному здесь сооружению.
На складе хранится все, и даже больше, гораздо больше, чем думает руководство. Но главная странность в том, что многого из того, что там должно храниться, в его закромах давно уже нет. Вот такой парадокс.
Прямо за складом – бассейн, местная гордость, но сейчас на деревянной двери висит замок и чаша бассейна пуста.
Дальше развилка. Если пойти налево, то можно выйти к общежитию. Направо идти придется гораздо дольше, пока не покажется домик с табличкой «Выжигание». Буквы, разумеется, выжжены на деревянной дощечке специальным прибором.
От места развилки отходит еще одна тропинка – заросшая, потому что ею мало кто пользуется. Она ведет обратно к жилым корпусам.
Все четыре – двухэтажные, сложены из бело-голубых панелей. Выглядят как панельные дома, пережившие ураган, который сорвал с них с десяток верхних этажей. О том, что некогда эти этажи были, говорят подъезды, слишком монументальные для низких корпусов: с козырьками, на которых можно загорать хоть впятером, и прохладными предбанниками, где живет гулкое эхо. Вот уже много лет корпуса смотрят друг на друга глазами-окнами, голубыми от отражающегося в них неба, и не перестают удивляться тому, что видят.
Но пока в этом месте не происходит ничего интересного, потому что смена еще не открыта и никого вокруг нет. Или почти никого.
– Ну что за черт! – сказала Анька, вытирая о траву подошву кроссовки. – Откуда здесь взялось собачье дерьмо?
Находка показалась нам неожиданной, потому что стояли мы не где-нибудь, а возле кустов сирени у входа в четвертый корпус, в который нам не далее как завтра предстояло заселиться в качестве вожатых. Это традиция – давать вожатым возможность осмотреться в лагере «за день до».
Нужно сказать, что не только подъезд корпуса оказался монументальным. Перед ним, справа от асфальтовой дорожки, стоял уличный фонарь, тоже значительный: высокий, с матовым плафоном размером с баскетбольный мяч. Под ним – скамейка. Самая обычная, но тоже большая, с бетонными боковинами. А на скамейке сидела женщина. Вот она была самой запоминающейся из всего, что здесь находилось.
Одетая в полинявший зеленый халат, она курила папиросу, опираясь локтями о толстые колени, и приветливо нам улыбалась. Весила она килограммов сто пятьдесят, не меньше, но зато была при макияже и даже с маникюром, сделанным, правда, давно.
– Вы уж извините, девочки, за обувь, – сказала она. – Это Борода проказничает. Сантехник местный.
От неожиданности Анька сжала мою руку и наклонила голову набок, выражая тем самым высшую степень удивления местными порядками.
– Не так вы поняли, – махнула рукой женщина. – Это не Борода сам. В ларек он ходит за колбасой и путь срезает через дырку в заборе. Вот псина какая-то за ним и увязалась. Любит он краковскую, а у меня только вареная, в кишке. Но вы не обижайтесь. Все тварь Божья, всех любить надо… Это я про собаку.
Затушив папиросу о бетонную боковину, женщина поднялась, достала из кармана резиновую перчатку и бросила в нее окурок.
– Нельзя здесь. Дети завтра приедут, – пояснила она. – А я Любовь Васильевна, кухней заведую. Но вы можете меня тетей Любой звать.
Попрощавшись, тетя Люба направилась в сторону главного корпуса, где на первом этаже находился пищеблок, а мы так и остались стоять под фонарем и смотрели ей вслед, пока она не исчезла из виду.
– Какие у нее глаза большие и не моргают, – заметила я. – Как два окна.
– Насмотримся еще. – Анька потянула меня к подъезду. – Глубоко вдохнули – и вперед!
Этаж нам дали второй (первый в четвертом корпусе был обозначен как нежилой), но мы решили, что так даже лучше, ведь второй этаж ближе к звездам. А это уже привычка студентов филфака – во всем искать тайный смысл, будь то глаза-окна, верхний этаж или резиновый поручень, оторванный до половины шатающихся перил. Даже в линолеуме с имитацией паркета было что-то знаковое: сотни детских ног протоптали в нем настоящую лесную тропинку вдоль коридора. Возле общих туалетов и игровой комнаты тропинка раздваивалась, но в туалеты мы заглядывать не стали, потому что и у напитанной романами Дюма фантазии есть свой предел.
Анька открыла дверь маленькой вожатской и прошагала к одной из двух панцирных кроватей.
– Кошмар какой. Это точно пионерский лагерь?
Осмотревшись в полупустой неуютной комнате, я кивнула:
– Да. То есть сейчас просто оздоровительный, но ремонт здесь, похоже, не делали еще с тех времен.
Чтобы примерить кровати, на которых нам предстояло проспать двадцать ночей, мы легли на узловатые матрасы, накрытые покрывалами с рисунком «турецкий огурец», и забросили ноги на железные спинки. Панцирные сетки заскрежетали, шею укололо перо из жиденькой подушки.
– Знаешь, Дашка, – сказала Анька, глядя в потрескавшийся потолок, – мне кажется, это даже хорошо, что здесь все так убогонько. Теперь по закону справедливости нам должно чертовски повезти с напарниками. Вот увидишь: МАТИ припас для нас лучших носителей российского генофонда. Только представь себе: двадцать один день работы в паре с широкоплечим будущим авиаконструктором, у которого рост метр восемьдесят и попа как орех!
– Есть еще закон подлости, – засомневалась я. – Поэтому, чтобы не сглазить, думай о детях. Но если что, я беру себе темненького.
* * *
В час жаркого, но не весеннего, а летнего заката у ворот бывшего пионерского лагеря появились трое граждан.
Первый был полностью лыс, плечист и статен. В одной руке он держал спортивную сумку с тремя баскетбольными мячами, а другой придерживал чемодан, чтобы тот не завалился на бок ввиду отсутствия одного колеса.
Второй был средних лет, с бородой, хитрым прищуром и признаками легкого похмелья на уже загорелом лице. В руках у него был китайский веер, которым он отмахивался от комаров, к вечеру донимавших особенно. На голове – джинсовая панама по последней моде.
Третий, татарин, был одет в камуфляжные брюки, черную футболку и берцы, потому что по своей работе здесь в основном ходил по лесу. Из всех троих он был самый молодой и улыбался задорно и радостно. В одной руке у него были ключи от ворот, вторую он протянул Лысому. С Бородатым они сегодня виделись.
– Как на взлетной? – спросил Лысый у Татарина, подхватив у самой земли ручку падающего чемодана.
– Все плохо, – ответил Татарин, улыбаясь. – На КДП никого, огни не горят, на полосе топливозаправщик и корова.
– Не корова, а собака, – поправил Бородатый. – И воткну я ваши лампочки. Неужель до завтрева потерпеть нельзя?
– Потерпим, – согласился Лысый. – Где топливозаправщик, говоришь? Пойдем к Любе. Соскучился я по ее биточкам с луком.
День 1-й
На запись детей в отряды и знакомство со своими напарниками мы с Анькой катастрофически опаздывали. Чтобы обстоятельства сложились нужным образом, прежде чем выйти из метро, мы сорок минут просидели на «Полежаевской», отсчитывая счастливое количество проходящих мимо поездов. После того как в темном тоннеле скрылся двадцатый, мы в который раз проверили, что чемоданов у нас по-прежнему два, рюкзаков столько же, и не торопясь двинулись к эскалатору.
Это была часть дерзкого плана по захвату напарников, обладающих определенными антропометрическими параметрами, подходящим психотипом и хорошей зодиакальной совместимостью с нашими гороскопическими знаками. План был продуман до таких мелочей, что у меня даже имелся плакат с фотороботом человека со всем набором требуемых качеств; на нем был изображен лидер финской готической группы HIM Вилле Вало.
Полагая (как потом выяснилось, ошибочно), что чем позже мы приедем, тем больше будет выбор, а значит, и вероятность совместиться со своим коллегой хотя бы по одному из этих пунктов, от «Полежаевской» до автокомбината, от которого отходили автобусы до лагеря, мы шли все медленнее и медленнее, пока совсем не остановились напротив витрины «Пончечной». За двумя горами розовых с разноцветной посыпкой пончиков сразу замаячила перспектива провести оставшееся до блицкрига время здесь, но внезапно у Аньки зазвонил телефон, и весь план полетел к чертям собачьим.
Разговаривая по телефону, она махала руками, дважды подпрыгнула на месте, один раз пригнулась, но перед тем как отключиться, покорно кивнула и шмыгнула носом.
– Вынь банан! – крикнула она и выдернула наушник из моего уха. – Директриса звонила. Все пропало, и надо немного ускориться.
Пока мы бежали с подлетающими на кочках чемоданами к автокомбинату, от Аньки удалось узнать, что главным из того, что «пропало», стала возможность выбора напарников. Два наших авиаконструктора тоже опаздывали. В том, что у них был точно такой же план, как у нас, не было никаких сомнений, но поскольку один из них считал поезда на «Пролетарской», а другой на «Речном вокзале», что гораздо дальше от автокомбината, чем «Пончечная» на «Полежаевской», директриса решила поторопить нас.
– Еще нам дали два младших отряда, – сказала Анька, толкая тяжелую дверь с надписью «Входа нет». – Им по восемь лет. Два отряда восьмилеток! Ну хотя бы двенадцать, но восемь… Самый страшный возраст: одни хотят к маме, другие – спрыгнуть с крыши.
За дверью, которую, несмотря на предупреждение, с третьей попытки удалось-таки открыть, в огромном холле с высоким потолком уже толпились родители с детьми. Все они что-то ели, пили, раскладывали на подоконниках одежду и обувь, потом складывали все обратно в разноцветные рюкзаки и привязывали к чемоданам одинаковые красные ленточки.
Я попробовала определить, кому из детей могло бы быть восемь лет, и задержалась возле самого маленького мальчика: на самодельном бейджике написано «Дима», на худых плечах рюкзак, в руках складной пляжный зонт в два раза больше, чем сам Дима.
– По-моему, они ничего, – сказала я, пока Анька оттаскивала меня от Димы. – Твоей Юльке тоже восемь лет, и вы нормально ладите.
– Моей Юльке?! – Анька остановилась и вытаращила на меня глаза. – Она на Новый год пожар устроила. Чуть не сгорели все.
– Но ведь она же его и потушила!
– Моей норковой шубой! – Анька снова схватила меня за руку и, пробиваясь сквозь толпу родителей с детьми, потащила к двери с надписью «Запись в отряды». – Если у нас будет хоть одна такая Юлька или один такой, как ее Васька, то нам не помогут никакие авиаконструкторы.
Семнадцать Юлек и столько же Васек повернули головы в нашу сторону и оценивающе нас осмотрели, но Анька не обратила на них внимания.
– Матерь божья, – сказала она, заглянув в приоткрытую дверь, и тут же ее закрыла. – Не смотри туда… Ай, ладно, смотри.
Анька открыла дверь пошире и впихнула меня в комнату для записи. Здесь тоже была толпа, но уже разбитая на группы по возрасту детей. За столами под номерами отрядов сидели вожатые. Все, кроме наших напарников. Однако большинство из них не было никакой возможности рассмотреть хоть сколько-нибудь подробно, потому что за столом у окна сидело само совершенство, гений чистой красоты с такими антропометрическими данными, что зодиакальная совместимость уже не имела никакого значения, – выпускник МАТИ, вожатый первого отряда Александр Данилов. На бейджике значилось только небрежное «Ал. Д.».
Не вставая с места, он расстрелял нас с Анькой бронебойными из-под темных бровей и сделал по два контрольных в грудь.
– Он прекрасен, – шепотом выдохнула Анька, прижимаясь спиной к стенду «Террористическая угроза». – Он прямо как Ален Делон. И как ужасно, что он уже занят!
Несмотря на полученные ранения, я осталась верна Вилле и уверенно направилась к столу под номером шесть. Анька еще раз вздохнула и поплелась за мной. У наших столов стояли самые длинные очереди, но даже сквозь толпу машек и наташек мы имели счастье видеть стол под номером один, дымку ресниц, алеющий треугольник румянца… и Сашкину напарницу.
Ее звали Марина. Разумного объяснения тому, что, оказавшись на отряде с таким красавцем, она не бьется в истерике и не благодарит Господа за то, что он ниспослал ей наивысшее счастье на земле, не было, поэтому мы решили, что она просто дура. Это многое объясняло, и, что самое главное, становилось не так обидно. Чтобы совсем полегчало, в дополнение к найденному изъяну мы обнаружили у нее еще несколько существенных недостатков: маленький рост, короткий нос и писклявый голос. Все это было щедро присыпано звездочками, бусинками, перышками и выглядело как витрина «Пончечной». Но к Анькиному неописуемому счастью, сам Сашка никакого интереса к Марине не проявлял. Вполне возможно, что они придерживались устава, который запрещал вожатым вступать в какие-либо отношения, кроме рабочих. Но мы сразу же послали устав к черту. Так же поступили и вожатые второго отряда Эдуард и Татьяна, хотя у них было оправдание – они были женаты.
– Да ладно? – сказала Анька старшей вожатой, которая рассказала об этом даже до того, как назвала свое имя.
– Финиш, – заключила некрасивая, но очень общительная девушка по имени Галя, гордо носящая звание старперши.
У Гали были длинная коса, длинный нос и такой же длинный язык, благодаря которому мы все обо всех узнали уже в первые минуты записи. Причем б́ольшая часть информации о вожатых не касалась их работы в лагере вообще или не имела к ним отношения в принципе.
– …а его потом в клинике неврозов лечили, – закончила она какой-то рассказ и уже готова была перейти к интересующему нас Сашке, как вдруг взгляд ее упал на странную парочку, сидящую за Эдуардом и Татьяной.
– Ленка и Виталик, – Галя показала на парочку, и те одновременно кивнули. – Вожатые третьего отряда.
Щуплый Виталик едва достиг совершеннолетия, а Ленка была на три года старше и в два раза крупнее. Каждый раз, когда к ним подходили родители с детьми, Ленка по-матерински обнимала Виталика, чтобы тот не сильно боялся, и проводила рукой от его макушки до неровно обрезанного края челки. При знакомстве с нами Виталик тихо пискнул, а из Ленки вырвалось что-то наподобие лая.
– Филфак, – чуть ли не с восхищением сказала о ней Галя, и я вспомнила, что уже однажды видела эту Ленку на кафедре зарубежной литературы.
«Кафка»? – подумала я, вглядываясь в знакомые черты лица суровой блондинки. «Он», – подумала Ленка и мысленно перезарядила автомат.
Через пятнадцать минут и три интересных рассказа о незнакомых нам людях толпа поредела, и осматриваться стало проще.
– А где четвертый отряд? – спросила Анька, не находя взглядом стола под номером четыре.
Театральная пауза, и… на сцену, то есть в проход между столами не то кабинета, не то класса с плакатами на тему террористической угрозы, выходит вожатый первого отряда и рассказывает страшную историю о том, что случилось с четвертым отрядом в прошлом году и почему его сейчас нет. Это была какая-то заготовка с элементами джигитовки, но поскольку исполнял ее сам молодой Делон, с которого сыпалась бирюзовая сахарная пудра и ровным слоем оседала на имитирующем паркет линолеуме, все слушали его, открыв рты. Даже Виталик.
Сашка никогда не стоял на четвертом отряде, у него всегда был первый, ведь он – Александр Данилов, поэтому история началась с маленькой, но все-таки лжи.
Итак, прошлое лето, вторая смена. Четвертый отряд собирается в ночной поход. Надвигается буря (что важно, но противоречит логике дальнейших действий). Со стороны леса темнеет, ветер гнет стволы к земле, по радио передают штормовое предупреждение.
– А в другой день нельзя было пойти? – спросила Ленка и покрепче обняла попискивающего Виталика.
В другой день пойти было нельзя, потому что тогда не получилось бы истории, но Сашка сослался на выполнение плана-сетки.
Стемнело рано. Заблудились. Местность за стадионом болотистая – шли в трясине по пояс. Сашка был первым и проверял брод табличкой четвертого отряда. Буря усиливалась, идти становилось все тяжелее. В самом топком месте табличка нырнула по самую надпись и исчезла в трясине непроходимого болота. Почувствовав опасность, Сашка обернулся, чтобы предупредить отряд, но за ним уже никого не было, одни пузыри на вонючей ряске.
– Мамочки, – выдохнул Виталик и прижался к Ленке.
– В корпус ушли, – сказал Сашка. – А табличка так там и осталась. С тех пор четвертый отряд не набирают. Примета плохая.
После такого интересного – пусть и с некоторыми отступлениями от здравого смысла – рассказа Анька влюбилась в Сашку окончательно. Он стал ее героем, который не только антропометрически совмещался с ней по всем параметрам, но и обладал отменным чувством юмора. Осталось лишь спросить, не Водолей ли он, и дело в шляпе. Но когда она уже собралась это сделать и Сашка поймал ее заинтересованный взгляд, в комнату для записи с криком «Иисусе!» вбежал мой Женька – мой крест, мое наказание и величайшая награда из всех.
Он даже не вбежал. Он влетел, как охваченный пламенем астероид, как шаровая молния, готовая здесь все испепелить. Заметался перед столами, ткнул в меня пальцем и крикнул, что не будет стоять со мной на отряде ни за какие коврижки (так прямо и сказал).
Чтобы сразу не стукнуть его по лбу, половину которого закрывала длинная, до самой серьги, челка цвета «скандинавский блонд», да так, чтоб с вышитых на плечах роз посыпались стразы, нужно было сначала выслушать его. Но он так громко верещал, что не оставил никакого выбора. По лбу ему дала Анька. Это положило начало их сложным взаимоотношениям, а заодно заставило Женьку рассказать, почему он так орет и машет руками.
Вследствие полученной в детстве черепно-мозговой травмы, и, как потом выяснилось, не одной, у него появились странные для молодого человека увлечения.
– Вот, – сказал Женька и, чтобы никто не подумал ничего плохого, расстегнул сумку Louis Vuitton, доверху набитую декоративной косметикой для женщин.
Я вытащила тушь Guerlain и показала ее Аньке.
– Так, продолжай.
В увлечение это перешло не сразу. Сначала Женька заинтересовался маминой косметичкой, а потом стал вырезать из журналов для девочек куколок с комплектами одежды к ним. Окончательный же отрыв от реальности у него произошел тогда, когда во сне ему явился ангел…
– Эй, эй, – Анька подергала меня за похолодевшую руку и начала махать перед лицом блокнотом. – Может, не все потеряно? Может, он Скорпион?
…и сказал, что Женькино предназначение в жизни – быть не испытателем летательных аппаратов, а парикмахером-визажистом. «Точно», – решил Женька, проснувшись, и записался сразу на все мастер-классы на три года вперед. Но после посещения первого же из них (по скульптурированию лица с целью скрыть возрастные изменения) выяснилось, что стоят эти мастер-классы очень дорого и без спонсорской помощи папы ему не обойтись.
Узнав о Женькиных увлечениях, папа выдохнул, потому что интерес к косметичкам и отсутствие у Женьки девушек начали наводить его на тревожные мысли, но деньгами обещал помочь только в том случае, если Женька окончит МАТИ.
Теперь выдохнул Женька и на глазах расцвел: засиял стразами Swarovski, проколол ухо и покрасился в «скандинавский блонд». Но самое главное – у него появились девушки, причем одна другой краше, и каждый день новая. С ними Женька закрывался у себя в комнате, откуда оба потом выходили довольные и счастливые.
Таким же довольным и счастливым был и папа, пока не узнал, что это бьюти-модели, на которых Женька упражняется в своем мастерстве парикмахера-визажиста и на которых тоже нужны деньги.
После того как тайна приходящих девушек открылась, папа заявил, что на Женьку и так уходит вся выручка его магазина для дайверов в Ивантеевке, и посоветовал ему искать моделей подешевле, а лучше бесплатных. Что Женька и сделал.
В МАТИ практика в лагере не была обязательной, но давала привилегии в виде лояльности преподавателей на экзаменах, права досрочно сдать сессию и звания «почетный молодец всея института». На Женькином курсе и курсами старше училось много таких молодцов. Как раз они и подсказали ему, где можно взять сразу десяток, а то и больше бесплатных моделей в безраздельное пользование аж на двадцать один день.
– Плюс вожатые, – заметила Анька.
Женька взглянул на ее веснушки и густо накрашенные ресницы и кисло вздохнул:
– Плюс вожатые.
И вот когда мечта его уже готова была сбыться, а именно десять минут назад, выяснилось, что чем выше порядковый номер отряда, тем младше дети, а не наоборот, как считал Женька, когда умолял директрису поставить его на самый последний отряд – шестой.
– Они слишком маленькие, – сказал он, записывая какого-то мальчика, и не глядя ткнул в него ручкой. – Что я с ними буду делать?
Но детям-то что до этого? Мальчика, в которого Женька так опрометчиво ткнул ручкой, звали Валерка, и он себя маленьким не считал, хотя порядковый номер отряда, который причинял Женьке душевную боль, говорил об обратном. Об этом обратном сказал ему и Женька. Завязалась словесная перепалка. Услышав знакомый сиплый смех и угрозы в адрес вожатых, из коридора на подмогу Валерке прибежали еще двое, сделали Женьке козу и предупредили, что не потерпят обвинений в малолетстве от какого-то дяди.
– Жени, – подсказал Женька. – Но я не дядя.
– Да ты на дядю-то и не похож, – просипел Валерка.
Женька похлопал себя по карманам и достал золотое зеркальце в виде ракушки.
– А на кого я похож? – спросил он у меня, разглядывая в зеркальце свой идеально матовый нос.
Я закрыла лицо руками и попыталась вспомнить, где я в жизни так нагрешила. Это было худшим из всего, что можно себе представить: летчик-парикмахер, с которым у нас целый отряд самых маленьких детей. Оставалось надеяться, что повезет хотя бы Аньке, но закон подлости оказался почему-то сильнее закона справедливости.
Ее крест пришел последним, но его появления, в отличие от Женькиного, никто не заметил. Сначала его приняли за кого-то из пап, настолько тот был серьезным и тихим по сравнению с Женькой, а когда он занял место за пятым столом, сомнений не осталось: блицкриг провалился полностью.
Анька не везла с собой фоторобот в виде постера знаменитости, но перечень атрибутов, которые харизматичный сангвиник спортивного телосложения иметь точно не должен, у нас обеих был одинаковым. В этот перечень входили пиджак, круглые очки, как у всемирно известного педагога Антона Макаренко, каре естественного блонда и пятерка по поведению.
Все это оказалось у ее Сережи вместе с гитарой в чехле и потертым чемоданом. Взглянув на своего напарника, Анька кивнула и сразу же отвернулась, потому что Сашка уже начал задавать вопросы совсем интимного характера, вроде как ее зовут и с какого она факультета. А это уже серьезная заявочка, товарищи пионервожатые. Это все не просто так! И какая теперь разница, какой у нее напарник?
Сережа стал не только последним из вожатых, но и вообще последним человеком, который вошел в комнату для записи. Полные списки возвещали о том, что делать нам здесь больше нечего и что пора приступать к погрузке в автобусы. Подгоняя всех, Сашка пронзительно свистнул и захлопал в ладоши. Виталик от страха пискнул, Ленка опять что-то гавкнула, Сережа подхватил гитару и открыл перед Анькой дверь. В шумном коридоре мы снова оказались в толпе детей и родителей.
– Ты там уже была? – Женька придержал меня за руку и тут же получил от какой-то мамы календарик с ее дочкой в тюльпанах. – Была или нет?
Другая мама вручила ему эмалированный ночной горшок с крышкой и попросила исключить из меню ее сына все молочное.
Сказать Женьке, что это моя первая смена, означало немедленно лишиться напарника: налево по коридору был выход на свободу, к метро, а направо – во внутренний двор автокомбината, где стояли автобусы.
– Была, – сказала я, принимая от кого-то пляжный зонт мальчика Димы. Это была не совсем правда, но и не совсем ложь.
– Слава Иисусу! – выдохнул Женька и положил календарик в горшок. – Хоть что-то хорошее.
Вслед за толпой, гремя горшком и чемоданами, мы пошли направо.
Всего восьмилетних детей набралось тридцать четыре. Для одного отряда много, а для двух – мало, но, учитывая, что у всех четверых вожатых младших отрядов это была первая смена, директриса пошла нам навстречу. Таким образом, нам с Женькой досталось семнадцать – как мгновений весны, но и это количество показалось большим. В ожидающем отправки автобусе они как-то заняли все сорок мест, а нам оставили два задних сиденья из трех.
Пробираясь к ним, Женька шел по проходу и, считая пары, шлепал по детским головам дуофиброй – большой двухцветной кисточкой для нанесения мелкодисперсной пудры и румян. Как вещь первой необходимости, она всегда лежала у него во внутреннем кармане джинсовки вместе с хрустальной пилкой и ножницами для кутикулы.
– Я же говорил, что он на дядю не похож, – просипел Валерка соседу, когда кисть коснулась его макушки.
– Не похож, – согласился тот, – но если сбоку посмотреть, то сойдет.
Пухлый мальчик, которого звали Вова, скосил глаза и уставился на Женьку:
– В прошлом году вообще какие-то бабуины были.
– Бедуины, наверное? – поправил Женька. – Правильно говорить «бедуины».
Завязалась словесная перепалка.
– Женя, пусть будут «бабуины». – Я взяла его за руку и повела в конец салона. – Нам еще с ними двадцать один день жить. И спрячь уже куда-нибудь этот горшок! Подумают, что твой.
Наш отряд грузился последним. И как только мы с Женькой, горшком и его сумкой Louis Vuitton добрались до своих мест, двери с громким чихом закрылись и пять автобусов в сопровождении двух машин ДПС и трех бегущих за ними мам выехали со двора автокомбината на улицу Мневники.
По инструкции мы должны были рассказать о правилах поведения в автобусе, а также о том, какая интересная жизнь нас ждет в лагере. Но неожиданно девочка, которой не хватило пары и которая села рядом с Женькой на третье заднее сиденье, заинтересовалась его дуофиброй, и вместо правил поведения в автобусе все мы случайно узнали, что это такое.
– Дуофибра, – громко сказал Женька и достал из сумки еще две такие же, – это класс кистей из двух типов ворса: натурального козьего – волокна черного цвета на нижнем уровне и синтетического – белые волокна на верхнем уровне.
Дальше пошла какая-то сложная классификация этих дуофибр по назначению, размеру и качеству и продолжалась до выезда на Ярославское шоссе, пока Валерка не крикнул на весь автобус: «Итить!»
В ответ на это девочка Наташа, которую заинтересовала дуофибра, показала ему кулак, и он спрятался за спинку сиденья.
– А там что? – спросила она и показала на сумку Louis Vuitton.
Еще две девочки перегнулись к нам через спинки сидений и задали тот же вопрос.
– Вот видишь, – обрадовалась я, – я же говорила, что они милые! И Аньке это говорила. А она: «Юлька, Васька…»
Не сводя глаз с Наташи и как будто боясь ее спугнуть, Женька расстегнул сумку и достал первое, что попалось под руку, а именно круглую серебристую коробочку с «метеоритами» Guerlain.
– Пудра в разноцветных шариках, легкая вуаль на вашей коже – фурор в мире красоты. В России их еще нет, стоят бешеных денег. Крышку украшают фирменный цветок с разноцветными лепестками и гравировка – подпись мастера, изящная, как…
– Ой, да хватит уже! – Наташа сгребла коробочку с Женькиной ладони и потрясла ей возле уха. Внутри запрыгали шарики. Наташа улыбнулась, ощущая приятное постукивание, а дальше случилось страшное.
Ярославское шоссе, по которому мы мчали с максимально допустимой скоростью – шестьдесят километров в час, весной подверглось ямочному ремонту асфальтового покрытия. Обычно после такого ремонта дорога напоминает шахматную доску, а езда по ней – стремительный путь из шашек в дамки. Но мы двигались в колонне. Ехать по диагонали было нельзя, как и менять скорость, поэтому в яму, на которую почему-то не хватило асфальта, мы, не снижая скорости, попали сначала правым передним колесом, где сидел Валерка и пил из двухлитровой бутылки колу, а потом правым задним, над которым сидела Наташа и трясла драгоценные «метеориты».
– Иисусе! – успел крикнуть Женька, но не успел поймать серебристую коробочку, содержимое которой высыпалось в пузырящуюся реку кока-колы.
Розовые, зеленые, несколько сиреневых и один белый шарик с шипением растворились в бурой жиже и превратили ее в жижу блестящую. Девочки засмеялись. Женька выпучил глаза и побледнел.
– Женя, Женя, тебе плохо?! – Я потянула его за джинсовку, но выражение лица не изменилось. – Это же всего лишь пудра!
– Это не просто пудра! Легкая вуаль на вашей коже, фурор в мире красоты…
– Итить! Я же говорил, что не похож!
– Круто! А есть еще такие?
На инструктаже говорили, что в автобусе с детьми нужно петь. Это поднимает настроение, сплачивает, снимает некоторое напряжение первого дня. Надеясь найти в этом хоть какое-то спасение, я встала в проходе и замахала руками:
– Срочно! Знает кто-нибудь песню?!
Готовый понести наказание за разлитую колу, Валерка выглянул из-за спинки сиденья и, увидев Женьку, который был почти без сознания от ужаса, происходящего под его ногами, засуетился.
– «Тетя Мотя» подойдет?! – обеспокоенно крикнул Валерка.
– Главное, чтобы не «Дядя Женя».
Запели «Тетю Мотю». Это была славная песня о мужественной женщине и ее четырех непослушных сыновьях, которые все делали не так: не спали и не ели, а вместо этого трясли руками, ногами и попами.
– Ничего, если в отрядной песне будет слово «попа»? – спросила я у Женьки.
– Да какая теперь разница? – ответил он.
Перед съездом на развязку автобусы сбавили скорость, и лужа из конца салона медленно потекла в его начало, накрывая коричневой волной уцелевшие шарики. Когда последний «метеорит» растворился в кока-коле, а смирившийся с потерей Женька немного пришел в себя, шахматную доску сменила лесная дорога. Протиснувшись через лагерные ворота и преодолев еще несколько сотен метров разбитой колеи, медленно, как будто на ощупь, переваливаясь с одной кочки на другую, автобусы подползли каждый к своему корпусу и один за другим с чихом открыли двери.
– Как же здорово! – крикнула Анька, выпрыгивая из автобуса на асфальтовую площадку перед четвертым корпусом. – Представляешь, у нас в отряде близнецы – мальчик и девочка. Они занимаются танцами, а Сережа, оказывается, играет на гитаре!
– Это логично, если она у него с собой.
Я стояла возле задней двери их автобуса, и вокруг меня росла гора чемоданов. Выискивая свой, между ними ходили дети, но им мешал Женька, который зачем-то перекатывал чемоданы с места на место и в случайном порядке орал: «Чей?!» Автобусы гремели и дребезжали, со всех сторон доносились обрывки перекличек и речовок, из громкоговорителей звучали приветственные слова, умножаемые эхом.
– Что? – переспросила Анька. – Я ничего не слышу. Он всю дорогу пел детям песни. Про жуков:
- «На желтеньких листочках
- Летели вчетвером
- Коровки в черных точках
- И муха с комаром!»
– Прекрасно! – крикнула я, хотя она стояла совсем рядом. – У нас приблизительно так же все было.
Ветер рванул гирлянду из флажков, протянутую над входом в корпус, и ее разноцветный конец обмотался вокруг фонаря.
– Ну вот, а ты боялась. Нормальный же парень!
Обе мы посмотрели на копошащегося внизу Женьку, который одной рукой ворочал чемоданы, а другой прижимал к животу горшок и сумку, набитую косметикой, и вздохнули.
– Иисусе! – крикнул он снизу. – Здесь что-то написано!
– Фамилия ребенка! – крикнула Анька. – Так удобнее. И сумку свою поставь!
Теперь гора чемоданов стала уменьшаться быстрее, и новая, из них же, вырастала возле скамейки. Совсем скоро под ноги мне упал последний – ярко-розовый с длинной ручкой, которая пришлась в аккурат по Женькиной голове.
– Чей чемодан с лошадью, неподписанный?! – крикнул Женька и поднял двумя руками розовый чемодан.
Хозяйка не объявилась.
– Чей чемодан с лошадью? – еще раз повторил он, но уже тише.
Дети почему-то молчали и сурово смотрели на Женьку.
– Чемодан с лошадью, – совсем тихо повторил Женька, пытаясь понять, что он такого сказал.
Валерка сипло захихикал, зачем-то сжал кулаки и направился к нему, но в этот момент как нельзя кстати из-за горячей кабины дребезжащего автобуса появился спаситель. Нет – Мессия со свистком на груди – старший физрук лагеря Алексей Гуляев.
На вид ему было тридцать пять и ровно столько же по паспорту, но он попросил называть его просто Леха. Одет он был в синюю, под цвет глаз, футболку и черные шорты с надписью «Adadas». Лоб в крупных морщинах, грудь в буграх, а от всей его фигуры шел неяркий свет. И это не метафора, это закон физики. Лехина голова была полностью лишена растительности и отражала любой свет, который на нее падал, будь то свет электрической лампы или, как сейчас, солнечные лучи. При таких внешних данных он запросто мог стать героем-любовником или кинозвездой, но мечты у него были другие.
– Кто же так делает? Так они у вас никогда не признаются. – Сразу после того как представился, Леха взял у Женьки чемодан. – Чей чемодан с единорогом?
Леха оглядел детей и поставил чемодан перед девочкой, которая сделала шаг вперед. Валерка разжал кулаки, толпа начала расходиться.
– Э? – спросил Женька и показал на все это двумя руками.
– Да, – ответил Леха.
Нельзя называть единорога лошадью. Без соблюдения этого правила весь устав можно слать коту под хвост, потому что тот, кто не знает, чем отличается лошадь от единорога, панда от медведя, а свинка Пеппа от Фунтика, вообще не должен быть допущен к работе с детьми. И чему нас учат на инструктажах, Лехе было совершенно непонятно.
– Значит, так, – продолжал он, поднимаясь с двумя чемоданами по гладким ступенькам, – всегда в доступе, всегда на связи. На крики «Потолок падает!» не реагировать, дверные ручки не трогать – они в мыле. На косяке ведро, под подушкой клоп, шнурки связаны, трусы зашиты. Не знаете, что делать, – берите твистер. Перед директрисой все валите на забродивший компот. Пасту прячем, телефоны на ночь не забираем – у них у всех будильники на три часа заведены. Так, что я еще забыл сказать? – Леха остановился, чтобы подумать.
– Может, когда уходит ближайшая электричка? – спросил Женька и обежал его сзади, преградив путь в коридор.
– Нет. – Леха отодвинул его и пошел дальше, но на последней ступеньке снова остановился. – Вот, вспомнил: шампунь на голову сразу не лейте, сначала на руку. Гуашь они туда подмешивают. Отмывается потом плохо, а если еще аммиак из изолятора стащат…
Женька прислонился к перилам с оторванным поручнем и обреченно на него посмотрел:
– То будет как у тебя, да?
– Сечешь, – сказал Леха и хлопнул его по плечу. – Они таких любят. Горшок только свой спрячь куда-нибудь – авторитет подрывает.
На лестнице снова послышались шаги. Леха сказал, что еще зайдет, Женька поинтересовался, по каким дням это обычно происходит и не мог бы он делать это почаще. Стоя в коридоре, я перестала подслушивать и с испугом посмотрела на Аньку.
– Как думаешь, про электричку – это правда? Он действительно может уехать?
– Да куда он денется? Привыкнет. Ой, смотри, у нас шторки!
Анька уже зашла в вожатскую и совсем не думала ни о моем Женьке, ни о своем Сереже, ни о детях, которые могут поставить ведро на косяк. Проверив, нет ли там его, я тоже вкатила чемодан и прикрыла дверь.
– Как мило, – сказала Анька и пощупала узкую гардину из дешевого желтого шелка. – Но все равно чего-то не хватает.
Не шторки и полотенца, оставленные кем-то ровной стопкой на столе, делают комнату уютной, а милый сердцу хлам, который аккуратно валяется по всем углам и поверхностям. Это известно каждому, кто когда-либо жил в общаге, лагере или другом казенном месте, где изначально все комнаты убийственно одинаковы. Поэтому необходимо было как можно скорее заполнить эту пустоту Анькиными резинками для волос, расческами, бумажками, баночками, тюбиками, колечками и телефонными зарядками и, самое главное…
– Вот! – Я показала Аньке книгу, которую достала из чемодана и держала теперь в вытянутой руке. – Редчайшее издание. Мы были бы «круглыми дурочками», если бы не взяли его сюда.
Анька взглянула на обложку и закатила глаза. Сборник стихов Леонида Губанова «Я сослан к Музе на галеры», который тоже должен был стать милым сердцу хламом, этой весной нам обманом втюхали в магазине «Школьник» на «Новослободской». Туда нас отправила преподавательница по современному русскому языку, чтобы мы приобрели «Комплексный словарь», который якобы продавался только там. Словарь стоил страшных для студентов денег, но ради зачета купить его все же пришлось.
Увидев в нас платежеспособных клиенток, продавщица, сильно смахивающая на Дольфа Лундгрена, сказала, что мы будем круглыми дурочками, если заодно не приобретем редчайшее собрание стихов Леонида Губанова, поэта, который не то что в школьную, даже в университетскую программу филфака не входил.
Издание мы приобрели, но круглыми дурочками себя все равно почувствовали, причем дважды. Первый раз, когда получили несколько сообщений от своих однокурсниц, что «Комплексный словарь» был замечен ими в других магазинах и по более выгодной цене, а второй – когда решили ознакомиться с творчеством Губанова и поняли, что знаний, полученных на трех курсах филфака, недостаточно, чтобы постичь высокий смысл его поэзии.
Судьба Губанова, описанная в предисловии, была вполне характерной для большинства поэтов советского андеграунда – от безуспешных попыток напечататься где-либо, кроме самиздата, до принудительного лечения в психиатрической клинике и смерти в тридцать семь лет от остановки сердца, которую он сам себе и предсказал.
Признаваться, что мы интеллектуально не доросли до редчайших изданий, нам с Анькой не хотелось, поэтому к книге мы периодически возвращались, но пока с тем же неутешительным результатом.
– Тогда, может, это? – Я приложила к стене фоторобот своего идеала и загнала под черный ноготь Вилле булавку. – Он очень даже симпатичный. К тому же влюблен в меня по уши, а иначе не смотрел бы так, словно его разрывают агония страсти и боль от осознания того, что нам не суждено быть вместе.
Анька залезла с ногами на мою кровать и вместе с панцирным матрасом мы опустились почти до самого пола.
– Давай помогу. Но если я буду просыпаться по ночам от собственных криков – не удивляйся.
Когда оба чемодана опустели, казенная комната с дешевыми шторами превратилась в президентский люкс, где все аккуратно валялось на своих местах. Это несколько сгладило первое впечатление от сломанных шпингалетов на крякающих форточках и ржавого вентиля на стояке, об который мы бились головой каждый раз, когда подходили к окну. Но было здесь кое-что, от чего не могли отвлечь ни ряд мятых тюбиков на полочке под зеркалом, ни даже умирающий от страсти Вилле.
Ехали мы долго, поэтому забитый унитаз в нашем санузле обнаружили быстро. Это могло стать большой проблемой, но кто-то очень заботливый оставил на стопке белья телефон сантехника, что наталкивало на мысль об актуальности проблемы забитых туалетов.
– Заметь, – сказала Анька, разглядывая листок со следами от вырванной пружины, – не врач, не директриса, а именно сантехник.
Сантехник явился почти сразу, потому что «шел недалече, а тут как раз звонють».
– Борода, – представился он и оперся на вантуз с длинным, как у лопаты, черенком.
Замерев возле двери в такой позе, он дал возможность как следует себя рассмотреть. А рассматривать было что. Перед нами в синих трениках и таком же синем халате стоял пират-контрабандист Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода. Борода, правда, у него была рыжая, но все остальное совпадало в точности: гневный взгляд из-под сведенных у переносицы бровей, прямой нос, тонкая косичка, свисающая на плечо, золотой зуб в кривой ухмылке и грязные волосатые руки. Но самое главное – пахло от него так же, как от пирата. Пусть не карибским ромом, но напитками не меньшей крепости, которые, судя по багровости лица, он употреблял не далее как вчера вечером.
Пока Борода молчал, его обычно успевали испугаться, но как только он начинал шамкать свои «звонють» и «сосиська», страх мгновенно пропадал.
– А чаво вы смеетеся-то?
Вантуз громко чмокнул линолеум, и Борода, не снимая калош, прошаркал с ним в туалет.
– Ничаво смешного, вот ничаво. Ежели вы, девочки, будете о человеке по перегару судить, то у вас круг общения сузится до булавошной головки. А я ведь не последний человек тута, если не первый. У любого спроси, на чем здесь все держится. На Бороде, скажуть. И носами не надо так водить.
Все это он говорил, стоя к нам спиной, и не мог видеть, чем мы водим, но на всякий случай мы перестали улыбаться и приняли серьезный вид.
– А то, что я в калошах-то, вы не смотрите.
Перестали смотреть и на калоши.
– Тута в говне в другом и не походишь. Во втором корпусе слыхали чаво? То-то. Так что протрите тута потом за мной.
Мы не слыхали, что произошло во втором корпусе, но на всякий случай спросили, где можно взять тряпку.
– Да вот же она! – Борода вытащил из унитаза мокрые треники и разогнулся. – Спустил кто-то туды с водой, наверно. Хорошие портки. Прополоснуть и носить еще можно было б. Нет ведь, сразу на тряпки! Но ладно, оставлю вам.
Борода улыбнулся, сверкнув золотым зубом, и бросил треники на край ванны. Он сказал что-то еще, но его слова заглушил страшный вой, от которого задрожали стекла в окнах и граненые стаканы на столе. Не иначе как совсем рядом взревел умирающий слон. Мы с Анькой схватились за головы и зажмурились.
– Да чаво вы боитеся-то, – сказал Борода, даже не вздрогнув, – горн это на обед. Есть пора. Заждалися вас тута все. Где торчали – непонятно.
У входа в столовую всех встречала тетя Люба. Нас с Анькой она не узнала, а может, и узнала, но никак этого не обнаружила, потому что всех входящих тетя Люба любила одинаково: сурово насупившись и требуя вытереть ноги о половую тряпку. Такие тряпки, в которых можно было узнать треники, как у Бороды, лежали почти на каждом порожке и источали сногсшибательный запах карболки. Им пропиталось здесь все – от надраенного до блеска пола до потолка в трещинах. В столовой он смешивался с запахом щей и тушеного мяса, ко всему добавлялся идущий из кухни чад.
На крашеных стенах обеденного зала выделялись светлые прямоугольники – места, где раньше висели столовские лозунги типа «Хлеб – всему голова» или «У нас порядок такой: поел – убери за собой». Их сняли по просьбам работников пищеблока, потому что дети читали их хором и мешали работать. А еще потому, что однажды там появился лозунг «Пейте вина Азербайджана и коньяки Дагестана», который не сразу заметило руководство. После этого все лозунги сразу пропали, а одновременно с ними и Лехина премия.
Оставили только одну надпись: «Когда я ем, я глух и нем». Она была вышита золотыми буквами на красном транспаранте, который висел над стойкой раздачи и удачно закрывал трубы вытяжки.
Сегодня под ним стоял Сашка в фартуке дежурного и складывал на тележку только что ошпаренные тарелки. После каждой стопки он хватался за ухо и тряс руками, но все равно был так мучительно прекрасен, что мы с Анькой не сразу заметили главную достопримечательность столовой. Стена от стойки раздачи до выхода, вдоль которой стояли столы наших двух отрядов, была оклеена фотообоями с изображением березовой рощи, но то ли обои оказались с браком, то ли так задумал автор: все березы выглядели одинаково, а наклонены были в разные стороны.
У любого, кто смотрел на эту стену, сразу же возникал вопрос: куда в этой роще дует ветер? Более того, какое в ней время года, также оставалось непонятным. За стойкой раздачи, в самом темном углу, было лето, но ближе к выходу обои в разной степени выгорели, являя весну и осень, а возле двери листва оказывалась вытертой до белой подложки – здесь уже была зима. В месте, где, нарушая ход времени, весна переходила в зиму, стоял наш вожатский стол.
Женька сел под березу. Напротив, в зиме, села я, рядом Анька. Место у прохода занял Сережа. По кафельному полу загремели стулья, где-то разбилась тарелка. К месту происшествия проскрипела тележка дежурного. Проводив взглядом Сашку, Анька вздохнула и стала катать по тарелке мелкий помидор.
– Хотите я вам про Леху сплетню расскажу? – сказала она и покосилась на Сережу. Иногда нарушение приличий в кругу высококультурных людей помогает избавиться от скуки и снять напряжение.
– Не хотим, – ответил тот.
Анька знала, что он так ответит, поэтому рассказала свою сплетню, которую узнала от Гали в автобусе. Сплетня оказалась стандартной. Несколько лет назад, если посчитать точно, то восемь, Леха влюбился. Результатом этого естественного для всех людей события стало то, что у него родилась дочка. Вот, собственно, и все.
– Нет, не все, – ответила Анька на замечание Сережи и продолжила: – Самое интересное, что влюбился он в старшую вожатую и зачата эта девочка была прямо здесь.
– В столовой? – спросил Женька и уронил вилку.
– Нет, в лагере.
С тех пор Леха не вступает в отношения на работе, так как, во-первых, с той вожатой у них не сложилось и даже свадьбы не было, что оставило в его душе незаживающую рану, а во-вторых, потому что не хочет, чтобы рождались новые…
– Да не дети. Сплетни. – Анька покрутила пальцем у виска и подала Женьке его вилку. – Вот такие дела.
Все, кроме Сережи, посчитали нужным немедленно высказаться по поводу только что услышанного, но в весенней части рощи это вызвало волну недовольства.
– Когда я ем, я глух и нем, – сказала Наташа и показала ложкой на транспарант с вышитыми золотыми буквами.
Тут же все тридцать четыре повторили эту фразу хором. То же самое по очереди сделали остальные отряды, включая первый, который прибавил к ней две неприличные строчки.
Возле стойки раздачи, пребывая в жарком лете, строго кашлянула тетя Люба. Изловчившись, она поймала за шиворот какого-то парня, который шел с недопустимо высокой скоростью за добавкой биточков с луком, и дала ему ответственное поручение.
– Это вам от кухни привет. – Пойманный тетей Любой парень поставил на стол поднос с ножами и стал размахивать одним из них перед нашими лицами. – «Уймите, – говорят, – свой детский сад. Есть мешают».
Ножи были тупые, для намазывания масла на хлеб, но в кругу культурных людей так делать было не принято.
– Марадона, – представился «некультурный» и показал ножом на впалую грудь. – Младший физрук.
Младший физрук Марадона был совершенно не похож на того, кем себя называл: высокий, со светлыми бровями и жидкой шевелюрой пшеничного цвета. Ловкостью Марадоны младший физрук тоже не обладал, поэтому пока он фехтовал ножом, тот дважды упал на поднос и один раз в Анькину тарелку с рисом. Уворачиваясь от ножа, все представились, последним свое имя назвал Женька.
– Опа! А ты чего такой радужный? – спросил Марадона и ткнул в него ножом в рисе.
На фоне выгоревших обоев Женька напоминал аленький цветочек: такой же блестящий и переливающийся в свете ламп дневного света с трупиками мух. Лениво и обреченно он посмотрел на младшего физрука и приготовился выслушать все, что обычно выслушивал от тех, кому не давал покоя его маникюр. Но не услышал, потому что совершенно неожиданно произошло событие из ряда невероятных. Сережа отложил вилку и встал, оказавшись с Марадоной одного роста. Глядя ему в глаза, он забрал у него нож и задал вопрос, после которого мы с Анькой решили пересмотреть свои взгляды на ботаников или по крайней мере не записывать в них всех людей в пиджаках.
– А почему именно Марадона? – спросил Сережа. – Почему не Бенуа Педретти или Ахмед Ахахауи? Тебе бы больше подошло.
Марадона отступил на шаг, но сразу всех позиций не сдал, объявив, что он заслуженный мастер спорта по футболу, поэтому не может быть ни Ахахауи, ни тем более Педретти, и что это почетное прозвище придумал не он, а его многочисленные фанаты.
– Марадона, – как будто самому себе сказал Сережа и показал неприличный жест. – Рукой, значит, любишь поиграть?
Анька подавилась грушей из компота. Пока она кашляла и мы с Женькой стучали ей по спине, Марадона пытался придумать, что на это ответить, но так ничего и не придумал.
– Один не ходи, – бросил он Женьке и как-то сразу исчез из поля зрения.
– Я имел в виду «Руку Бога», – объяснил Сережа, переживая, что все не так его поняли. – Это гол рукой Марадоны в матче против сборной Англии в восемьдесят шестом году.
– Мы так и подумали, – сказала Анька, не моргая.
Еще раз извинившись, Сережа взял поднос с ножами и пошел из зимы в лето, чтобы помочь детям намазать масло на хлеб. У Валеркиного стола он обернулся: теперь у него были прическа, как у Леонардо Ди Каприо, очки – как у Джона Леннона и двойка по поведению.
Когда палящее солнце перешло точку зенита, над пропахшим щами и карболкой лагерем снова взревел раненый слон. Вкладывая в этот стон последние силы, умирающее животное сообщало о наступлении тихого часа, а это означало, что теперь в корпусах должно быть тихо, иначе это не тихий час, а черт знает что такое.
– Кто мне в гольф дохлого ужа засунул?! – закричала Наташа и выбросила из палаты отяжелевший гольф.
Из другого конца коридора прибежал Валерка:
– Итить! Он сдох, что ли?
– Не «итить», а «не могу поверить», – Анька подняла с пола гольф и спрятала его за спину.
Теперь Наташа осталась без гольфа, а Валерка – без ужа. Оба заныли.
– Не реветь! – сказал Женька и удивился тому, что ныть после этого они не перестали.
– Мне тут не нравится, – всхлипнула Наташа и опустилась на пыльный пол. – Я к маме хочу!
Чтобы посмотреть, что случилось, из палат вышли почти все члены отрядов. Многие были уже босиком и в одних трусах, но все равно потребовали немедленно показать им дохлого ужа.
– Вот, – Анька вывалила мне в ладони мертвую змею. – Только я не уверена, что это уж. Большой какой-то.
Все выстроились в тесный круг, склонили головы над ужом, и выгоревшие уже в июне макушки вдруг осветились неярким светом, идущим с лестницы. Это Леха открыл подъездную дверь, поднялся на второй этаж и, протиснувшись сквозь толпу детей, попросил показать ему содержимое гольфа.
– Самка, наверное, – определил он. – Самки у них крупнее. Только нехорошо это.
Чтобы стать одного роста с детьми, Леха присел на корточки и обратился к виноватому в случившемся Валерке:
– Сегодня Исаакий Змеиный. Нельзя змей обижать, иначе отомстят.
Увидев страх в Валеркиных глазах, Леха улыбнулся:
– Но есть одно средство, как спастись: нужно положить под подушку цветок голубой вероники, а получит его только тот, кто весь тихий час проспит.
Выпрямившись, Леха достал из кармана секундомер и скомандовал отбой. Десять делений успела отсчитать тонкая стрелочка на циферблате, и тропинка, протоптанная в линолеуме, опустела. Последней, выхватив из Анькиных рук гольф с помпонами, в палату убежала Наташа.
– Иисусе, – сказал Женька, осматриваясь в пустом коридоре. – Это что, фокус такой?
– Это правда такая, – серьезно ответил Леха и мотнул головой в сторону палат. – Пойдем за корпус, наберем цветов. Заодно себе под подушку положишь.
По странному стечению обстоятельств ужи жили как раз там, куда Леха повел Женьку искать от них средство. То, что они спонтанно расплодились ввиду небывало жаркого начала лета, на днях заметила директриса лагеря Нонна Михайловна и сразу же дала поручение Бороде их вытравить. Борода травить животину не стал и вместо этого поставил табличку «Осторожно: здесь живут змеи!». Благодаря ей Валерка и нашел в невысыхающей низине то, что искал. То же самое в количестве трех штук нашла там и Нонна Михайловна, когда совершала обход территории перед тихим часом, а также обнаружила в камышах табличку с соответствующим действительности содержанием.
Такое наплевательское отношение к ее поручениям привело директрису в ярость. Не боясь намочить бархатные лодочки и подвергнуться нападению ужей, она шагнула в камыши, выдернула из земли табличку и пришла с ней прямо к Бороде на склад, где объявила, что в наказание лишает его премии. Премии у Бороды и так не было, поэтому он не сильно обиделся, но вскоре точно такая же табличка появилась у входа в общежитие, где жила Нонна Михайловна.
– Это скандал, – сказал Женька, входя в вожатскую с букетом вероники и держа его перед собой, как распятье. – Здесь живут змеи! И самовар в игровой вместо кулера. Что еще?
Еще был потолок в трещинах, гладкие ступеньки, на которых все поскальзывались, и запах карболки – сюрприз такой. На инструктаж надо было приезжать. Там бы заодно сказали, что нумерация отрядов начинается с головы состава.
– Женя, это такие мелочи, – сказала я. – Привыкнешь.
– А еще дети, – шепотом добавил Женька и сделал страшные глаза.
– Они милые. Ну где бы ты пообщался с таким Валеркой?
Женька плюхнулся на кровать, дважды подпрыгнул на подбросившем его панцире и начал раскладывать на подушке цветы вероники. Голубые свечки ложились в ряд, потом в другой. Подушка оказалась такой маленькой, что Женька сложил цветы высоким колодцем. Вскипел чайник, но никто не пошел заваривать чай. Все так пристально следили за тем, хватит ли места цветам, как будто сейчас это было первостепенно важным.
– Так, все. – Сережа очнулся первым. – Сейчас я вам сыграю «По трамвайным рельсам» Янки, и мы навсегда закроем тему карболки, самовара и потолка в трещинах. Ну или хотя бы не будем на это так остро реагировать.
Янка Дягилева была любимой исполнительницей Сережи. Сибирский андеграунд восьмидесятых, классика жанра: ненормативная лексика, в двадцать четыре года утонула в реке при невыясненных обстоятельствах. Янка не была популярна, как другие представители модного андеграунда, которые были тем моднее, чем чаще их таскали по кутузкам, но ее имя было известно каждому студенту.
Когда Сережа закончил играть и отложил гитару, Анька подобрала на кровати ноги и сморщила острый нос:
– Пооптимистичнее для первого дня ничего не нашлось? Нам здесь только «дыма с трубы завода» не хватает и «желтой тарелки светофора».
– Куда оптимистичней? – искренне удивился Сережа. – Просто красоту видно не сразу. А при определенных обстоятельствах можно любоваться даже дымом из трубы.
Что это за обстоятельства, Сережа не уточнил – испугался, что Анька догадается, и зря. О том, что он всю дорогу до лагеря с наслаждением мазохиста сгорал в адском пламени ее рыжих кудрей и теперь был готов так же мучиться хоть всю оставшуюся жизнь, она узнает самой-самой последней.
Подъем случился на пятнадцать минут раньше ожидаемого времени. В вожатскую с громким плачем ворвался мальчик Ваня. Вань у нас с Женькой было двое: один без затей, бритый почти наголо, а другой с претензией на гламур и со стрижкой а-ля Дима Билан после гастрольного тура.
Оба поселились вместе с Валеркой, о чем за пятнадцать минут до конца тихого часа и пожалели. Но если Ваня без затей отделался легким испугом, когда обнаружил себя примотанным скотчем к матрасу, то Ваня с неприемлемыми для пионерского лагеря претензиями оказался вымазан с головы до ног пастой. Особенно сильно пострадала прическа, которой Ваня очень гордился, поэтому сразу схватил шампунь и побежал в туалет, где окончательно убедился в том, что Валерке место не в лагере, а в дурдоме.
Случайным свидетелем этого безобразия стал Виталик, чьи дети тоже проснулись раньше времени и потребовали от них с Ленкой веселых игр.
– У вас твистера нет? – стоя посреди вожатской, спросил Виталик и снял с головы белую панаму, чтобы спасти ее от неминуемой гибели.
Требуя немедленно наказать виновного, Ваня начал размахивать полотенцем, от которого во все стороны полетели черные капли. Всего за пару секунд Вилле Вало обзавелся новой татуировкой, Женька – леопардовым принтом на поло от Lacoste, а по корпусу гитары разбежались черные дорожки.
– В душ! – крикнула Анька и стала выпихивать Ваню вместе с Женькой из вожатской. – Быстро в душ! И выбросите этот шампунь, пока его кто-нибудь другой не взял.
После Женькиного вопроса, чем же в таком случае он будет отмывать гламурного Ваню, Анька предложила ему использовать свой шампунь и больше не задавать таких глупых вопросов.
– Как же так? – донеслось уже из коридора. – У меня профессиональный, для окрашенных волос, с эффектом ламинирования и тонирования, придающий объем у корней и запаивающий посеченные кончики. Им нельзя мыть детей!
– Из этих всех возьми тот, что для окрашенных! – крикнула Анька в коридор и обернулась к Виталику: – И твистера у нас нет.
Противостояние двух соседей по палате продолжилось на полднике. Когда с опозданием в двадцать минут в обеденный зал вошел Ваня с укладкой под Элвиса Пресли, Валерка решил, что это уже вызов. Мужественно приняв его, он объявил, что пока Вани не было, оба отряда участвовали в конкурсе по засовыванию в рот вареных яиц в скорлупе. У кого залезет – тот и выиграл. Ване такой конкурс понравился, и он тоже захотел поучаствовать, только залезть-то яйцо залезло, но чистить его Женьке пришлось прямо у Вани во рту.
– Посоли еще, – сказал Валерка, заглядывая через плечо в стразах, и передал Женьке солонку с забитыми дырочками. – Соленое вкуснее.
Женька машинально протянул руку за солонкой и, обернувшись, встретился взглядом с Маринкой.
– Какая прелесть, – промяукала она, разглядывая Ванину прическу и не обращая внимание на занавес слюней, текущих из его открытого рта на наш стол. – А у нас такая катастрофа с отрядками, такая катастрофа. Оргпериод – самый сложный во всей смене.
– Да-а-а, – протянул Женька, вынимая скорлупки изо рта Вани. – Самый сложный, самый.
– Особенно с девочками беда. – Маринка оперлась рукой о стол и наклонилась к Женьке. – Прямо не знаю, чем их занять. – Ресницы дважды хлопнули, губы заметно надулись – Маринка выразила глубокую печаль, в которую ее погрузила сложившаяся ситуация.
– Такая же фигня, – сказал Женька, для которого намек оказался слишком тонкий.
На всякий случай Маринка наклонилась еще ниже, и до конца разговора Сережа был вынужден смотреть в сторону бракованной рощи.
– Ты ведь не пойдешь? – спросила я, надеясь, что здравый смысл восторжествует.
Здравый смысл не восторжествовал. После полдника, когда до Женьки наконец дошло, что Маринка предлагала ему воспользоваться услугами шестнадцатилетних моделей, а заодно занять их на часок-другой, он сбежал со своей сумкой во второй корпус. Но вместо того чтобы повысить свой профессиональный уровень, подвергся там страшной опасности.
Предчувствуя это, мы с Анькой старались задержать его в игровой как можно дольше, неумело прикрываясь тем, что до ужина нам нужно нарисовать тридцать четыре эмблемы, отрепетировать отрядную песню, выбрать девиз и снять с пожарной лестницы Валерку, который примотал к ней тарзанку, сделанную из чьих-то колготок. В том, что это не более чем неумелое прикрытие, Женька не сомневался, подозревая нас в намерениях усложнить его путь к успеху и считая, что мы действуем исключительно из вредности.
– Что сложного в том, чтобы нарисовать тетю Мотю? – спросил он и, не отрывая карандаша, нарисовал в своем блокноте Кейт Мосс.
– Да все! – ответила Анька и с третьей попытки нарисовала тетю Любу.
Остаться Женьку уговаривал даже Валерка, обещая, что в противном случае девизом у нас будет «Мы пупы, мы всех пупее!», а если Нонне Михайловне он не понравится, то Валерка скажет, что его придумал Женька.
– Или «Мы носки, нас не согнешь», – добавил он.
Но Женьку это не остановило. Он, как несгибаемый носок, стоял на своем и смотрел поверх детских голов в окно, где был виден второй корпус с населяющими его бесплатными моделями.
– Ладно, – я взяла у него образец эмблемы, который никто не в силах был перерисовать, и указала на дверь. – Иди уже. Только быстро.
И десяти делений не успела бы отсчитать тонкая стрелочка на циферблате Лехиного секундомера, как Женька схватил свою сумку и выскочил из игровой. Однако то, что он увидел, когда прибежал в первый отряд, не было похожим на то, что он там увидеть ожидал.
Приближался вечер – время ритуальных танцев, поэтому на втором этаже второго корпуса его встретили не пятнадцать готовых на все моделей, а женщины одного из племен Папуа – Новой Гвинеи, в котором брачный период неудачно совпал с сезоном охоты их мужчин.
Красной краски, которой женщины племени придавали чувственности губам, у них было завались, как и синей, которая выгодно оттеняла глубину глаз и подчеркивала изгибы надбровных дуг. Но юные папуаски все равно согласились взглянуть на то, что принес белый человек в своей чудо-сумке, и взяли его в плотное кольцо.
Папуаска, которая была у них главной, о чем говорило густое ожерелье из природного материала на пышной и почти оголенной груди, первой заглянула в Женькину сумку, достала из нее золотую тубу с тушью Guerlain и поднесла к глазам.
– Ништяк, – сказала она на местном диалекте и оскалилась.
Оценив изящность тубы и тонкий аромат, исходящий от изогнутой кисточки, главная папуаска издала победный клич и объявила, что она желает, чтобы Женька немедленно сделал ее такой же красивой, как белые женщины на рекламных буклетах, которыми был набит средний карман его сумки. Того же потребовали и остальные папуаски, что заставило Женьку расслабиться и окончательно потерять бдительность.
Засучив рукава рубашки Baumler, он обвел критическим взглядом разукрашенных папуасок, жаждущих красоты, и спросил, известно ли им, что такое нюд, имея в виду особую технику макияжа без макияжа, который предпочитают женщины в развитых капиталистических странах.
– Нюд? – переспросила главная папуаска.
В игровой воцарилась мертвая тишина. Скорее всего, Женька назвал какое-то запрещенное в этих краях слово, чем разгневал папуасских богов. Лица женщин исказились, обведенные красной краской рты открылись, и ему показалось, что его послали на другие три буквы, но точно он этого утверждать не мог, потому что за дверью послышались топот и шум. Это мужчины племени, которых Сашка привел со стадиона, начали выражать обеспокоенность тем, что то, ради чего они сюда приехали, в полном составе закрылось в игровой и никак не выходит.
Начал беспокоиться и Женька, потому что не понимал, чего от него хотят аборигены: половина слов была на местном диалекте, но явно имела агрессивную коннотацию.
– Нюд, – попробовал объяснить он, чтобы наладить диалог с туземками, – это почти незаметный, естественный макияж с использованием нейтральных оттенков. Главная задача при его нанесении – создать ощущение полного отсутствия косметики. Это показатель хорошего вкуса.
Совершить акт каннибализма женщинам племени не дали их мужчины, которые ворвались в игровую как раз тогда, когда раздетого до трусов Женьку с топинамбуром во рту тащили к жертвенному костру…
– Да не было такого, – сказала Маринка и прислонила Женьку к стене, потому что держать его на себе уже стало тяжело. – До каких трусов? Так, рубаху помяли.
– Это потому что ты вовремя пришла! – Женька сполз по стене на мат и вытянул ноги. Почти сразу же к нему на колени залезла девочка, которую напугал его рассказ о папуасках, и теперь они боялись вместе. – Чуть не разорвали меня на сотню маленьких парикмахеров. Они же все раскрашены, как…
– Жертвы общественного темперамента, – подсказала Анька.
Это выражение мы вычитали в «Общественной жизни» Салтыкова-Щедрина и теперь называли так любую особь женского пола, одетую чуть более вызывающе, чем мы сами.
Женька кивнул и прижал к себе девочку.
– Вот, они самые.
Маринка пожала маленькими круглыми плечиками и надула губки.
– Тоже мне катастрофа! Не надо было мне уходить из корпуса. В следующий раз обещаю присутствовать.
– В следующий раз?! – Женька посмотрел на нее глазами чудом спасшегося Кука. – Спасибо, я лучше пешком постою.
– Ну, знаешь! – Маринка развела руками. – Какие есть!
Развернувшись на каблуках, она вышла в пустой коридор, а Женька уткнулся носом в макушку девочки.
– Давай сюда, что у тебя, – сказал он и взял у нее эмблему отряда. – Здесь нужно немного подправить.
Щелкнув пальцами, он попросил карандаш и ластик и, не вставая с мата, превратил тетю Любу в Кейт Мосс. Ему было неудобно делать это с девочкой на коленях, и ей было неудобно тоже, потому что на Женьке были штаны с острыми заклепками в форме звезд, но они просидели так до ужина. Они сидели бы и после, но по дороге из столовой в корпус была организована специальная очередь к Женькиным коленям в звездах, поэтому дальше девочки все время менялись.
День подходил к концу. Был второй круг девочек и третий. Вова придумывал девизы с призывами к экстремизму, Наташа искала колготки, Сережа подбирал аккорды для «Тети Моти».
– Так тебе нравится девиз про пупов? – спрашивал Валерка и тряс листочком для голосования.
– Да, – отвечала я и смотрела, как под Женькиной рукой молодеет и стройнеет пятнадцатая тетя Люба: халат превращается в коктейльное платье, а наколка буфетчицы – в диадему с бриллиантами из «метеоритов» Guerlain, приклеенных на канцелярский клей. «Всех любить надо, всех».
После отбоя, когда солнце упало за главный корпус, возле скамеек над шапками сирени зажглись фонари. Белые плафоны окружили ночные мошки, на асфальте зашевелились тени. Из окна главного корпуса с противоположной стороны от линейки лагерь выглядел как деревенская улица, где тропинки гораздо популярнее проложенных рядом асфальтовых дорожек и где покосившиеся фасады домов не видны за буйной зеленью, которую никто не косит.
– Закройте окно, сифонит, – попросил Виталик и поежился. – Мне мама не разрешает у открытых окон сидеть.
Анька закрыла окно и спрыгнула с подоконника на пол.
– Сдует тебя, что ли? Посмотри, какой вечер.
– Пол-одиннадцатого – это ночь, – заметил Виталик. – Кто придумал так поздно проводить планерки?
Кожаный диван, на котором сидел Виталик, чавкнул, не сразу отпуская его ноги, внизу послышались шаги. Это Нонна Михайловна поднималась по лестнице советского универмага из кулинарии в галантерейный отдел и очень надеялась, что в пионерскую она войдет последней. Сегодня на ней были черное шелковое платье с погонами и выпуклыми золотыми пуговицами, лакированные туфли с широкими пряжками и алый шарфик, поэтому она ни в коем случае не должна была затеряться в толпе входящих. Увидев нас, директриса остановилась возле лестницы и показала на дверь с надписью «Пионерская».
На первую планерку пришло столько народу, что всем не хватило места за двумя рядами столов. Треть пионерской занимали стол самой Нонны Михайловны, кожаное кресло и два стеклянных шкафа. В оставшейся части стояли похожие на школьные парты столы. У двери – один маленький стульчик. Его называли «для важных персон». Сегодня на нем сидел Борода и испытывал необычайную гордость из-за того, что его пригласили на планерку. Когда мы вошли, он громко поздоровался и так напугал Виталика, что тот чуть не сел Бороде на колени.
– Чаво тебе?! – заревел тот и показал на свободный стол с тремя стульями. – Местов рази нету?
Анька взяла нас с Виталиком за руки и повела к свободному столу у окна. Неловко, когда на тебя смотрят сразу столько людей, но Нонне Михайловне это нравилось. Расправив плечи с погонами, она прошла между рядами и встала возле своего кресла. Ни единой складочки не дало шелковое платье. Обведенные темной помадой губы застыли в улыбке, от легкого поворота головы по волосам пробежал блик света. Ей было пятьдесят.
– Да ладно?! – сказала Анька Гале, и мы уже более внимательно посмотрели на Нонну Михайловну.
Она была стройной брюнеткой с длинным хвостом густых блестящих волос, с розоватой, почти юной кожей. И только строгий взгляд выдавал ее возраст и высокое положение, которое она здесь занимала. Смотрела Нонна Михайловна всегда как бы сверху, но только потому, что так был лучше виден изгиб ее ресниц.
Все называли ее Нонкой, но она об этом не знала, потому что никто не решился бы сделать это в ее присутствии. Так же любящие дети в кругу друзей называют свою маму мамкой. Нонка, как любая нормальная мамка, всегда всех жалела и всем помогала, но за дело могла так надрать уши, как под силу только самой близкой и родной душе.
Лишь один человек мог себе позволить обращаться к ней иначе, чем Нонна Михайловна, – лагерный врач. Сегодня он стоял у окна в безукоризненно белом отглаженном халате, хотя обычно носил более удобный хирургический костюм.
– Аркадий Семенович, – представила его директриса.
Он называл ее Нонна, а дальше следовало что-то вроде «Ты меня убиваешь», «Я тебя умоляю» или и то и другое вместе. Самого его называли доктор Пилюлькин. Он об этом тоже не знал, но догадывался. На самом деле его звали Аркадий Семенович Волобуев, но кто-то, у кого потом, наверное, пропала премия, придумал ему прозвище и сделал все, чтобы оно прижилось. Но, как сказала Галя, «что на клизме ни пиши, все равно приятного мало».
Доктор Пилюлькин был одержим идеями поддержания стерильной чистоты и соблюдения санитарно-гигиенических норм, а всех, кто вставал у него на пути к белоснежным простыням к концу смены и тумбочкам, в которых хранится только туалетная бумага (да и то едва начатая), обливал карболкой и сбрасывал с крыши в крапиву. По крайней мере, так утверждал Валерка, и все ему верили – настолько страшен был Пилюлькин в своем хирургическом костюме и медицинской шапочке, надвинутой до черных с проседью бровей. Особой гордостью Пилюлькина были усы, которые висели под носом аккуратной трапецией и ставили под сомнение то, что он может улыбаться хотя бы теоретически.
– В общем, чуткий, добрейшей души человек, – говоря о нем, Нонна Михайловна сделала акцент на последнем слове, чтобы Пилюлькин об этом случайно не забыл и перестал так откровенно коситься на пыльный подоконник.
– Нонна, ты меня убиваешь, – на вдохе произнес он, но с медслужбой уже было покончено.
– Лола Викторовна, – представила она следующего по важности человека, – моя правая рука.
Нонна Михайловна посмотрела куда-то под стол, и все привстали, чтобы увидеть ее правую руку.
Рядом с кожаным креслом директрисы на раскладном стульчике сидела старушка, такая сухонькая и такая маленькая, что ее даже не сразу заметили. Этой весной она отпраздновала девяностолетний юбилей, но десять лет назад время Лолы Викторовны пошло в обратном направлении, и теперь с каждым прожитым днем она приближалась к волшебной поре детства. Сейчас для нее на дворе были семидесятые, и она считала директором лагеря себя, как это и было в то время. Нонну Михайловну она называла девочкой, потому что не всегда могла вспомнить, как ее зовут, и принимала ее то за пионерку, то за вожатую. Сейчас она официально числилась заместительницей директрисы, но ей об этом не говорили.
– Вам все это интересно? – Галя обернулась и с сочувствием посмотрела на нас с Анькой. Они с Сашкой сидели перед нами, и обоим было скучно, так как все это они уже много раз слышали. – Давайте я вам расскажу кое-что получше.
Галя показала на парня в белой толстовке и поварских брюках, который стоял в противоположном от окна углу: глубокий капюшон, смотрит в пол, лица совсем не видно.
– Олег, – сказала Галя. – У него пирсинг на… – Она пододвинула к себе мой блокнот и нарисовала то место, где у него пирсинг.
– Где?! – Анька развернула блокнот и уставилась на ничем не примечательного до этого Олега. – А ты откуда знаешь?
– В карты на раздевание играли. – Галя прыснула в кулак и, прячась за Сашкину спину, почти легла на наш стол.
Анька немедленно затребовала подробностей, и вместе они чуть не спихнули меня в проход. Нонна Михайловна постучала ручкой по столу, и звук этот оказался громче кашля Бороды, на котором здесь все держалось, а об этом еще ни слова не сказали.
– Что же смешного в том, что Олег с отличием окончил кулинарное училище? – спросила Нонна Михайловна, потому что как раз о нем и говорила.
– Ничаво смешного, вот ничаво, – тихо прошамкала Анька.
Но Нонна Михайловна решила все же выяснить, над чем все сидящие у окна так заразительно смеялись. Двигаясь между рядами столов, она как бы случайно коснулась Сашкиного плеча и заглянула за его спину. Бархатный румянец отразился в одной из выпуклых золотых пуговиц. Задержавшись в такой позе чуть дольше, чем было нужно, Нонна Михайловна выпрямилась.
– Чебурашек этих с детьми будете рисовать, – сказала она. – Мы сейчас по другому поводу здесь собрались.
– Чебурашек?! – В новом приступе смеха Галя легла на наш стол и окончательно вытеснила меня со стулом к окну.
Я прислонилась виском к прохладному подоконнику и увидела черные берцы. В простенке между окнами стоял человек в камуфляже. На берцы налипли сосновые иголки. На левом они сложились в слово «ух», на правом – в «ах». На запястье на тонком ремешке, поскрипывая, раскачивался фонарик. Он был включен и освещал по очереди то «ах», то «ух»: ах-ух, ах-ух.
Борода начал нетерпеливо крякать. Время шло, совсем скоро закроется магазин, до которого двадцать минут ходу, а Нонна Михайловна до сих пор его не представила.
– Точно! Борода! – вспомнила она наконец. – Наш завхоз, кастелянша, сантехник, слесарь, столяр, маляр…
Фонарик перестал раскачиваться, соскользнул с руки, но сразу же был пойман и отправлен в карман камуфляжной куртки. Под ней черная футболка, крепкая шея с пульсирующей жилкой.
– …завскладом, электрик…
Умоляющая улыбка на смуглом лице, карие глаза, поднятая черная бровь. Я посмотрела на лежащий на коленях блокнот и с опозданием прикрыла рукой Галин рисунок.
– Ринат, – тихо сказал человек, слегка пригнувшись, чтобы Нонна Михайловна не сделала ему замечание.
– Даша.
– …садовник, косарь, заведующий инвентарем.
– Нонна Михална, – взмолился Борода, – можно покороче? Дюже спешу.
Нонна Михайловна бросила взгляд на белые круглые часы в простенке между окнами и нахмурилась.
– Иди, – коротко сказала она, надеясь, что он не успеет – часы на пять минут отставали.
На этой же остановке решил выйти и Пилюлькин. В изоляторе его ждала медсестра Светлана. Каждый раз, когда он надолго оставлял ее одну, она очень волновалась и смотрела в окно на первом этаже, грустно вздыхая. Лоле Викторовне она приходилась младшей сестрой, но разница между ними была небольшая. Иногда Светлана путала адельфан с седуксеном, и Пилюлькин спешил проконтролировать, чтобы на ночь она приняла нужное лекарство. В закрывающуюся за ним дверь выпрыгнул Олег.
– Ринат, – объявила Нонна Михайловна, будто в громкоговоритель, но так показалось только мне. – Наш охранник. Завтра открытие смены…
Дальше она обращалась исключительно к Сашке, и вся ее речь состояла из просьб не повторять того, что было в его третьей смене, четвертой и шестой, а вот то, что было во второй, можно сделать еще раз, все равно никто уже ничего не помнит. Я повернулась к Гале и поймала ее взгляд.
– Охранник, – повторила она.
И все. Никакой интересной истории. Только «ах» и «ух», товарищ пионервожатая.
Ближе к двенадцати планерка закончилась для всех. Еще никто ничего не успел натворить, поэтому не было смысла растягивать ее до часу, а то и до полвторого, как это иногда бывает.
– Нет, ну ты слышала?! – Анька спрыгнула на одной ноге по широким ступенькам и, оказавшись на асфальтовой дорожке, продолжила: – «Александр, сделайте мне на открытии смены приятно!» А он ей такой: «Нонна Михайловна, вам очень трудно сделать приятно». А она ему: «Вы вожатый, Александр, и вы должны уметь делать мне приятно».
Наверное, я отреагировала на это замечание не так бурно, как следовало, а именно не начала махать руками, как Анька, и обвинять Нонну Михайловну в домогательствах к Сашке. Анька обиделась. До корпуса Виталика мы шли молча, но для нее это было такой страшной пыткой, что она наконец сдалась.
– Ну поговори со мной о нем, пожалуйста! – Анька села на скамейку под шапками белой сирени и показала на место рядом с собой. Не заметив подвоха, я села. – А я с тобой поговорю о Ринате.
Анька хлопнула густо накрашенными ресницами и как ни в чем не бывало уставилась на меня. Ее кудри и веснушки в свете фонаря стали фиолетовыми, в нос ударил сладкий и липкий запах белой сирени.
– Кто он такой, чтобы о нем со мной говорить?
Анька обрадовалась тому, что разговор все же начался, и даже забыла о Сашке.
– Он тот, кто тебе понравился. Этого достаточно. – Теперь она смотрела на цветы сирени, которые щекотали открытые плечи. – И это очень кстати, потому что если у нас что-то получится с Сашкой, то мне было бы спокойнее, если у тебя тоже кто-то будет.
– Ах, в этом дело! Тогда он мне не понравился. Он для меня слишком взрослый!
– Взрослый?! – Анька засмеялась. – Ну ближе к тридцати ему. А Вилле твоему сколько?
Задела за живое.
– Вилле двадцать восемь. И он, на минуточку, финн и рок-музыкант. – Я подняла указательный палец и многозначительно потыкала им куда-то в небо.
– Если тебе нравятся мужчины другой национальности с экзотическими профессиями, то Ринат – то что надо: татарин, который работает охранником в пионерском лагере. Или ты имеешь что-то против татар?
Я не имела ничего ни против татар в целом, ни против Рината в частности, но Анька продолжала смеяться, а поговорить о нем, возможно, и хотелось, но не так.
– А ты заметила, как быстро Сережа уложил детей спать? – попыталась я сменить тему.
Анька перестала смеяться, но все равно надула щеки, чтобы не случилось новой истерики. Как быстро Сережа уложил детей спать, не заметил никто, потому что в это время Женька лично собирал нас на планерку, чтобы мы не явились туда «одетые, как деревенские клуши».
– Деревенские клуши, – повторила Анька, и случился новый приступ. – Но Женька не зря старался. Ты Ринату тоже приглянулась: девушка другой национальности с экзотической профессией «учительница русского языка и литературы». Может, он еще и Скорпион, как Вилле Вало? Хочешь, я у него спрошу?
В минуты нарушения психологического равновесия, когда возникает острое желание стукнуть собеседника по башке, мы с Анькой пользовались одним успокоительным средством. Его придумал единственный на нашем курсе парень, когда его лишили стипендии и другие успокоительные средства, которые хоть сколько-нибудь стоили, оказались для него недоступны.
Итак, для того чтобы психологическое равновесие восстановилось, нужно посмотреть на небо и произнести монолог раненного в битве под Аустерлицем Андрея Болконского, у которого ввиду сложившейся ситуации тоже возникли проблемы с мироощущением: «Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения». Дальше Андрей говорил: «И слава Богу!» Но в варианте успокоительного средства эти слова должно было произнести небо. И что самое удивительное, оно их произносило.
«Совсем с реек съехал», – решила Анька, когда впервые это увидела, но и сама однажды так успокоилась, когда в Zara не оказалось ее размера платья цвета горчицы. «И слава богу!» – ответила я тогда вместо неба, потому что мой размер был.
– Сегодня столько всего случилось, что мне нужно подняться на крышу и поговорить с небом, – сказала я, вставая со скамейки. – Боюсь, больше ничего не поможет.
Анька наклонилась, чтобы сорвать одну из голубых свечек вероники.
– Сходи успокойся, – сказала она, протягивая мне цветок. – И ничего не бойся.
Сама она осталась сидеть перед корпусом Виталика, а я зашла за кусты сирени и оказалась перед нижней поворотной площадкой пожарной лестницы.
Дорогу на крышу в тихий час разведал Женька. Он оборудовал там курилку, потому что в лагере крыша корпуса – единственное место, где можно уединиться и «подышать свежим воздухом». На крыше в тени огромной старой сосны, которая стояла почти вплотную к задней стене корпуса, действительно дышалось хорошо, да и попасть туда было совсем нетрудно. И если бы Женька не нарядил меня в длинный сарафан, который чем-то ему понравился, и босоножки на каблуках, которые к нему «скандально» подходили, я бы поднялась в считаные секунды, но мне потребовалось на это гораздо больше времени.
Каблуки проваливались в антискользящие дырочки ржавых ступенек, подол цеплялся за металлические занозы перил, дважды я наступила на него и чуть не свалилась вниз, поэтому к концу восхождения успокоительное средство было уже необходимо как никогда.
– Да чтоб тебя! – прорычала я, стоя на крыше и имея в виду Женьку. – Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения.
Чтобы средство сработало, я прислушалась к ответу неба, но вместо него услышала вопрос Рината:
– Ты так сильно боишься змей?
«Ах» и «ух», товарищ пионервожатая.
Ринат стоял возле жестяного парапета у сосны, поэтому я не сразу его заметила. И не заметила бы вовсе, если бы он не подал голос. Ручной фонарик осветил голубой цветок в моей руке, Ринат подошел ближе:
– Или просто любишь крыши?
Я не боялась змей и не любила крыши, но стояла у парапета с цветком вероники в руках.
– Это Леха придумал, чтобы дети уснули, – оправдалась я.
– Он не придумал. Сегодня Исаакий Змеиный, завтра – Еремей Распрягальник. – Ринат посветил фонариком вниз, на спокойное море из белых шапок сирени, затем круг света пробежал по лопухам вдоль стены корпуса Виталика и, провалившись в дыру между стеной и пригорком, растворился в темной дали. – Четвертый корпус стоит выше, чем остальные. Мне отсюда лучше видно. И свет здесь интересно падает.
Он показал на сосну, сквозь ветки которой проходил свет луны, и на искрящийся плешивый рубероид. Столбики вентиляции отбрасывали одинаковые короткие тени.
– Подходящее место, чтобы сфотографировать тебя на контакт.
Внезапно рубероид в искорках перестал быть таким интересным, и я перехватила руку с телефоном.
– Эй! Я не разрешала себя фотографировать. А если ты так любишь свет, сфотографируй… фонарь.
Ринат послушно убрал телефон и запрыгнул на узкий жестяной парапет. Внизу у самой стены шевелились мясистые лопухи, но местами они пробивались прямо сквозь асфальт.
– Упадешь! – крикнула я, мгновенно пожалев о своем дурацком предложении.
Но Ринат спокойно дошел до угла, затем круто повернул и остановился напротив нашего фонаря. Щелкнул затвор камеры, он развернулся, чтобы пойти обратно, но где-то рядом совершенно точно заржал конь. Ринат покачнулся. Я вскрикнула и закрыла лицо руками.
– Ужас как приятно, – сказал Ринат, спрыгивая возле меня на рубероид в искорках. – Но не переживай. Я умею летать.
– Бэтмен, что ли?
– Ну типа того. Не похож?
– На Шалтая-Болтая ты похож. Чуть не стал. – Я подобрала юбку и перелезла через парапет на лестницу. – Это было ужасно глупо.
Ринат сел на парапет и, глядя на меня сверху, негромко крикнул:
– Я же сказал, что умею летать.
День 2-й
На другой день, когда первые лучи солнца позолотили верхушки сосен, как и было положено старшей вожатой, раньше всех в лагере проснулась Галя. Первое, что она сделала, когда открыла глаза, – попыталась понять, где она проснулась. Потолок, на который она смотрела уже минуту, везде был одинаковый: в мелкую сеточку трещин. Кровать скрипела так же противно, как и ее собственная, и одеяло, которым она была накрыта до самого носа, было точно таким же: со штемпелем «голова» на положенном месте. Но тот факт, что лежала она под этим одеялом полностью одетая, подсказал ей, что она все-таки не в своей вожатской.
Галя повернула голову набок и сквозь решетку спинки стула увидела спящего на соседней кровати Сашку. В памяти сразу же восстановились события прошедшей ночи. Потянувшись, она встала, сунула ноги в кроссовки, но, прежде чем уйти, захотела еще раз взглянуть на вожатого первого отряда. Для этого она села на его кровать и приподняла угол одеяла: спит. Скользнув равнодушным взглядом по обнаженной фигуре Аполлона, Галя бросила одеяло обратно и вышла в коридор. Между ними ничего не было.
На первом этаже она столкнулась с Лехой. Он собирался на пробежку и как раз выходил из своей комнаты. Увидев Галю, он молча улыбнулся, дежурно чмокнул ее в нос, но так и не решил, чего ей пожелать: доброго утра или спокойной ночи. Вставать было еще рано, а ложиться – поздно. К тому же расстались они всего два часа назад, потому что эту ночь провели вместе. Но с Лехой у Гали тоже ничего не было. Видя его замешательство, она пожелала ему доброго утра и сказала, что пойдет, пожалуй, вздремнет до горна, если получится.
В коридоре третьего корпуса она не встретила никого, но в своей комнате обнаружила спящего на одной из трех кроватей Марадону. Кроватей было три, так как Галя жила не в вожатской, а в крайней палате левого крыла. Она выбрала эту комнату, потому что в любое время здесь было одинаково тихо и прохладно. По этой же причине здесь иногда спал Марадона. Между ними тоже ничего не было.
У Гали вообще ничего ни с кем обычно не было, потому что удовольствие, почти физическое, она получала от другого. Она была сплетницей и честно предупреждала заранее: все, что знает она, в скором времени узнают весь лагерь и вся общага МАТИ. Любой секрет, который не было возможности выдать, ее чрезвычайно тяготил. Так случилось и сегодня. Ночью во втором корпусе произошло кое-что презабавное, а рассказать об этом было некому, поэтому, с трудом дотянув до подъема, разрываемая нетерпением Галя первая выбежала из корпуса и сразу же отправилась на поиски свободных ушей.
– Хотите, кое-что расскажу про нашего красавчика? – сказала она, поймав нас с Анькой у входа в столовую, и с видом спекулянта продолжила, не разжимая губ: – После завтрака, в третьем корпусе, крайняя палата слева. Приходите на чай.
Анька закусила губу и огляделась по сторонам. Галина информация касалась Сашки, но прийти к ней на чай не было никакой возможности. После завтрака нам нужно записать детей в кружки, и если мы захотим уйти, то Женька начнет ныть, а Сережа взывать к совести, сомневаясь в том, есть ли она у нас вообще.
– А это не может подождать до тихого часа? – на всякий случай поинтересовалась я. – Опять дают вареные яйца, и Валерка, кажется, снова устраивает свои конкурсы. Сейчас у нас сдвинется график…
– Конечно, не может! – перебила Анька. – Мы обязательно что-нибудь придумаем.
– Да, – поддержала Галя. – Что, у вас не может быть никаких срочных дел к старшей вожатой?
Думали весь завтрак. Делать это было сложно, потому что рядом сидели Женька с Сережей и нудели, что дети уже на второй день растеряли все воланчики и теперь кому-то придется идти на склад. Думали всю дорогу до корпуса, и на свежем воздухе мысль заработала быстрее. К тому же на волейбольной площадке был замечен Сашка, который помогал Марадоне привязать волейбольную сетку, что придало мысли еще большее ускорение.
– Придумала! – наконец объявила Анька и отвела меня к кустам сирени, чтобы поделиться деталями плана.
Третий пункт устава лагеря гласит, что вожатый всегда должен быть в доступе. То есть дети знают, что если им в три часа ночи приспичит попить или поговорить, то они всегда могут зайти со своей проблемой в вожатскую и им точно помогут ее решить. Правда, там они могли обнаружить вовсе не своих вожатых и даже физруков, которым тоже что-то приспичило, но чужих детей не бывает. Главное – нужная дверь всегда открыта. С другой стороны, это условие одновременно являлось и причиной того, что в вожатской могли оказаться физруки и другие посторонние люди. Но таковы правила.
Гарантией свободного доступа вожатых становилось то, что ключи от них (а на каждом этаже таких комнат было три) сдавали под роспись старшей вожатой, причем делали это сразу, а не тянули до второго дня, как мы. Именно такую ерунду мы наплели Сереже с Женькой, после того как построили оба отряда для похода на запись в кружки.
– Ну ладно, – пожал плечами Сережа, глядя на три ключа на моей ладони. – Только как можно быстрее.
– Да там дел на две минуты, – сказала Анька. – Вы даже до Гриба не успеете дойти.
По третьему стакану чая наливала нам Галя и все никак не могла подойти к сути дела. Она растягивала удовольствие. На столе беспрерывно кипел чайник, работал настольный вентилятор, на плане-сетке, который выполнял функцию скатерти, лежали два брикета сухого киселя и помидоры со вчерашнего обеда.
– Чем вас еще угостить? – Галя открыла скрипучую дверцу тумбочки и чуть не исчезла за ней полностью. – Сосисок не хотите? Не волнуйтесь, они не портятся.
– Галя, давай уже рассказывай, – попросила Анька. – Нам две минуты дали, а мы здесь уже полчаса сидим.
Галя не любила, когда спешат, но проявила уважение к нашей занятости и под шуршание вентилятора начала рассказывать. Заходила она сильно издалека, поэтому подробности того, как она оказалась ночью во втором корпусе с колодой карт, вместо того чтобы готовиться к церемонии открытия смены, можно опустить.
Итак, вчера вечером, в ту самую минуту, когда Ринат шел по парапету, чтобы сфотографировать фонарь, а Борода влетал в двери уже закрывающегося магазина, Сашка взял бубнового туза и проиграл Маринке, Гале и Лехе одно желание на троих.
Желание придумалось сразу, но оказалось, что с фантазией у них дела обстоят еще хуже, чем у Виталика, который второй день выпрашивал у всех твистер. Хохоча и подпрыгивая на одной из двух Сашкиных кроватей, Маринка велела своему напарнику выйти без штанов на козырек корпуса, оседлать табличку первого отряда и громко крикнуть «И-го-го!».
Карточный долг – долг чести, а Сашка свою честь берег, поэтому тут же снял перед Маринкой и Галей джинсы, выбрался через окно игровой на козырек и, ощущая обнаженным телом бодрящую прохладу ночи, выполнил остальные пункты проигранного желания.
В это же время, закончив свои дела в пионерской, по дорожке в сторону изолятора шла Нонна Михайловна. Проходя мимо второго корпуса, она услышала ржание коня, доносящееся откуда-то сверху, и посмотрела туда, откуда предположительно доносились звуки. Коня там, к счастью, не оказалось, но на козырьке она увидела Сашку, который в одних трусах скакал на табличке своего отряда и ржал.
От такого зрелища Нонна Михайловна сначала пришла в восторг, а потом в ярость. Обозвав его Пегасом (но Сашке послышалось другое слово), она сказала, что, если он сейчас же не прекратит ржать на весь лагерь и немедленно не уберется в вожатскую, она сдернет его за ногу с козырька и отправит на ближайшей электричке домой. Вдобавок она пригрозила, что если после всего случившегося на открытии смены он не сделает ей приятно, то это будет его последняя смена в лагере и, более того, последний в ней день.
– На ближайшей электричке! – хохотала Галя, размахивая половиной брикета киселя. – Куда она его отправит?! Он вожатый первого отряда, а смена только началась!
Наслаждаясь произведенным эффектом, Галя смеялась, осыпая розовыми крошками стол, а Анька думала. У филологов богатая фантазия, и иногда это до добра не доводит.
– В одних трусах, – тихо сказала она и покосилась на только что сданные ключи. – Галя, можно я возьму один?
На ключе, который Анька, глядя Гале в глаза, начала медленно сдвигать пальцем, висел брелок с надписью «4К, № 6». Это был ключ от третьей пустой вожатской. И по мере того как он приближался к краю стола, объезжая стаканы с чаем и тарелку с помидорами, мы становились свидетелями его чудесного превращения в ключ от комнаты для свиданий.
– С ума сошла, что ли? – Галя накрыла ладонью ключ и не дала превращению завершиться. – Что вы в нем находите?
Я отсела от Аньки подальше и сразу обозначила, что лично мне не нужны ни комната, ни Сашка. Но, говоря «вы», Галя имела в виду другое, только Анька не захотела ее слушать, сославшись на то, что мы очень спешим. Расстроенная тем, что не может рассказать остального, Галя сама отдала ей ключ.
– Закрывайтесь только. И если кто узнает, без обид.
Как только чудесное превращение завершилось, мы откланялись.
– «На ближайшей электричке», – передразнила Анька и опустилась на чисто вымытый линолеум пустого коридора. На протянутой ладони засиял добытый трофей, и она залюбовалась им, как будто он был из чистого золота.
– Тебе не кажется, что это уже не смешно? – спросила я, садясь напротив. – Вот до этого все было смешно, а это – уже нет.
Анька закрыла один глаз и посмотрела на меня через дырочку в блестящем ключе:
– Да ладно тебе. Будем там от Пилюлькина апельсины прятать.
– То есть ты ради апельсинов стараешься?
Анька спрятала ключ в карман и отвернулась к пожарному выходу.
– Мне уже двадцать лет, – сообщила она пожарной двери, потому что я-то это уже достоверно знала. – А я до сих пор берегу себя. Все принца жду. Мне уже скоро стыдно станет перед этим принцем, если он когда-нибудь появится. А я нормальная здоровая женщина! Я хочу настоящей любви и прямо сейчас!
Получалось, что Анькина настоящая любовь выглядела как прерывистый выдох у стены с плакатами «Террористическая угроза» и длилась примерно столько же в масштабах долгих сознательных отношений, но мне вдруг стало стыдно за свой обвинительный тон.
– Хорошо, забудь и пойдем в отряды, – сказала я, чуть ли не с виноватым видом кусая ноготь. – Апельсины так апельсины.
Обычно третьи вожатские занимали старшие вожатые или физруки, которые тоже могли оказаться разнополыми. В третьем корпусе в комнате, которая имела такое же расположение, как наша теперь уже для свиданий, жил Марадона. Опаздывая на «Веселые старты», он выскочил из душевой и возле лестницы с разбегу налетел на нас. Лестница была узкая, а мы тоже спешили, поэтому за право покинуть третий корпус первыми завязалась ожесточенная борьба, но силы оказались равны. Сначала Марадона испугался и заметался, но потом увидел, что Сережи с нами нет, и принял максимально нахальный вид.
– Где накрашенного своего забыли? – спросил Марадона и небрежно взъерошил жидкую шевелюру, посчитав, что так он выглядит более сексуально.
Нужно было сказать не «накрашенного», а «крашеного», потому что Женька красил волосы, но не лицо. Правда, иногда оно как-то странно переливалось перламутром, но он утверждал, что это у него от природы (что-то генетическое, наверное). То же самое мы сказали Марадоне, но он не понял слово «генетическое».
– В общем, он просто следит за собой, – перевела я.
– Тогда передайте ему, пусть один не ходит, потому что я теперь тоже за ним следить буду.
Марадона решил, что после такой остроумной фразы он выглядит еще сексуальнее, и, безбожно опаздывая, но уже не спеша, стал спускаться вниз.
– Похахуйло – король каламбуров, – бросила Анька ему вслед.
– Ахахауи, – поправила я. – Но твой вариант мне тоже нравится.
Выпустив Марадону, входная дверь снова захлопнулась, и в полумраке подъезда в пробивающихся сквозь щели лучах света засверкала пыль. В третьем корпусе было все как у нас, типовое и безликое, но внимание привлекло висящее на внутренней стороне двери объявление: «Уходя, выключи в палате свет, вымой стакан, переодень обувь и повтори девиз». Спрыгнув с гладких ступенек, Анька достала из кармана ручку, мелко дописала внизу «сволочь!» и со всей ненавистью к Марадоне толкнула дверь.
– Иисусе! – вскрикнул Женька, морщась и потирая ушибленное плечо. – Кто из вас придумал девиз про пупов? Теперь они угрожают сказать его на открытии смены.
После подъездного полумрака дневной свет ненадолго ослепил, поэтому то, что за Женькой длинным хвостом стоят парами два отряда и Сережа, стало понятно не сразу.
– Вы на кружки записались? – деловито осведомилась Анька, чтобы Женька не начал ныть, почему мы так долго.
– Да, – кивнул он, все еще морщась от боли, – списки у Светы.
Ребенка со списками звали не Света. Перепутать имена детей было страшнее, чем назвать единорога лошадью, поэтому Несвета сильно обиделась.
– Я не Света! – громко заявила Несвета и вышла из строя.
Я взяла Несвету за руку и подвела к Женьке:
– Я все понимаю, тридцать четыре – это много, но на второй день не отличить Свету от Вани…
Несвета, которая оказалась Ваней, заныла, но тут же получила от Аньки веточку белой сирени. Эти кусты были везде, и все они были в цвету, но Ванина веточка была необычная. И вовсе не потому, что на ней случайно оказался паук-крестовик, при виде которого Женька заорал громче, чем раненый слон, а потому что это была сирень-говорилка. Получивший ее должен был произнести свое имя, затем передать ее соседу, чтобы тот прибавил к этому имени свое и передал сирень-говорилку дальше.
– Понятно?! – рявкнула Анька и сунула сирень Женьке, который взял ее только после того, как убедился, что в ней больше никто не живет.
– Я Женя, и меня здесь всё за…
Я выхватила сирень и закрыла ладонью ему рот.
– Женя, Даша, Наташа, Катя… – дойдя до Анькиного имени, я передала ей сирень и кивнула на Женьку: – Что с Похахуйло будем делать? Жить же не даст.
– Наябедничаем Лехе, – ответила она. – И как можно скорее.
Наябедничать Лехе получилось только на обеде. Можно было, конечно, прямо не отходя от корпуса Виталика настрочить гневный донос и отправить его, используя великое достижение прогресса – сотовую связь, но с первого дня смены до королевской ночи на всей территории лагеря действовало «правило ТЭВ» – только экстренные вызовы. Фактически это был запрет на пользование мобильными телефонами, который Леха ввел после того, как стал получать сообщения с вопросами типа «че было на планерке?» или просьбами вроде «забери наших на зарядку, мы проспали».
Технический прогресс Леха приветствовал пионерским салютом, но считал, что общение посредством мобильников между людьми, которые находятся в ста метрах друг от друга, – это особая форма сексуальных извращений, которая сводит всю романтику пионерского движения к массовым рассылкам.
На вопрос, как же в таком случае общаться в обстановке, близкой к боевой, когда после десяти вечера объявляется комендантский час, а после часа ночи во всех вожатских нужно обязательно гасить свет, Леха отвечал, что в распоряжении вожатых остаются азбука Морзе, шифровальные письма, световые маяки, голубиная почта и один древнепионерский, но при этом самый надежный из всех способ передачи информации – «гонцы-пионеры».
– Это вам от Лехи.
Над нашим вожатским столом склонился пятнадцатилетний пионер из первого отряда и положил возле солонки с забитыми дырочками заклеенный скотчем конверт. Такие же конверты легли рядом с солонками с забитыми дырочками на каждый вожатский стол.
Первым свой конверт вскрыл заинтригованный Виталик и, пробежав глазами текст секретного послания, воскликнул:
– Какой кошмар!
После чего получил подзатыльник от Ленки и спрятал шифровку в карман. Наш конверт вскрывал Сережа. Внутри оказалось письмо, написанное печатными буквами с орфографическими ошибками. Это было приглашение на неофициальное посвящение в вожатые, которое обычно проводится в день открытия смены после отбоя на специально оборудованной поляне в лесу.
Под приглашением цветными карандашами Леха нарисовал оборудование: три скособоченные елки, четыре бревна, шалаш из дров и коробок спичек. Ниже с прискорбием сообщалось, что по одному вожатому, «герои, чью жертву мы не забудем», должны будут остаться на корпусах в качестве дежурных, за что получат звание вожатого заочно и пионерский привет.
На обратной стороне письма Леха нарисовал карту: тропинка, ведущая к незабудковой поляне, обозначенная пунктирной линией, уходила куда-то в сторону лесной дороги, затем сворачивала к складу и где-то за ним упиралась в огромную букву Х.
Под картой стояли постскриптум «После прочтения сжечь (огнетушитель в отделении для обуви)» и подпись «С любовью, Л.»
– Кошмар какой! – снова донеслось со стороны третьего отряда, и Виталик, разрываемый желанием немедленно обсудить с кем-то, кроме Ленки, только что произошедшее, ринулся к нашему столу.
Сжимая в руке письмо, он так возмущенно тряс им, как будто получил от Лехи не приглашение на посвящение в вожатые, а призыв прийти ночью на сеновал.
– Это вожатское самоубийство, – не зная, к кому конкретно обратиться, Виталик обратился к солонке с забитыми дырочками. – Нас же Нонка убьет!
– Тогда тебе присвоят звание вожатого посмертно, – успокоил его Сережа.
Виталик перестал пугать солонку и медленно повернул к нему голову:
– Так вы что, собираетесь туда идти?!
Все, кроме Женьки, который боялся пауков и лягушек, кивнули и продолжили тыкать вилками в разваренный в кашу рис, а Виталик, беззвучно шевеля губами, еще раз перечитал письмо и уставился в бракованную рощу.
Никогда раньше Виталик не шел против системы. От любой возможности это сделать его оберегала мама, которая воспитывала сына одна и пристально следила за тем, чтобы он вырос настоящим мужчиной. Она даже друзей ему подбирала лично, тщательно изучая перед этим биографии их родителей. Такой подход к его воспитанию Виталику активно не нравился, поэтому уже с восьмилетнего возраста он начал проситься в лагерь, но мама обещала подарить ему путевку только на восемнадцатилетние, да и то, если он будет себя хорошо вести.
Виталик вел себя хорошо, даже отлично, но перед знаменательной датой выяснилось, что отряды из восемнадцатилетних юношей набирают уже не в пионерских лагерях, а в других инстанциях. Перед сыном получалось неудобно, но мама Виталика решила во что бы то ни стало сдержать свое слово и отправить сына в лагерь. Для этого она вошла в тесный контакт с Нонной Михайловной, с которой была знакома через директора автокомбината, и стала ей почти лучшей подругой, подарив лагерю DVD-проектор с коллекцией киноновинок, но Виталика в отряд все равно не брали. Зато брали вожатым, на что мама была вынуждена согласиться с условием, что напарницу она ему подберет сама, тщательно изучив перед этим биографии всех ее родственников.
– Тогда меня убьет Ленка, – проговорил Виталик, смиряясь со своей участью. – Но, черт возьми, я иду с вами!
Приняв судьбоносное решение, Виталик разгладил смятое письмо и уже направился было к своему отряду, но Анька его вернула. Нам еще нужно было нажаловаться на Марадону. На салфетке она нарисовала ручкой сердитый футбольный мяч, а рядом плачущего крокодильчика Lacoste. Снизу написала: «Спасибо, только уйми свой детский сад».
– Передай это Лехе, – попросила Анька, вручая Виталику шифровку. – И удачи тебе, солдат!
Петляя между столами и пригибаясь, словно под перекрестным огнем, но на самом деле стараясь не попасться на глаза Ленке, Виталик невредимым перебежал через весь обеденный зал и вручил донос Лехе.
– Хрен знает что творится, – бросил Виталик, проходя мимо нашего стола и особым образом выделяя нехорошее слово «хрен», – и прямо под носом у директрисы. Что будет, если она узнает?
Но Нонне Михайловне было не до этого. Как стало известно из достоверного источника, разрываемого нетерпением поделиться ценной информацией, со вчерашней ночи по сегодняшний обед включительно директриса мучилась совсем другим вопросом. Когда Виталик становился мужчиной, Нонны Михайловны вообще не было в столовой. В это время она стояла у окна в пустой пионерской и смотрела на Сашкину фотографию. Это было одно из многочисленных фото первого отряда с прошлых смен, где он сидел с напарницей и тридцатью пятнадцатилетними пионерами на широких ступеньках у входа в главный корпус. Здесь он особенно хорошо получился: в красной бейсболке, шортах и расстегнутой рубашке, сквозь которую проглядывает загорелый торс.
– Ну как, как он сможет сделать тебе приятно на официальном открытии смены, где, кроме сдачи рапортов и поднятия флага, ничего происходить не должно? – спросила Нонна Михайловна сама у себя и обернулась на шорох, доносящийся из-за двери. Показалось, наверное. – Девять смен на первом отряде – это, разумеется, не кот чихнул, но ставить такие условия! По-моему, вы, Нонна Михайловна, просто дура.
Монолог самобичевания продолжился и дальше, но Гале нужно было идти на склад за флагом, поэтому чем он закончился, никто не узнал.
– Скорее всего, Сашка придет за вашими детьми, – предположила Галя, провожая нас от столовой на тихий час. – Нонка ведь так любит маленьких детей!
– Дура! – крикнул Вова и схватил Наташу за кофту. – У меня сирень-говорилка, значит, я говорю!
Возле двери в свою палату Наташа резко развернулась и сунула Вове под нос ветку сирени в два раза пышнее.
– У меня такая же!
Сашка забрал обе ветки и поднял их над головой.
– А у меня две, значит, говорю я.
Сверху посыпались белые цветы, два из них упали на обтянутое голубым поло плечо, один застрял в темных волосах.
Вова потянулся за своей сиренью, но не смог достать даже до поднятого вверх локтя.
– Ну если она и правда дура? Сама к нам бегает, а потом вожатым жалуется.
Сашка спрятал сирень за спину и наклонился к Вовиному уху.
– Нельзя допускать, чтобы женщина из-за тебя чувствовала себя дурой, тем более такая красивая.
Наташа не была красивой и знала об этом, поэтому сразу потеряла к Сашке уважение и ушла в палату.
– Даже если сама виновата, – сказал он, не обращая внимания на то, что она ушла. – Это очень обидно. Но если уж так случилось, соверши ради нее поступок.
Чуть не пропустив все самое интересное, к палате девочек подбежал Валерка и заинтересованно уставился на Сашку:
– Какой?
Здесь была необходима пауза секунд десять, и Сашка ее выдержал. Затем встал на одно колено и сказал им с Вовой такое, отчего те сначала испугались, потом обрадовались, а под конец расстроились.
– Не, они не разрешат, – сказал Валерка и показал на нас четверых. – Я уже спрашивал, про пупов не хотят.
Сашка посмотрел на Сережу, который почему-то пошел красными пятнами, затем перевел взгляд на Женьку, вообще не понимающего, что происходит, и встретился глазами с Анькой, которая смотрела на него так восторженно и выглядела при этом так глупо, что Сашка уверенно сказал:
– Разрешат, если в тихий час, который начался пятнадцать минут назад, все будут спать.
Я оказалась в числе воздержавшихся, но последняя ремарка заставила меня согласиться.
– Отлично. – Сашка встал в полный рост и подошел вплотную к Сереже. – Поверь. Мне очень нужны на открытии ваши дети. Нонка так любит маленьких детей.
То, что произошло дальше, называется отложенной ссорой. Так еще бывает в молодых семьях, когда уже очевидно, что обоев на коридор не хватит, но дети еще не уснули. Когда Сашка ушел, наши дети тоже еще не уснули, поэтому Сережа ходил из палаты в палату молча и даже старался улыбаться, но зато, когда уснул последний, стараться он перестал.
На свое спасение Женька надел сегодня белую рубашку в мелкую клетку и удачно слился с планом-сеткой, который висел напротив постера с Вилле Вало, поэтому виноваты во всем случившемся оказались только мы с Анькой. В вину нам ставилось то, что, согласившись участвовать неизвестно в чем, мы подорвали собственный авторитет в глазах детей, да еще и смотрели на этого смазливого балабола как на полубога, тогда как на самом деле он полудурок.
– Да почему полудурок-то? – спрашивала Анька, а я снова не поняла, почему «вы».
– Да потому что он смазливый балабол, и ему из-за этого все можно: приходить в чужой отряд, брать чужих детей, разрешать им орать не пойми что на линейке! Вот! Только посмотрите: у вас все мужики такие! – Сережа ткнул пальцем сначала в плакат с Вилле Вало, потом в книгу стихов Губанова, а затем в окно, где уже никого не было, но на грунтовой площадке отчетливо виднелась дорожка следов.
– Он не смазливый. – Я сначала показала на книгу, а потом на плакат. – А он не балабол.
– Да какая тебе разница, кем мы себя окружаем? – с вызовом спросила Анька. – А я его, может, люблю!
Сережа перестал ходить туда-сюда по вожатской и уставился на нее.
– Как это какая?! У нас с тобой общие дети вообще-то! И что значит… «люблю»?!
Красные пятна стали ярче, у Сережи дернулся нос, и мокрая блестящая дорожка сбежала с виска.
– Стоп, стоп, стоп! – Я встала между ними и уперлась руками обоим в грудь. – Все пустое, все обман. Ну-ка, посмотрели все в аустерлицкое небо, пока не рвануло.
Все, включая Женьку в клеточку, повернулись головы к окну и, щурясь от яркого света, посмотрели в бьющую в глаза звенящую синь. Она была густая, как гуашь, и простиралась от верхушек сосен на востоке до крыши главного корпуса на западе. И только в месте, где пика флагштока буравила синий плат, висело пушистое белое облачко, как будто кто-то вспорол небо гигантской десятиметровой иглой и выпустил из него пузырь синтепона.
– Иисусе, – сказал Женька и перекрестился. – Вы так орете, что небо разверзлось.
Если пойти по лесной дороге и выйти через деревянные ворота за территорию лагеря, а потом долго-долго идти по направлению к шоссе, то рано или поздно можно встретить кого-нибудь из местных жителей. Делать им там нечего, но иногда забредет какой старичок с корзиной грибов и сядет на старой автобусной остановке. Маршрута этого уже давно нет, но остановка осталась. Вот и сидит старичок под навесом – отдыхает в жаркий день. Спросим у него:
– Где прячется солнце, когда его нет на небе?
– Эка загадка! – ответит старичок и обопрется о корявый посох. – В тучах. Али за деревья садится.
– Глупости, – скажут те, кто хоть раз побывал внутри бетонного забора. – Вовсе не там, а где – нам одним ведомо.
Солнце прячется на складе у Бороды в купленном на блошином рынке старинном пиратском сундуке, украшенном драгоценными камнями из натуральной пластмассы. Ждет оно там своего часа, чтобы взмыть в небо и целую смену радовать всех веселыми синими глазками и лучами разной длины. Нескладное оно, потому что нарисовано второпях на обычном листке и по специальному заказу Нонны Михайловны перенесено на голубое полотнище. Это флаг лагеря.
Как зеницу ока хранит Борода сундук, ведь по легенде, им самим придуманной, стоит он целых десять тысяч рублей, а вовсе не двести, как обозначено на чеке, написанном от руки торговцем с блошиного рынка. Но какой толк в сундуке без ключа? Ключ Борода носит на шее и прячет от людских глаз под рыжей бородой. Это тоже легенда. Ключ висит на гвозде под связкой скакалок, и все об этом знают. Да и кому он в самом деле нужен?
– Ответственному вожатому-жатому-жатому! – произнесла Нонна Михайловна в микрофон, и дилей, приобретенный специально для торжественных мероприятий, разнес долгое эхо по всему лагерю. – Приготовиться к поднятию флага-лага-лага!
В платье из голубого гипюра Нонна Михайловна вышла из-за самой высокой трибуны и вручила Виталику ключ от сундука, в котором так долго томилось солнце. Ее выбор знаменосца многие посчитали странным, но подаренные киноновинки нужно было отрабатывать. Вернувшись за трибуну, директриса нацелила на Виталика черную «мыльницу» Kodak и на то, как он идет к своему звездному часу, смотрела уже через узкий объектив пленочного фотоаппарата.
Чеканя шаг и сожалея о том, что его не видит мама, Виталик промаршировал к флагштоку, развернулся к выстроившимся в ровные шеренги отрядам и продемонстрировал всем ключ.
– Открыть сундук-дук-дук! – эхом разнеслось над лагерем.
Виталик опустился на одно колено и вставил ключ в замок, однако тот, к его величайшему изумлению, в такой важный для лагеря день вдруг не захотел открываться. Видя, что происходит некая заминка, директриса снова наклонилась к микрофону и начала тянуть время.
– Сейчас вы увидите главный символ лета-это-это… – говорила она и с тревогой смотрела на то, как Виталик дергает неподдающийся замок, – который свяжет нас крепко-репка-репка…
Виталик от напряжения вспотел, Нонна Михайловна схватила стоящего рядом Сашку за руку.
– Не надо делать мне приятно, – настойчиво попросила она. – Пусть все пройдет хотя бы так, как задумано.
Сашка, который стоял первым в шеренге сдающих рапорт вожатых, не смея нарушить ее же команду «смирно», скосил глаза на испуганную директрису и сказал тихо и на удивление спокойно:
– Не переживайте, Нонна Михайловна, этот символ лета свяжет нас так крепко, что мы до конца смены не развяжемся.
Директриса приложила руку к груди, пикантно подчеркнутой драпировкой из прозрачного гипюра, и повернулась к Лехе. Тому досталась самая низкая трибуна, и со стороны казалось, что он стоит в белом тазике.
– Он же так может сломать его-матьего-матьего, – произнесла Нонна Михайловна, умоляюще глядя на Леху. «Что ты стоишь как пень?» – читалось во всей позе директрисы, делавшей ее похожей на голубой вопросительный знак, точкой в котором была пара тоже голубых туфель.
Вздохнув, Леха вышел из «тазика», чтобы сказать Виталику, что ключ нужно повернуть в другую сторону, только и всего, но – какое счастье – Виталик уже сам обо всем догадался. В следующую секунду крышка сундука отпружинила, стукнулась о флагшток, и один из драгоценных камней из натуральной пластмассы выкатился на центр линейки.
– Лена, ты не поверишь, что здесь! – радостно воскликнул Виталик, заглянув в сундук. – У нас теперь есть твистер!
Нонна Михайловна побледнела. Теперь ей точно придется отправить Сашку на первой электричке. А после того как она не уберегла главную реликвию лагеря – вожатого первого отряда (то есть флаг, конечно же), ей останется только сложить полномочия и уехать отсюда вслед за ним. Но оказалось, что все это было подстроено. Сашкой же.
По придуманной им легенде флаг выкрал четвертый отряд в отместку за то, что его в спешке забыли посадить в автобус на записи. В результате дети были вынуждены добираться до лагеря в чемоданах на колесиках, прицепленных к грузовику с картошкой, следовавшему по нужному им маршруту. (Сразу обратим внимание на то, как все четко продумано, потому что Нонна Михайловна еще не раз попросит это сделать на трех ближайших планерках.)
Чтобы собрать этот четвертый отряд, Сашке и понадобились маленькие дети, которые водились только в четвертом корпусе. Перед торжественной линейкой он рассадил их по чемоданам и спрятал за пустым задником, и когда накал страстей достиг своей вершины, выкатил сцепленный паровозик на линейку.
– Ого! – прокатилось по ровным шеренгам замерших от удивления отрядов.
– Ага! – донеслось из закрытых чемоданов.
– Бог мой, Саша! – вырвалось из груди Нонны Михайловны и утонуло в общем гомоне детей, приветствующих на редкость остросюжетный сценарий открытия смены.
На растянутом в разные стороны полотнище необычайно широко заулыбалось ярко-желтое солнце. Отправить на ближайшей электричке такого ценного и опытного кадра? Возможно ли?
– Ты сделал мне приятно, – говорила директриса, пока Валерка с Вовой крепили флаг с солнцем к тросу флагштока. – То есть детям, конечно же.
После того как вожатые сдали Гале рапорты, а отряды нестройным хором спели отрядные песни, Нонна Михайловна посчитала нужным еще раз сказать Сашке, что ей было так приятно, что она практически испытала множественный катарсис. Но оказалось, что и это еще не все. Четвертый отряд тем временем выстроился вдоль узкой тени флагштока и тоже приготовился к сдаче рапорта.
– Мы пупы! Мы всех пупее! – сиплым голосом крикнул Валерка и салютовал поднятому в небо солнцу.
Не давая Нонне Михайловне возможности хоть как-то отреагировать на это вызвавшее волну смеха безобразие, микрофон забрал Марадона.
– Ха-ха-ха-я смена объявляется открытой-рытой-рытой! – объявил он и мотнул головой так, чтобы челка упала на лоб максимально сексуальным образом.
– Какая смена? – переспросил Леха и заглянул в шпаргалку, которую Марадона вырезал из устава лагеря.
– Ха-ха-ха-я-ха-ха-я-ха-ха-я, – уверенно повторил Марадона. – Здесь так написано-писано-писано.
– Да выключите этот дилей-лей-лей! – попросила Нонна Михайловна и закрыла микрофон рукой.
Раздался шорох, эхо шороха, затем какой-то невыносимо громкий звук, и весь лагерь услышал объяснения Лехи, что это не ха-ха-ха-я смена, а три икса, вместо которых нужно вставить ее порядковый номер. «Балда-да-да».
Последнюю часть сценария Нонна Михайловна предложила прогнать еще раз, уж очень она контрастировала с высокохудожественной первой, но на спонтанно организованной летучке за трибунами было решено этого не делать. Тканая заплатка уже взмыла в дырявое небо, и «ха-ха-ха-я» смена официально считалась открытой.
* * *
– Да ну, не может быть такого, – сказала тетя Люба, нарезая широкими колесами вареную колбасу. – Всегда же нормально все было.
Борода перестал жевать бутерброд и осенил рот крестным знамением.
– Да вот те крест! Стибрил ключ! И когда тута нормально было чаво? В 2003 году, помнишь? Туды и ах!
– Ага, – тетя Люба засмеялась, вздрагивая всем своим грузным телом, – я тогда еще думала, что совсем, а оно ничего.
– А в 82-м? То-то… Ну ты там еще… Н-да…
Борода замолчал, посмотрел в забрызганное жиром окошко пищеблока и часто-часто заморгал. Тетя Люба перестала смеяться, сморщилась, покраснела и начала плакать.
– Ой, дурак старый, – сказала она, досадуя, что голубые тени придется накладывать заново, – разбередил душу. Кто просил? На вот лучше киселя поешь, чего в сухомятку-то.
* * *
По случаю открытия смены вечером в главном корпусе должна была состояться праздничная дискотека. В женских палатах активно укорачивались юбки, в мужских рекой лилась туалетная вода Cigar. В нашем корпусе девочки из обоих отрядов в ожидании чуда расселись в игровой вокруг своей феи-крестной.
Наша фея громким шепотом материлась, смешно кричала «Иисусе!» и курила Esse с ментолом, что своими глазами видела за корпусом Наташа, но за возможность потрогать разноцветные баночки фее-крестной прощали даже то, что она была двадцатилетним парнем.
Затаив дыхание, все смотрели, как Женька раскатывает на мате свои органайзеры с кисточками, раскладывает трехэтажные боксы с баночками и высыпает прямо из сумки блестящие тубы с тушью и помадами. Обычно все это было сложено аккуратно, но вчера второпях пришлось побросать, поэтому тубы рассыпались.
Через минуту опустевшая сумка шмякнулась в угол и выпустила из расстегнутого зева ароматное блестящее облако.
– Можно, – сказал Женька и закатал рукава рубашки Baumler. – Кто первый?
Чтобы сразу же разгоревшийся конфликт не перерос в массовую драку, мы с Анькой согласились быть последними и залезли на подоконник. Ждать очереди здесь было не так скучно, но, как оказалось, не так и весело.
– Марадона, – сказала Анька и ткнула пальцем в стекло. – Когда он отвяжется уже?
Марадона стоял перед нашими кустами сирени и, используя все возможности своего роста, пытался заглянуть в окна второго этажа. Этих возможностей ему явно не хватало, поэтому, увидев нас, Марадона замахал руками и снова задал вопрос про накрашенного.
– Нет его! – ответила я.
Марадона посмотрел на часы и сел на скамейку под фонарем. Сейчас бы очень пригодился Сережа, но он вел себя настолько плохо перед открытием смены, что был отправлен с мальчиками на стадион гонять мяч.
– Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, – считал тем временем Женька. – Шестнадцать. Одной не хватает!
– Кого, девочек? – испугалась Анька.
Не хватало кисточек. У Женьки пропала веерная кисть для нанесения сухого хайлайтера. В России таким еще не пользовались, но у себя на родине Ив Сен-Лоран ввел его в обиход еще в 1991 году, поэтому, пока нашу страну путчило, вся Франция уже сияла скулами ярче, чем Эйфелева башня в новогоднюю ночь.
– Эта, что ли? – Наташа достала из кармана джинсовки нужную кисточку и протянула ее Женьке. – Мы ей гусям лапы рисовали.
– Хорошо, что не забор красили, – сказал он и опустил кисточку в баночку с хайлайтером. – Здесь, здесь и здесь.
Пальцем Женька обозначил на Наташином лице зоны нанесения хайлайтера и попросил добавить света. Свет должен был быть обязательно дневным, поэтому с подоконника пришлось слезть.
– Слушай, – Анька села рядом с девочками на мат и подняла первую попавшуюся баночку, – а фингал вот этим закрасить можно? Так, чтобы совсем не было видно?
Не поднимая головы от лица Наташи, Женька взглянул на то, что показывала Анька.
– Глиттером? Вряд ли. Если только консилером. Но у меня его нет.
– Жаль, – сказала Анька и положила баночку на место. – А если кровоподтек вот здесь? – Она показала себе на лоб, затем подумала и показала еще и на нос. – И здесь распухло?
Женька поднял голову.
– Это Guerlain, – с придыханием сказал он, и все девочки тоже в голос вздохнули. – Им не замазывают кровоподтеки. Это вульгарно. Парфюмерный дом Guerlain был образован в 1828 году. Сначала он существовал как аптечный магазин…
Мы с Анькой тоже в нужных местах вздыхали и, глядя на маячившего за окном Марадону, думали, где будем брать мне нового напарника.
– Скандал! – крикнул вдруг Женька, и все от неожиданности подпрыгнули. – Натуральный блонд – и карие глаза! Тебя на любом кастинге оторвут с руками!
На стуле перед зеркалом оказалась Лиза, девочка из Анькиного отряда, у которой был брат-близнец Антон.
– Эльфийка! Здесь ничего делать нельзя! Вообще ничего!
Лизе хотелось, чтобы с ней тоже что-то сделали, поэтому, чтобы она не обиделась, Женька попросил передать ему шиммер.
– Это что-то типа шпателя? – Я достала из кучи инструментов что-то типа шпателя, но это оказался керлер, а шиммер выглядел как праймер, но, в отличие от него, был в черной баночке и использовался для придания коже сияния, а не матовости. И как я могла дожить до двадцати лет и не знать таких простых вещей, одному Иисусу было известно.
– Может, ты на корпусе дежурным останешься? – выслушав все это, предложила Анька. – Раз консилера нет.
Женька связи не понял и, томно улыбнувшись, махнул на нее дуофиброй. У нас была неправильная фея-крестная. На дискотеку она хотела больше всех.
Уровень качества дискотеки в лагере определяется только одним критерием – количеством темных углов в зале, а вовсе не наличием юпитера, цветомузыки и дымной установки, как думала Нонна Михайловна, когда просила Леху купить все это на Митинском радиорынке.
Когда он туда съездил и Борода, трясясь от ужаса под The Prodigy, все это установил, дискотека вопреки ожиданиям Нонны Михайловны перестала быть такой популярной, как раньше. Старшим отрядам стало неинтересно приобщаться к современной музыкальной культуре в условиях, когда все другие их интересы оказались видны, как при свете дня.
Больше всех расстроилась Лола Викторовна: уходит в прошлое романтика танцплощадок, не вернутся в душный зал вальсирующие пары. Но три года назад произошло событие, следствием которого стал новый виток популяризации музыкальной культуры. Прямо во время проведения очередной дискотеки, куда пришли только младшие отряды, во всем главном корпусе вышибло пробки. Еще бы: прожекторы по пятьсот ватт и «Я люблю тебя, Дима» на сто десять децибел. Обесточило весь лагерь и ближайший населенный пункт, а кто-то даже говорил, что на Ярославском направлении встали электрички.
Впоследствии Борода утверждал, что объяснения этому нет, потому что он сам все устанавливал, а он электрик шестого разряда и на БАМе кабеля тянул, но про себя решил, что чайник в подсобке был все-таки лишним. Нонну Михайловну такое отношение к работе не устроило, и она уже была готова лишить Бороду премии, как вдруг в темный зал вернулись вальсирующие пары из старших отрядов и наполнили темные углы романтикой танцплощадок. Никого даже не смутило, что музыки нет.
– И окно занавесьте, – сказала маленькая Наташа, ковыряя в носу.
С тех пор, чтобы не спровоцировать новые эпизоды обесточивания части города и снижения интереса к современной музыке, из купленных Лехой установок включали что-то одно либо вообще гасили свет минутки на три, пока глаза отдыхают и чайник кипит. Окно по просьбе Наташи занавесили, и зал, который представлял собой широкий коридор с шестью облупившимися колоннами и маками из цветной бумаги на стенах, превратился в идеальное место для романтических встреч.
– Здесь же можно совершить убийство, и никто не узнает, – сказала Анька и схватила меня за рукав джинсовки.
Вокруг прыгала толпа детей, в которой легко можно было потеряться, и только тонкий квадрат света по периметру покрывала, которым занавесили окно, служил ориентиром для выхода из зала. Во вспышках цветомузыки загорались красные маки, в ультрафиолете голубым светом сияла майка-алкоголичка Марадоны.
– Где накрашенный? – спросил он, стараясь перекричать Черникову. – Красится?
– Ха-ха-ха! – ответила Анька королю каламбуров и отвела меня в сторону. – Неужели Леха забыл?
– Или не понял. Не могла нормально написать? Зачем эти ребусы?
Женьки действительно еще не было. Он сказал, что задержится, потому что ему нужно убрать все в игровой, и зачем-то притащил туда зеркало с подсветкой. Этот важный нюанс наталкивал на мысль, что Марадона, возможно, прав, и готовящееся убийство теперь обретало очевидный мотив.
– Тихо! – сказала Анька, что казалось странным, учитывая, что мы были на дискотеке, но в перерыве между песнями за дверью в холле послышались шаги. – Кажется, наша лягушонка приехала.
В следующую секунду пол задрожал от басов, дверь распахнулась, и наша лягушонка вошла в зал. О том, что это именно Женька, а не Шура в искусственной шубе, как сказал потом Леха, говорило только наличие всех зубов, которые сияли голубым светом, как и алкоголичка Марадоны. Сияло вообще все: джинсы с талией такой низкой, что трусов еще не видно, но вопрос, есть ли они вообще, уже возникает, белое поло с дорожкой из страз. Но ярче всего, туды и ах, сиял хайлайтер на скулах.
– И-и-сусе! – радостно воскликнул Женька и тут же в обнимку с Марадоной улетел в ближний темный угол.
Их не было мучительных двадцать секунд, за которые мы успели усомниться в Лехиной понятливости и своей стрессоустойчивости. Но Леха работал в лагере далеко не первый год и был специалистом по шифровкам и мелкому шантажу, который он и применил в отношении Марадоны, чтобы тот отстал от Женьки и его сияющих скул раз и навсегда.
Спустя обозначенные двадцать секунд Женька вышел из угла живой и невредимый. После недолгих препирательств он рассказал нам, что Марадона тоже вдруг озаботился своей внешностью, что вполне нормально для современного парня, и попросил у Женьки как у профессионала самого высокого уровня шампунь от выпадения волос, чтобы они и дальше падали сексуальным образом на лоб, а не на пол, как стало происходить в последнее время. В обмен на сохранение какой-то его тайны, это посоветовал сделать Леха, причем как можно быстрее, пока с Марадоной не случилась та же беда, что и с ним.
Просьба Марадоны была большим секретом, но Женька поделился им с нами, потому что, во-первых, бесконечно нам доверял, а во-вторых, не хотел, чтобы в Анькиной руке, которой она держала его за поло, осталась половина страз Swarovski. Чужие секреты мы уважали, поэтому о проблеме Марадоны не узнал никто, кроме Гали, да и то только потому, что она очень просила.
После горна на отбой в соседней с Валеркиной палате никак не мог уснуть Антон, брат-близнец Лизы, эльфийская внешность которой так поразила Женьку. Из его окна был виден ствол старой сосны. В свете луны рыжий ствол казался фиолетовым, и тень от него делила палату ровно пополам.
– У тети Моти четыре сына, четыре сына у тети Моти, – шептал Антон, качаясь на шуршащем панцире. – Они не ели, они не спали, они все делали не так.
– Тебе понравилась отрядная песня? – Я села рядом и увидела в его тумбочке открытую пачку чипсов. – Она как будто про вас.
Антон проследил мой взгляд и ногой захлопнул дверцу тумбочки. Он был похож на Лизу. Такой же скуластый коротконосый эльф, только с темными волосами.
– Да ладно, – я демонстративно отвернулась, – вам пока можно делать все не так.
– А в каком возрасте уже нельзя? – спросил Антон. – Ты все делаешь так?
– Стараюсь. И вы должны стараться. – Я все-таки забрала чипсы из его тумбочки. – Завтра возьмешь в вожатской после завтрака. Посторонняя еда – только после посещения столовой. Тогда мы с тобой все сделаем так.
Антон угукнул и показал на мою одежду – джинсы и куртку:
– Ты ночью куда-то собираешься?
Немного подумав, я вернула пакет. В нарушение правил устава, запрещающих отлучаться куда бы то ни было ночью из корпуса, я куда-то собиралась.
Ночь была лунная, звездная. Тропинка, ведущая к незабудковой поляне, и все, что находилось по обе стороны от нее, теперь выглядели совсем не так, как днем. Листья седой полыни искрились, словно были покрыты не пушком, а инеем. Можно было подумать, что на улице не середина июня, а ноябрь. Полынь пахла так навязчиво, что все другие травы, оказавшиеся много ниже нее, не имели никакой возможности предложить что-либо более яркое. Горечь полыни оседала на тропинке в каплях вечерней росы.
Тонкие стебельки незабудок в темноте совсем не были видны. Казалось, что мелкие синие цветки парят над поляной бирюзовой взвесью и ночной ветер вот-вот сдует их и унесет за сосны этот голубой ковер-самолет.
Ручей, днем еле слышный, ночью превращался в бурный поток и, злясь на умиротворенность ночи, чуждую его беспокойной природе, с грохотом обрушивал с холма под дощатый мостик свои воды с растворенным в них лунным светом. Где еще такое увидишь?
К сожалению, всей этой красоты мы не увидели тоже. Перед нашим уходом, следуя Лехиным инструкциям, Женька сжег в туалете карту, решив, что до склада мы и так доберемся, а там спросим дорогу у прохожих.
– Или попутку поймаем, – серьезно сказала Анька, смутно догадываясь, что представители надзвездного мира гламура вряд ли когда-либо бывали ночью в лесу.
Шли без карты, полагаясь исключительно на свою память. Поскольку память была короткая, а дорога длинная, мы решили срезать и пойти не по петляющей тропинке, а по ровной лесной дороге, но, дойдя до деревянных ворот, поняли, что срезали слишком круто и не в ту сторону.
Чертыхнувшись, Анька пожелала Женьке провалиться на первый этаж в крайнюю палату, где был склад сломанных кроватей, беспорядочно наваленных друг на друга железными ножками вверх, и в бессилии опустилась на земляную кочку. Рядом сел Сережа и выключил фонарик. Сейчас свет был не нужен, и, учитывая неопределенность ситуации, в которой мы оказались, батарейки можно было поберечь. Но света меньше не стало.
Втроем мы сидели в белом круге, а источник света – белая точка, за которой ничего не было видно, находился в беседке у ворот. Обнаруженный круг стал удаляться и уменьшаться, а после того как осветил черные берцы своего хозяина, вовсе исчез.
По официальной версии, мы гуляли, а потом как-то незаметно стемнело, и вроде как уже пора в корпус, но мы немного подзабыли, где он, собственно говоря, находится. Внимательно всех выслушав, Ринат снова включил фонарик и посветил на тропинку вдоль забора.
– Если по ней пойдем, то выйдем к посадочным огням. Я провожу. Леха на тропе светосигнальное оборудование установил, чтобы никто не заблудился, но, наверное, надо было ставить больше.
Согласившись с тем, что светосигнальное оборудование – это хорошая идея, так как уличное освещение в этой стороне почему-то отсутствует полностью, мы построились в колонну по двое и двинулись в указанном направлении. Совсем скоро в траве между деревьями замигали желтые огни. Это горели помещенные в тридцать граненых стаканов свечи. Стаканы были расставлены в форме девятки, хвост которой указывал на тропинку. По ней мы должны были бы прийти на место, если бы Женька не сжег карту. Убедившись, что оставшиеся два метра мы преодолеем сами, Ринат стал прощаться.
– Ты разве не останешься? – спросила я.
– У меня обход сейчас. Но потом, если ты попросишь, могу прийти. Будешь ждать?
Я дважды моргнула, соображая, как ответить, чтобы ему не было ужас как приятно, но он при этом остался, и ничего не придумала.
– Без этого никак?
– Не-а.
Не дождавшись нужного ему ответа, Ринат включил фонарик и, что-то насвистывая, ушел в лес.
За мигающей девяткой под одной из трех елок, точь-в-точь таких же скособоченных, какими их нарисовал Леха, сидел Борода и плел венок из клевера. Увидев нас, он не прервал своего странного занятия и продолжил рассказ о том, как вчера в ларьке какие-то изверги продали ему просроченную краковскую, после чего ему сначала пришлось бежать к Пилюлькину за бесалолом, а потом к тете Любе за колбасой, которой невозможно отравиться.
Его слушатели Леха, Марадона, Сашка, Виталик, Эдуард и Галя – все как один осуждающе качали головами и подбрасывали в костер тонкие ветки. Костер и так был слишком большим для такой компании, но Лехе нравилось, когда от костра летят искры. Это создавало нужную атмосферу.
Жар согнал с бревна Сашку. Он поднял с земли один из приготовленных букетов и подсел с ним к Бороде. Теперь они венки плели вдвоем.
– Индеец Джо тоже вчера отличился, – беззлобно сказал Леха. – Я ему говорю: «Зачем вчера ржал на козырьке? Еремей Распрягальник же сегодня!»
Все посмеялись, но было похоже, что Леха повторил шутку специально для нас.
– Садитесь, – сказал он уже более серьезным тоном и показал на свободное бревно. – Теперь, когда все в сборе, можно приступить к основной части программы.
В костре затрещали ветки, взметнулся столп искр. Несмотря на жар, Леха подошел ближе. Лысая голова заблестела, крупные морщины перерезали лоб. Ему не терпелось рассказать что-то очень важное.
– Задам-ка я вам один вопрос, мальчики и девочки, – сказал он, обращаясь ко всем сразу. – Чего сейчас так просит ваша юная душа, чего вы жаждете больше всего прочего? Чего вам не хватает?
– Пива! – крикнул Марадона.
– Ума побольше! – проревел Борода и бросил на Марадону гневный взгляд.
Сашка отложил в сторону готовый венок и взял букет для нового.
– Любви, – озвучил он уже известный ему ответ.
– Любовь, – Леха сделал паузу и медленно пошел вокруг костра. – Любовь дает крылья. Это неиссякаемый источник нашего счастья и страданий: невозможно вкусить одно, не изведав другого. Глупый стремится избежать мучений, урвать свое счастье и сбежать с ним, как последний вор. И только умный понимает, что, мучаясь от любви, он обретает настоящее сокровище. Да сами мучения эти и есть наивысшее счастье. Поэтому мучайтесь, друзья мои, в свое удовольствие! А чтобы процесс пошел быстрее, ведь у нас всего двадцать дней впереди, расскажу я вам одну историю.
Давным-давно в одну из летних смен стояли на первом отряде двое вожатых – Иван да Марья. Любили они друг друга до умопомрачения всегда и везде, что, как известно, является грубым нарушением устава лагеря и санитарно-гигиенических норм. Сварливая Нонка позавидовала их юности и пылкости и решила наказать Ивана да Марью. Наказание она выбрала страшное: поставила их на разные отряды и в напарники дала людей скучных и искусству любви не обученных.
Загрустили Иван да Марья, но не отчаялись, а стали встречаться тайком за вторым корпусом, где и застукала их как-то в тихий час Нонка целующимися. Придя в бешенство от такой неслыханной наглости, она топнула каблуком, хлопнула в ладоши и превратила их в деревья – клен да рябину. Туго сплелись их ветки, корни глубоко проросли друг в друга, и стали они одним деревом – Деревом любви. Теперь это лагерный тотем, который обладает приворотной силой: если прийти к нему на закате, положить к корням что-нибудь вкусное и трижды назвать имя любимого, то вскоре все у вас будет в абажуре.
– Да не может быть такого, – сказал Виталик, выслушав историю. – Что, вот прямо целовались за корпусом? В тихий час?
Борода снова метнул гневный взгляд, теперь уже на Виталика, и подошел к костру.
– Очень даже может, – серьезно и почему-то печально сказал он. – Тут давеча такая дрянь случилася. Жили себе двое вожатых, никого не трогали. Ну обжималися, пока никто не видит, – дело ж молодое. А тут эта Нонка все испортила: превратила их в старого сантехника и толстую повариху. – С досады Борода сплюнул в костер, а затем мечтательно посмотрел в небо. – Но любить друг друга до умопомрачения всегда и везде они и после этого не перестали.
– Да не может быть такого, – снова сказал Виталик. – Ты был вожатым?!
Леха подошел к Виталику и помог ему встать с бревна.
– А ты точно знаешь: чего быть не может, а что может? Пойдем посвятимся. Пора.
Обряд посвящения проходил в девятке из свечек. Эта цифра не имела сакрального смысла, да и не цифра это была вовсе, а просто круг с хвостиком. В центр круга должны были встать мы, а хвостик, плавно изгибаясь, указывал на тропинку, по которой можно было дойти до склада. И все же в круг вошли девять. Бывший вожатый Борода это сделать отказался, но в посвящении принял активное участие: обошел всех по очереди и каждому надел венок, а тем, кто пришел без напарника, но такового имел, еще один дал в руки.
Повторяя слова за Лехой, мы произнесли клятву вожатых. Она была короче, чем легенда об Иване да Марье, но тем, кто никогда не был приглашен в круг из граненых стаканов, знать ее ни к чему, хотя на самом деле там ничего секретного не было. В первой части клятвы мы пообещали работать во благо детей, а во второй – неожиданно для себя поклялись в любви и верности своему напарнику.
– А теперь посмотрите туда, – придерживая на вспотевшей голове венок, Леха указал пальцем наверх. – Что вы там видите?
Над нами было ночное небо, в которое упирались верхушки берез. Каждая из них, не успевая за порывами ветра, наклонялась в свою сторону. Листья на нижних ветках казались рыжими от костра, а ближе к верхушкам зеленели и темнели. Над головами хлопьями кружился белый пепел.
– Та самая роща из столовой! – узнала я.
Леха кивнул:
– Как только поймете, что любите, приходите к Дереву, не тяните.
День 3-й
Около восьми часов утра, когда мы с Анькой, разбуженные летним солнцем и отсутствием нормальных штор, сидя на моей кровати, примеряли венки, выяснилось страшное. Вернее, оно не выяснилось, а еще раз подтвердилось. Женька страдал каким-то аутоиммунным заболеванием, которое привело к снижению его умственных способностей. Анька выразилась иначе, но смысл тот же.
– Когда вы вчера с Сережей пошли за гитарой, – сказала она за минуту до своего открытия, – я спросила у Лехи, что он такого сказал Марадоне, чтобы тот от Женьки отстал. И знаешь, что он ответил? «Я, – говорит, – сказал, что если он не отстанет, то расскажу всем, какая у него настоящая фамилия». Наш Леха – мелкий шантажист!
– И какая же у него фамилия? Неужели Похахуйло? – Женькин венок мне понравился больше, поэтому, пока он не видит, я с ним поменялась. – Давай с венками на завтрак пойдем?
– А давай! – Анька залезла с ногами на мою кровать. – Я тоже об этом спросила, и Леха почти раскололся: нашептал что-то неразборчиво. Все же так кричали, когда эта береза загорелась. Еще Борода со своими частушками… «Подотри что?» – говорю. А он мне: «Не подотри, а подопри. И вообще это секрет». Как тебе?
Я сняла с головы Женькин венок и стала разглядывать мелкие белые звездочки. Вопрос о том, какая фамилия у Марадоны, был важным, но то, что венки с ночи не завяли и белые звездочки на до сих пор упругих стебельках торчали в разные стороны, занимало не меньше.
– А это что такое? – неожиданно серьезно спросила Анька.
– Не знаю. Какая-нибудь куриная слепота. Тебе тоже кажется странным, что они не вянут?
– Да не это. Там!
Анька подошла к плану-сетке и ткнула пальцем в сегодняшнее число, где черным маркером кто-то зачеркнул футбол между вожатыми и первым отрядом, а вместо него красивым почерком с вензелями написал: «Мисс лагеря». На столе обнаружились список всего, что нужно подготовить к конкурсу, вопросы к викторине и сценарий полноценного концерта. Все это могло означать только одно.
– Он со своими кисточками совсем с реек съехал, – заключила Анька и стала торопливо натягивать джинсы. – Он не понимает, что теперь вместо того, чтобы часик посидеть на стадионе, нам нужно готовить целый концерт? Когда? Где мы найдем столько времени?
Анька сорвала с головы венок, дважды деранула щеткой рыжие кудри, влезла в какой-то электризующийся свитер и горящим факелом выскочила в коридор.
– Подожди меня! – крикнула я, выбегая за ней с Женькиным венком в руках. – Он же не был на посвящении! Сначала нужно создать нужную атмосферу!
Ворвавшись в их с Сережей вожатскую, Анька вытащила Женьку из-под одеяла и схватила двумя руками за майку.
– Ты совсем с реек съехал?! Здесь пионерский лагерь, а не кастинговое агентство! Их нужно не только накрасить! Там песни, танцы. Кто всем этим будет заниматься? И когда?
Вывалив все это на еще спящего, но теперь уже сидя, Женьку, она сунула ему под нос список вопросов и сценарий к конкурсу:
– Это твое?
– Мое, – ответил Женька, не открывая глаз.
– Откуда?
– Оттуда.
– Оттуда?! – всплеснула руками Анька.
Не зная, что еще сказать, она заметалась по вожатской, но над спящим лагерем уже ревел слон. В коридоре все немедленно ожило и пришло в движение. В палате напротив заорал Валерка, кто-то заплакал, в открытую дверь влетел тапок. Погрозив кому-то кулаком на прощанье, Анька пошла со всем этим разбираться. Женька открыл глаза и взял из моих рук венок.
– Это что такое? – спросил он, разглядывая розовый клевер и тимофеевку.
– Ты теперь вожатый, – с придыханием ответила я. – Там было так красиво, пока береза не сгорела и Борода в костер не упал. Такая атмосфера! Слушай, а ты знал, что значит «тушить костер по-пионерски»?
– Да не это. Там! – Женька кивнул в коридор. – Сказал же, все сделаю. Целый час будет, пока все на кружках.
Последнюю фразу он повторил за Нонной Михайловной. Вчера на планерке, после того как все в подробностях обсудили предстоящий футбольный матч и пришли к соглашению, с каким примерно счетом его следует проиграть, чтобы Сашкины пионеры не устроили драку на трибунах, у Маринки сломался ноготь.
«Катастрофа!» – крикнула она и показала всем кусок красного ногтя, увенчанный двумя голубыми стразами. Но на планерке был Женька, а у Женьки с собой была стеклянная пилка с хрустальным напылением, которая вместе с ножницами для кутикулы и дуофиброй всегда лежала у него в кармане. Как настоящий мужчина он незамедлительно предложил Маринке помощь, которую и оказал прямо в пионерской на глазах у всех собравшихся.
Увидев этот перформанс, Нонна Михайловна пришла в некоторое замешательство, но, чтобы привести в чувство Марадону, которому вдруг стало нехорошо, отшутилась: мол, это, конечно, странно, но зато за конкурс красоты она теперь может не волноваться. «Да хоть завтра!» – сказал Женька, убирая в карман хрустальную пилку.
Нонне Михайловне такое предложение понравилось. Весной в актовом зале был проведен капитальный ремонт – Борода покрасил сцену, и директрисе не терпелось ее опробовать.
После этого плохо стало Ленке, потому что она тоже не знала, как можно за такое короткое время подготовить целый концерт. Да еще и Виталик по поручению Нонны Михайловны всю ночь отправлялся в лес за дровами для костра. «У вас целый час будет, когда всех разведете по кружкам», – сказала на это Нонна Михайловна и выдала первый экземпляр сценария Ленке, у которой кружки по времени стояли после концерта.
– Так что нам, получается, еще повезло? – подал голос Сережа с соседней кровати.
– Сказал же, сделаю, – зевнув, ответил Женька. – Быстренько отведем всех на кружки и займемся.
Кружководы украли у нас десять минут. Гриб, к которому мы с двумя отрядами примчались сразу с завтрака, оказался заперт, хотя часы показывали точно обозначенное в Женькином блокноте время. Но на двери висела обнадеживающая записка: «Скоро буду».
– Я же говорила, не успеем! – Анька почему-то налетела на Женьку, как будто это он был виноват в том, что Глина Глинична отлучилась.
Преподавателя по керамике звали Галина Ильинична, но прозвище так прочно приклеилось к ней, что никто по-другому ее уже не называл. Когда примерно это произошло, неизвестно, как неизвестно было и то, сколько ей лет и как она выглядит.
Глина Глинична не пряталась, но одевалась очень странно: носила сразу два вязаных чепца и даже летом куталась в шали. Все это она надевала не потому, что ей было холодно. Никакие заколки не могли удержать ее длинные и густые волосы в прическе, и после того как однажды в творческом порыве Глина Глинична намотала их на гончарный круг и упала лицом в глиняный колокольчик, чепцы стали ее единственным спасением.
Обычно она носила один чепец, но Глина Глинична была так рассеянна, что часто поверх него надевала второй, а иногда и третий. Она вязала их сама, как и шали, которых на ней тоже могло оказаться сразу три штуки. Все это скрывало не только ее внешность и возраст, но и часто ставило под сомнение, есть ли она под этими слоями одежды вообще.
Перед занятием Глина Глинична понесла на кружок по выжиганию термос с ромашковым чаем. Она всегда так делала, а записку оставляла на случай непредвиденных обстоятельств, которые могли бы ее задержать. Сегодня таковые как раз сложились. Анатолий Палыч, кружковод по выжиганию, тоже отлучился, но не в какое-нибудь из соседних строений, а вообще из лагеря, о чем сообщил ей в записке, оставленной на столе вместе со вчерашним номером «Красной звезды».
Взяв в руки газету, Глина Глинична опустилась на стул и пробежала глазами заголовки. Судя по всему, коммунисты, самым идейным из которых был Анатолий Палыч, не смогли протащить в первом чтении закон о военных пенсиях, от чего больше всех пострадала лучшая прослойка населения России и Анатолий Палыч лично. Организация митинга перед зданием правительства давно входила в его планы, но не это заставило его отлучиться из лагеря. Причина была оговорена в записке, которую Глина Глинична решила прочитать по дороге, так как поняла, что уже опаздывает.
– О, вот этого товарища я знаю! – объявила она, когда путь ей на желтой петле тропинки преградил Валерка. – Он у меня в прошлом году пуговицу слепил размером с тарелку, пришил ее к куртке своего вожатого, а потом пристегнул ее к рваному покрывалу. Они потом долго не могли понять, на чем все держится. Но сначала этого никто не понимает. – Глина Глинична погладила Валерку по голове и махнула шалью, как крылом. – В этом году опять ко мне записался. Так что смотрите внимательнее, что надеваете.
Валерка топнул ногой, и под подошвой его кроссовки в муках погиб голубой кустик незабудок.
– Ну вот зачем вы рассказали? – сказал он. – Им же теперь неинтересно будет.
Глина Глинична засмеялась. Смех у нее был необычный: как будто в пустом кувшине прыгают и бьются о стенки глиняные шарики.
– Я смотрю, у вас еще список на выжигание с собой. Вам теперь, наверное, интересно, хорошо ли охраняются выжигатели? – Глиняные шарики снова запрыгали в пустом кувшине.
– И где ближайший ожоговый центр, – серьезно сказал Женька.
– За это не переживайте. Анатолий Палыч за ними хорошо следит, – Глина Глинична вдруг погрустнела. – Но выжигания сегодня не будет. Он срочно уехал по семейным обстоятельствам, и я боюсь, что это затянется. Эта его Оленька… Представляете, он оставил ей некоторую сумму денег, чтобы она за три месяца оплатила взносы в Союз советских офицеров, пока он здесь будет все лето от телевизора отдыхать. Смешная… Я же ей сказала, что у нас телевизор есть. Здесь же пионерский лагерь, а не зона отчуждения. А она на эти деньги купила ему болгарскую дубленку. Так еще и вызвала его отсюда, чтобы он ее померил, потому что вернуть ее можно только в течение трех дней, после которых эти развалы обычно закрывает милиция. Вот, посмотрите сами.
Глина Глинична показала записку и тут же сунула ее в карман длинной юбки.
– Разведутся, наверное, – вздохнула она. – Сына жалко.
Сыну Анатолия Палыча было под сорок, и он уже сам был дважды разведен, но Глина Глинична все равно расстроилась.
– Так что сегодня сдавайте всех мне, а сами посидите вот здесь, на полянке.
Расправив шали, она обняла стайку девочек и повела их к деревянным ступенькам.
– Молотки только для отбивания мяса не лепите там! – крикнул им Женька и, дождавшись, когда за Вовой закроется деревянная дверь, опустился на нижнюю ступеньку крыльца.
Оглушенные наступившей вдруг тишиной, в которой стал медленно нарастать стрекот кузнечиков, мы сели в траву напротив и уткнулись носами в голые колени.
– Давайте тогда начнем с викторины, – предложил Сережа, разворачивая огромную простыню сценария. – Времени немного, но, думаю, успеем. Как звали первую женщину?
– Чью? Мою? – шепотом спросил Женька.
Я крепче обняла колени и закатилась смехом:
– Аграфена! Женькину первую женщину звали Аграфена. Или Авдотья!
– Авдотья! – завизжала Анька.
Сережа потряс списком вопросов, и это тоже показалось смешным. На наших головах были венки, по-прежнему свежие, как будто их сплели только что, и вид Сережа имел откровенно дурацкий: с венком, в очках и с ручкой.
– Ева ее звали, – сказал он и подписал ответ в списке вопросов. – Первую женщину звали Ева.
– Ева, – мечтательно протянула Анька. – Странно, что Марья превратилась в рябину, а не в яблоню.
Вспомнив, что Женька вчера с нами не ходил, Анька развернулась к нему:
– Ой, мы же не рассказали тебе легенду о Дереве любви. Вдруг тебе тоже пригодится?
Женька нехотя разлепил глаза и сделал вид, что слушает, но ближе к трагическому финалу веки его снова склеились, а по Сережиным щекам стал расползаться румянец гнева.
– Как можно верить во всю эту чушь? – сказал Сережа с улыбкой, как будто это для него было совсем неважным. – По двадцать лет людям. Это же сказка для детей.
– Это не чушь! – отрезала Анька и ткнула в Сережу пальцем. – И лично я пойду туда сегодня же и скажу его имя. И если Дерево сработает, а оно сработает, то мне бы не хотелось, чтобы ты каждый раз начинал читать мне лекции о морали и нравственности. И не надо сидеть здесь таким букой!
От этих слов Сережа дернулся как от удара током. Его венок упал в незабудки и ощетинился упругими ежиками тимофеевки.
– Мне почему-то тоже кажется, что это не чушь, – сказала я и водрузила венок на место. – Не могут сорванные цветы так долго оставаться свежими. Может, оно и правда волшебное. Заодно и проверим. Что там еще, кроме викторины?
Невидящим взглядом Сережа уставился в простыню сценария. Как обычно описывают такие состояния в романах, скорее всего, ему нестерпимо захотелось лечь в траву, чтобы земля поглотила его и он навсегда исчез с ее поверхности. Но земля была тверда как камень, в руках дрожал сценарий, а за дверью Гриба находились тридцать четыре вверенных нам ребенка.
– Прическа подружке, танец и песня, – произнес Сережа одними губами. – Песня, в которой упоминается женское имя.
– А есть песня про Авдотью? – серьезно спросила Анька.
– Нет, – так же серьезно ответила я. – Но я знаю другую песню, где упоминается женское имя. «Тетя Мотя» называется.
В приступе смеха Анька мотнула головой, и рыжий пожар ее волос взметнулся вверх, на мгновение бросив на лицо Сережи тень.
– Я люблю тебя, – все еще невидяще прошептал Сережа, но мне показалось, что мне это показалось, Женька уснул, а Анька вообще его не поняла.
– Да! – снова захохотала она. – «Я люблю тебя, Марина!» Отличная песня! Современная, главное.
В тихий час, когда Женька закрылся с двумя конкурсантками в игровой и тишину в пахнущем карболкой коридоре нарушали только его приглушенные повизгивания вроде «Нюд!» и «Скандал!», мы с Анькой, аккуратно переступая через черные петли проводов от трех его плоек, пошли инспектировать чилаут.
Назвать так третью вожатскую придумала Анька. Фактически это была единственная комната, которую никто никогда не досматривал: ни Нонка на обходах, ни Пилюлькин со своими шмонами на предмет запрещенной в корпусах еды и электроприборов. За этой дверью, запертой снаружи, но на самом деле – изнутри, можно было нарушать любые «нельзя», даже самые наказуемые. Даже если называть единорога лошадью, никто и слова не скажет. Но это оказалось единственным ее достоинством.
Внутри чилаута ничего особенного не было: нежилая, пыльная, казенная, с желтыми шторами из дешевого шелка, на правой – затяжки от ржавого вентиля. На столе возле двух граненых стаканов – стопка чистого белья, на панцирной кровати – перьевая с сизым уголком подушка.
Когда мы вошли, комната показалась непривычно пустой. Здесь была всего одна кровать, а у стены напротив – только четыре продавленные дырки в линолеуме. Из санузла пахло половой тряпкой и лавандовым мылом.
Притворив дверь, Анька смело прошагала к столу, села на один из двух стульев и сложила руки на груди.
– Ну и как мне затащить сюда Сашку?
Она задала этот вопрос таким бодрым голосом, как будто собиралась на пикник и не знала, как донести до поляны четыре килограмма мяса.
Я молча села на соседний стул и коснулась жесткой выбеленной простыни. С самого начала было понятно, зачем Аньке эта комната, но к такому вопросу я оказалась не готова.
– Можно подумать, я специалист по затаскиванию Сашек в чилауты. Да и вообще: здесь, в этой затхлой комнате с дырками от ножек на полу, с человеком, которого ты знаешь три дня? Неужели ты так себе представляла свой первый раз?
– Ой-ой-ой, – протянула Анька и приложила руку ко лбу. – Вот только не надо превращаться в Сережу. Если ты сейчас назовешь Сашку смазливым балаболом и начнешь мне читать лекции, я уйду.
Она действительно ушла бы, поэтому я никак не назвала его, но шторы вдруг показались еще более дешевыми и из проржавевшего туалета понесло не лавандой, а таблетками от моли.
– Ладно, – сказала Анька, – зайдем с другой стороны. Какие у меня сильные стороны? Где у меня, по-твоему, вот этот вот скандал?
Она убрала от лица волосы и закрыла глаза: веснушчатый нос, густо накрашенные ресницы, светлые брови, розовый румянец, потому что кожа белая и не загорает, и почему-то плотно сжатые губы.
– Не знаю. Так чтобы скандал… О! С тобой не страшно. Да. Я жуткая трусиха, а с тобой мне не страшно.
– Не страшно? – Анька открыла глаза и в удивлении подняла брови. – Это как?
– Ну вот так. – Обрадованная тем, что напряжение спало, я пересела на кровать и позвала ее сесть рядом. – Помнишь, мы зимой на лыжах решили в лесу покататься? Ведь видели же, что крепление болтается и мороз минус двадцать, но все равно пошли, потому что ты сказала: «Все будет хорошо». И я поверила!
Анька засмеялась и смахнула выступившие слезы:
– Да, нас через пять часов нашли какие-то солдаты, и то только потому, что мы на стрельбище со сломанной лыжей вышли.
– Но ведь нашли же! А «Красную звезду» помнишь? Ты меня возила по коридору на стуле с колесиками и потом так разогнала, что я влетела в какую-то дверь. Но мне было не страшно!
– Да, – вздохнула Анька. – Кто ж знал, что это кабинет главного редактора?
В редакции любимой газеты Анатолия Палыча мы и познакомились. Прямо на том стуле. Наши с Анькой мамы работали в машбюро, а из развлечений там были только стул на колесах и автомат с газировкой.
– А у вас в общежитии? – Это уже было у Аньки. Они жили в гостинице для военнослужащих на Янгеля, ждали квартиру. – Помнишь? Там была лестница, такая же гладкая, как у нас здесь, только длиннее, и ты придумала скатиться с нее в коробке из-под холодильника.
– Ай-ай-ай! – Анька замахала руками перед глазами, чтобы от слез не потекла тушь. – А потом мы решили на филфак поступить. Наверное, о почтовые ящики слишком сильно ударились. Один же так и не нашли потом.
Внезапно Анька напряглась:
– Слушай, а это точно моя сильная сторона? Может, это не бесстрашие, а как-то по-другому называется?
Неважно было, как это называлось, но я вдруг тоже перестала смеяться. С Анькой было не страшно, но сама она до чертей боялась того, что задумала, и появись здесь сейчас Сашка в своих потертых джинсах, голубом поло и с комплектом бронебойных, она умерла бы от ужаса, а вовсе не от любви.
– А ты уверена, что не пожалеешь, что все так быстро?
– Уверена, – неуверенно ответила Анька.
В ходе последующего совещания был разработан план по заманиванию Сашки в чилаут, а также решено непременно воспользоваться силой Дерева любви, чтобы свидание, раз уж ему суждено случиться в этой казенной комнате, приобрело хоть какой-то оттенок волшебства и романтики.
Единственной проблемой стало то, что вожатые Иван да Марья просили за свои услуги слишком высокую плату. В меню столовой и близко не было того, что можно назвать вкусным, и у нас с собой тоже. Наверняка это было у детей, несмотря на то что хранить еду в корпусе запрещалось. И если как следует потрясти за ногу Валерку, то из него бы точно высыпалась среднего размера кучка конфет, но отнимать конфету у ребенка, чтобы затащить Сашку в чилаут…
– Да, надо так и сделать, – решила Анька, вставая с кровати.
– Подожди, – я придержала ее за руку. – Есть более честный способ. Мне Наташа рассказала. Надо будет напрячься, но хорошо еще, что эти вожатые не просят ортопедический матрас, упаковку цитрамона или свежие полотенца. Вот тогда бы мы побегали.
Наташа, как Галя, знала все про всех и каждого, но информация, которой она располагала, касалась только мира детей. Она не прошла Женькин кастинг на участие в «Мисс лагеря», потому что у нее не было никакого скандала, но не расстроилась. Перед тихим часом Женька подарил ей заколку – металлическую бабочку с дрожащими крыльями из бисера. Наташу такая компенсация устроила. Более того, бабочка оказалась настолько красивой, что Наташа посчитала, что она осталась в долгу, и решила приплатить сверху дополнительной информацией, ведь она была девочкой очень воспитанной.
– У нее попа слипнется, – сказала Наташа, когда я накрывала ее одеялом. – Если она, конечно, не поделится с отрядом.
– У кого?
Кому-то грозила мученическая смерть, поэтому я села на Наташину кровать и приготовилась ее внимательно выслушать.
Оказалось, что приз победительнице конкурса каждый год был одним и тем же и представлял собой подарочный набор конфет и шоколадок. Количество всего этого было рассчитано на отряд, но в прошлом году «Мисс лагеря» стала какая-то очень жадная девочка, которая ни с кем не поделилась, в результате чего просидела три дня в изоляторе, не снимая короны из фольги даже на ночь.
Существовала небольшая вероятность, что Нонна Михайловна пересмотрит систему поощрений и это полностью исключит возможность попадания победительницы в изолятор, но уже на полднике стало ясно, что этого не произошло.
Не было даже никакой интриги. На самом видном месте, а самое видное место в столовой – это вожатский стол первого отряда, уже с тихого часа стоял разыгрываемый приз – огромная корзина с разноцветными коробками конфет, киндер-сюрпризами, шоколадными зайцами и чем-то еще, чего мы из своей бракованной рощи не разглядели.
Корзина была завернута в прозрачный шуршащий целлофан, перехваченный сверху красным бантом, концы которого исчезали в Маринкиной тарелке с винегретом. На самой Маринке была надета шелковая лента с золотой надписью «Мисс лагеря», и умопомрачительный Сашка, доводя напарницу до белого каления, сминал двумя руками шуршащий пакет, отчего тот противно крякал.
– Просто сектор «Приз» на барабане, – увидев все это, сказал Сережа.
* * *
– Нонна, неужели ты не понимаешь, что это не приз? – Стоя в пустом коридоре главного корпуса, пахнущем политурой и деревом, Пилюлькин раздраженно махал руками перед растерянным лицом Нонны Михайловны. – Это несварение желудка, перевязанное красивой ленточкой. Вот что это такое!
Нонна Михайловна посмотрела на корзину, которую держала в руках, и начала виновато оправдываться:
– Но как же, Аркадий, ведь это дети. Они радуются всему яркому и сладкому. Что им еще можно подарить? А тут кое-что с Нового года осталось, даже покупать ничего не нужно. Зато смотри, как нарядно выглядит.
– Нонна, – лагерный врач закрыл глаза и досчитал до пяти, – ты меня убиваешь! Каждый раз одно и то же! Нельзя было в качестве приза придумать что-нибудь несъедобное?
– Ну так это и не… Аркадий! – Мелкими быстрыми шажками Нонна Михайловна бросилась догонять развевающийся белый халат. – Аркадий, подожди! Ну, хочешь, возьми себе отсюда что-нибудь. Здесь есть коробка «Вдохновения» с орехами. Ты же любишь такие.
Пилюлькин остановился и поднял черную с проседью бровь. Он такие любил.
* * *
На сияющую коричневым глянцем сцену выбежал Леха, макнул кисть в баночку с синей гуашью и по просьбе Гали дописал на заднике недостающую букву «с» в слове «мисс». Спустя какое-то время, выполняя поручение Нонны Михайловны, с точно такой же баночкой к заднику подбежал Марадона и дописал еще одну. Раздались аплодисменты.
Придерживая руками пышную прическу, которая еще не была закреплена жемчужными шпильками, из-за желтой кулисы выглянула Лиза. По бликам на очках она нашла в зале Сережу, помахала ему рукой и спряталась обратно. Она еще не совсем была готова к конкурсу, и Женька делал все возможное, чтобы успеть к началу: орал на всех, топал ногами и размахивал дуофиброй.
С нашей стороны на сцену можно было подняться по лестнице, и поэтому правая кулиса была шире, чем противоположная. Места здесь оказалось достаточно для двух деревянных скамеек, старого рояля и большой музыкальной колонки. На колонку Женька поставил свою сумку, а на крышке рояля разложил ее содержимое.
– Где ты набрал столько косметики? – спросил Виталик, разглядывая золотую пудреницу Guerlain. – Даже у моей мамы столько нет. «Гур-лян». Да? – Слово на непонятном языке Виталик прочитал по слогам, а затем осторожно положил пудреницу на место.
– Гурлянда, – повторил Валерка и сипло захихикал. – Ага!
Оказавшись в облаке лака для волос, он чихнул и громко высморкался в блеклый драпированный занавес.
– Женя! Женя! Женя! – Дергая Женьку за рукав джинсовки, Анька бегала взад-вперед и мешала ему закреплять жемчужные шпильки в волнах волос цвета «марсель». – Мы должны, мы просто обязаны выиграть!
– Да успокойся ты! – Женька развернулся и слегка встряхнул ее за плечи. – Тушь найди там… Да не эту. Для объема.
Дрожащей рукой Анька взяла с крышки рояля нужную тушь и случайно уронила ее на пол. Дважды блеснув золотой надписью, туба укатилась за колонку, но найти ее уже было невозможно, потому что в эту самую минуту на сцене и за кулисами погас свет. Освещенная фонариком, направленным на нее из зала, к микрофону вышла Галя.
– Стоп! Обратно! – пискляво заголосила Маринка из-за противоположной кулисы, и все повторилось в обратном порядке: Галя ушла со сцены, включили свет, Женька увидел на полу тушь и выпустил Аньку из рук. Та сразу же заметалась, приговаривая: «Женя! Женя! Женя!»
– Гурлянда, ага! – повторил Валерка и отошел в сторону, пропуская к нам Маринку.
Под противное кряканье пакета та перебежала через сцену, облокотилась на рояль и приложила руку к виску.
– Женя, это ужасно, – сказала она, как будто, кроме них, здесь больше никого не было. – У нас там катастрофа! Катастрофа!
Маринкина катастрофа заключалась в том, что невозможной красоты прическа их конкурсантки, которая на самом деле выглядела так, будто на нее приземлилась летающая тарелка, полная гуманоидов с антеннами вместо ушей, только что кошмарным образом развалилась, потому что одна из антенн…
– …сломалась пополам. Она просто взяла и сломалась пополам! – визжала Маринка и дергала Женьку за руку, не давая ему ничего сделать.
Догадавшись, что антенны – это канзаши, японские палочки, которыми гейши украшали свои прически, Женька достал из своей сумки деревянную замену сломавшейся и протянул ее Маринке. Это уже было мини-предательство, поэтому на всякий случай Анька закрыла собой рояль, чтобы Маринка не попросила что-нибудь еще. Но, к нашему ужасу, вместе с палочкой Маринка забрала всего Женьку целиком, чтобы тот собственноручно собрал развалившихся гуманоидов заново.
– Встречаем! – радостно сказала Галя в микрофон и в круге света от фонарика встретила Маринку с Женькой.
– Куда?! – проныла Анька и стукнула кулаком сразу по нескольким клавишам. – Это же команда соперника!
– Встречаем! – снова сказала Галя.
На этот раз, шурша одинаковыми бумажными цветами, пришитым к платьям, на сцену вышли наша с Женькой Вика, Роза Виталика и остальные участницы конкурса, но Лиза вцепилась в Аньку и отчаянно замотала волнами крупного гофре.
– Я не пойду, я боюсь! – лепетала она, пытаясь зарыться головой под Анькину джинсовку, тогда как другие участницы уже представлялись, передавая друг другу свистящий микрофон.
Анька попробовала отцепить ее будто сведенные судорогой маленькие пальчики и присела перед ней на корточки.
– Не может быть, – сказала она, не веря тому, что видит. – Ты же занимаешься танцами. Ты не должна бояться сцены!
– Так то с Антоном, – объяснила Лиза и некрасиво скривила рот. – Я одна никогда не…
Карие глаза заблестели, намокли, и на светлых ресницах повисла крупная слеза. Еще немного, и все старания феикрестной превратятся в грязные потеки на побледневших щеках. Анька поднялась, выглянула из-за кулисы, нашла в зале удивленные глаза Сережи и обернулась к Лизе.
– Не выдумывай! – сказала она и стала подталкивать на сцену.
За кулисами пол почему-то не покрасили. Доски здесь были пыльными, в занозах и трещинах, но там, где кончались кулисы, пол сиял коричневым глянцем, в свете рампы показавшийся вдруг кроваво-красным, и перейти эту черту Лизе не давал почти животный страх.
– Да что здесь страшного? – в отчаянии запричитала Анька и обняла дернувшуюся от ее прикосновений Лизу. – Все отрепетировали, даже ответы на вопросы выучили.
– А ты сама выйди, – сказал вдруг Виталик со своей скамейки таким тоном, как будто предлагал ей прыгнуть со скалы. – Выйди и посмотришь. Я один раз в детском саду на утреннике стихотворение забыл, которое мы с мамой неделю учили. Такой стыд был! До сих пор сцены боюсь.
Все повернулись к Виталику, Валерка с Вовой дружно захихикали, а у Лизы на ресницах повисла еще одна слеза.
– Выйди, выйди, – засуетилась я, потому что свистящий микрофон уже пропутешествовал через всех участниц, и наша с Женькой Вика оглядывалась в поисках соседки. – Женька же стоит возле своих гуманоидов! А с тобой не страшно, помнишь?
Стоя на сцене, Женька доделывал прическу конкурсантке от первого отряда и совершенно не обращал внимания на то, что, глядя на него, Пилюлькин что-то бубнит Нонне Михайловне, а та кашляет и сует ему коробку конфет «Вдохновение».
– Ладно, пойдем вместе, – бодро сказала Анька и, взяв за худенькие плечи свою Лизу, шарахнула каблуком по коричневому глянцу.
В зале раздались аплодисменты, Лиза получила в руки микрофон и, едва не обмирая, представилась. Пощелкав пальцами, Анька попросила у меня ответы на вопросы викторины. Я схватилась за занавес, вляпалась в Валеркины сопли и передала ей свернутый гармошкой лист.
– Вот же, вот, – шептала она перепуганной Лизе, пока микрофон начинал новый круг. – Все ответы у нас есть. Первая женщина космонавт – Валентина Терешкова, первая женщина нобелевский лауреат – Мария Кюри. Мы во всем первые, мы во всем смелые, хоть и виноваты все кругом, как Ева. Смотри, вон и Женя!
Рукой она показала на заканчивающего прическу Женьку и вдруг негромко охнула и тоже, как Лиза, стала переминаться с ноги на ногу, чтобы никто не заметил, как задрожали колени.
Там, куда она показала, прямо за Женькой и обладательницей прически с гнездом гуманоидов, за противоположной кулисой сидел Сашка и улыбался ей, закрываясь сценарием от ноющей Маринки. Два бронебойных попали точно в цель. Анька покачнулась и схватилась за самую ненадежную сейчас опору – с запинками отвечающую на вопросы викторины Лизу. Над сценой замигал свет – закоротило рампу.
– …а потом меня увела заведующая, – продолжал тем временем свой рассказ Виталик, – и деревянный домик для медведя так и не дали.
Его слушали уже только Валерка и Вова и рыдали от смеха в складки занавеса. Увидев их, Лиза тоже улыбнулась и подняла глаза на Аньку.
– Иди, песню я сама спою, – тихо сказала она и толкнула ее бедром к засморканной кулисе.
Но Анька осталась стоять на месте. Она, как загипнотизированная, смотрела на треугольник румянца, что-то шепчущие ей губы, пыталась по выражению глаз понять что, но сквозь свист микрофона, хлопки и выкрики из зала не могла ничего разобрать. Боясь потерять его взгляд, она тоже шевельнула губами, он что-то ответил, наклонил голову, посмотрел на нее исподлобья с поднятой бровью и таким же поднятым уголком губ. И это уже означало, что он тоже не против, а ведь не против – это почти за.
– Нонна! – вдруг громко сказал Пилюлькин и показал толстым пальцем прямо на Аньку. – У них у всех губы одной помадой накрашены!
Нонна Михайловна бросила быстрый взгляд на сцену и вскрыла коробку конфет.
– Аркадий, тебе показалось. Это свет так падает. На вот, возьми конфетку. Ты же такие любишь.
Анька вздрогнула и повернулась к залу. Почти две сотни пар глаз смотрели на нее: все отряды, персонал, весь педсостав. В первом ряду сидел Пилюлькин. Все остальные смешались в общую шевелящуюся массу.
– Иди, – повторила Лиза, толкая ее руками. – Все уже нормально.
Анька закивала, что-то поправила в ее идеально уложенных волосах и, непростительно громко стуча каблуками, ушла со сцены.
– Ужас… – сказала она, продолжая какой-то свой внутренний монолог и пытаясь отдышаться, как будто только что пробежала стометровку. – Для девочки это какое-то немыслимое испытание! Неужели Ева так сильно согрешила?
Я прислонилась к роялю и сложила на груди руки.
– Может, тогда не нужно этого делать?
– Я не об этом! – отмахнулась Анька, даже не уточняя, о чем я. – Почему не «Мистер лагеря»? Почему участвуют девочки, да еще и с разницей в семь лет? Ты посмотри, она поет, а у нее ноги дрожат! А там еще три конкурса, и все на нее смотрят. Бедная Лиза! Бедная, бедная моя Лиза!
У Аньки покраснели щеки, вспотел лоб, и она схватилась за край занавеса, чтобы вытереться им.
– Не трогай, там Валеркины сопли, – без выражения сказала я.
Анька чертыхнулась и села на скамейку рядом с Виталиком. Оставшиеся три конкурса просидели молча уже без какой-либо надежды на выигрыш, хотелось только, чтобы все побыстрее закончилось. Однако после последнего выступления выяснилось, что у всех конкурсанток одинаковое количество баллов, и концерт затягивался.
Проведя короткое совещание за противоположной кулисой, Галя вышла на сцену и объявила дополнительное задание: назвать известную носительницу своего имени. Задание было несложным, но Снежана, Карина, Роза, Лиза и Вика задумались.
– Лиза Симпсон! – гаркнул Вова, вскочив на скамейку, но Виталик покачал головой.
– Не зачтут, – со вздохом сказал он. – Это же пионерский лагерь. Здесь все должно быть коммунистическое. А никто случайно не знает известную женщину с именем Роза?
Анька зажмурилась, схватилась за два пышных рыжих хвоста и потянула их вниз.
– Думай, думай, думай, – забормотала она, сделала шаг к краю кулисы, но промахнулась, и каблук громко стукнул по коричневому глянцу.
Лиза обернулась на звук, но Анька ничего не смогла ей подсказать. Ответ не приходил в голову. Сочувствуя этой девочке и видя в ее испуганном лице как будто свое собственное отражение, Анька закрыла лицо руками и выдохнула:
– Бедная Лиза.
Лиза кивнула, повернулась к залу и громко повторила ответ.
После случайно выигранного конкурса вечерняя «свечка» искрилась фантиками от конфет, блестела фольгой от шоколадок и шуршала целлофаном от чупа-чупсов. До отбоя оставался еще час, но темнело гораздо позже. Чтобы создать в игровой полную темноту, пришлось воспользоваться Лехиным изобретением: снять шторы и повесить вместо них два покрывала с рисунком «турецкий огурец». Они плотные, свет не пропускают, но вот беда, оказались дырявыми. Стоя на подоконнике, Сережа просунул руку сквозь дыру и спросил у Женьки, не нарушит ли этот досадный недостаток некоторую магию момента.
Женька в это время рассаживал детей на матах: взяв за плечи, вдавливал их как разноцветные кнопки, чтобы те приняли сидячее положение, и заходил таким образом уже на третий круг.
– Не нарушит что? – спросил он, перекрикивая Вову, который только что сказал, что у нас пионерский лагерь, а не клуб анонимных алкоголиков.
– Все, хватит! Смотрите, сейчас будет фокус.
Я выключила свет, и почти сразу же на полу зажглась электрическая елочная гирлянда, а в центре игровой – полный восторг – ультрафиолетовая лампа в виде большой синей капли. Мгновенно все, что было белым, засияло нежно-фиолетовым светом, и разноцветные «кнопки» без команды вдавились в маты.
– Не нарушит, – сам себе сказал Сережа, спрыгнул с подоконника и застыл на месте. Последний луч заходящего солнца, пройдя сквозь дыру в покрывале, будто золотым мечом ударил в светлый висок.
– Сережа! – Из темноты, прижимая к груди шоколадного зайца, которого ей подарила Лиза, выплыла раскрасневшаяся Анька. – Можно я отойду? На пять минут всего!
Сережа огляделся: в темной, вспыхивающей разными цветами игровой снова сидели все тридцать четыре ребенка, Валерка мял в руках сирень-говорилку, Женькины голубые теперь волосы сияли в углу у самовара, рядом с ним, подобрав под себя ноги, сидела я и показывала на наручные часы: скоро отбой, а нам еще нужно всех выслушать.
– Куртку только возьми и до планерки вернись, я один не уложу, – спокойно сказал он и повернулся к детям: – А мы пока расскажем друг другу, как нам здесь замечательно живется. Так ведь?
До планерки Анька не вернулась. Когда она вошла в подъезд, освещенный идущим из коридоров дежурным светом, все в четвертом корпусе уже спали, а Нонна Михайловна, готовая начать ежевечернее совещание с педсоставом, встала у стены под круглыми часами. Так ей было лучше видно спящего за столом Женьку, а Сашке, который сидел перед ним, был виден ее синий брючный костюм с поясом на запах.
– Евгений! Я к вам обращаюсь. Вы спите?
Женька поднял голову. Первым, что он увидел, было его отражение в темном окне. На щеке отпечаталась пуговица от рукава джинсовки, на лбу – лепестки вышитой розы.
Сашке было скучно, жарко и как будто тесно. Чтобы как-то развлечь себя, он слушал плеер и барабанил пальцами по столу. Нонна Михайловна наклонилась к нему и выдернула из уха шипящий наушник.
– Завтра родительский день, Александр, – сказала она. – Вам должно быть не до сна и не до музыки. Ознакомьтесь со списком запрещенных продуктов.
«Родительский день», – написал Женька в блокноте и глазами размером с детские шашки посмотрел на меня.
Родительский день всегда ждут с такими глазами. Даже Нонна Михайловна. Его никто не любит, потому что в течение всего дня приходится отвечать на вопросы, одна половина которых представляет собой плохо завуалированные просьбы сделать отдых детей не хуже, чем на побережье Средиземного моря, а другая не имеет отношения к лагерю вообще. Но самое страшное – это контрабанда продуктов, которая в лучшем случае срывает работу кухни, а в худшем – изолятора, когда Пилюлькин машет перед лицом Нонны Михайловны последним блистером бесалола и кричит, что здесь не пионерский лагерь, а какой-то холерный барак.
Жить почти две недели в ожидании этого кошмара крайне непросто и хочется побыстрее отстреляться, но ни в одном лагере родительский день не устраивают почти сразу же после начала смены. Обычно он двенадцатый – следующий после банного дня и замены белья, когда можно продемонстрировать родителям их чистых детей, сидящих на таких же чистых постелях, что бывает очень редко. Если говорить точнее, то это единственный день, когда есть такая возможность. Однако Нонна Михайловна уже много лет занимала должность директора лагеря и за это время разработала целую теорию относительно того, когда нужно проводить родительские дни.
Педагоги и детские психологи утверждают, что среднее время адаптации ребенка в новых условиях – неделя. Вот тогда и нужно устраивать первую встречу с родителями, чтобы избежать массового исхода не успевших адаптироваться детей. Но главный специалист по детскому отдыху, с которым Нонна Михайловна была знакома лично, однажды сказал ей: «Чаво трястися до двенадцатого дня, ежели путевки профсоюзные и все тута по десять разов уже были? А ежели кто и первый раз, то кто отсюдова уедет? Воздух, вода в кране. Чаво еще надо-то?»
Сначала Нонна Михайловна усомнилась в словах этого специалиста, но что-то похожее на последнюю часть его фразы она услышала на днях в министерстве, поэтому решила прислушаться к совету и сделать все, чтобы «перестать трястися» как можно раньше. И действительно, даже на четвертый день смены мало кто уехал. Правда, и мало кто приехал, потому что был рабочий день, но это здесь совершенно ни при чем.
– Бесполезно, Нонна Михайловна, – сказал Сашка. – Шмонай не шмонай, все равно потом под матрасами колбаса тухнет.
– Александр, – обратилась к нему директриса, обрадованная тем, что появился повод к нему обратиться, – вы вожатый и должны смотреть лучше. Вы же сами знаете, что в противном случае нам обеспечены проблемы физиологического характера.
Виталик, который записывал все, о чем говорят на планерках, пожелал уточнить, какие конкретно проблемы физиологического характера нам обеспечены, но директриса замялась.
Предвкушая веселую беседу, Сашка с хрустом потянулся:
– Да что вы, Нонна Михайловна, вокруг да около всё ходите? Острый дристоз нам обеспечен. Вот и вся проблема.
Нонна Михайловна отвернулась к окну и выждала, пока все посмеются над этой шуткой.
– Смею вам напомнить, Александр, что в нашем изоляторе всего одна палата на четыре койко-места и один туалет, вокруг да около которого в прошлом году ходили пятнадцать детей из первого отряда и один вожатый, чье имя я называть не буду.
«Острый дристоз», – написал Виталик.
– Да кто ж знал, что черешня немытая? – сказал Сашка и передал Виталику список запрещенных продуктов, чтобы тот не мучился, переписывая все названия сигарет. – Еще запиши: «Спазм мышц малого таза, вызванный шоколадной интоксикацией».
«Спазм мышц малого таза», – записал Виталик.
– Читайте внимательнее, Виталий, – попросила Нонна Михайловна. – Как известно, воинский устав написан кровью, а этот список написан…
– Фу! – фыркнул Сашка и вытер руки о джинсы Виталика. – Что ж вы сразу не сказали, чем он написан!
– Александр! – Нонна Михайловна обернулась. – Вы на планерке или где? И на начинку конфет смотрите. В прошлом году кому-то привезли конфеты с водкой, потом мы долго думали, чем вызвано такое странное и необъяснимое поведение одной из вожатых. И будем надеяться, что в этой смене обойдется без острого дристоза.
– Эх! – хваля ее за смелость, Сашка хлопнул в ладоши и стрельнул двумя бронебойными.
Но какая досада: тема дристоза была исчерпана. Опять стало жарко, тесно и скучно. К счастью, на Сашкином столе оказался график дежурств на КПП. Мое имя стояло в нем первым, и Сашка обернулся ко мне:
– Не бойся, он написан шариковой ручкой.
– Какое счастье, что не кровью или чем-то еще! – Я потянулась за графиком, но Сашка накрыл его своей ладонью: не так быстро, товарищ пионервожатая.
Ах, простите. Сначала нужно заглянуть в серые в дымке ресниц глаза и решить, что же слаще – утонуть в этих чистейших озерах или сгореть от страсти, касаясь кончиками пальцев пылающего румянца? Или, может, заблудиться в темных прядях густых волос, а потом задохнуться от жарких поцелуев коралловых, будто присыпанных сахарной пудрой губ? Саша, какой же ты все-таки смазливый…
– …мы завтра еще и по столовой дежурим. Вот мы как-то в прошлом году дежурили и кастрюлю с киселем на пол разлили, а тут как раз Борода шел пьяный в жопу!
…балабол.
– Александр! Вы на планерке или где?
После Сашки от тишины звенело в ушах. Не желая ее нарушать, Женька молча остановился возле выхода из главного корпуса и глазами показал на стеклянную дверь. Я должна была ее перед ним открыть. Похожие на эти стеклянные с плоскими металлическими ручками двери, открывающиеся сразу в обе стороны, были не только в советских универмагах, но еще и в метро, где однажды на выходе со станции «Первомайская» шестилетнего Женьку стукнуло железной ручкой по лбу. С размаху. На «Первомайской» еще сквозняк такой… После этого случая он стал опасаться подобных конструкций и, так совпало, увлекся вырезанием бумажных куколок.
– Женя, это невозможно, – я с трудом потянула на себя ручку и показала в темноту, где за нашими отражениями белели задник и трибуны. – Нельзя всю жизнь бояться того, чего нет. Это было сто лет назад.
– Там! – крикнул Женька, и нас обоих впечатало в стену.
Мне повезло: я только ударилась головой и оцарапала ногу о веник, который торчал из ведра для мытья полов. А Женька, хоть и успел заметить, что к дверям на бешеной скорости подбегает Анька, принял весь удар на себя и чуть не лишился целостности носовых перегородок.
– Вот вы где прячетесь! – сказала Анька, не обращая внимания, что у Женьки нос в крови, а я сижу на полу возле ведра в задравшейся юбке. – Отдыхают они здесь, а мне столько всего надо рассказать!
Не желая нарушать тишину летней ночи, Женька молча забросил джинсовку на плечо и пошел в корпус.
– А я еще думаю, где вы застряли! – Проводив его взглядом, Анька помогла мне встать и воткнула выпавший из ведра веник обратно. – Я ходила к Дереву, а там такое произошло, такое произошло!
Веник перевесил и снова выпал, ведро загремело по кафельному полу.
– Да пойдем уже, – я зажмурилась от боли в голове, и мы вышли на улицу, где Анька начала свой рассказ.
Следуя Лехиным инструкциям, к Дереву она пришла в точно оговоренное время и, когда последний солнечный луч блеснул в открытом окне его вожатской, приклонила колено перед Иваном да Марьей. Под тесно переплетенные стволы клена и рябины она положила шоколадного зайца с истекающим сроком годности и трижды произнесла имя возлюбленного. Однако в это же самое время где-то неподалеку точно такое же имя трижды произнесла Сашкина напарница. Анька не на шутку перепугалась, но тревога оказалась ложной. Своим писклявым (что важно) голосом Маринка молила не о любви, а о помощи: в первом отряде произошло ЧП.
Насмотревшись, как на открытии смены Сашка выкатывал в чемоданах несуществующий четвертый отряд, два шестнадцатилетних пионера захотели повторить этот фокус и скатиться в чемодане с лестницы.
На такую нагрузку чемодан рассчитан не был, поэтому, не преодолев и трех ступенек, развалился. В результате оба пионера с огромным ускорением просвистели вниз по лестнице на оторвавшейся от чемодана крышке и, выражая свой восторг нецензурными идиомами, вылетели через распахнутую дверь второго корпуса прямо под ноги проходящего мимо Пилюлькина.
В это время, совершая вечерний обход, по дорожке, идущей мимо второго корпуса к изолятору, шел Ринат. Увидев столпотворение возле входа и не желая становиться его участником, он решил обойти корпус со стороны леса, но, проходя мимо пожарной лестницы, заметил Аньку, которая сидела под Деревом любви в позе кающейся Марии Магдалины и думала: хватит ли Ивану да Марье зайца или нужно доложить что-то еще.
Поздоровавшись с ней, Ринат поинтересовался, как дела в четвертом корпусе. Но больше всего его интересовала…
– Ты! Представляешь?! Он так и спросил: где ты!
Ах и ух, товарищ пионервожатая. Анька замерла, ожидая бурной реакции, а я раскрыла блокнот и уставилась в свои записи: «…чем вызвано такое странное и необъяснимое поведение одной из вожатых».
– Он ничего не сказал про шоколадного зайца и даже не спросил, почему я сижу под этим деревом, но зато каким-то образом узнал, что мы с филфака, и спросил, какой у тебя любимый писатель. Ты понимаешь, что это значит?
Любимый писатель… Я достаточно хорошо знала Аньку, чтобы немедленно начать предчувствовать недоброе.
– И я сказала, что у тебя не писатель, а поэт – Леонид Губанов!
Недоброе подтвердилось. Анька захлопала в ладоши и начала смеяться. Она смеялась так долго, что я успела прочитать все, что записала на сегодняшней планерке, после чего поняла: они с Сашкой будут идеальной парой.
– Это кошмар, – я закрыла блокнот и закусила губу. – Я даже не понимаю, о чем этот Губанов пишет. Его и не знает никто! Не могла придумать что-нибудь модное? Бродский там, Евтушенко?
– Ага, Зинаида Гиппиус. – Анька перестала смеяться, но только чтобы набрать воздуха. – Или Ахмадулина. Ринат бы точно оценил позднее творчество Беллы Ахатовны!
«Ахмадулина» и «Ахатовны» она произнесла как «Ах-ахмадулина» «Аха-хатовны», и ее опять понесло. Я развернулась и пошла в темный подъезд.
– Стой! – крикнула Анька и побежала за мной. – Тебе же он не нравился! Тогда какая разница, что он о тебе подумает?
* * *
В вожатской Виталика вскипел чайник.
Дождавшись короткого Ленкиного кивка, Виталик налил в две одинаковые чашки из фарфорового сервиза крутого кипятка.
– Я вот о чем теперь часто думаю, Лена, – сказал он и посмотрел в окно на кусты сирени. – Какая известная женщина носила имя Роза?
– Люксембург! – гавкнула Ленка. – Я же тебе кричала из зала. Ты глухой, что ли?
Виталик довольно улыбнулся.
– Лена, ты прямо как моя мама, – сказал он и густо покраснел. – Такая же умная.
День 4-й
Шторы задернуты плотно, насколько это возможно, но в вожатской светлее, чем днем. У Лехи такая блестящая и гладкая голова, что похожа на круглый горящий плафон, и света от нее столько же.
– Ой, лежи так, не накрывайся, – сказал Леха вполголоса, чтобы не разбудить Аньку. – Жаль, руки у меня заняты.
В руках он держал две полные бутыли для кулера, и это нисколько его не затрудняло, но, собираясь сесть на заваленный одеждой стул, он все же поставил их на пол. Стул под ним скрипнул, где-то под слоями одежды хрустнула одна из деревянных перемычек спинки.
– Завял твой венок. – С кровати я дотянулась до ниши тумбочки и достала венок из поникших цветов. – А мы уж подумали, что они заговоренные.
Леха махнул рукой: не страшно.
– Сейчас к воротам дежурить пойдешь. Там беседка есть, а по ней вьюн ползет. Он зацвел как раз – сплетешь себе новый. А когда плести будешь, суженый придет. Все девки так делать будут. Сегодня Вьюн Зеленый, или Никифор Дубодер.
Леха сильно картавил, и последние два слова дались ему с трудом.
– Кто-кто сегодня? – переспросила я.
– Никифор Дубодер. Тьфу ты! Да ну тебя на фиг! – Леха встал со стула. – Такую красоту испортила.
Подхватив бутыли, он пошел к выходу, но у двери обернулся:
– Возьми с собой пацаненка, чтоб в отряды родителей провожал, только побойчее. Того, конопатого. И тушенки мне там из конфиската отложите, если будет. Я вечером картошки в сковороде нажарю.
– Что-что сделаешь?
– Ай, да иди ты!
Такое возможно только с Лехой: сломал стул, дважды послал, а ушел – и темно стало.
Того конопатого звали Валерка. Встать ему пришлось раньше всех, но на свое первое дежурство на КПП он шел с радостью: широко расставлял ноги и размахивал зажатой в худенькой руке колодой карт. На травяных кочках еще блестела роса, дорога не пылила, но солнце редкими лучами уже сгоняло промозглость раннего утра. В глубине соснового леса раздавалось негромкое «ку-ку», со стороны забора долетал шум проснувшегося шоссе.
В конце пути, вильнув два раза, бугристые колеи уперлись в деревянные ворота. Из-за того что мы пришли слишком рано, в кованых кольцах висел амбарный замок. Рядом с воротами, чуть в стороне от дороги, стояла круглая беседка с высоким резным куполом. Как и обещал Леха, по всей его поверхности расползся вьюн и превратил беседку в цветущий шатер.
Зажав в зубах колоду, Валерка двумя руками перебрал свисающие с купола лианы, отыскал вход и первым вошел внутрь. В центре деревянного пола плоским грибом торчал круглый, потемневший от дождей стол, вкруг стояли залоснившиеся скамейки.
Я ухватила конец одной из цветущих лиан, свисающий прямо над столом, и потянула его вниз.
– Хочешь, сплетем тебе венок?
– Я же не девчонка, – обиделся Валерка. – В дурака давай! Договаривались же.
Игру в карты с восьмилетним ребенком можно было считать полным педагогическим фиаско, но Валерка наотрез отказался брать на КПП шахматы, чтобы не позориться перед народом, а карты обещал спрятать, как только этот народ появится, чтобы не позорилась я.
– Ладно. Все равно никто не видит, – согласилась я и, не выпуская из рук цветущую лиану, села на скамейку. – Но венок тоже сплетем!
С первого же хода мой веер из карт начал безостановочно расти, но, даже отвлекаясь на плетение венка, я заметила, что карты Валерка берет уже из биты.
– Эй, вышел этот король уже, – я подцепила крестового короля и бросила его в биту. – Так нечестно!
– Тс-с! – Валерка спрятал нос за веер из карт и скосил глаза в сторону ворот. – Убирать или свой?
Я раздвинула лианы и заглянула в просвет между вензелями. У ворот стоял Ринат и, звеня связкой ключей, открывал замок. Он нас тоже увидел и показал, что сейчас подойдет. Он улыбался, но все равно стало неловко. Теперь подумает, что я разговариваю с небом, читаю сумасшедших поэтов советского андеграунда и в свободное от всего этого время играю с восьмилетними детьми в карты. Товарищ пионервожатая, признайтесь честно, вы…
– Дура! – крикнул Валерка и бросил на стол свою последнюю карту – крестового короля.
Подпрыгнув от неожиданности, я стукнула ладонью по столу и сунула Валерке венок из вьюнков.
– Хотя бы сделай вид, что венок плетешь.
Валерка отвернулся и задрал нос к цветущему куполу. Я пододвинула венок еще ближе, и Валерка взял его в руки.
– Ну ла-адно, – нехотя сказал он вошедшему в беседку Ринату, – мы плетем здесь венки. Как две дурочки.
Ринат увидел сваленные под столом гирлянды вьюна и прямо спросил:
– Никифор Дубодер?
– Все равно делать нечего, – неуклюже оправдалась я сразу и за венок, и за карты. – К нам еще никто не приехал.
Ринат сел рядом, взял карту и стал стучать уголком по столу, думая, что сказать.
– И не приедет, – вдруг сказал он и, перехватив мой вопросительный взгляд, засмеялся. – Я ведь так и не открыл ворота. А вы пока кукушек можете послушать. Таких, как здесь, больше нигде нет. У них брачный период. Самцы завлекают самок. Сейчас будет целый хор.
Будто в подтверждение его слов, две или три кукушки закуковали где-то совсем рядом. Я повернулась, чтобы разглядеть их в просвете между вензелями, и случайно коснулась ладони Рината. От плеча до запястья рука покрылась мурашками, и в пятнах солнечных зайчиков заблестели поднявшиеся светлые волоски. Ринат бросил на них взгляд, поднял бровь и, улыбаясь, отвернулся.
– Холодно, – сказала я и потерла руку. – Кто придумал так рано дежурить?
– Так это же хорошо, – сказал Ринат, поднимаясь. – Меньше родителей достанется.
У выхода он собрал гирлянды вьюна в толстый хвост и заправил его за резной вензель.
– Я живу за стадионом, – сообщил он, как будто открыл какую-то тайну. – Завтра вы пойдете туда фотографироваться с отрядами. Вечером после отбоя занесу тебе расписание и расскажу, как идти. Будешь ждать?
Вензель оказался слишком маленьким для такого толстого хвоста, и цветущие лианы стали одна за другой выпадать из него, скрывая Рината.
– Буду, – быстро сказала я, пока последние лианы еще держались за деревянный завиток.
– Отлично, – ответил Ринат и, играя связкой ключей, пошел открывать ворота.
Родителей нам с Валеркой действительно досталось мало – всего двое. У одной мамы мы конфисковали копченого палтуса, но все закончилось мирно, а другая устроила скандал на ровном месте.
Ее сын числился в третьем отряде, и хотя его устраивало здесь все, ее не устраивало ничего. Гневно размахивая паспортом, она спрашивала, почему третий отряд так часто дежурит по столовой, почему ее ребенок вынужден участвовать в подготовке всех мероприятий, почему он не спит в тихий час, кто следит за отсутствием в отряде вшей, за чистотой рук и свежестью постелей и как объяснить тот факт, что вчера ее сын не спал до часу ночи, но вожатая все равно подняла его в восемь утра.
Сначала мама просто стучала кулаком по столу, на котором подпрыгивали разбросанные карты и цветы, а потом начала еще и тыкать пальцем в Валерку, но тот сидел со сложенными на груди руками и был совершенно спокоен, чем выводил ее из себя еще больше. Когда претензии мамы закончились, Валерка встал, демонстративно поковырял пальцем в ухе и предложил проводить ее в третий ряд.
– Я еще уточню у директора, есть ли у вас громоотводы, – предупредила мама, выходя из беседки. – И дай бог, чтобы они были, потому что, поверьте мне, дорогая моя, это в ваших же интересах!
Больше в наше дежурство никто не приехал. Когда Валерка вернулся, весь оставшийся час мы честно слушали кукушек, отпускали за хлебом божьих коровок и, черт с ним, играли в дурака, пока на посту нас не сменила Анька. В назначенное время, чем-то взволнованная, она выбежала из-за сосен и чуть не пролетела мимо беседки.
– Дерево любви работает! – объявила она, плюхаясь рядом со мной на скамейку. – Представляешь, меня здесь должен был сменить Виталик, но к нему приехала мама, поэтому он поменялся с Сашкой. Это судьба!
Довольная Анька огляделась по сторонам и понюхала фиолетовый цветок вьюна. Тонкая дудочка облепила нос.
– Какое романтичное место! А это у тебя что?
Я сняла с головы заинтересовавший Аньку венок и положила его на стол.
– Да это Леха все со своими присказками. Сказал, что если сегодня из вьюна сплести венок, то суженый придет. Вот и сплети себе, как раз с Сашкой встретитесь.
Я уже собиралась выйти из беседки, но вдруг замерла у края цветущего балдахина и, пораженная страшным открытием, повернулась к Аньке:
– Никифор Дубодер! Тогда что же это получается? Эта истеричка – мама Виталика?!
К концу второго часа Анькиного дежурства на столе, заваленном конфискатом, лежали уже четыре требуемых для достижения счастья в личной жизни венка, но сменять Аньку пришел почему-то не Сашка, а Сережа. На вопрос, какого лешего он это сделал, Сережа ответил, что Леха вместе с первым отрядом организовал для оставшихся в лагере детей игру «Тропа смелых», в ходе которой Сашка якобы заблудился в лесу и одним из заданий было его найти.
– Ну, Леха… – сквозь зубы процедила Анька и прямо с КПП отправилась на поиски старшего физрука, который, разумеется, специально выдумал эту «Тропу», чтобы скрыться от возмездия.
Но скрыться от Аньки не так-то просто. Через двадцать минут Леха был обнаружен на стадионе с оранжевым конусом на голове и в окружении детей, гавкающей Ленки, замученного Виталика и Гали, которая трясла перед всеми стопкой написанных его мамой жалоб.
Увидев это столпотворение, Анька решила, что она как раз вовремя, и, растолкав Галю, Виталика, Ленку и детей, выложила Лехе с конусом на голове свои претензии по поводу отсутствия волшебных свойств у местной фауны. Ведь мало того что Никифор Дубодер умудрился подвести, так и Дерево любви до сих пор не сработало.
Выслушав ее, Леха снял конус, абсолютно наглым образом хохотнул в него и, неумело прикрываясь тем, что у него три команды по тридцать человек и сейчас у них решающий этап эстафеты, сослался на занятость, но пообещал, что до конца дня Дерево любви обязательно придумает, как свести ее с вожатым первого отряда, которого, кстати, так и не удалось найти ни одной из трех команд.
Аньку это немного успокоило, хоть ей и показалось странным, что Леха в курсе, чье имя она нашептала на ухо шоколадному зайцу, но рядом с невозмутимым видом стояла Галя, поэтому все сразу же встало на свои места.
– Найдется твой Джо, – еще раз повторил Леха и зачем-то напомнил: – Вы, главное, тушенки мне из конфиската отложите.
Несмотря на усиленные поиски, в которых участвовал весь потрепанный родительским днем лагерь, Сашка объявился только в обед.
Обегая средний ряд столов по большому кругу, потому что по малому медленно двигалась тетя Люба, которую обежать было невозможно, он налетел на Аньку и практически вмял ее в полынь, которая росла у подножия странно качающихся берез.
– Мне срочно нужен от тебя ребенок, – держа ее за плечи, объявил Сашка и поймал выпадающую из ее рук стопку тарелок. – А лучше не один.
Одна тарелка все-таки упала и со звоном разбилась.
– Но я сейчас не могу, – промямлила Анька, восхищенная эффективностью Дерева любви. – У нас обед, и Нонка смотрит.
– Тогда вообще зашибись! – сказал Сашка и, придерживая задребезжавшую стопку тарелок, повел ее за вожатский стол под березы.
Под березами выяснилось, что час назад Сашку нашел не Леха с отрядами, а Нонна Михайловна, и не заблудившимся в лесу, а загорающим топлес возле склада на раскладушке Бороды. Увидев такую красоту, то есть безобразие, Нонна Михайловна пришла в ярость и снова потребовала сделать ей приятно.
– Опять нужны маленькие дети, – резюмировал Сашка. – Все, какие есть.
Узнав, в чем дело, Анька сразу скисла, но неожиданно в парах остывающего борща снова забрезжила надежда.
– Пропуск во второй корпус, – объявил Сашка, выкладывая на стол обожженное по краям письмо. – Шифровка для ваших. В каждом слове нужно читать только третьи буквы. Детей займем игрой, сами у меня потусим.
Женька взял воняющую гарью шифровку и, брезгливо оттопырив мизинцы, стал разворачивать послание.
– Подол полковника повесьте в первый ряд, где висело, – прочитал он.
– После полдника приходите в первый отряд, будет весело, – поправил Сашка. – Тяжелое дежурство?
Женька кивнул, хотя на КПП не дежурил. Ему досталось разбираться с родителями в корпусе, а это бывает куда хуже. Одной маме не понравилась степень чистоты белья, и она потребовала его срочной замены. Борода белье не дал, но Женька не растерялся: потряс его в сторонке и выдал за чистое. Маму это устроило, но тогда замены белья потребовали все родители, находящиеся в корпусе, и трясти пришлось еще семь комплектов.
Еще была мама Наташи, которой не понравилось, что ее дочь живет в палате у вечно открытого пожарного выхода, а она слышала в электричке, что в местных лесах бродят цыгане и воруют детей на органы. Тогда Женька предложил заколотить пожарный выход досками, но это не понравилось другим родителям. Случайный пожар пугал их больше, чем живущие в местном лесу цыгане без органов.
– Ладно, – сказал на все это Сашка, – тогда тем более приходите. Покурим, конфиската поедим. Маринка расскажет, где она сегодня ночевала.
Это называлось «гостевины» – старинная лагерная традиция ходить отрядами друг к другу в гости и устраивать совместные игры. Нонна Михайловна любила, когда устраивали «гостевины». Это сближало.
После полдника в туалете, сидя на кафельном полу, Ваня, Вова и Валерка пытались расшифровать Сашкино приглашение.
– Ой, да что тут думать-то? Все же понятно. Вот: «В поле с подоконника прыгайте все подряд, будет месиво».
Еще раз проверив, что все правильно, Валерка достал из кармана сложенный листок бумаги, послюнявил карандаш и стал сочинять ответ.
– Зажигалку дай? – обратился он к Женьке. – Края надо обжечь.
У Женьки зажигалка была, но сознаваться в этом перед детьми было не принято, поэтому он помотал головой и предложил намочить записку под краном, чтобы расплывающиеся буквы выглядели как настоящая шифровка.
– Точно! – обрадовался Вова. – Потом в пустую бутылку засунем. А бутылка есть?
Бутылки тоже не оказалось, и Валерка разочарованно вздохнул:
– Какие-то вы неправильные вожатые: ни зажигалки, ни бутылки. Первый раз такие попадаются.
Правильные вожатые жили на втором этаже второго корпуса, и после полдника, несмотря на отчаянное сопротивление Сережи, мы отправились туда.
Внешне второй корпус был точно таким же, как наш: двухэтажный, бело-голубой, с большим подъездом под шиферным козырьком. Но звуки, запахи, само устройство человеческого общежития – все было другим.
На первом этаже жили второй отряд и его вожатые Эдуард с Татьяной и Леха, а второй этаж занимали Сашка с Маринкой и их шестнадцатилетние дети. К вечеру оба этажа гудели, как растревоженный улей, и корпус, как живой, раздувался и пучился, не выдерживая этой концентрации жизни.
На натянутых под карнизами веревках, как разноцветные флаги, развевались выстиранные юбки, полотенца, наволочки и шорты, а над ними желтыми пузырями вздымались выброшенные сквозняком шторы.
Почти все девочки почему-то только что помыли головы и, высунувшись по пояс из окон, сушили волосы вафельными полотенцами. Мальчики оголили торсы и тоже торчали из окон, демонстрируя девочкам субтильные фигуры. Между ними происходил какой-то диалог, но из открытого окна Сашкиной вожатской так громко орали Blink-182, что понимали они друг друга с трудом.
– What’s my age again?[1] – спрашивали у девочек Том Делонг и Марк Хоппус.
– Да пошли вы! – радостно визжали девочки с полотенцами на головах.
По козырьку, подобрав юбку, босиком бегала Маринка и собирала чьи-то упавшие с веревки носки. Внизу возле подъезда, не обращая внимания на то, что корпус за его спиной вот-вот лопнет, как перекаченная камера, стоял умопомрачительный Сашка и демонстрировал лучшую из своих улыбок.
– Ну мы вас заждались, – сказал он, пожимая Валеркину руку, испачканную в сгущенке.
– Да пошли вы! – донеслось со второго этажа.
Валерка, как большой, сплюнул себе под ноги и достал из кармана промокшую шифровку.
– Мигом из носа убирай козу, – прочитал Сашка.
– Мылом носки стирай в тазу! Месиво давайте, как обещали.
Сашка, не целясь, стрельнул бронебойными куда-то в сторону, запустил пальцы в волосы и пронзительно свистнул. Тут же, пока свист носился между верхушками сосен, девочки и мальчики исчезли в окнах, Маринка с носками запрыгнула на подоконник, желтые пузыри сдулись, ветер стих. В панике хватаясь за мою руку, блаженный стон испустила Анька. Сережа отвернулся и закатил глаза.
– What the hell is wrong with me?[2] – испуганно спросили Blink-182. И сами же себе ответили: – My friends say I should act my age[3].
В коридоре, пропахшем подростковыми телами, дешевыми духами, шампунями и хлоркой, встречая нас, толпились почти взрослые мужчины и женщины. С мокрых волос на голые плечи текла вода, от растянутых футболок разило табаком и явно не столовской едой. Впереди стояла Маринка. Она была ниже всех своих детей и из-за коротких косичек и пухлых губок казалась их младше.
– Мы так вас ждали! – сказала она. – У нас тут полная катастрофа!
Маринка присела перед Валеркой на корточки и взяла его за липкую руку.
– Борода украл весь ужин. – Тяжелый вздох. – Все двести порций. Теперь его нужно немедленно найти. Но сначала вы должны составить фоторобот и расклеить его по всему лагерю. – Еще один тяжелый вздох. – Придется опрашивать свидетелей и ходить по его следу в непроходимом лесу.
Маринка так натурально страдала, что Женька сам чуть не бросился составлять фоторобот и расклеивать его по всему лагерю.
– Вот бланки.
Она поднялась и взяла у одной из девочек пачку листов А4 с надписью внизу: «Внимание: розыск».
Получив такое интересное задание, но имея в своем подчинении всего пятнадцать человек, потому что остальных до вечера забрали родители, Валерка расстроился. Но Сашка умел делать приятно не только Нонне Михайловне. В его распоряжение он отдал весь свой отряд и старшую вожатую в придачу.
– Итить! – воскликнул обрадованный Валерка и с бланками для фотороботов стал пробираться в игровую.
– Веревка есть связать его? – крикнул он оттуда, увлекая за собой объединенный отряд. – А кляп можно из этих носков сделать? А вы в поле прямо отсюда прыгаете?
Когда коридор опустел, Сашка с хрустом потянулся. Наступала его любимая часть «гостевин», которая должна была пройти в святая святых лагеря – мужской вожатской первого отряда.
Как и подобает молодому Делону, Сашка жил в чилауте, то есть в комнате у пожарного выхода, в которой в четвертом корпусе можно было нарушать любые правила. Все здесь – от протертого пола до облупившегося потолка – пропахло сладким запахом порока. И карболкой, конечно же.
Вдоль шкафа выстроена ровная батарея кроссовок и кед, на дверце огромный плакат с Бритни Спирс в прозрачном платье, у которой черной изолентой заклеен рот. На тумбочке несколько разных гелей для душа с изображением мужчин с рельефными торсами, которые как бы намекают на то, что выходит Сашка за ними из ванной тоже голый.
Кровати такие же, как у нас, – панцирные, застеленные покрывалами с рисунком «турецкий огурец», но не зелеными, как у всех, а синими, которые, должно быть, ввиду редкости ценились здесь выше.
На стоящем у окна стуле горой навалены джинсы, футболки, шорты, сверху небрежно брошена белоснежная рубашка, на столе под бумагами блестит полукружье стеклянной пепельницы с одной затушенной сигаретой Winston. Эта яркая деталь, видимо, призвана подчеркнуть, как на самом деле глубоко одинок хозяин этой комнаты.
– Как милая вещица, – сказала Анька, разглядывая абсолютно обычную пепельницу. – Чешский хрусталь?
Сашка забрал у нее пепельницу и щелчком отправил сигарету в ведро.
– Не знаю. В баре на Никольской спер.
Возле пепельницы, мигая всеми кнопками, крутит диск CD-плеер с колонками, рядом валяются раскрытые пластиковые боксы с затертыми обложками: My Chemical Romance, The Offspring и Blink-182.
– Панк-рок? – спросил Сережа из вежливости.
– Нет, – ответил Сашка, расчищая место на кроватях. – Я вообще-то Френка Синатру люблю, а это просто день тяжелый был. Да вы проходите, куртку мою бросьте в кучу там…
– А это что? – спросила я, обнаружив под списками и сценариями хвост знакомого палтуса.
– Да, кто-то на КПП копченого сибаса оставил.
– Са-аш, – забеспокоилась я. – Ты дежурил с двух до четырех, а на улице плюс тридцать!
– Да что ему будет?
Усадив Аньку на кучу джинсов, а всех остальных на кровати, Сашка достал из ниши тумбочки коробку конфет, сдернул с нее целлофан и предложил начать сразу со сладкого. Все отказались, но конфеты были с ликером, и все согласились.
– Что здесь еще… Тунец, тушенка… Нет, это долго.
Ящик тумбочки был немедленно вытащен, а его содержимое вывалено на кровать рядом с Сережей и Женькой.
– Тушенка! – обрадовалась я. – Лехе отдайте, он просил. Стоп! А это что? – Я вытащила из кучи запрещенных продуктов упаковку презервативов Durex и положила ее на ладонь. – Это тоже детям передали?
– Нет, – сказал Сашка, чуть ли не с благодарной улыбкой забирая коробку, – это Маринка свои у меня прячет.
За дверью послышался топот, детская рука просунула в приоткрытую дверь два фоторобота: один Карла Маркса, другой Фиделя Кастро.
– Подойдет? – спросили из-за двери.
– Подойдет! – крикнул Сашка и отпустил отряды на поиски Бороды.
Сидя на кровати, Маринка вытянула ногу и пнула Сашку по крепкой попе.
– Да что ты несешь? Не мои это!
Когда выяснилось, что упаковка все-таки Сашкина, Женька расслабился, Анька напряглась, Сережа пошел пятнами, я взяла еще одну конфету.
– This state looks down on sodomy[4].
Оставшийся куплет дослушали, молча перебирая конфискат, но все остальное уже не производило такого впечатления, как выброшенный в нижний ящик тумбочки гвоздь программы. Сашка сел на стул и стал намазывать на хлеб перекрученного через мясорубку тунца. Анька, с трудом приподняв свой стул с ворохом джинсов, подсела к нему.
– Расскажи, как вы со своими справляетесь? Ведь это почти взрослые мужики. Они же ничего не боятся, а ты их строишь, как телят.
Сашка передал Аньке откусанный бутерброд и разгреб бумаги на столе. Под ними оказалось штук пятнадцать мобильных телефонов, ожидающих своей очереди на зарядку.
– За косяк идет в конец очереди. – Сашка снова прикрыл телефоны списками и закинул ногу на ногу. – Ну и чем больше отрядок, тем меньше времени на дурь.
Анька с восхищением посмотрела на бумаги, и с еще большим – на Сашку.
– Ты это сам придумал? Это же гениально! А Бороду по фотороботу искать?
Темная бровь медленно приподнялась, уголок присыпанных сахарной пудрой губ тоже.
– Я вожатый. И я должен… много чего. – Сашка, не поворачивая головы, бросил взгляд в окно и двумя пальцами отстучал по мигающим кнопкам плеера длинную комбинацию.
Плеер зашуршал и затих, и стало слышно, как где-то внизу – похоже, уже давно – кричал Борода:
– Христом Богом клянусь: не брал я ваш ужин! Понапридумывают всяк-кую ерунду, людям работать не дают!
– Вяжи его!
На лестнице послышались топот ног, Валеркин сиплый смех и визг каких-то девочек:
– Да пошли вы!
Спустя секунду дверь распахнулась и десяток рук втолкнули в вожатскую грозящего кому-то кулаком Бороду.
– Христом Богом, – повторил Борода и уставился на вываленный на кровать конфискат. – А это у вас тута чаво?
Трясущимся пальцем он указал на блок сигарет Winston и встретился взглядом с Сашкой.
– Нет, это не могу, – сказал тот и убрал сигареты в тумбочку. – Это детские.
– По-онял, – протянул Борода. – Все лучшее детям. А тама чаво?
«Тама» было все – от тушенки с гречкой до компота из ананасов. Не глядя, что берет, Сашка собрал для Бороды пакет снеди, бросил сверху две банки пива и вдобавок положил три пачки сигарет из заинтересовавшего его блока.
– За моральный ущерб, – сказал Сашка, протягивая ему пакет.
Борода буркнул «спасибо» и, шурша пакетом, вышел в коридор. Уходя, мы получили такой же. Тоже за моральный ущерб.
– Nobody likes you when you when you’re 23 and you still act like you’re in freshman year[5].
– Да пошли вы!
Весь вечер над лагерем собирался пойти дождь. Злились комары, ветер нагонял тучи, но капли как будто высыхали, не долетая до земли. Анька достала из чемодана какой-то аэрозоль со страдающей мухой на этикетке и, стоя перед зеркалом, стала яростно им трясти.
– Побрызгать в коридоре? Загрызут ведь. – В зеркале она поймала мой взгляд. – Ну что ты на меня опять так смотришь? Каким он должен быть? Он вожатый первого отряда. Им иначе не выжить. Нонка потому за него и держится, что он так свистеть умеет.
– Думаешь, только поэтому? И нормально я смотрю. Нравится – пожалуйста! Но презервативы он специально на кровать вывалил, причем чуть ли не Сереже на колени. Для парня внешняя красота – это как инвалидность: остальные мужские качества за ненадобностью атрофируются.
Анька недовольно хмыкнула и принялась с еще большим остервенением трясти аэрозоль. Я подошла сзади и обняла ее за плечи. В прямоугольном зеркале без рамы отразились два уставших, но очень симпатичных лица: одно – с веснушками и острым носом, другое – большеглазое, с четкой линией собранных в хвост темных волос. Женька называл этот цвет «парижские каштаны».
– Ладно, – сказала я веснушчатому отражению. – Если у вас все получится и ты будешь с ним счастлива, я буду рада. Честно. Но только если ты потом не пожалеешь!
– А ты заметила, как он на меня смотрел? – тут же обрадовалась Анька.
Продолжили хором:
– Как будто его разрывают агония страсти и боль от того, что вам не суждено быть вместе!
– Распыли в коридоре свое химоружие, пока Женьки нет, – попросила я. – Не удивлюсь, если у него аллергия.
Спустя час, когда вернувшийся с планерки Сережа раздал карты, а Женька перестал задыхаться от приступа астмы, по жестяному карнизу застучал дождь. Тучка собралась маленькая, но стояла такая сушь, что те, кому нужна была вода, радовались и этому.
Засеребрилась под фонарями полынь, зазеленели листья лопухов, зашумели, приветствуя дождь, сосны. За вторым корпусом пробудилось ото сна Дерево любви. Распушилась рябина, поднял ладони к небу клен. И, благодарные ветру за приятный подарок, стали они думать, как помочь вожатой пятого отряда обрести желанное счастье со смазливым балаболом из второго корпуса. Но нет ничего невозможного для Дерева любви. К тому же шоколадный заяц ему очень понравился.
– Что это?! – Анька заглянула в огромную сковороду с жареной картошкой, которую принес Сашка. – Где ты это взял?
Взять жареную картошку в лагере было негде. Вообще что-либо жареное достать было невозможно, потому что требования к организации питания детей в лагерях полностью исключают такой вид блюд из ежедневного меню, но способ не скиснуть на паровых котлетах все же был. Его изобрел Леха, который обычно начинал киснуть на паровых котлетах уже на четвертый день.
Для осуществления своего плана рано утром, дважды послав меня на фиг и вручив встретившемуся ему в коридоре Женьке две бутыли для кулера, Леха заскочил в вожатскую за хозяйственной сумкой и отправился по лесной дороге в сторону деревянных ворот.
Дойдя до них, он свернул на тропинку, которая вела вдоль бетонного забора, но не в сторону поляны со свечками в стаканах, а в противоположную от нее. Через полкилометра в заборе на своем обычном месте Лехой была обнаружена дырка размером достаточным, для того чтобы через нее пролез Борода, но не старший физрук детского лагеря. Громко крякнув, Леха перемахнул через забор и продолжил свой путь по той же тропинке. Вскоре он подошел к местному магазину, где приобрел банку растворимого кофе (разумеется, в кредит, потому что платить сразу в подобных заведениях считается дурным тоном).
Вернувшись в лагерь тем же маршрутом, Леха отнес кофе в пищеблок и тайно передал ее выпускнику кулинарного училища Олегу. Получив заранее оговоренную плату за услуги, Олег вынес к запасному выходу электрическую плитку на один блин, сковородку, килограмм сырого картофеля и пятьдесят граммов подсолнечного масла на дне пластиковой бутылки без этикетки.
– Леха просил вам передать. – Сашка поставил сковороду на стол, снял ветровку, бросил ее на стул и сел рядом на свободный. – У нас поход по сетке, но отменили из-за погоды. Думал, высплюсь, а тут Леха с этой картошкой: «Сходи, сходи».
Сашка посмотрел в потолок, показывая, что спорить было бесполезно, и забросил ногу на ногу, демонстрируя, что уходить не собирается. Учуяв сладковатый, уже подзабытый запах жареного, к сковороде подсел Женька и начал противно царапать по дну алюминиевой вилкой. Анька глупо заулыбалась, думая, что выглядит загадочной, Сережа пошел пятнами и засобирался к себе. Сразу же после того как Женька опустошил сковороду, оба ушли.
Под усыпляющий стук капель по карнизу Сашка еще долго рассказывал что-то про Леху, расстегивал верхние пуговицы рубашки, запускал пальцы в мокрые волосы, смотрел, как, слушая его, Анька наматывает на палец рыжий локон, и после трехминутной перестрелки взглядами был уже не только не против, но и как будто за.
– Сыграем? – спросила Анька и махнула перед ним крестовым королем. – Ставлю поцелуй.
Сашка шумно выдохнул и облизнул вдруг пересохшие губы:
– Сыграем.
Молча, что на Сашку было не похоже, он помог Аньке собрать карты и за руку повел из вожатской, потому что мне (это было частью плана) сильно захотелось спать. Буднично, просто, как будто они шли строить отряд, Анька первая перешагнула порог и, даже не оглянувшись, исчезла в коридоре. Теперь главное – чтобы она не пожалела.
– А иначе, – сказала я сама себе, – он получит вот этой сковородой прямо по своему распрекрасному лицу!
Я взвесила в руке сковороду: сгодится – большая и чугунная. Рядом со сковородой оказались две банки тунца, банка соленых огурцов и чипсы с сыром, и только сейчас я поняла, как сильно хочу есть. Хлеб в перечень запрещенных продуктов не входил, поэтому чипсы пришлось макать в тунца и заедать все это конфетами с ликером.
За банкой с огурцами нашелся Женькин блокнот для планерок. Соорудив себе какой-то трехэтажный бутерброд без хлеба, я открыла блокнот на сегодняшнем числе.
У Женьки был очень красивый почерк: почти без наклона, с размашистыми вензелями. Первой записью оказалась матерная частушка. Прожевав бутерброд, я громко и выразительно прочитала ее вслух:
- На горе стоит сосна,
- Ветки сильно гнутся,
- А Пилюлькин с медсестрой
- Под сосной…
«Смеются», – сверху дописала я, но вслух сказала так, как было написано. Дальше шла переписка с Галей по поводу того, что Валерка соревновался в плевках в длину с кем-то из третьего отряда и заплевал все трибуны на линейке. Ниже следовал написанный ее рукой анекдот про Чапаева и Анджелу Дэвис.
Больше в Женькином блокноте ничего не было. Я положила его на кровать, потому что стол уже был забрызган маслом, потянулась к консервной банке и с удивлением обнаружила, что у меня закончился тунец, а у Рината начался вечер. Неизвестно, как долго он стоял в дверном проеме, но, судя по улыбке, частушку он слышал.
– Привет, – сказал Ринат и, как будто оказавшись в давно знакомой комнате, по-хозяйски прошел к окну.
За стеклом в высыхающих каплях ничего не было видно, кроме белого плафона с летающими вокруг мошками, но он нахмурился.
– Вы единственные видны из изолятора. Пилюлькин может заметить свет и прийти. Пока еще рано, но после часа придет точно, а у вас такой натюрморт на столе.
– Хорошо, выключу, – пообещала я. – А еду съем.
Ринат сказал, что нисколько в этом не сомневается, потом взял со стола ручку, я подала ему Женькин блокнот. Он сел на стул, крякнула сломанная спинка, и на чистой странице начали вырастать палочки – сосновый лес, капельки – кусты сирени, а за ними – маленький квадрат – его дом.
– После тихого часа придете… Это он? – не отрываясь от своего занятия, Ринат постучал другим концом ручки по сборнику Губанова. – Поэт твой?
Ринат передал мне блокнот, полистал книгу и прочитал первое попавшееся четверостишие:
- «И за плечами у меня
- Ночь, словно алый-алый бархат,
- И крылья белого коня
- Лишь белою сиренью пахнут».
Остальную часть стихотворения он только пробежал глазами.
– О чем это? Почему бархат алый, если ночь черная?
– Это какие-то метафоры, – сказала я. – Мы и сами, если честно, не понимаем, о чем это. Как шифровки какие-то. А там так и написано про коня и белую сирень?
Ринат не ответил, только еще раз взглянул на закрытую книгу и взял Сережину гитару:
– Ты играешь? Это более понятная для меня вещь.
– Это Сережина. Он нам обычно играет по вечерам что-то из Янки, но сегодня не получилось.
– Я тоже могу сыграть что-нибудь из Янки, – сказал Ринат, перебирая струны. – И тогда день для тебя закончится как обычно.
Он предложил мне выбрать песню, но, учитывая фривольность Янкиных текстов, выбор оказался невелик.
– «Нюркину песню», – попросила я. – Сегодня очень хочется послушать песню об одной девочке, которая любит фотографии, звездочки и сны.
– Ну да, – Ринат снова улыбнулся куда-то в сторону, и пальцы быстро побежали по струнам.
Предательские волоски! Я обняла себя за плечи и стала с удивлением вслушиваться в сто раз слышанные раньше слова. Песня была об Аньке, прямо как пророчество: про разбросанные по углам карты, про приходящих женихов и потерянную радость.
Закончив играть, Ринат отложил гитару:
– Тебе не понравилось? У тебя такое лицо…
– Нет-нет! Не обращай внимания. Мне правда понравилось. У тебя очень красивый голос: низкий, все как надо. Просто песня, наверное, неудачная. Может, сыграешь что-нибудь еще? Ты ведь не спешишь?
Ринат посмотрел на часы.
– Не спешу, – сказал он, – но должен предупредить, что через две минуты нам придется выключить свет и тогда мы окажемся в полной темноте. Здесь вдвоем. Ты по-прежнему хочешь, чтобы я остался?
Ах и ух, товарищ пионервожатая. Я вскочила с кровати и стала выпихивать его из вожатской.
– Тогда иди скорее отсюда! Иди, иди, не надо мне тут!
Как только за ним закрылась дверь, я выключила свет и с досады стукнула кулаком по стене. Темнее не стало! Фонарь стоит прямо напротив окна и светит так, что в вожатской светло как днем, и Ринат, похоже, знал об этом. Я подошла к окну и дернула на себя створку. Посыпалась краска, запахло дождем и улицей. Ринат стоял под фонарем, задрав голову, и старался не засмеяться.
– Фонарик дать? – спросил он, жмурясь от слепящего света.
– Не надо, и так светло, – признала я очевидный факт. – Но в следующий раз все равно пораньше приходи.
День 5-й
– Он ее… трогал?
В нос ударил запах консервов, в ушах глухим бубном стало отдаваться чье-то совсем близкое прерывистое дыхание. Я открыла глаза и вернулась в этот мир как из глубокого обморока. У стола стоял белее, чем гипсовая трибуна, Сережа и показывал на Анькину аккуратно заправленную постель.
– Я спрашиваю, он ее трогал? – чуть ли не задыхаясь, повторил он наверняка уже десятки раз прокрученную в голове фразу.
На кровати рядом с подушкой, которая торчала пухлой шишечкой, как того требовал Пилюлькин, лежала Сережина гитара. Ласково он называл ее Альдера и относился к ней как к живому существу, более того, как к женщине: восторженно любил ее плавные изгибы и ревностно следил, чтобы больше никто к ним не прикасался. Поэтому первой мыслью стало, что Сережа имеет в виду гитару, которая, если следовать его логике, побывала этой ночью в объятьях любовника.
– Не волнуйся, он был с ней нежен, – попыталась пошутить я и проследила Сережин взгляд.
Шутка оказалась неудачной. Глазами, полными ужаса и какого-то тупого отчаяния, он смотрел на Сашкину ветровку, которая висела на спинке стула, и пытался проглотить подступивший к горлу ком. Я дотянулась до его пальцев и подергала за руку, лишь бы он перестал смотреть на эту ветровку.
– Сережа, ничего страшного не произошло, – как можно спокойнее сказала я. – Никто об этом не узнает.
Сережа очнулся, перевел взгляд на меня, и живые позавидовали мертвым.
– Не произошло? У вас вообще мозгов нет?! – задыхающимся шепотом произнес он. – Здесь целый этаж детей! А она знает его четыре дня! Четыре дня всего!
– Сережа, не надо так. Анька вообще-то не такая. Ты даже представить себе не можешь, насколько она не такая. Если хочешь знать, это ее… – Я запнулась. – Переклинило ее, вот и все.
– Переклинило?! – Дальше Сережа начал накручивать себя с наслаждением мазохиста: – Просто переклинило! И часто вас так клинит? Четвертый день! Она его знает четыре дня, и они уже переспали! Где? Прямо на нашем этаже? Или хотя бы вниз спустились?
– Сережа…
Не дождавшись более развернутого ответа, Сережа направился к двери и, собираясь покинуть эту цитадель разврата, чуть не налетел на свою непутевую напарницу.
– Доброе утро, – пискнула она, протягивая к нему сразу обе руки, но Сережа шарахнулся от нее в сторону, так и не сказав ничего из того, что только что выслушала я.
Анька вошла непричесанная, в одной длинной футболке и кроссовках на босу ногу. В руках джинсы, в глазах недоумение.
– Что это с ним? Я так ужасно выгляжу?
– Ведь тебе это абсолютно неважно, – сказала я, но тут же растянула улыбку до ушей: – Расскажи же! Расскажи, как у вас там все прошло? Сыграли?
Анька забралась ко мне на кровать и натянула на себя край одеяла.
