Читать онлайн Комендань бесплатно
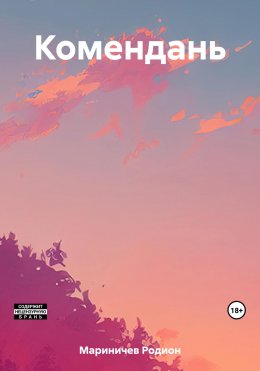
1
Соседка Тамара с десятого сломала ногу. Поскользнулась на крыльце парадной – и на тебе: очнулся – гипс! Чего тут, впрочем, удивительного? Оба крыльца у нас – что парадное, что запасное, – сплошной каток, и временами вплоть до самого мая. В этом году, правда, и зимы-то, считай, не было, а вот теперь вдруг ни с того ни с сего – мороз. Вот и намёрзло. Дворники говорят, это всё из-за ветров: дуют и дуют, и от этого на ступенях култышки из льда. Дворники ещё не то расскажут – ты им больше верь! У них там, на югах, все сказочники, как Старик Хоттабыч. А вот руки-то не всегда из нужного места растут… Вот и снова не почистили, как надо. Я и сама недавно там чуть не растянулась, хотя уже апрель…
Таня проговаривает всё это про себя, глядя в окно. Отсюда, с высоты шестнадцатого этажа, виден отходящий от остановки троллейбус, похожий на неуклюжего жука. Сейчас он доползёт до перекрёстка, повернёт налево и исчезнет за бежево-изумрудной панелькой, которую в народе называют “китайская стена”. А Таня тем временем продолжит поливать цветы: раскидистую бегонию, которая давно мешает задёргивать штору, кактус, расцветший лишь однажды примерно в такие же холода, пальму, которую давно пора пересаживать в напольную кадку, да всё руки не дойдут… Таня поворачивает ручку и откидывает створку стеклопакета, впуская холодный апрельский воздух. Сегодня с утра мело, хотя скоро уже день космонавтики, а там и майские на за горами. Пустыри, кусты и беспорядочно разбросанные деревья присыпаны снегом, и он медленно тает. Мчащаяся машина, пытаясь проскочить на жёлтый, цепляет лужу и поднимает за собой целый фонтан. Таня выливает последнюю каплю на макушку неприхотливому кактусу и несёт лейку в ванную, где ставит в бирюзовый шкафчик, под цвет смальты на стене. Там же у неё, помимо порошков, хозяйственного и душистого мыла, давным-давно завалялась целая связка свечек – на тот случай, если отключат свет. Правда, такого не было уже лет сто, но муж в своих привычках военного неисправим. У него под рукой всегда должен быть сухой паёк, “средства защиты” и осветительный прибор. Фонарик, естественно, тоже имеется, но свечки надёжнее. Правда, спички ещё нужны, но и они есть, понятное дело.
Выйдя из ванной, Таня заворачивает на кухню, кладёт в пакет несколько пирожков с повидлом, которые испекла накануне, затем выбегает в прихожую, суёт ноги в сапоги, хватает сестринскую аптечку и спускается на десятый этаж. Ключ у неё есть – Тамара отдала его, как только вернулась из больницы.
В прихожей у Тамары – почти библиотека: книжные полки поднимаются под самый потолок. Напротив вешалок с одеждой каким-то чудом уместился стеллаж, заставленный сверху донизу толстыми литературными журналами за давно минувшие десятилетия, с одинаковыми корешками, издающими “библиотечный” запах: смесь пыли, бумаги, выцветшей типографской краски… Таня опирается об угол стеллажа и снимает сапоги, в который раз соображая, что могла бы спуститься и в тапочках – но учительскую привычку к порядку уже не выветришь, даже если она временами зашкаливает.
Тамара сидит перед телевизором, откинувшись на спинку разложенного дивана. Загипсованная нога лежит на приставленном стуле.
− А я тебя уже и не ждала, – напористо начинает она.
− Мне уйти? – ухмыляется Таня.
− Ща! Уйдёт она! Ты же мой единственный луч света в тёмном царстве!
− С повидлом. Ночью пекла, – Таня шмякает пакет с пирожками на диван рядом с Тамарой, – Подгорели, правда, немного, но есть можно.
− С каким повидлом-то хоть? Не с черносмородиновым, надеюсь?
− Так, ну-ка дай сюда! – Таня цепляется за пакет, но Тамара ловко перехватывает, и они тянут его каждая на себя, как две школьницы, которые не поделили портфель.
− Ну, хорош, кончай! – хохочет Тамара, – Ты мне сейчас всю постель повидлом уделаешь. А чёрную смородину хрен отстираешь, и мне до морга придётся спать на пятнистой простыне.
− Этого добра я тебе могу тебе целый тюк принести, – сдаётся Таня, отпуская пакет, – Я вон медсестру знакомую попрошу, она в больничке работает. У них там все простыни пятнистые, сама была, знаю.
− Обоссаные, что ли?
− Какие угодно. Тебе обоссаных притащить?
Тамара хихикает прокуренным голосом. Такое ощущение, что там у неё, внутри, что-то звенит или сыплется. Она громко кашляет в ладонь и, наконец, заглядывает в пакет.
− Ммм, Тань, с малиновым что ли?
− С пердариновым.
− Ну, хорош, не обижайся на старую училку! Я вообще только три варенья признаю: малиновое, клубничное и вишнёвое. А чёрная смородина или какой-нибудь крыжовник ебучий – это вообще дрисня дриснёй…
Морщась, Тамара переключает канал, и на экране появляется бровастый мужик в военной форме. Он что-то поёт своим ярко выраженным тенором, но из-за слишком тихого звука невозможно разобрать ни слов, ни мелодии.
− На Брежнева похож, – ухмыляется Таня.
− Брежнева нам тут только не хватало! – опираясь на костыли, Тамара выключает телевизор, встаёт с дивана и чуть не падает. В последний момент Таня успевает её подхватить.
− Эй, ты чего втопила-то? Сейчас бы голову расквасила – и готова.
− Ну, вызвала бы патологоанатомов – и делов-то, тоже мне! Пойдём, что ли, треснем. У меня там ещё коньяк хороший остался. Сашкин!
− Я сегодня уже треснула с утра. Может, хватит?
− Ишь ты! Где успела-то?
− У нас же у Тюленя день рождения.
− У Тюленя-то? Хо-хо! И сколько ж ему? Семьдесят четыре?
− Откуда я знаю?
− Так он всё к тебе свои шары-то подкатывает…
− И дальше-то что? Ко мне много кто подкатывал. И не только… шары…
Тамара снова звеняще хихикает.
− И чем он угощал?
− Шампанским.
− Ну, это серьёзно… А ананасы были для композиции?
− Художника может обидеть каждый. Хорош глумиться над коллегами! Ногу-то будем смотреть или нет?
− Сейчас осмотрим. Что, одно другому мешает, я не пойму?
Тамара ковыляет в сторону кухни, осторожно пробираясь мимо очередного книжного стеллажа, мимо торшера благословенных брежневских времён, мимо чёрно-белой гравюры между ванной и туалетом (Исаакиевский собор зимой), мимо холодильника, на боковине которого красуется постер Арбениной. Кухня у Тамары – уголок престарелого рокера: прямо над столом – лохматый Цой с сигаретой в зубах, тоже чёрно-белый и как бы слегка пересвеченный, над холодильником – древняя-предревняя афиша “Арии” (её певческий состав сверкает голыми плечами), с простенка у окна смотрит очкастый Шевчук.
− Усаживайся вон туда, к Юрке! – кивает Тамара, указывая на стул аккурат под портретом Шевчука.
− Он будет меня своими очками сверлить в затылок?
− Он тебя благословит на пару фужеров. Правда, в нём есть что-то чеховское?
− В ком? В Шевчуке-то?
− Ну, не в Арбениной же! Достань-ка там, кстати, фужеры. Они прямо за тобой в шкафчике.
Коньяк у Тамары заграничный, французский, а к нему – маслины, мандарины, орешки кешью и сыр с плесенью.
− Санкционка! – ухмыляется Таня, поддевая вилкой ломтик.
− Хо! Ещё какая! Прямиком из Хельсинки, ты же знаешь… Ну, ладно, вру, из Лаппеэнранты.
− И что бы ты делала без Сашки?
− Выбросилась бы из окна. К чёртовой матери. А так добрые люди не забывают. Вот ты зайдёшь – пироги с повидлом принесёшь, а тут мне Сашка коньяка привёз и сыра. Это уже остатки, я тут, думаешь, на него смотрю? Только и делаю, что к холодильнику подхожу – это же тебе не наш пластилин с дырками.
Таня кусает мандарин и качает головой, будто принимает домашнее задание у какого-нибудь шалопая, каких хватает даже в их элитной школе.
− Сашка, значит, у тебя часто бывает?
− Бывает, рэкетир наш деревенский! – Тамара кусает упаковку с красной рыбой и рвёт её. – Вот, попробуй. Тоже ваша, финская. Без Сашки я бы и до больницы доехала только к утру. Он же меня в тот день из школы подбрасывал…
− Да знаю я, что ты мне рассказываешь! Вся школа уже знает!
− Ну, я из машины вышла и привет нашему крыльцу. Я орать. Ну, он тут сразу: Тамара Петровна, Тамара Петровна, что с вами? А у Тамары Петровны уже нога пополам…
− Хорошо, что он рядом оказался, – цокает языком Таня, дожёвывая рыбу, – А тот так и лежала бы.
− Да уж, пизданулась так пизданулась. Я с мотоцикла и то так не летала.
Она наливает коньяк и поднимает свой фужер.
− Ну, давай, что ли, Тань, за здоровье! В Питере пить, как говорится…
− Это точно… – вздыхает Таня, – Всё забываю, кто так говорил.
Тамара проглатывает коньяк и закашливается. Таня стучит ей по спине.
− Шнур это. Ты что, песню эту не знаешь? Я сейчас её найду тебе… Эх, балда! Телефон в комнате забыла…
− Да сиди ты, потом найдёшь!
− Вообще, Шнур в последнее время подзаебал со своими стишками на злобу дня. – Тамара берёт кусок сыра и изысканно кладёт в рот, почти как тургеневская барышня, – Кто-нибудь чё-нибудь скажет – у Шнура стишок, где-то пёрнули – у Шнура стишок. Я одно время думала хоть один с детьми на уроке разобрать, проанализировать, потом думаю – да ну, нахер!
Она осушает фужер и берёт ещё сыра. Плесень на нём – пятнышко к пятнышку, и пахнет он, как настоящий европейский сыр: трёхдневными носками или загрубевшей пяткой – кому как нравится. Тамара хватает обеими руками загипсованную ногу и плюхает её на табуретку.
− Стреляет, зараза! Особенно когда давление скачет. Погода-то у нас, как обычно: тудысь-сюдысь.
Таня встаёт из-за стола, подходит к лежащей на табуретке ноге и нажимает.
− Вот тут болит?
− Неа…
− А тут?
− Ох, твою ж мать!.. – Тамара морщится от боли, – Тань, я тут у тебя, как на электрическом стуле…
− Думаю, ещё недели три ты точно посидишь, – хмурится Таня, – А к майским, при хорошем раскладе, может, и снимут. Это конечно, с врачом надо. Я-то не врач, а сиделка. Но врачом когда-то хотела стать, да вот, видишь, дёрнуло в историю вляпаться…
− Тань, давай по второй…
− Пей одна, мне уже хватит…
− Ну, хорош! Я тебе алкоголичка, что ли, одна пить? Давай по последней – тут и пить-то уже нечего особо. Хороший коньяк – он как неверный муж: был – и нету!
Одно время Таня была уверена в том, что Тамара – лесбиянка. Она носила широкие бесформенные штаны – не то джинсы, не то вообще какую-то дерюгу, высокие ботинки на шнуровке, спортивные куртки. Иногда к ней ходили ученики. Она стриглась чуть не под ёжика, курила что-то крепкое и в таком виде каким-то чудом работала в одной из лучших школ района. Так, по крайней мере, говорили про их школу во всей округе.
Но “училкой” Тамара была не всегда. По её же рассказам, давным-давно она то кассетами торговала где-то в центре, то училась в “Герцовнике”, как сама его называла, то работала на котельной и ездила туда на мотоцикле. Она держала его перед парадной, на дорожке у кустов, укрывала брезентом. Мотоцикл дико дребезжал, так что слышно было на весь двор. Всё это происходило в совсем стародавние времена, когда только-только начали застраивать Шуваловский, и из Тамариных окон виднелись бескрайние капустные поля – почти до горизонта, – и по осени, когда заканчивали собирать урожай, на эти поля пускали подбирать остатки, и тогда все троллейбусы наводняли злые голодные старухи в грязных деревенских платках, засаленных фуфайках и резиновых сапогах. И ещё она говорила, что выезжала со двора и мчалась по полупустому Комендантскому, который тогда лишь недавно пустил корни на бывших колхозных пашнях и самом краю уже стёртого с карты аэродрома, и компанию ей в лучшем случае составлял еле плетущийся грузовик. Рассказывала Тамара почти, как Гомер. Недаром литературу преподаёт.
Они чокаются, и Таня пьёт, нисколько не обжигая горло. Коньяк действительно хорош: мягкий, но терпкий, отдающий какой-то деревенской глубиной. Вот сейчас всё вокруг схлопнется, как в сказке про Золушку, и они окажутся в… болоте. Да, именно в топком лесном болоте, потому что лет сто назад здесь, за аэродромом, ничего другого и не было.
Тамара делает последний глоток и убирает пустую бутыль под стол.
− Хорошего понемножку. Рассольника хошь? Вчера варила на одной ноге.
− Нет уж, я с рассольника обопьюсь потом и буду всю ночь в туалет бегать.
Тамара смеётся своим звенящим и сыплющимся смехом, затем берёт кусок красной рыбы и жуёт – медленно, аппетитно, будто последний раз в жизни.
− Тебе купить-то чего надо? – Таня тоже тянется за рыбой.
Продолжая жевать, Тамара машет рукой.
− У меня пока полный комплект. Сашка затарил на совесть.
− В общем, как надо чего – сразу мне набирай. Я вон всё равно после работы в магазин захожу. А то тебе тут, наверное, до мая ещё куковать.
Тамара глотает остатки рыбы, наклоняется и шепчет.
− Да мне бы прокуковать хотя бы до середины мая. Вот так надо прокуковать! – она подносит два пальца к шее.
− Угу, то есть, вот как, да? – багровеет Таня.
− Тань, ну, прости, я у нашей пизды сразу попыталась самоотвод взять. Так ты думаешь, это прокатило?
− И поэтому ты решила растянуться на крыльце за месяц до того самого дня!
− Тань, ты понимаешь, я ведь как раз об этом думала, когда летела вниз: как же, блядь, точно я всё рассчитала!..
− Думаешь, я не пыталась взять самоотвод?! Да там любой бы его взял на нашем месте… На моём.
− Тань, ну прости старую училку… Ты-то не старая ещё!
− Я тут постарею до Девятого мая!
− Я поэтому тебя даже не спрашиваю ни о чём.
− Артисты по тебе скучают…
− Ой, не смеши! У меня они выли!
− У меня тоже воют. А я вместе с ними.
− Тань, я, когда этим занималась, мне после каждой репетиции хотелось поблевать хоть немного.
− Да знаю я, что ты мне рассказываешь! Думаешь, я не хочу?..
2
Это место так и называли: отвал. Округлые, сглаженные временем и человеческими ногами, горы глины. Аборигены рассказывали, что её свозили в начале восьмидесятых, когда в Удельную и Озерки тянули метро. Город в те времена сюда ещё не добрался, вот древнюю кембрийскую глину и вывалили на дальний заболоченный берег Долгого Озера, населённый разве что дикими утками и тетеревятниками. В сырую погоду глина, разумеется, раскисает, так что, пробираясь через отвал, Артур ставит ноги “ёлочкой”, будто взбирается в гору на лыжах. И хотя город давным-давно захватил все окрестные поля, озёра и болота и кругом разноцветным частоколом высятся многоэтажки, здесь, на отвале, поросшем вербой, молодыми берёзами, а летом даже ковылём, природа до сих пор держит оборону. Весь район ходит сюда ломать вербу. Но сейчас холодно, так что верба и не думала распускаться. С трудом отломав гибкую молодую ветку, Артур вертит её в руках, припоминая пальцами подзабытые детские ощущения: из вербных веток получаются отличные хлысты, которые свистят в воздухе, словно шпаги.
“Зал будем украшать вербами”, – сказала мама, – “Не такими, как ставят на вербное воскресенье, а уже цветущими, с жёлтой пыльцой. Здесь её должно быть полно у Долгого Озера. Нужно сходить, посмотреть. Если вдруг там её нет, мало ли, вырубили, придётся придумывать что-то другое…”
Артур и сейчас отчётливо видит эту картину: мама сидит на одиноком стуле в полутёмном зале и размахивает руками. Именно так обычно по телевизору показывают театральных режиссёров: спиной к пустынным зрительским рядам, лицом к сцене. Эдакие хозяева театра, волшебники из страны Оз… Но мама никакой не волшебник. Она – учительница истории, и Артуру временами так неловко ощущать себя её сыном! Особенно когда она вдруг начинает растягивать гласные, выдавая свой лёгкий, но всё же заметный финский акцент.
“Мы что, должны сами собирать эту вербу?”
Густой девичий голос, почти такой, как у зрелых женщин. И причёска тоже почти взрослая: короткие, чуть подкрашенные, волосы, серёжки, поблёскивающие в ушах, тёмная помада, крупные черты лица.
“Агния, я тебя на Линию Маннергейма отправляю, что ли?”
“Да уж лучше на линию Маннергейма!” – усмехается Агния, – “Там и Девятое мая отметили бы!”
По полутёмному залу прокатываются лёгкие смешки. Широкие, но довольно покатые плечи, крупные ладони, разноцветный маникюр: цвета радуги плавно переходят один в другой от большого пальца к мизинцу.
“По периметру повесим фотографии блокадного Ленинграда”, – продолжает мама, задвигая Агнию обратно на задний план, в зрительские ряды.
На самом деле, зрительских рядов как таковых сейчас нет: стулья сдвинуты и прижаты к задней стене, а оставшиеся составлены в полукруг, и на них восседают участники будущего действа, которое из всех должно, по меньшей мере, вышибить слезу, а желательно – сразить наповал. За это обещано отблагодарить.
“Дана, скажи-ка мне, твой папа может нам что-нибудь подобрать или нарисовать?” – мама слегка наклоняет голову.
“Я спрошу”, – Дана едва улыбается, открывая ямочку на щеке и мимоходом поправляя волосы. В этот момент Артур чувствует, что у него “горят” уши.
Папа Даны носит толстые свитера, а на шее – фотоаппарат с набором объективов. Сделанные им фотографии появляются в путеводителях, на афишах и даже на рекламных плакатах. Когда-то он снимал для газет и даже работал в Чечне, во время войны. А ещё он художник. Может за полминуты сделать какой-нибудь карандашный набросок. У него седая щетина на лице, а волосы лишь немного подёрнуты сединой. Дана не слишком на него похожа, разве что какими-то движениями: наклоном головы, сгибанием руки в локте…
“Насколько я поняла со слов Тамары Петровны, вы решили, что всё будет в форме передачи блокадного радио?”
“Это Жанна Дмитриевна так решила…”
Кирилл. Парень из параллельного класса. Высокий, с поставленным голосом и густыми бакенбардами. С первого дня решено отдать ему главную роль – диктора. Его даже кличкой снабдить успели: Левитан. Хотя Левитан не бывал в блокадном Ленинграде.
“Ну, если Жанна Дмитриевна решила…”
“Татьяна Олеговна, а вы знаете, что Тамара Петровна вообще хотела всё делать по-другому?”
“Татьяна Олеговна” – звучит отвратительно, – решает Артур. Для него она всю жизнь – “мама Таня”, ещё со времён хельсинского детства, которое было куда холоднее и ветренее питерского. Теребя в руках ветку, Артур прокручивает внутри себя реплику за репликой, и понимает, что у него до сих пор горят уши. Он снимает шапку, и пот катится со лба, будто сейчас не длинный “хвост” зимы, а самый разгар душного северного лета.
“Пойдём посмотрим, распустилась ли на отвале верба…” – произнёс он в гардеробе. В школе было уже пусто – они репетировали после уроков. Дана надевала пальто. Она наклонила голову точно так же, как это делал её отец.
“Артурчик, ну какой отвал? Туда сейчас только в галошах!” – она усмехнулась и “сверкнула” своей ямочкой на щеке.
“Да там же верба с краю растет!” – усмехнулся он в ответ.
“Скалли, ну ты долго там?”
Эта идиотская кличка из старого, как сама жизнь, сериала про двух агентов ФБР: он – Фокс Малдер, она – Дана Скалли. Из эпохи гигантских мобильников с выдвижными антеннами и компьютеров с кубическими мониторами.
“Барто, ты чего там ворчишь? Дай хоть застегнуться нормально, а то вон какой дубак на улице!”
Вот это куда более подходящая кличка для её обладательницы. Чтобы убедиться, Артур лазил в интернет и пролистывал фотографии Агнии Барто: женщина с крупными чертами лица и убранными назад волосами.
“Господи, ну мы же опаздываем уже!”
Агния схватила Дану, и они выбежали в снежные апрельские сумерки. Артур вышел вслед за ними и увидел две девичьи фигуры, идущие через широкий ветреный двор: одна побольше, с рюкзаком на плечах, другая – поменьше, поизящнее, сгибающая в локте руку, на которой болтается лёгкая сумочка.
Ветка нераспустившейся вербы свистит, как в детстве. Взмахнув несколько раз, Артур забрасывает её подальше в заросли и выходит на асфальт. Отсюда ещё два с половиной квартала: один перекрёсток, второй, третий с трамвайными путями, а там до леса уже рукой подать. Сегодня четверг, а по четвергам он всегда заходит проведать прабабку Сусанну. Живёт она в длинном доме из панелей изумрудного и грязно-белого цветов, с серыми закруглёнными балконами. На лифте нужно нажать самую последнюю кнопку с едва заметным числом 12 и долго-долго подниматься на верхотуру, где слышен гул ветра и громкое воркование голубей. Артур нажимает звонок и долго ждёт. Так бывает почти всегда, и каждый раз Артуру кажется, что Сусанна умерла. Он представляет себе, как кто-нибудь (может, даже он сам) звонит в полицию, как крепкие мужики в форме ломают дверь, входят в квартиру и их окутывает непробиваемая тишина… Как правило, на этом моменте за дверью раздаются едва слышные старческие шаги, затем долго щёлкает и скрипит замок и, наконец, на пороге появляется невысокая хрупкая старушка в очках, с аккуратно убранными назад волосами.
− Артту! – ахает она, – Ты чего так поздно? Я разогревала обед, а он уже опять остыл!
Она немного тянет гласные, и с непривычки может показаться, что у Сусанны довольно сильный финский акцент. Но Артур как минимум полжизни слышит рядом с собой этот шелестящий голос, так что прабабка для него – такая же, как и все местные старушки, которым хорошо за восемьдесят.
− Да я не очень хочу есть…
− Как это! Уже половина пятого, а мама говорила, вы должны были закончить в три.
− Закончили почти в четыре. Пока то, пока сё…
Он стаскивает ботинки и становится на прохладный стёршийся линолеум, швыряет куртку на старую стиральную машину, которая, сколько он себя помнит, торчит своим грязновато-белым торцом из-за вешалки. Древняя, железная, громкая, как бензопила. Несколько лет назад мама купила Сусанне белоснежный автомат. Понадобился не один год для того, чтобы она приняла его как нового “жильца” своего поднебесного логова, научилась открывать, включать, класть и вынимать бельё. Но и с “бензопилой” прабабка наотрез отказалась расставаться. И правильно! Доисторическая “стиралка” по-прежнему служила отличной “полкой” для курток, шапок, сумок и прочей мелкой белиберды.
− Щи только сегодня сварила!
Сусанна уже гремит с кухни какими-то тарелками и кастрюлями, со звоном ковыряется в ящике с ложками и вилками, двигает стулья… Прежде, чем пройти на кухню, Артур прокрадывается по узенькому коридору и заглядывает в единственную комнату, в которой при его жизни ничего не менялось: ни мебель, ни обои, ни даже цветы на подоконнике. Но сейчас привычный порядок нарушен. Прямо на ковре разбросаны какие-то папки с бумагами и без, а на столике у дивана лежит большая чёрно-белая фотография: женщина средних лет с волнистыми, приглаженными волосами, очевидно, светлыми, с правильными чертами лица и прямым, немного недоверчивым взглядом. Артур довольно быстро понимает: это, видимо, мать Сусанны, Катри, его прапрабабка, которая умерла ещё при царе горохе, когда даже бабушки на свете не было. В детстве он, кажется, видел эту фотографию, только она была гораздо меньше. “Танюша на неё так похожа – прямо копия!” – говорил кто-то у Артура над ухом, имея в виду его маму, то есть, правнучку Катри и Сусаннину внучку.
В коридоре раздаются семенящие шаги Сусанны.
− Иди скорее, я тебе налила… Ой, у меня здесь бардак, я сегодня искала кое-что и заодно решила тут разобрать… Ты иди, иди есть-то!
Щи у Сусанны – густые: минимум бульона и почти одна гуща: крупные куски картошки, моркови, лоскуты капусты, мясо на кости… Про такие говорят – “ложка стоит”. И всё это ещё нужно сдобрить сметаной. Раньше Артур не очень любил прабабкины щи, но сейчас, почувствовав, что и в самом деле проголодался, уминает их за обе щёки. А Сусанна тут как тут:
− Хлеб бери. Хлеб свежий…
Артур отрицательно кивает с набитым ртом.
− А вот хочешь такие сухари? – пихает коробку с плоскими длинными сухарями.
Артур снова кивает, не успев прожевать.
− Может, тебе помидорку порезать?
− Сусан, у нас что, блокада недавно закончилась? Я возьму если захочу.
− Ну, бери, бери… – она осекается и поворачивается к плите с кастрюлями и сковородками.
Поняв, что ляпнул не то, Артур с набитым ртом произносит примирительную реплику:
− Ну, ладно, дай мне сухарей…
Он всегда называл её только по имени. Кажется, она сама так захотела, отвергнув варианты “прабаба” и “бабуля”. Поначалу они ездили друг к другу в гости – то они к ней с мамой, то она к ним – в Хельсинки, где Артур родился и жил, пока ему не исполнилось пять. Выезжать нужно было рано. Бело-синий поезд “Сибелиус” уходил в шесть утра и приходил только к обеду. Доберёшься к Сусанне на её ветреную окраину, а она тебе нальёт таких вот густых щей. В Хельсинки их называли “русский суп”, только были они гораздо жиже.
Она наливает себе тарелку и садится напротив правнука, поправляет выбившуюся прядь. Типичная финка: широкие скулы, едва приметные брови, нос “картошкой”. Артур припоминает её детские фотографии, сделанные перед самой Блокадой. Сусанна не так уж сильно изменилась, и её вполне можно узнать в той самой девочке, только волосы уже давно не пшеничные, а седые, и кожа вся в морщинах.
− Ну как ваш спектакль? Движется? – спрашивает она, поднося ложку ко рту.
Артур утвердительно кивает.
− Ты кого там играешь? Я уж и забыла…
− Лётчика, – отвечает Артур с набитым ртом.
− Мм! Лётчика…
Дальше они едят почти в полной тишине. Только ложки стучат о тарелки и поскрипывают табуретки. Вот так обычно Сусанна и обедает – в тишине и одиночестве, с которыми свыклась много-много лет назад, с тех пор, наверное, как получила эту квартиру вместо комнаты в коммуналке где-то в центре. Вдруг в окно, за которым день уже начинает меркнуть, врывается не пойми откуда взявшийся луч солнечного света, и освещает кастрюлю со щами на плите, кусок стены с висящими прихватками, газовую трубу с облупившейся краской, и лицо Сусанны, подчёркивает её почти незаметные брови, которые при таком освещении напоминают пушинки вербы.
− Я же тебе рассказывала про твою прапрабабушку Катри?
Артур утвердительно кивает. Доедая последнюю ложку щей, берёт в руку кость и начинает обгладывать мясо – нежное, разварившееся, и при этом без единого хряща.
− Там её фотка лежит или чья?
Сусанна утвердительно кивает.
− В каком году она умерла?
− В пятьдесят втором.
Сусанна тоже принимается за кость.
− Ей же вроде совсем немного было лет?
− Сорок пять. Я сегодня разбирала вещи и наткнулась на её письма, которые она писала во время войны.
− Мм… И кому она их писала?
− Кому?.. – осекается Сусанна, – Ну, родственникам в Финляндию…
− А что, во время войны можно было писать письма в Финляндию?
− Ну… у неё были связи.
На второе – жареная картошка с шампиньонами. Вообще-то летом прабабка жарит настоящие лесные грибы, если ей, конечно, их принести. Сама она хоть и спускается на землю из своего поднебесья, но только до ближайшего магазина. А сейчас и магазинные шампиньоны вполне сгодятся. Картошка у Сусанны получается хрустящая, прожаренная, будто приготовленная в какие-то стародавние времена, без мультиварок и микроволновок.
− А какие у неё были родственники в Финляндии?
− Ну, как это! – восклицает Сусанна. Солнечный луч мгновенно гаснет, и её лицо снова погружаются в сумерки, – Две тётки, двоюродная сестра, четыре двоюродных брата, двоюродная тётя, четыре троюродных сестры…
Кажется, не останови её – и она будет перечислять до утра.
− Они все жили в Хельсинки? – спрашивает Артур, понимая, что такой вкусной картошки ему не поесть нигде, кроме как у прабабки.
− Нет, никто не жил в Хельсинки. Почти все жили в Карелии. И погибли тоже почти все в сорок четвёртом во время бомбардировки Элисенваары. В живых осталась только тётя Эмилия, моя двоюродная бабушка.
− Элисенваара – это где?
− В Карелии. В той, которая раньше была финская.
− Мм…
3
Она торопливо входит последней, на ходу поправляя загнувшийся лацкан пиджака. Сам пиджак при этом светло-оливкового цвета. Разумеется, однотонный, как и все её пиджаки, которых у неё, наверное, не меньше, чем у Ангелы Меркель.
− Я прошу прощения, – еле слышно произносит она, будто не желая, чтобы её кто-нибудь слышал, и садится во главе длинного стола, по обе стороны которого заняты почти все стулья, – Пробки сегодня – застрелиться: от Исаакиевского до нас почти полтора часа!
− Вроде не пятница, – вскользь замечает кто-то.
− Пятница завтра, – этот голос звучит ещё тише.
− Татьяна Олеговна, всё ли у вас хорошо? – она придвигает стул поближе к столу и принимает “позу директора”: опирается подбородком о кулак.
− Насколько это возможно.
− Что значит – “насколько это возможно?”
− Им не особо нравится идея делать весь вечер в форме блокадного радио.
− И что дальше? – усмехается директриса, – Им вообще много чего не нравится. Так это наша с вами задача сделать так, чтобы им нравилось.
Татьяна Олеговна усмехается в ответ.
− Честно говоря, я бы тоже не останавливалась на одном радио. Будет слишком однообразно и затянуто.
− Ну, вы же понимаете, что День Победы – это не новогодняя дискотека и не выпускной. Все это понимают? – она окидывает взглядом зал.
− Понимаем, – мужской голос раздаётся откуда-то с противоположного конца стола.
− Игорь Владимирович, ну если все это понимают, то давайте всё-таки больше заботиться не о том, чтобы был как можно более захватывающий сюжет, а чтобы вечер получился наполненным, познавательным. Это мы с вами про ту же блокаду знаем вдоль и поперёк, потому что не то что наши деды – наши родители через это прошли. У меня папа, например, блокадник… – её голос начинает дрожать, – А сейчас дети даже не знают, где проходила Дорога жизни. Думают, что вот тут, по Финскому заливу. Это нам сегодня в комитете по образованию говорили.
− Жанна Дмитриевна, так давайте их заинтересуем, – у Игоря Владимировича благозвучный негромкий баритон. Он преподаёт предмет под названием “Основы изобразительного искусства”, – Сделаем так, чтобы им понравилось. Давайте разбавим радио видеорядом.
− Видеоряда там должно хватить! – Жанна Дмитриевна делает царственный жест рукой, – Я же с самого начала предложила сделать большие репродукции блокадных фотографий города или сделать стилизованные рисунки. Вы художника искали? У нас под это есть бюджет.
− Художника ищем, – докладывает Татьяна Олеговна, – У одной из учениц папа художник.
− Великолепно! Ещё и сэкономим. – Она достаёт из сумки кожаный блокнотик и что-то записывает.
− А зачем нам искать художников? У нас свои есть, – Игорь Владимирович подаётся вперёд и нависает над столом, словно тюлень: широко посаженные глаза, вздёрнутый нос, жидковатые усики неопределённо светлого оттенка и такого же цвета редеющие волосы на голове.
Несмотря на этот выпад, директриса как будто не замечает его.
− Рисунков должно быть не меньше десяти. Лучше двадцать. Это внушительный объём. К тому же, всё должно быть на высшем уровне. Безупречно! – Жанна Дмитриевна проводит в воздухе ровную горизонтальную линию. – У нас будет комиссия из комитета. Вы, надеюсь помните? Так что если папаша попросит денег, заплатим. У вас, Игорь Владимирович, вряд ли будет на это время. У вас и так большая нагрузка!
Учителю изо приходится ретироваться.
− Какие именно вы хотите изображения блокадного Ленинграда? – он вновь пытается вступить в бой.
− Своевременный вопрос, – директриса выпрямляется и, откидываясь в кресле, разминает спину, – Пока я сейчас стояла в пробках, мне пришла идея организовать у нас в фойе выставку, посвящённую блокаде. Причем не только для учеников, но и для всех желающих. У нас во всём огромном районе выставочных площадок не так много. Так что мы могли бы стать одной из них.
Она замолкает, очевидно, ожидая реакции зала. Но зал безмолвствует. Вновь подавшись вперёд. она продолжает.
− Выставка должна давать самое полное представление о жизни в блокадном Ленинграде. Так что, помимо фотографий, нужны какие-то предметы быта.
− Бидоны, что ли? – испуганно спрашивает кто-то.
− Бидоны, совершенно верно! Керосиновые лампы, банки со столярным клеем.
− Где мы сегодня возьмём банки со столярным клеем? – снова высовывает голову Игорь Владимирович.
− Банку можно взять любую и наклеить стилизованную этикетку. Не вижу проблемы! Игорь Владимирович, вот этим как раз могли бы заняться вы…
− Рисовать этикетки?
− А вы разве не справитесь? – она наклоняет голову, словно собирается отчитывать провинившегося ученика.
− Справлюсь, – вздыхает “тюлень”.
− Я тоже так думаю. Вообще, атрибутов блокады должно быть как можно больше. Обязательно нужно сделать блокадный хлеб. Можно просто взять обычный и наклеить немного опилок, – она вытягивает руку вперёд, словно предвосхищая возможные вопросы из зала, – Причём всё это не должно быть под стеклом. Это не должна быть выставка в духе провинциального краеведческого музея. У нас на дворе двадцать первый век, поэтому выставка должна быть интерактивной. Нужны не просто стенды, а инсталляции, с возможностью потрогать этот самый блокадный хлеб или сфотографироваться с бидоном. Детям сейчас нужно именно это. По-другому они плохо усваивают информацию. Или не усваивают вовсе.
− И поэтому вы хотите макать хлеб в клей и посыпать его опилками? – “тюлень” снова переходит в наступление, так что, кажется, даже усики становятся немного торчком.
− Игорь Владимирович, я не понимаю вашего протеста. По-моему, кроме вас, здесь больше никто не сопротивляется.
Зал снова безмолвствует.
− Давайте искать сторонних художников. Я никаких этикеток рисовать не буду.
По залу прокатывается едва слышная волна вздохов.
− Если я вам поручу, будете. И не надо здесь устраивать турбулентность!
Жанна Дмитриевна снова наклоняет голову. Там, в предыдущей жизни, без коллекции пиджаков и регулярных визитов в комитеты и Законодательное собрание, она была учительницей физики. У неё был кабинет с узкой захламленной лаборантской позади рабочего стола: груда запылившихся линз, ломаные весы и полуживой динамометр, рулоны плакатов, скрипучие шкафы под самый потолок. Откроешь кран с водой в углу у двери, наполнишь ржавеющую раковину, а потом вытащишь заглушку – и вот тебе турбулентность: тихая, уютная, пахнущая гнилью водопроводных труб.
− Зачем превращать блокаду в инсталляцию? – продолжает Игорь Владимирович, но уже осторожнее, суше, без вызова и напора.
− Игорь Владимирович, вы, насколько я знаю, не коренной петербуржец?
− Нет. Я из-под Волгограда.
− Прекрасно. А вот я, например, коренная ленинградка в четвёртом поколении. И я вижу, как год за годом интерес к блокаде и Великой Отечественной войне в целом угасает. И мне от этого больно! – голос её опять дрожит, – И наша школа должна подать пример того, что, действительно, никто не забыт и ничто не забыто. Да, кстати, фотографию Берггольц обязательно! – она снова что-то пишет в блокнотике, – И стихи её обязательно чтобы звучали на вечере! – Она ещё что-то приписывает, – Татьяна Олеговна, это вам!
− Я уже поняла… Вам, кстати, не нравится идея Тамары Петровны сделать перекличку с современностью через русский рок? По-моему, так ещё никто не делал…
− И слава богу. Причём здесь русский рок? Я с Тамарой Петровной на эту тему уже говорила. Кстати, как она?
− Дома, в гипсе, – раздаётся чей-то голос.
− К праздникам не выйдет?
− Вряд ли, – цокает Татьяна Олеговна.
− Жаль. При всей её альтернативности организатор из неё хороший. И с детьми она на одной волне.
Вырвавшись в коридор в шестом часу вечера, Таня первым делом звонит сыну. Артур отвечает не сразу, словно раздумывает, говорить с матерью или нет.
− Иду домой от Сусанны, – спешно объясняет он, – Нет, верба ещё не распустилась.
Это, впрочем, и не удивительно. Какая уж тут верба, когда кругом метели метут, как в песне про “три белых коня”! Таня бросает взгляд за окно, и на неё вмиг накатывает ощущение, вынырнувшее из неведомо каких, ещё доэмиграционных глубин: мороз, пронизывающий ветер, хрупкий снег вперемешку с песком, панельная стена только что выстроенного дома. Это последний дом, за которым заканчивается асфальт и начинается изрытое бульдозерами поле, с кучами смёрзшегося песка, припорошенного снегом, торчащими чёрными трубами и кусками арматуры. Поле боя города и природы. “Комендань”, – говорила Сусанна, которая только что получила квартиру на месте бывшего болота. Из её окон на двенадцатом этаже тогда ещё виднелся лес. Ещё и речи не было ни о каком отъезде, ещё не открыли границы и только-только распалась их женская семья, испокон века обитавшая под крышей в длинной ленинградской коммуналке неподалёку от Литейного: бабушка Сусанна, мама Хелена и внучка Таня. После отъезда Сусанны Таня с мамой остались ждать своего квартирного счастья, приготовившись эмигрировать на самую дальнюю окраину похлеще Комендани, пока, наконец, через несколько лет не эмигрировали в Хельсинки.
Таня возвращает себя из прошлого и осознаёт своё положение. Ей нужно где-то достать полтонны вербы для украшения актового зала. А она ещё не распустилась… Нужно прийти домой, сесть и на свежую голову написать сценарий. Правда, какая тут свежая голова в половине шестого вечера? Подхватив подол пальто, Таня встаёт со скамейки и направляется к выходу. Толкнув дверь, натыкается на сеющий снег и немного вальяжную, “тюленью” фигуру Игоря Владимировича. На припорошенном крыльце он смотрится почти естественно, только что не елозит брюхом по земле. В руках у него – незажжённая сигарета, очки – в мелких капельках.
− Ты чего домой не идёшь? – усмехаясь, кивает Таня.
− А ты чего не идёшь?
− Я-то как раз иду…
− Ну, пойдём…
Они идут мимо кованой решётки в виде морской волны, мимо овальной клумбы, в которой пока лишь – прошлогодняя сухая трава, мимо недавно установленных уличных тренажёров, у одного из которых уже отломано сиденье. Вечереет, и вместе с надвигающейся темнотой накатывает холод, забирающийся в каждую клеточку озябшего тела, будто зима решила напомнить, что она непобедима, как Красная армия. Игорь Владимирович, наконец, закуривает, и Таню обдаёт запах крепких сигарет.
− У нас в приволжских степях бывает и холоднее, – говорит он, выпуская дым через нос, – Только не в апреле, конечно.
− В апреле у вас там, небось, уже маки распускаются? – стуча зубами, отвечает Таня. Как истинная северянка, она никогда не спускалась южнее Москвы.
“Тюлень” беззвучно улыбается.
− Маки – это май. Встанешь с мольбертом – и чувствуешь себя Моне.
− Я готова сейчас почувствовать себя Амундсеном.
− Тоже неплохо…
Они выходят на проспект, упирающийся в ярко-жёлтый ледяной закат. Таня припоминает, что “Тюлень”, кажется, живёт где-то неблизко и ездит на трамвае, а до трамвайной остановки ещё целый квартал, как раз по дороге к Таниной шестнадцатиэтажке, где её ждут накормленный сын и, очевидно, голодный муж.
− Я так понимаю, ты решил перейти в оппозицию? – Таня, наконец, направляет разговор в более конструктивное русло.
− Я всегда в ней был, – он ещё раз затягивается и отшвыривает сигарету. – Ты разве не замечала?
Нет, она не замечала. Она вообще не слишком-то его замечала – круглого, усатого, иногда с перепачканными гуашью руками. А вот он, кажется, заметил её довольно быстро, и вот уже третий год, с тех пор, как Таня привела сюда сына и сама пришла за ним учительствовать, мягко, но настойчиво, подбивает клинья.
− Сегодня заметила. И ещё заметила, что ни одна сволочь не пожелала за тебя вступиться.
− И не вступится!
− Ну, в таком случае, я – тоже из сволочей.
Он хмыкает – как-то осторожно, словно стесняясь.
− Ты как раз что-то пыталась возразить.
− Пытаюсь. Я на твоей стороне, – Таня ощущает, как через всё тело – сверху донизу – пробегает волна холода, – Брр, это весна, называется?
− Вдвоём против системы – это уже что-то.
− У меня нет никакого желания устраивать Сталинградскую битву.
“Тюлень” хохочет в голос.
− Все решили отсидеться в окружении и капитулировать перед фрау Жанной…
− Почему сразу капитулировать? Может, все решили стать партизанами.
Он хохочет ещё громче.
− И когда будем приступать к вылазкам и диверсиям?
− Для начала изучим обстановку. У нашего командования планы меняются каждый день.
− Это точно…
Наконец, они прощаются на ветреном перекрёстке: “Тюлень” удаляется в магазин, потому что жена просила купить того-то и того-то. Таня вспоминает о голодном муже и тут же решает, что она, пожалуй, зайдёт в следующий магазин в трёх шагах от парадной. Весь оставшийся путь она думает о том, как ей хочется, чтобы, наконец, подули южные ветры и запушилась верба.
4
На самом деле, Сусанна всегда помнила об этих письмах. Она прожила с ними вот уже почти всю жизнь. Захороненные на дне одного из ящиков, они переезжали с квартиры на квартиру, но при этом так и оставались на дне, словно вечный балласт. Да и не письма это были вовсе. Скорее, записки. Впрочем, нет, было там, кажется, несколько неотправленных посланий. Но Сусанна никогда их толком не читала.
Открыв воду, Сусанна сначала согревает руки: в квартире холодно, хоть отопление ещё не отключили. Тёплая вода, текущая по её маленьким морщинистым ладоням, создаёт иллюзию рукопожатия, будто здороваешься с кем-то и согреваешься от такого приветствия. Сусанна берёт тарелку с остатками картошки и шампиньонов, вытряхивает их в помойное ведро… Странно, что Артту не доел до конца. Обычно его за уши не оттащишь от грибов с картошкой. Она суёт тарелку под воду и аккуратно, неспеша, намыливает, водит мочалкой по кругу, прокручивая в голове сегодняшний разговор с правнуком.
“Я же тебе рассказывала про твою прапрабабушку Катри?”
“Там её фотка лежит или чья?..”
Сусанна ставит вымытую тарелку на сушилку и берёт следующую. И тут же проваливается глубоко-глубоко, в свой восьмой год жизни, в общую кухню в коммуналке неподалёку от Литейного, с серо-зелёными крашеными стенами и мутным окном, липким от копоти. Из крана тоненькой струйкой течёт холодная вода. Водопровод ещё действует. Сусанна берёт в руки тарелку, но она выскальзывает и разбивается. Кажется, что звон прокатывается по всей квартире, по длинному коридору с пучками проводов под потолком, по всем комнатам, в которых мёрзнут и топятся буржуйками.
“Молодец, нечего сказать! Жратвы нет – зачем посуда?”
Мама. Блондинка с густыми светлыми волосами, спадающими на плечи. Плоский широкий лоб, немного вздёрнутый нос, брови домиком – оттого, что сердится часто. Так думала семилетняя Сусанна. “Катя”, – говорили соседки по коммуналке. Им, видимо, трудно было выговорить правильное финское “Катри”.
“Бери веник и подметай!”
Сусанна стряхивает руки и отправляется в самый дальний угол кухни. Там, за тяжёлой дверью, увешанной авоськами, покоятся веник и совок.
“А воду кому оставила?”
Сусанна возвращается с полпути и закрывает кран, затем снова пускается в обратный путь.
“Будем теперь из одной тарелки есть…” – шумно вздыхает мама, причмокивая губами. Жест, который Сусанна терпеть не могла. Да что там говорить, она ненавидела мать.
Мести грязную холодную кухню приходится долго: осколки разлетелись по всем углам и щелям. Веник скачет по щербатому плиточному полу, оставшемуся ещё с дореволюционных дворянских времён, когда ни о какой блокаде и слыхом не слыхали. Мама стоит и курит, дёрнув за верёвку форточку. Через неё врывается белёсый, бесцветный холод. Там, за окном, – нескончаемая чёрно-белая зима. Собрав осколки в грязный серый совок, Сусанна вываливает их в помойное ведро у плиты, затем подходит к раковине и снова включает воду. Всё время, пока она домывает оставшуюся в живых тарелку, две ложки и две чашки, мама курит под распахнутой форточкой. Сусанна стряхивает руки и идёт в комнату – мимо высокого соседского сундука, мимо кладовой, в которой теперь лежат дрова, мимо ломаного велосипеда, мимо выпирающей трубы и двери уборной, где всё время журчит вода. Сначала комната Женечки – молодой, улыбающейся учительницы, которая недавно вышла замуж и, беременная, проводила мужа на фронт… А следующая комната их – почти у самой прихожей, и от входной двери тоже тянет холодом. Дверь комнаты скрипит и шаркает об пол. Внутри – вечные зимние сумерки. Свет снова отключили. Сусанна протягивает руки к печке-буржуйке, но та почти остыла, и всё же остатки тепла хоть немного согревают озябшие руки. Ещё совсем недавно они жили здесь втроём: мама с папой на диване в углу, Сусанна – на кровати у двери. Летом папа ушёл на фронт и примерно раз в месяц от него приходили письма. Мама их почти не читала. В начале осени она привела на этот диван сначала одного мужчину, затем – другого. Оба они были какими-то военными, и в комнате пахло нестиранными портянками и табаком. Второй как-то раз принёс Сусанне леденец, и за это она почти готова была простить ему место на папином диване. Потом исчез и он, и они с мамой снова остались одни в узкой сумеречной комнате в двух шагах от Литейного.
Выныривая из чёрно-белого прошлого, Сусанна домывает последнюю чашку, выключает воду и долго вытирает руки полотенцем, чувствуя, что они согрелись, вобрали в себя тепло, и теперь её телу, словно заряженной батарейке, не страшны апрельские заморозки. Поправив очки и повесив полотенце, она неспешно идёт в комнату – мимо висящего календаря, мимо уборной, мимо входной двери, мимо вешалки, на которой одиноко висит её зимнее пальто. Войдя в комнату, останавливается перед разбросанными по полу папками и бумагами. С фотографии мать смотрит на неё прямым пронзающим взглядом, в котором Сусанна, как и всегда, ощущает недоверие.
− Катри, – произносит она, продвинувшись ещё немного вперёд, – Kaikki hyvin1.
На самом деле, Катри неважно говорила по-фински. Сусанна нечасто слышала от неё финскую речь, письма мать тоже писала по-русски, благо родня, оказавшаяся по ту сторону границы, всё ещё понимала этот некогда общеимперский язык. Хотя нет, вот что-то по-фински, выведенное крупным округлым почерком, но и тут вставлены русские слова: “водопровод”, “запонка”, “медсанчасть”. Когда-то у мамы были фотографии, на которых она в форме медсестры – ещё, кажется, довоенные. В руках мама держала что-то вроде чемоданчика, на ногах – туфли на низком каблуке. Но эти снимки, чудом сохранившиеся в блокаду, Катри сожгла вскоре после войны. Ей тогда казалось, что за ней вот-вот придут, как приходили за тысячами, – что перед войной, что после. А во время войны она курила и ходила на работу. В любое время – утром, вечером, ночью. Приходила на следующий день или через день. Иногда приходила не одна, и соседки с завистью смотрели на неё: военные в нестиранных портянках часто приносили какой-нибудь еды: лишний кусок хлеба, несколько осколков сахара, немного чая в кульке. Свой белый халат Катри вешала в шифоньер. Рассохшийся, он скрипел на все лады, словно оркестр, и пахло оттуда смесью маминых духов, которыми она душилась ещё до войны.
Сусанна подбирает с пола большую папку и тянет за завязки. Бумага внутри настолько хрупкая, что, кажется, сейчас рассыплется от одного неловкого движения. В правом верхнем углу фиолетовыми мажущими чернилами выведено: 1941 г. Катри никогда не была слишком пунктуальной.
“Совсем разучилась спать. Лежу на диване и пялюсь в потолок. Дочь спит, как убитая, а я не могу. Кажется, что пахнет спиртом. Встаю, принюхиваюсь, – нет, вроде не пахнет. Это в больнице у нас круглые сутки пахнет спиртом – и как-то по-другому пахнет, не так, как до войны…”
Сусанна откладывает бумагу в сторону и снова проваливается в свои семь с половиной. Она тоже часто лежала по ночам, уперев глаза в потолок. Он был грязно-белый, в трещинах, которых стало ещё больше после того, как начались бомбардировки: дома ходили ходуном, и бомбы несколько раз падали очень близко, в соседних дворах. Сусанна помнила: она перестала спать после одного из первых авианалётов, после того, как увидела внутренности дома. Был срезан целый угол, так что можно видеть все комнаты – с первого по шестой этаж: вот здесь жёлтые обои, здесь – зеленоватые, а вот здесь – красные с белым. В комнате на самом верху стоял тёмный шкаф, двери были открыты нараспашку, одна слетела с петель. Оттуда торчали мужские брюки и длинные платья, одно пышное внизу, будто с дореволюционных балов. Рядом с шифоньером стоял маленький столик, а над ним, на уцелевшей стене, висели часы с длинным тяжёлым маятником. Как только Сусанна закрывала глаза, ей снилось, что стена около её кровати рушится и внизу видна улица, и там собралась толпа и смотрит на девочку в ночнушке. Она знала: Катри тоже не спала и всё ворочалась и ворочалась на своём диване. “Гадина”, – беззвучно говорила ей Сусанна, вспоминая разбитую тарелку и холодную воду, недавнего очередного гостя по имени Валера, в шинели, сапогах и нестиранных портянках. Когда к Катри приходили гости, она часто выставляла дочь из комнаты – та шла к соседям или на улицу. Если пойти налево – выйдешь на Литейный проспект. Там шумно – трамвай катится и звенит. Если прямо, то через несколько кварталов будет Нева – длинная безлюдная набережная, и на другом берегу – тёмно-красная, почти коричневая, тюрьма. Больше всего Сусанна любила ходить направо. Так можно было выйти к парку, который пожилая соседка, баба Нина, называла Таврический сад. Улицу Салтыкова-Щедрина она называла Кирочной, проспект Чернышевского – Воскресенским, проспект 25 октября – Невским… Баба Нина умерла после первой блокадной зимы.
Сусанна выныривает в свои восемьдесят шесть и ещё раз смотрит на мать. Фотография за все эти десятилетия ничуть не выцвела. Кажется, наоборот, даже стала немного ярче.
− Äiti2, – говорит Сусанна, – Kaikki hyvin.
Затем вынимает из папки следующую бумагу и, поправив очки, читает:
“1942 г, январь. Приходил Валера, принёс немного хлеба и сливочного масла (!) Говорит, привёз его прямо с Комендантского аэродрома. Туда прилетают самолёты с Большой земли. Говорит, иногда они привозят макароны и даже тушёнку (!). До войны я терпеть не могла тушёнку, а сейчас мне кажется, я бы душу продала за банку. Да что там за банку – за несколько кусочков мяса с белым жиром. Валера говорит, надо учить Сусанку, а до ближайшей школы – несколько остановок. Это раньше ходили трамваи, а теперь не ходят – уже целый месяц. Куда я её отправлю – одну, по морозу? Упадёт и умрёт. Пусть уж лучше дома…”
Валера был высоким и худющим. Хотя толстых в то время Сусанна что-то не припомнит. Когда он приходил, они с мамой сразу же шли на кухню, и вскоре оттуда слышался её смех – громкий и хрипловатый, вырывающийся из прокуренного горла. Валера смеялся куда тише – даже не басом, а, пожалуй, баритоном, а потом они приходили в комнату, и мама иногда доставала из-под кровати разбавленный спирт, и по комнате разливался тошнотворный запах больницы… Хотя пили они не так уж часто, спирт был на вес золота, как и всё, что пилось или елось. Иногда Валера учил Сусанну счёту: доставал старые газеты и писал цифры на полях: 3+2 или 4+7. Сусанна старалась угадывать правильные ответы, но часто ошибалась, а мама ругалась за то, что они берут газеты, которые она приготовила на растопку.
Сусанна опять выныривает и подходит к окну. Уже почти стемнело. Виден проспект, обрамлённый рыжими фонарями, и трамвайная линия посередине. По обеим сторонам – медленно ползущие потоки машин. Сусанна снова ныряет, но не так глубоко. Она помнит, какими пустынными были все окрестные улицы, когда она впервые приехала сюда в кабине фургона. Следом, на такси, – дочь Лена и внучка Таня. Тогда была зима – кажется, самый её конец, но морозы стояли, как на kaste3. Солнечный день, цвета: жёлтый, белый и голубой. Смёрзшийся песок под хрупким снегом. Стена последнего дома, а дальше – поле, изрытое бульдозерами. Трубы, арматура.
“Комендань”, – произнесла Сусанна, подставив лицо навстречу резкому порыву ветра, вспомнив, что когда-то так говорила мама.
Аэродром, откуда Валера приносил тушёнку, находился вон там, в той стороне, куда сейчас направляется трамвай. В войну она была уверена, что это самый край земли, за которым нет ничего, кроме бесконечных снегов и горящего леса, зажжённого сброшенными бомбами.
“Озеро Долгое”, – сказали Сусанне в жилконторе перед расселением их коммуналки в двух шагах от Литейного, – “Район новый, лес рядом…”
Только потом она поняла, что попала на Комендань, где ещё сохранялись дышащие лесными болотами финские названия: Питкяярви, оно же озеро Долгое, Коломяки, Лахта… А если вот прямо сейчас повернуться назад, то там, за Юнтоловским лесом, можно разглядеть и другие: Валкесаари, Оллила, Куоккала, Терийоки, Каннельярви.
“Terijoki” – это название попадалось на одной бумаг. Сусанна опускается на колени и лезет в одну папку, затем в другую… Вот тут какие-то конверты, и вот тот самый, с надписью “Terijoki”. И ещё адрес – тем же крупным почерком Катри. Внутри конверта – письмо, буквы почти совсем выцвели, на кое-что разобрать ещё можно.
“Лина, дорогая моя! (…) Мы пока ещё живы – и я, и Сусанна, но ходить всё труднее (…) Наша соседка Женечка недавно родила мальчика – здоровенький, хоть и маленький. Витька. Я уже и забыла, что это такое, когда рождаются дети (…) Хорошо, что сейчас лето. Не нужно топить. Я в квартире сожгла всё, что только можно (…) сажать картошку. Под огороды распахали клумбы и скверы. Так что теперь у нас, считай, как у тёти Пихлы в Ино. Теперь я жду осени, как никогда: может, снова поем картошки…”
Следующая страница почему-то наполовину порвана и немного помята. Как будто Катри хотела уничтожить письмо, но потом передумала. Сусанна вчитывается в почти исчезнувшие буквы, но разбирает только отдельные слова. Более-менее разборчив только самый последний абзац.
“…до вас всего каких-то 50 км, а вы – другая страна. Я всегда это понимала, но ещё раз осознаю только сейчас. Не могу поверить: были времена, когда прямо отсюда, почти от моего нынешнего дома, (подумаешь – Неву переехать!) в Ино ходил поезд и тётя Пихла выходила встречать на станцию. Если я останусь в живых, то после войны найду способ приехать в Ино – хоть на денёк, хоть на часок. Лина, дорогая моя! (…) меня здесь называют фашисткой и финской шлюхой (…) я сделаю всё, чтобы увидеть вас после войны!
Катри, 20 июня 1942 г., Pietari”
Сусанна кладёт рядом оба листка – один и второй, – на которых уместилось это короткое письмо. Катри, видимо, так и не смогла его отправить. И не помог ни Валера, ни кто-нибудь другой. Когда-то давным-давно, в совершенно доисторические, довоенные времена, в коммуналке была тряпичная кукла Пихла, названная в честь двоюродной тётки, которую Сусанна никогда не видела. Пихла не пережила Блокаду. Мама вспорола ей брюхо и сварила из неё кашу: внутри был рис. Тётя Пихла тоже не дожила до конца войны. Ровно через два года после того, как это письмо было написано и не отправлено, она погибла вместе с дочерью, невесткой, своей двоюродной сестрой и её большой семьёй. В живых осталась одна тётя Эмилия. Двадцатого июня сорок четвёртого их эшелон, в котором они эвакуировались из Карелии, разбомбили на станции Элисенваара. После войны мама так никогда и не съездила в Ино.
5
У каждого человека есть отец. Вот и у Артура он тоже есть. Даже имя известно – Слава. “Как зовут папу?” – “Слава”. – “Почему у него такое имя странное?” – “Имя как имя”. – “А где он живёт?” – “А кто его знает?” Вопросы, которыми он когда-то донимал мать. В той самой жизни, где были невысокие светлые дома с большими балконами, будто целые террасы, сосны на берегу моря, скальные выступы на обочине улицы…
Артур не слишком много помнит оттуда, но вот скальные выступы запомнил. И мамино лицо в тот момент, когда она произносит имя “Слава”: каменное, как та самая скала, хмурое, как низкое хельсинское небо.
− Helsinki, – произносит Артур, чувствуя, что язык упирается в бугорки за верхними зубами.
“Бабушка, что такое Хельсинки?” – “Город, в котором мы живём”.
Бабушку Хелену Артур тоже помнит смутно. Она ходила неспешно и чаще лежала. Иногда варила суп из красной рыбы. Суп был белым, потому что бабушка добавляла туда сливок.
“Keitto4”, – произносила она, – “Maukas5.”
Бабушка научила его говорить по-фински.
“Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi6…”
В чём-то она заменила ему отца. Но это продолжалось так недолго, что от неё почти ничего не осталось, кроме вкуса рыбного супа, неспешных шагов и этих гулких звуков в белёсом пространстве комнаты: yksi, kaksi, kolme… У неё был рак, как и у многих в их роду. Поэтому в жизни Артура закончился Хельсинки и началась Комендань. Здесь довольно быстро возник Семён – высокий, под потолок, широкоплечий, с большими руками. Встанет в дверном проёме – и целиком закроет его собой. Мама ему от силы по грудь. Подойдёт, уткнётся в его пиджак – вот оно, “как за каменной стеной”.
Вспомнив отчима, Артур ускоряет шаг. Будто Семён сейчас появится вот в этом проёме, отделяющем коридор от столовой, и нужно успеть проскочить. В столовой пахнет супом, котлетами и пирожками. Артур берёт поднос и становится в очередь. Впереди, через несколько человек, с таким же подносом стоит Дана. Не сводя с неё глаз, Артур видит: она берёт суп, котлету с картофельным пюре, пирожок с повидлом и сок. А затем, подхватив поднос, направляется к свободному столику.
“А её чему в детстве учила бабушка?.. Хотя зачем бабушка, ведь у неё есть отец…”
Артур вспоминает её отца, которого он видел мельком: круглое лицо, седая щетина, а волосы лишь немного подёрнуты сединой. Он одет в тёплый свитер, на шее – фотоаппарат. Разве сейчас носят фотоаппараты на шее? Кажется, он – из каких-то прошлых времён, и Дана совсем на него не похожа. Разве что сгибанием руки в локте… Она ставит поднос на стол и поправляет волосы. Садится. Одна.
− Ну ты ворон-то не лови! – буфетчица возвращает Артура к линии раздачи с витриной, за которой в железных ячейках дымятся котлеты, картофельное пюре, суп… – Бери тарелки и проходи, перемена-то не резиновая!
На подносе у Артура появляются суп, котлета с пюре, пирожок с повидлом и сок. Готовила ли когда-нибудь бабушка картофельное пюре? Артур такого не припомнит. Он хватает поднос и идёт, держа в фокусе Дану, которая подносит к губам стакан с соком.
− Ты здесь одна? – спрашивает он, поравнявшись с её столиком.
Она молча кивает. Артур ставит поднос рядом с её подносом.
− Сейчас придут Барто и Кирюха. Тебе как раз достанется четвёртое место, – она слегка и улыбается, сверкнув ямочкой на щеке.
− А я думал, мы посидим вдвоём…
Она принимается за суп. "Я хочу, чтобы у моего ребёнка был отец", – мысленно говорит Артур, – "Без отца ты как будто без одной руки". Но вместо этого он говорит:
− Поехали в Выборг…
Дана морщится, будто бы суп кислый-прекислый.
− А почему сразу не в Хельсинки?
− Виза нужна… – бормочет Артур, понимая, что завяз, как в чухонском болоте.
− Артурчик, мне есть с кем ездить в Выборг, – сочувственно улыбается она, – Я, кстати, была там недавно…
К счастью, подходит Агния. Ставит поднос с тем же набором: суп, котлета с пюре, пирожок, сок.
− А Кирюха? – вскидывает брови Дана.
− Он не успеет. У него там что-то с этим спектаклем долбаным опять.
Густой грудной голос, совсем не похожий на голос пятнадцатилетней.
− С каким ещё спектаклем?
− С каким, с каким? Кто у нас – медсестра?
На последней репетиции Дана мерила белый халат медсестры, брала в руки сумочку с красным крестом, убирала волосы под длинный чепчик, при этом по-особенному изящно сгибая руку в локте.
“Дана, ты прямо вылитая медсестра!” – восхищённо говорила мама. От этого Артур чувствовал, как у него “горят” уши.
− Хоть бы написал! – рассерженно произносит Дана, – Я уже молчу о том, что позвонить мог!
− Его директриса срочно вызвала, – Агния переходит на громкий шёпот, – Мне ребята сказали.
− Так он что, из-за этого даже не поест?
− Поест на следующей перемене, – машет рукой Агния, – Не оголодает, не волнуйся за него!
“Я разогревала тебе обед, а он уже опять остыл!”, – вспоминает Артур слова прабабки, которыми она обычно встречает его в своей каморке под крышей, и пытается представить на её месте Дану. Она сочувственно улыбается, отчего у неё “загорается” ямочка на щеке.
− Меня уже тошнит от этого спектакля! – шепчет Дана, – Нафиг я согласилась во всём этом участвовать?
− А у тебя был выбор? – Агния с аппетитом доедает суп и принимается за котлету с пюре. Ногти у неё сегодня раскрашены, как шахматная доска.
− Я бы что-нибудь придумала. Кирюха тоже мне вчера говорит: давай нахер сбежим куда-нибудь, хоть больничный где-нибудь достанем…
Агния стучит кулаком по лбу и косится на Артура. Прилежный учительский сынок аккуратно отламывает вилкой кусок котлеты.
− Ты же хочешь здесь учиться?
− Ну, хочу…
− Вот и молчи в тряпочку! – шипит Агния, – и давай, ускоряйся, а то перемена сейчас закончится.
Артур жуёт котлету – ещё тёплую, солоноватую, в общем, довольно вкусную, и ему кажется, что у него за спиной стоит Сусанна. Неужели она когда-то была такой же резвой и длинноволосой, так же изящно сгибала руку в локте? А, может, у неё тоже была ямочка на щеке? А, может, ямочки когда-то были у бабушки Хелены, у мамы?
Папа Слава только однажды появился около их хельсинского дома с большими балконами.
“Я возвращаюсь в Выборг”, – сказал он.
Папа был не очень высоким – куда ниже Семёна, но крепкий, коренастый и светловолосый. О чём они говорили с мамой? Какими были его первые слова, после которых мама пошла за ним?
Звенит звонок. Дана и Агния срываются, на ходу допивая сок и дожёвывая пирожки с повидлом. Артур тыкает недоеденную котлету, подхватывает поднос и медленно идёт следом. Звонок звенит и звенит.
6
Как будто две части гигантского “паука”: круглая “голова” и конусообразное “туловище”, из которого торчат “усы”. Коренастый брюнет в чёрных джинсах и замызганных кроссовках взваливает “голову” на плечи и, согнувшись в три погибели, направляется к двери. Рабочий в сером комбинезоне придерживает дверь. Но довольно быстро становится понятно, что “голова” в дверь не пролезет, а уж “туловище” – тем более. Брюнет негромко матерится и ставит “голову” на мокрую плитку, которой выложено крыльцо.
− Эта створка открывается? – спрашивает рабочий.
− Открывается, куда она денется! – кряхтит брюнет.
Он подходит к двери и пытается открыть защёлку вверху, затем внизу. Верхняя поддаётся, нижняя – ни в какую.
− Поднажми! – командует брюнет, – Сейчас вместе наляжем на неё. Тут защёлка немного барахлит.
Они наваливаются на дверь, и та, в конце концов, сдаётся. Створка со всей дури ударяется об стену, и стекло разбивается, усыпая мелкими осколками крыльцо, ступени и чёрные джинсы брюнета. Он снова негромко матерится и замечает капли крови на полу.
− Саш, у тебя тут чё случилось?
На крыльце появляется Таня. Первое, что она видит, – кровавая полоса на Сашкиной шее.
− Чё случилось? Под артобстрел попали! Грёбаная ракета!
− Какая ракета? Пойдём скорее в туалет!
Вокруг раздаётся хохот. Только сейчас Таня замечает, что собралась целая толпа зевак – от первоклашек до самых старших.
− Сашка поранился! – шепчет кто-то.
Недолго думая, она хватает брюнета за руку и тащит его, словно провинившегося двоечника, мимо раздевалки, мимо стендов с расписанием уроков, мимо столовой, из которой доносится запах чего-то печёного, через огромную рекреацию, под ошарашенные взгляды мелюзги и попадающихся навстречу учителей. В белоснежном учительском туалете Таня открывает кран и командует:
− Голову под воду!
Сашка покорно кладёт голову в раковину, словно на плаху, и тут же вскрикивает.
− А ещё холоднее можно?
− Можно! – Таня тянется к крану, но Сашка останавливает её руку.
− Ты мне всю куртку залила и все штаны. Я как обоссаный теперь.
− Лучше обоссаный, чем обезглавленный!
− Да брось ты! Это ж царапина…
− Пойдём в медкабинет за пластырем!
И они ковыляют на второй этаж: Таня – с красными холодными руками и взъерошенными волосами, Сашка – в мокрых штанах и с кровоточащей шеей.
− Как вы умудрились дверь разбить?
− Я же говорю: ракету внести пытались.
− Нам тут только ракет не хватало!
− Ну или не ракета… как его… “Восток-1”. На котором Гагарин летал.
Точно! В той самой рекреации около учительского туалета уже расчистили место для очередной выставки, посвящённой Дню космонавтики. Фрау Жанна распорядилась сделать инсталляции и “что-нибудь интерактивное”. Ядром экспозиции должен стать макет корабля “Восток-1”. И прямо перед ним – огромный портрет Гагарина, выложенный из пазла.
Вспотевший, промокший, с забинтованной шеей, Сашка всё-таки втаскивает гигантского космического “паука” и при помощи рабочих в серых комбинезонах устанавливает посреди холла. На полу разворачивается рулон с надписью “Первый полёт”. Тёмно-синие буквы, нарисованные Игорем. Он ещё говорил, что здесь больше всего подходят рериховские цвета. Так что буквы немного отливают фиолетовым. Но это далеко не вся выставка: должна быть ещё копия гагаринского скафандра, столики, на которых любой желающий на время сможет склеить модель ракеты-носителя “Восток” (приз – сама же модель), тантамареска в виде фигуры космонавта, а на стену повесят белый ватман, на котором будут показывать фильм про первый полёт человека в космос. Фрау Жанна денег не пожалела.
− А за стекло с меня обещала содрать, гнида!
Сашка затягивает развязавшийся шнурок на кроссовке и вынимает пачку сигарет. Таня, бросившая курить много лет назад, чувствует, что не отказалась бы вспомнить юность и затянуться, но всё же пересиливает себя.
− А домой ты не собираешься?
− Домой нет. У меня тут ещё дела, в районе.
− А я думала, правильнее говорить “на районе”.
Сашка усмехается. Невысокий, но широкоплечий и щетинистый, он напоминает переросшего ученика, вечного второгодника, который неотделим от школы – неважно, в каком статусе: неисправимого двоечника или “менеджера по хозяйственной части”.
