Читать онлайн Собрание сочинений. Том 3. Упрямая льдина. Сын великана. Двадцать дней. Октябрь шагает по стране. Братишка. Секретная просьба бесплатно
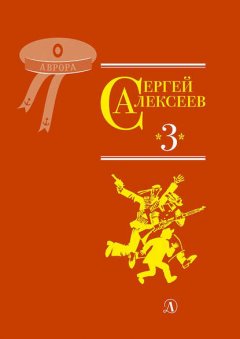
© Алексеев С. П., наследники, 2014
© Алексеева В. А., составление, 2014
© Непомнящий Л. М., иллюстрации, 1982
© Поляков Д. В., иллюстрации, 2014
© Пчелко И. И., наследники, иллюстрации, 1988
© Гальдяев В. Л., наследники, иллюстрации, 1987
© Григоренко М. В., дизайн оформления, 2014
Упрямая льдина
Рассказы о празднике Первого мая
В 1866 году рабочие американского города Чикаго объявили забастовку. Капиталисты жестоко расправились с ее участниками: несколько человек было казнено, многие брошены в тюрьмы.
Забастовка американских рабочих произошла первого мая. В память об этом событии трудящиеся всех стран решили ежегодно отмечать Первое мая как день борьбы против угнетателей. Они договорились Первое мая объявить международным праздником – Днем солидарности трудящихся всех стран.
Из рассказов, вошедших в книгу «Упрямая льдина», вы узнаете, как отмечали Первое мая трудящиеся нашей Родины до Великой Октябрьской социалистической революции.
В лесу у Емельяновки
Деревня Емельяновка лежала в стороне от проезжих дорог, верстах в трех от Петербурга. За деревней – лес, сразу за лесом – берег Финского залива.
Ничем не примечательна Емельяновка: домов в ней немного, жители мирные. Никаких историй, никаких происшествий.
И лес как лес, ничего в нем особенного: сосна да береза, кусты колючей малины, заросль орешника. Редко кто забредал сюда из прохожих.
И вдруг…
Крутился однажды местный мальчишка Санька Лапин около леса, глянул – два неизвестных. Прошли неизвестные полем, осмотрелись по сторонам, скрылись в орешнике.
«Кто бы это? – подумал Санька. – Парни молодые, здоровые. Вдруг как разбойники!»
Хотел было мальчишка подкрасться к орешнику, да не решился. Обошел стороной, выбежал к заливу, смотрит – у берега лодки: одна, вторая, третья… Из лодок выходят люди, тоже озираются по сторонам и направляются к лесу. Бросился Санька назад в деревню, к дружку своему Пашке Дударову.
– Паш, Паш! – зашептал он. – Люди, человек двести!
– Брось врать!
– Не сойти с места.
Побежали приятели к заливу. Смотрит Пашка: действительно лодки!
Помчались в лес. Идут осторожно, крадучись. От куста к кусту пробираются. Вышли к поляне – народу! Стоят полукругом. В центре – плечистый рабочий. Развернул красное знамя. Заговорил.
Обомлели ребята, залегли за кустом, притихли.
– Сегодня мы, петроградские рабочие, собрались сюда… – долетают до Саньки и Пашки слова оратора. – Нас мало сегодня, но близок час народного пробуждения…
Выступающий говорил долго, а кончил словами:
– Да здравствует наш пролетарский праздник!
Санька толкнул Пашку:
– Про что это он?
Пашка пожал плечами.
Вслед за первым рабочим выступил второй, затем третий, четвертый. Все говорили о тяжелой доле трудящихся, о том, что надо бороться за лучшую жизнь, и снова о празднике.
Два часа под кустом пролежали ребята. Сходка окончилась. Рабочие начали расходиться небольшими группами. Переждав немного, поднялись и мальчишки. Идут гадают: что же такое было в лесу, о каком это празднике говорили рабочие?
Вернулись ребята в Емельяновку, решили разузнать у старших.
Санька отцу рассказал про сходку, про знамя.
– А вы не придумали? – усомнился отец.
– «Придумали»! Мы же видели. Мы под кустами лежали.
Пожал Санькин отец плечами. Ничего объяснить не смог.
Расспрашивали ребята у матерей, к тетке Марье ходили, к дяде Егору бегали. Да только никто ничего не знал о рабочем празднике.
Помчались ребята к деду Онучкину. Он самый старый, уж онто наверное знает. Онучкин принялся объяснять, что праздники бывают разные: Рождество, Пасха, день рождения царя, день рождения царицы…
– Не то, не то! – перебивают ребята.
– Есть еще Сретенье, Крещение, Троицын день.
– Ты давай про рабочий праздник! – кричат.
– Про рабочий? – Старик задумался. Почесал затылок. Развел руками. Не слыхал он о таком празднике.
Так ничего и не узнали приятели.
А происходило в лесу деревни Емельяновки вот что: русские рабочие впервые отмечали Первое мая. Было это давно, в 1891 году.
Только о том, что же это за праздник Первое мая и почему его отмечают, Санька и Пашка узнали не скоро – много лет спустя, когда уже выросли, когда сами стали рабочими.
На Обуховском заводе
Трудна, безысходна жизнь рабочих. Работали по двенадцать, тринадцать, четырнадцать часов в сутки. А получали гроши. Чуть что – штрафы. Не лучше других жилось и рабочим Обуховского оружейного завода.
В апреле 1901 года обуховцы заволновались:
– Хватит!
– Натерпелись!
– Пусть ставки повысят!
– Штрафы, штрафы долой!
Объявили рабочие забастовку.
Хозяин завода приказал для острастки уволить 26 человек с работы.
Забегал слесарь Афанасий Никитин.
– Братцы, – кричит, – приступайте к работе. Так они нас всех уволят!
Только рабочие не послушались Афанасия Никитина, не испугались: к работе не приступили. Мало того, предъявили хозяину новые требования: уволенных немедля восстановить, рабочий день сократить, а подумав, добавили и еще одно – разрешить открыто праздновать Первое мая.
Прошел день, второй, третий. Прошла неделя, наступила вторая.
Не дымит, не работает Обуховский оружейный завод.
Слесарь Афанасий Никитин и вовсе перепугался.
– Братцы! – уговаривает он рабочих. – Так нет же силы в наших руках. Все равно не будет по-нашему. Только хуже себе…
Не слушают рабочие Никитина.
Прошло Первое мая. Следом – еще неделя. Не прекращается забастовка. Вызвал тогда хозяин войска. Окружили войска завод.
Построили рабочие баррикады, приготовились к обороне.
– Братцы! – не унимается Афанасий Никитин. – Пожалейте себя. Братцы, нас же солдаты, как зайцев…
Двинулись солдаты на баррикады, открыли стрельбу. А что у рабочих? Камни да доски. Продержались полдня на баррикадах, сломили войска рабочих.
Арестовали в этот день 800 человек. Судили. Многих отправили в Сибирь – на каторгу.
Так ничего и не добились рабочие.
– Говорил я, предупреждал, – опять завел про свое Афанасий Никитин. – Нет же силы в наших руках. Не стоило начинать.
– Начинать, говоришь, не стоило?! – возмущались рабочие. – Да в любом деле главное – начать. Силы, говоришь, нет? Эх ты! Сила в народе могучая, богатырская. Погоди: придет время – покажет себя народ!
Отпевание
Запрещалось рабочим праздновать Первое мая. Нельзя им было в этот день собираться большими группами, устраивать митинги и демонстрации.
Приходилось рабочим идти на разные хитрости. Рабочие одной из московских окраин решили собраться на кладбище.
Сколотили гроб. Наняли батюшку. Шесть человек подняли гроб на руки. Остальные пристроились сзади. Процессия двинулась к кладбищу. Впереди шел батюшка и важно махал кадилом.
Теперь уже никто не мог разогнать рабочих. Даже городовые почтительно уступали дорогу.
В кладбищенской церкви «покойника» отпели. Батюшка махал кадилом и тянул:
– За упокой души раба Божьего… Как звать?
– Николаем.
– За упокой души раба Божьего Николая… – выводил батюшка.
Кончив отпевание и получив пять рублей по договоренности, батюшка удалился. А рабочие собрались в самом дальнем конце кладбища и провели митинг. Спели вполголоса революционные песни, прочитали первомайские прокламации.
Вечером кладбищенский сторож Тятькин, обходя могилы, наткнулся на незарытый гроб. Удивился Тятькин, приподнял крышку, глянул, а там такое, о чем и подумать страшно.
Сторож бросился к участковому надзирателю.
– Ну что тебе?
– Гроб, ваше благородие.
– Ну и что?
– Так в т-том гробу… – Тятькин стал заикаться.
– Ну, так что же в гробу?
– Его императорское величество, царь-государь Николай Второй, – проговорил Тятькин.
– Ты что, сдурел?!
– Никак нет, – крестился кладбищенский сторож. – Сам государь император, изволю доложить.
Надзиратель пошел на кладбище. Заглянул в гроб, а в нем действительно, ну правда, не сам император Николай Второй, а царский портрет: при орденах, во весь рост, в военном мундире.
Началось следствие. Тятькин ничего нового сообщить не мог.
Взялись за батюшку.
– Отпевал? – допытывался надзиратель.
– Отпевал.
– Кого отпевал?
– Раба Божьего Николая.
– Идиот! – закричал надзиратель.
Батюшка долго не мог понять, за что такие слова и за какие такие провинности его, духовную особу, и вдруг притащили в участок. А узнав, затрясся как осиновый лист. Трясется, крестится, выпученными глазами моргает.
– Кто был на сходке? – не отстает надзиратель.
Старается батюшка вспомнить. Не может.
– Разные, – говорит, – были. Человек сорок. И высокого роста и низкого. И молодые и старые. Аллилуйя еще кто-то здорово пел.
– «Аллилуйя»! – передразнил надзиратель. – Ну, а кто нанимал? Кто деньги платил?
– Плечистый такой, – оживился батюшка. – С усами. Руки еще в мозолях.
Стали искать. Да мало ли среди рабочих широкоплечих да с усами. А руки в мозолях у каждого. Так и не нашли.
Обругал еще раз надзиратель Тятькина и батюшку. На этом дело и кончилось.
Рабочие были довольны. Шутка ли сказать – и Первое мая отметили, и самому царю устроили отпевание.
Аракел
Небывалой силой славился тифлисский (Тифлис – старое название города Тбилиси) кузнец Аракел.
– Дядя Аракел, согни-ка подкову, – просят ребята.
Положит кузнец подкову на огромную, словно сковорода, ладонь, сожмет – согнулась подкова.
– Гирю, гирю подбрось, – не отстают ребята.
Возьмет Аракел пятипудовую гирю, начинает играть, словно мячиком.
…Вместе с русскими рабочими Первое мая стали отмечать и рабочие других национальностей: украинцы, латыши, белорусы, армяне, татары.
В 1901 году отпраздновать Первое мая решили и рабочие города Тифлиса.
Первомайская демонстрация в Тифлисе получилась большая, многолюдная – две тысячи человек вышли на улицы.
Вместе со всеми вышел и Аракел. Шел впереди, нес красное знамя.
На одной из улиц рабочим преградили дорогу конные полицейские и казаки.
– Разойдись! – приказал казачий офицер. Он взмахнул плетеной нагайкой.
Демонстранты остановились.
– Разойдись!
Никто не шевельнулся.
Подал тогда офицер команду. Выхватили полицейские и казаки шашки, бросились на демонстрантов.
Смешались ряды рабочих, потеряли равнение. Окружили полицейские Аракела, оттеснили его от товарищей.
Подскакал офицер и схватился за красное знамя.
Не выпускает Аракел знамени, еще крепче прижал к груди.
– Отпусти! – закричал офицер и полоснул по лицу знаменосца нагайкой.
Пересек красный рубец лицо Аракела, кровью наполнился левый глаз.
Держится Аракел за знамя.
– Отпусти! – хрипит офицер; выхватил он шашку, взмахнул – вот-вот рубанет Аракела.
Но перехватил кузнец офицерскую шашку. Вырвал, подбросил и, как хворостинку, переломил ее на две половины.
Опешили офицер и полицейские. Сидят на лошадях, разинули рты.
А Аракел презрительно швырнул на землю обломки шашки, сжал крепче в руках знамя и не торопясь направился к демонстрантам.
Опомнились полицейские.
– Стой! – закричал офицер. – Стой! Держи его!
Бросились догонять Аракела, да поздно. Смешался он с толпой.
Не видать Аракела. Не найти. Лишь по-прежнему развевается над демонстрантами красное знамя.
– Да здравствует Первое мая! Да здравствует свобода! – несется по улице.
Пассажиры
Дело было в Могилёве. Извозчик-старик Качкин подкарауливал возле вокзала пассажиров. День был веселый, майский.
Сидел старик на козлах пролетки, от яркого солнца щурился. Смотрит: идут два парня. В руках у одного корзина. Сверху платком накрыта. Из-под платка торчит гусиная голова. Крутит гусак головой, с любопытством на всех поглядывает.
Поравнялись парни со стариком:
– Свободен?
– Милости просим.
– Нам бы на главную улицу.
– Тридцать копеек.
Парни спорить не стали. Один из них сел на пассажирское сиденье, поставил рядом с собой корзину. Второй попросил:
– Разреши-ка, папаша, лошадкой поправить.
– Садись, – согласился старик. – Но за это еще пятак.
– Ладно, будет тебе пятак.
Качкин подвинулся. Взобрался парень на козлы. Взял вожжи и кнут. Гикнул. Тронулись.
– Из деревни, никак? – поинтересовался старик. – Гостинчик, видать?
– Подарочки, – ответил загадочно парень.
Выехали на главную улицу.
– Держись, папаша! – крикнул парень Качкину и посильнее ударил коня.
Запрыгала пролетка по булыжной мостовой, засвистел в ушах ветер.
– Э-э! – заворчал старик. – Так не договаривались. За это еще десять копеек.
– Ладно, – согласился парень.
Видит Качкин: уступчив пассажир.
– Нет, – говорит, – двадцать.
Пока они договаривались, второй парень, тот, что сидел на пассажирском сиденье, снял с корзины платок, приподнял гуся, а под гусем – листовки! Взмахнул парень рукой – взвились, закружились, полетели листовки в разные стороны.
Оглянулся Качкин, понял: недоброе…
– Стой! Стой! – закричал с испугу.
– Тише, тише, папаша, за это еще целковый.
Только Качкину теперь не до денег.
– Караул! – завопил. – Разбойники!
Летит пролетка по главной улице. А сзади несутся городовые, слышится свист, хлопают выстрелы. Подбирают прохожие листовки, суют поспешно за пазуху. Свернула пролетка в один переулок, в другой, в третий.
Осадили парни разгоряченного коня, сунули старику горсть медяков, оставили корзину и гуся, бросились во двор, перемахнули через забор – только их Качкин и видел.
Подбегают запыхавшиеся городовые. Окружили пролетку, стянули Качкина с козел.
– Кого вез? Где пассажиры?
Хотел Качкин показать, куда побежали парни, да не успел. Подошел к нему офицер.
– Сволочь! – закричал он и съездил старику по уху. – Душу пущу по ветру! Где негодяи?!
Насупился Качкин, глянул из-под навислых бровей на офицера, помедлил.
– Вон туды утекли, – показал он на противоположный конец переулка.
Отпустили жандармы старика, помчались в указанном направлении.
Возвращался Качкин домой, щупал медяки в кармане, посматривал на гуся, вспоминал неожиданных пассажиров. «Парни, видать, рискованные, – рассуждал старик. – Ишь напридумали! По самой по главной улице…»
Гриша Лозняк
Гриша Лозняк отбывал заключение в одиночной камере. Худ. Ростом мал. В плечах узок. Глянешь – ничего в нем особенного. Да и нраву Гриша был скромного. Ссор с надсмотрщиками не заводил. Тюремных правил не нарушал. Во время прогулок не разговаривал. Смотрели на него надзиратели и думали: «По глупости небось угодил парень, по недоразумению».
Раз в неделю приходила сестра, приносила передачу – всегда одно и то же: буханку хлеба, бутылку молока и четверть фунта дешевых конфет, но непременно в бумажках.
Звали ее Лизой. Была она под стать брату: худенькая и маленькая, совсем девочка. Лиза терпеливо дожидалась своей очереди, робко протягивала корзину и уходила.
– Видать, пугливая, – говорили охранники.
Только все было не так.
Гриша сидел не случайно. Был он членом большевистской партии, печатником, и арестовали его при разгроме подпольной типографии. И Лиза была вовсе не сестрой Лозняка. Она тоже состояла в большевистской партии и выполняла партийное поручение. Да и хлеб, молоко и конфеты приносила она неспроста. В конфетные обертки вкладывались письма от товарищей с воли. Сидел Гриша в тюрьме, а был в курсе всех новостей и событий.
Из хлеба Гриша делал чернильницы, наливал в них молоко и молоком писал ответы товарищам. Когда к Гришиной камере приближались охранники, он проглатывал и «чернила» и «чернильницу». Вы, наверное, знаете, что так писал письма из тюрьмы Владимир Ильич Ленин.
Приближалось Первое мая.
Гриша не раз принимал участие в первомайских маевках. Решил он и в тюрьме отметить рабочий праздник. Сообщил об этом соседям – заключенным, сидящим в других камерах. Сообщал стуком – специальным шифром. Вначале постучал в стену направо, потом в стену налево. Товарищи поняли, поддержали, в свою очередь сообщили соседям.
Вскоре о предложении Гриши Лозняка знали все политические.
И уже на следующий день стали в тюрьму поступать лоскутки красной материи: одному – запеченные в хлебе, другому – в пироге вместо начинки, третьему – засунутые в корешок книги.
Во время прогулок заключенные незаметно передавали лоскутки Грише, а он по ночам шил из них красное знамя.
И вот наступило Первое мая. Как и обычно, утром заключенных вывели на прогулку. Тюремный двор небольшой. Ходят они цепочкой по кругу. Десять кругов – тридцать минут. Тридцать минут – вот и вся прогулка.
Прошли заключенные круг, прошли два, и вдруг взвилось над арестантами знамя. Затрепетало в воздухе алым полотнищем. Потянулось к небу и к солнцу.
- Смело, друзья! Не теряйте
- Бодрость в неравном бою, —
запел Гриша Лозняк.
- Родину-мать защищайте,
- Честь и свободу свою! —
подхватили другие.
Забегали, заволновались охранники.
– Молчать! – кричат. – Молчать!
Не слушают заключенные.
- Пусть нас по тюрьмам сажают,
- Пусть нас пытают огнем,
- Пусть в рудники посылают,
- Пусть мы все казни пройдем!..
Прибежал начальник тюрьмы. Окружили охранники со всех сторон заключенных, избили прикладами, погнали в вонючие подземные карцеры.
Две недели отбыли демонстранты в карцере. А потом разослали их по другим городам, в разные тюрьмы. Был отправлен и Гриша Лозняк.
Привезли его в новую тюрьму, посадили в одиночную камеру.
Прошла неделя, и снова у Гриши появились «чернильница» и «чернила», снова он стал получать письма от товарищей с воли…
Худ Гриша. Ростом мал. Скромен. Глянешь – ничего в нем особенного…
Книжечки
Томский батюшка, отец Макарий, любил простому народу для чтения раздавать книжечки. Книжечки были или божественного содержания, или про жизнь царей и цариц.
Читателями поначалу были старухи и монашенки соседнего монастыря, а потом, смотрит батюшка, и рабочий люд потянулся.
Раздавая книжечки, отец Макарий любил расспрашивать про прочитанное: понравилась ли книжечка, хороши ли картинки.
Приходила к батюшке за книжечками и одноглазая Харитина, прислуга генерала Обозина.
Вот как-то, было это в конце апреля, под самое Первое мая, отец Макарий и спрашивает у Харитины:
– Ну как, понравилась книжечка?
– Ой как понравилась! – отвечает Харитина. – Интересно, – говорит. – И, главное, очень понятно. Особенно там, где про Первое мая.
– Про какое еще Первое мая? – удивился он.
– Как – про какое?! Про то, что рабочий праздник, – говорит Харитина.
Схватил батюшка книгу, смотрит – не верит своим глазам. Действительно, в книжечке листки про Первое мая: и откуда праздник пошел, и почему он рабочий. А дальше и совсем страшное – все против царя, помещиков и капиталистов: мол, пора их прогнать и установить народную власть. Бросился отец Макарий в жандармское управление к полковнику Голенищеву.
Развернул Голенищев книжечку, побагровел.
– Откуда такая?! – накинулся на святого отца.
Батюшка и принялся рассказывать про то, как он раздает для чтения простому народу книжечки, и про Харитину.
– Позвать Харитину, – приказал Голенищев.
Привели Харитину.
– Откуда листовки?! – заревел Голенищев.
Уставила Харитина на полковника свой единственный глаз.
– От батюшки, – говорит. – От отца Макария.
– Дура! – обругал ее полковник и стал допытываться у священника, кто еще приходит за книжечками.
– Кучер его сиятельства князя Пирятина, Митрофан, – стал перечислять батюшка.
– Так. Еще?
– Монашенки из соседнего монастыря.
– Так. Еще?
– Пекаря из булочной Незатейкина.
– Так.
– Прачки из заведения госпожи Белоручкиной.
– Еще?
– Санитар из богоугодного заведения Еремей Дремов.
Приказал Голенищев собрать всех батюшкиных читателей и вместе с книжечками привести в полицейское управление.
Собралось человек сорок. Проверили книжечки. Почти в каждой – листки про Первое мая.
Стали допрашивать.
– Откуда листки про Первое мая? – спрашивал каждого Голенищев.
– Не знаю, ваше высокородие, – отвечал Митрофан, кучер его сиятельства князя Пирятина. – Мне такую батюшка, отец Макарий, пожаловал.
– Не знаем, – пропищали монашки. – Мы книжечек не читаем. Мы так, ради прогулки, к батюшке ходим.
Ничего не могли ответить ни пекаря из булочной Незатейкина, ни прачки из заведения госпожи Белоручкиной.
– Тут не иначе как нечистая сила замешана, – заявил санитар из богоугодного заведения Еремей Дремов.
Три дня велось следствие. Безрезультатно. Пришлось отпустить арестантов.
Рассвирепел Голенищев, вызвал отца Макария.
– Богу служишь, – кричал, – царя забываешь! Тебя самого за такие дела под арест, в Сибирь да на каторгу!
Стоял батюшка, слушал, краснел, разводил руками. Ну и задача: как же оно случилось – в божественных книжечках и вдруг про Первое мая?
А дело было так. Служил у отца Макария в работниках мальчик – Никишкой звали. У Никишки был брат – Григорий. Работал Григорий слесарем на заводе. Узнал он от Никишки про книжечки. А тут как раз приближалось Первое мая. Рабочие напечатали листовки и стали их тайно распространять по городу.
Подумал Григорий, что и книжечки отца Макария могут послужить на пользу. Поговорил с Никишкой. Дал ему пачку листовок. Тот их в книжечки и вклеил. Ну, а кто на мальца подумает?
И потратил-то Никишка двадцать минут, а вон какая из этого история получилась!
Плавни
Широки кубанские плавни. Островки. Протоки. Осока. Стеною стоит камыш. Раздолье здесь и для крякв, и для нырков, и для лысух.
В кубанских плавнях на островах екатеринодарские (Екатеринодар – город на юге России, ныне Краснодар) рабочие проводили маевки. Приплывали на лодках в темноте с ночи, для безопасности выставляли дозорных.
Сидел в дозоре старик Макар Макарыч Картечин. Забился на своей плоскодонке в камыш. Поглядывает на протоку. Для виду забросил удочку. Тихо кругом. Лишь нет-нет да пробежит в камышах болотная курочка.
Прошло часа полтора. И вдруг возле острова появился на лодке шпик Терентий Лизунов. Поручили ему жандармы следить за плавнями. Чуть что – сразу в участок.
Пробирается Лизунов, осторожно, крадучись раздвигает потихоньку камыши и вдруг слышит:
- Вышли мы все из народа,
- Дети семьи трудовой.
- «Братский союз и свобода» —
- Вот наш девиз боевой!
Сообразил Лизунов, в чем дело, заторопился в город. Рад Лизунов: знает, что будет ему награда. Была бы ему награда, да только попал Лизунов на протоку, возле которой сидел в дозоре старик Картечин.
«Шпик», – понял Картечин.
Закрякал он по-утиному, дал сигнал для других дозорных.
Выплыли на протоку слесарь Федор Горшков и токарь Иван Васильев.
– Эй, мил человек! – закричали они Лизунову.
Метнулся от них Лизунов. Подналег на весла. Раз – взмах, два – взмах, все ближе и ближе к старику Макару Макарычу.
Выждал старик минутку – и наперерез Лизунову. Ударилась лодка о лодку – бух!
– А-а-ай! – закричал Лизунов.
Подплыли Горшков и Васильев. Помогли они деду. Связали Лизунова, заткнули рот кляпом, бросили на дно лодки Картечина. Вернулись Горшков и Васильев на свои дозоры. Забился снова в камыш и старик Картечин. Снова закинул удочку.
Вскоре маевка окончилась. Подплыли рабочие к старику.
– Ну, как улов?
– Есть улов, – отвечает Картечин.
Глянули рабочие в плоскодонку – Лизунов с кляпом. Рассмеялись рабочие:
– Вот так рыба!
– Ай да карась!
– Глянь-ка: окунь в штиблетах!
Стали решать: как же им быть с Лизуновым?
– В воду его! Камень на шею!
– Ракам в клешню!
– Бычкам на съедение!
Поступили так: оставили Лизунова на острове, а лодку пустили вниз по течению.
– Если предашь, утопим, – пригрозили рабочие шпику.
Долго вспоминали екатеринодарские рабочие про «улов» старика Картечина.
– Какой там улов! – усмехнулся старик. – Ершишка паршивый!
Дурная трава
Рабочие фабрики Абрикосова потребовали объявить Первое мая нерабочим днем. Фабрикант отказался. Стали рабочие советоваться, что делать, как им быть.
– Не работать, – заявляют одни.
– Как можно! – возражают другие. – Хозяин уволит.
– Всех не уволишь!
После долгих споров решили на фабрику явиться, однако работу не начинать.
Наступило Первое мая. Разошлись по цехам рабочие. Стоят, не включают станки.
Бегает мастер, кричит. Подлетел к Спиридону Нечаеву:
– Чего стоишь? Почему станок не пускаешь?
– Да тут что-то заело, – отвечает Нечаев и показывает на ременную передачу.
– Чего заело?
– Да кто его знает. Видать, ремень в неисправности.
Подбежал мастер к Никите Хохлову:
– Почему не работаешь?
– Да резец затупился, – медленно отвечает Хохлов. – Резцы нынче пошли никудышные.
Подскочил к Андрею Извекову:
– Почему не работаешь?
– У меня глаз засорился, – говорит Извеков и трет ладонью веко.
Понял мастер, в чем дело.
– Бунтовать?! – закричал.
Молчат, не отвечают рабочие.
Прибыл на завод фабрикант Абрикосов. Ругаться не стал, но пригрозил:
– Каждого, кто через десять минут не приступит к работе, уволю.
Не испугались рабочие. Не приступили к работе. Один Прохор Колышкин опустил голову и молча включил станок.
– Ты что же? – набросились на него товарищи. – Для тебя, что же, общий уговор не закон?!
– Вы как хотите, – огрызнулся Колышкин, – а для меня работа дороже. Я сам за себя в ответе.
Не поддержал Прохор товарищей, не захотел быть со всеми.
Прошел час. Видит Абрикосов, угроза не действует. Решил обратиться в уезд, к жандармскому начальнику. «Покорнейше прошу прислать казаков, – писал. – На фабрике беспорядки».
Казаки прибыли. Вошли в цех.
– Приступай к работе! – закричал сотник.
Стоят рабочие, молчат.
– Приступай!
Никакого ответа.
Подал сотник команду, стали выгонять рабочих во двор.
Подошел здоровенный казак к Колышкину:
– Ну, а ты чего?
– Я же работаю.
– Работаешь! – усмехнулся казак. – Знаем мы вас. Ступай, не прикидывайся.
– Так я же работаю, – упирается Колышкин. – Я сам по себе.
– Но-но! – прикрикнул казак. – Ступай! – и вытолкнул Прохора в шею.
Стали искать зачинщиков.
– Кто научил? Кто главный?! – кричит сотник.
Молчат рабочие. Нет главного. Все в главных.
– Пересажаю! Сгною! – не унимается сотник. Поглядывает на рабочих, прикидывает, кого бы арестовать.
– Ваше благородие, – обратился к сотнику здоровенный казак, – вот тот упирался, сопротивление оказал, – и закосил глазами в сторону Колышкина.
– Взять! – приказал офицер.
Схватили казаки Колышкина, скрутили руки.
– Я же не виноват! – закричал Колышкин. – Братцы! – обратился он к рабочим. – Заступитесь, братцы!
Однако никто ему не ответил.
Двинули казаки крикуну по шее, потащили к арестантской повозке.
– Поделом, – бросил вдогон Спиридон Нечаев.
– Шкура, – заявил Никита Хохлов.
– Дурная трава, – произнес Извеков.
Рязанские мужики
На шахте «Святая Мария» готовились к встрече Первого мая. Договорились шахтеры провести митинг. Решили пригласить и новичков. Было их человек десять. Все из крестьян, из Рязанской губернии, приехали полгода назад. Жили мужики отдельной артелью. Вспоминали деревню свою Голодайку. Бывалых шахтеров сторонились.
«Хватит им, как бобылям, на отшибе, – решили на шахте. – Пусть приобщаются к общему делу».
Послали к крестьянам молодого забойщика Лешу Заборова. Пришел Заборов, заговорил о жизни, о том о сем, а кончил рассказом про Первое мая.
Слушают мужики, посматривают на пришельца искоса.
– Нам, товарищи, – объясняет Леша, – нужно всем вместе. Сила от этого прибавится. Смерть рабочему люду – жить в стороне друг от друга. Задавят в одиночку нас богатеи.
– Так-то оно так, – соглашаются мужики. – Только ты нас не трогай. Люди мы новые. Как бы чего не вышло.
– Уходи, не смущай, – говорит рязанский мужик Кирилл Пустобрюхов.
Ни с чем ушел Леша. Плохо кончился этот разговор для Заборова. Кто-то из мужиков донес о молодом забойщике мастеру, мастер – начальству, начальство – в полицию. Арестовали Заборова. Отправили Лешу в тюрьму, а жизнь на шахте шла своим чередом.
Трудна жизнь рабочих. Особенно трудно шахтерам. То в шахте обвал, то увольнения, то понижение ставок. Так и тут, на «Святой Марии». Обрушился угольный пласт. Погибло шесть человек. Среди них и рязанский мужик Кирилл Пустобрюхов.
Вскоре начались увольнения. Сразу трое рязанцев лишились места. Затем – понижение ставок. И снова больше других пострадали рязанские мужики, как в делах шахтерских менее опытные. Призадумались мужики. Стали они все чаще прислушиваться к словам бывалых шахтеров. Вспомнили и Лешу Заборова: «Зазря мы тогда, выходит, по глупости…»
Наступила весна.
В первых числах апреля шахта забастовала. Потребовали шахтеры восстановить прежнюю плату за труд и принять на работу уволенных.
Две недели стояла шахта затихшей. Дружно, все как один, бастовали рабочие. Хозяин не выдержал, сдался.
– Ишь ты! – ухмылялись рязанские мужики. – Вышло. Значит, сила в наших руках.
И снова вспомнили Лешу Заборова, как он тогда говорил: «Все вместе, все разом. Смерть рабочему люду – жить в стороне друг от друга». Правду, выходит, говорил парень.
Отсидел Леша срок заключения. Снова вернулся в шахту. Пришел накануне Первого мая. Рабочие и в этом году устроили митинг. Явился Леша на митинг – ба! – и рязанские мужики здесь. Стоят, вместе со всеми поют:
- Никто не даст нам избавленья,
- Ни Бог, ни царь и не герой:
- Добьемся мы освобожденья
- Своею собственной рукой.
Пушка
Утром Первого мая жандармскому полковнику Голове-Качанову вручили письмо. Распечатал – в конверте листовка: «Да здравствует Первое мая! Долой самодержавие!»
Побледнел Голова-Качалов, схватил листок, понесся в жандармское управление. Собрал подчиненных. Выяснилось: такие же письма получили и ротмистр Галкин, и поручик Кутейкин, и жандармские приставы Тупиков и Носорогов, и другие жандармы. А вскоре к Голове-Качанову в управление начались телефонные звонки от разных именитых граждан: от фабриканта Рублева, купца Собакина, отставного генерала Атакина и от других. И им, оказывается, пришли такие же письма.
Схватился Голова-Качанов за голову. А тут еще ко всему жандармский пристав Носорогов возьми и скажи:
– Ваше высокородие, никак, мастеровые бунт задумали?
– По местам! – закричал Голова-Качанов. – Пулеметы на улицу! Пушку!
Бросились жандармы исполнять приказ. Расставили на уличных перекрестках пулеметы, а около жандармского управления поставили пушку. Носятся по городу полицейские, шпики. Однако в городе спокойно – никаких беспорядков. Только около пушки, что поставлена возле жандармского управления, крутятся мальчишки. Интересно ребятам. Многие пушку впервые видят. Все норовят подойти поближе. Самые смелые даже колеса, ствол трогают.
– Но-но! – покрикивает на ребят солдат.
Отойдут мальчишки, а потом опять за свое.
– Стрельни, – просят солдата.
К середине дня полковник Голова-Качанов успокоился. Повеселел. Но тут вбегает в управление пристав Носорогов и показывает полковнику бумагу.
– Ва-а…ва-а, – заикается, – ва-а-ше высокородие, извольте взглянуть. Только что содрал с пушки.
Глянул полковник – листовка: «Да здравствует Первое мая! Долой самодержавие!»
Опять побелел Голова-Качанов. Опять схватился за голову. А Носорогов снова свое.
– Ваше высокородие, не иначе, как быть восстанию.
И снова забегали по городу жандармы и шпики. Приготовились пулеметчики. А Голова-Качанов приказал из пушки через каждый час стрелять холостым зарядом. Для острастки, чтобы все знали, что власть начеку.
То и дело к полковнику являются жандармские приставы и офицеры, докладывают, везде ли спокойно.
Пришел пристав Тупиков:
– Ваше высокородие, все в полном порядке.
– Молодец. Ступай.
Прибыл поручик Кутейкин:
– Ваше высокородие, все в полном порядке.
– Молодец. Ступай.
Прибыл и Носорогов:
– Ваше высокородие, никаких нарушений не обнаружено. Все в полном порядке.
– Молодец. Ступай.
Повернулся Носорогов, а сзади у него во всю жандармскую спину листовка: «Да здравствует Первое мая! Долой самодержавие!»
– Идиот! – взревел Голова-Качанов. – Под арест! На гауптвахту!
И снова по городу забегали жандармы и шпики. Снова залегли полицейские за пулеметы. Снова ударила пушка.
А тем временем рабочие собрались в загородной роще и спокойно отпраздновали Первое мая.
Ферайнигт ойх!
В немецкий порт Гамбург прибыл русский пароход «Петр Великий». Прибыл в день Первого мая. Привезли русские моряки срочные грузы. Пора приступить к работе. А на пристани никого нет. Бастуют немецкие грузчики. Требуют, чтобы владельцы порта на час сократили рабочий день.
Грузы на «Петре Великом» срочные. Отдал тогда капитан приказ приступить к работе самой команде.
Заволновались матросы:
– Как же это, братцы, а?
– Подведем немцев.
Посовещались матросы и отказались выполнить приказ капитана. Прошел день, второй, третий. Собралось за это время в гамбургском порту до десятка других кораблей: английские, французские, датские. Узнали и на этих кораблях матросы, в чем дело. Решили и они поддержать немцев.
Стоят суда у причалов. Замер гамбургский порт. Лишь вахтенные ходят по палубам.
Прошла неделя. И вот как-то уже в темноте к вахтенному матросу Ивану Гагину подошел носатый немец и сунул записку.
Немецкий язык Гагин не знал. Крутит бумагу в руках, размышляет, как ему быть. И вахту оставить нельзя, и некого крикнуть – все спят. А бумага, наверное, важная…
Прошелся Гагин по палубе, приблизился к капитанской каюте. Темно.
«Ладно, – решает. – Капитан спит, не заметит, сбегаю вниз к товарищам».
Спустился в матросский кубрик, стал будить соседа по койке Фому Спирина.
– Ну что тебе? – нехотя отозвался Спирин.
– Бумага.
– Какая еще бумага?
– Немец сунул.
Взял Спирин бумагу, поднес к глазам. Пожал плечами. Стали будить других. Многие и сами начали просыпаться. Только читать по-немецки никто не умеет.
– Буди Сомова. Он знает.
Разбудили. Посмотрел Сомов бумагу, улыбнулся.
– Да ты давай вслух, – зашумели матросы.
– «Либе геноссен», – прочитал Сомов.
Все стихли.
– Дорогие товарищи, – перевел он на русский язык.
– Ясно. Давай дальше.
– «Данк фюр ойре золидаритэт» – благодарим за солидарность, то есть за помощь, – объяснил Сомов.
– Понятно.
– Ишь ты!
– Правильно!
– Давай дальше.
– «Вир хабен гезигг. Пролетариер аллер лендер, ферайнигт ойх!» – прочитал Сомов. – Мы победили. Пролетарии всех стран…
– …соединяйтесь! – выпалил Спирин.
– Верно, – произнес Сомов.
Мало кто из матросов в эту ночь спал.
– Взяла, значит, – радовались они. – Добились. Помогли, выходит, и мы немцам.
На следующий день с утра немецкие грузчики приступили к работе. Таскают с «Петра Великого» ящики, бочки. Посматривают на русских, улыбаются.
Принялись и русские помогать немцам. Взялся и Гагин. Подхватил с каким-то немцем тяжелый ящик, присмотрелся, а немец – тот самый, что записку вчера ему сунул. Кивнул ему по-приятельски Гагин. И немец кивнул.
– Пролетариер аллер лендер, ферайнигт ойх! – прошептал немец.
– Ферайнигт ойх! – повторил Гагин.
Будут – не будут
В середине апреля на завод Полисадова приехала группа бельгийских рабочих. Привезли из Бельгии станки для завода. Вот и прибыли бельгийцы их устанавливать.
Приближалось Первое мая. Русские рабочие договорились в этот день на работу не выходить. Стали думать: а как же бельгийцы?
Одни говорят:
– Будут бельгийцы работать.
– Нет, не будут, – возражают другие.
О том же заспорили и заводские ребята. Колька Зудов за то, что бельгийцы будут работать, Лёнька Косичкин, наоборот, – не будут.
– Не наших они кровей, не поддержат бельгийцы русских, – заявляет Колька.
– А вот и поддержат, – упирается Лёнька.
Спорили, спорили, наконец решили; десять щелчков тому, кто проиграет.
В ночь под Первое мая Лёнька спал плохо. А что, если Колька прав и бельгийцы приступят к работе? Пальцы у Кольки крепкие. Влупит – так будь здоров.
И Кольке не спалось. А ну как прав Лёнька! И хотя Колька щелчков не очень боялся, да неловко будет перед ребятами. Колька любил всегда быть правым.
На следующий день ранним утром помчались ребята к заводу. Были здесь и Колька, и Лёнька, и Лёнькина сестра – рыжая Катька, и еще человек десять.
В семь часов около заводских ворот появились бельгийцы. Вначале группкой в пять человек, потом еще пять, за ними и остальные.
Пересчитали ребята: все тут – двадцать один человек.
– Ну, говорил я? – торжествующе закричал Колька.
– Говорил.
– Подставляй лоб.
Спустились ребята в овражек, укрылись от ветра, засучил Колька рукав.
– Раз, – отсчитывает Колька, – два, три, четыре…
Бьет крепко. Морщится Лёнька, язык прикусил от боли.
– Пять, шесть, семь…
Крепится Лёнька, а слёзы сами из глаз выступают.
– Восемь, девять, десять.
Только ударил Колька десятый раз, как смотрит – мчится сверху Лёнькина сестра, рыжая Катька, кричит:
– Ушли бельгийцы, ушли с завода!
– Как – ушли?!
– А вот так и ушли!
Поднялись ребята из овражка, смотрят – и правда уходят бельгийцы. Впереди пять человек. За ними еще пять. Следом и остальные. Пересчитали ребята: все тут – двадцать один человек.
Лёнька с кулаками на Кольку:
– Говорил я, говорил! Подставляй лоб.
– С какой же это стати? – стал возражать Колька. – Может, они снова вернутся.
Тут за Лёньку вступились ребята:
– Не вернутся они. Не вернутся. Увидели, что наших нет, вот и ушли.
– Подставляй лоб! – опять потребовал Лёнька.
Смирился Колька, подставил…
Возвращались мальчишки домой с распухшими лбами. В поселке встретили отцов.
– Кто же это тебя? – спросил Колькин отец у сына.
– Ну и ну! – подивился Лёнькин отец.
– Это из-за бельгийцев, – вылезла рыжая Катька.
– Как – из-за бельгийцев?
Рассказала девчонка, в чем дело. Рассмеялись рабочие.
– Говорите, не наших кровей. Вот и неверно. Кровь-то у нас пролетарская. Дело-то общее.
Новая рубаха
Пообещал отец к маю Николке новую рубаху купить. Соберутся, бывало, вечером мать, отец и Николкина сестра, Клава, заведут разговор о рубахе.
– Лучше белую, с пояском, навыпуск, – скажет Клава.
– Не настираешься. Надо темную, синюю, – заявит мать.
– Зачем же синюю? – возражает отец. – Мы ему купим красную, яркую, в маковый цвет.
Замирает сердце у Николки, глаза разгораются.
– Так какую тебе рубаху? – спрашивает отец.
– Мне бы с карманом, красную.
Расхвастался Николка про рубаху дружкам и приятелям. Стали и ребята спорить, какую рубаху купить.
– Пусть лучше матроску, – заявляет Зойка Пескова.
– С вышитым воротом, – советует Пашка Солдатов.
– Ш пуговкой, ш пуговкой на груди, – шепелявит Кузя Водичкин.
Бегает Николка среди заводских бараков, про рубаху рассказывает.
Повстречал рабочего Степана Широкова:
– А мне рубаху новую купят!
– Да ну?!
– Ей-ей!
Увидел слесаря Тихона Громова:
– А мне отец к маю рубаху обещал!
– Ты смотри! Добрый, выходит, отец.
– Добрый! – смеется Николка.
Встретил старика токаря Кашкина:
– Мне на май папка рубаху купит!
– Скажи на милость!
– Новую. С карманом. С пуговкой на груди. В маковый цвет, – хвастает мальчик.
Через несколько дней во всем поселке не было человека, который бы не знал про рубаху.
Уехал Николкин отец по делам в город Иваново.
– Ну, Николка, – прощаясь, сказал отец, – слушайся мать. Будет тебе рубаха.
Уехал отец и не вернулся. Случилась беда. Задержали в Иванове Николкиного отца жандармы, арестовали.
Опустело, изменилось в доме у Николки.
– Мам, мам, – пристает Николка, – а чего же папка не едет?
Прижмет к себе мать Николку, молчит. Расплачется Николка.
– Тихо, тихо, – успокаивает братишку Клава. – Папка скоро вернется. Папка нас не забудет.
Незадолго до Первого мая рабочие устроили сходку. Заговорили о празднике, о рабочей выручке и солидарности. Были здесь и старик Кашкин, и слесарь Тихон Громов, и Степан Широков, и другие рабочие. Вспомнили товарищи о Николкином отце, вспомнили и о том, что пообещал отец к маю рубаху сыну.
– Купим ему рубаху, – решили рабочие.
Наступило Первое мая. Проснулся Николка и не поверил своим глазам: рядом на стуле – рубаха. Новая. С карманом. С пуговкой на груди. Красная.
– Папка, папка приехал! – закричал Николка.
Подошла мать. Не знает, что и сказать.
– Нет, не приехал папка, – ответила. – Не скоро приедет.
Смотрит Николка на мать, соображает: откуда тогда рубаха?
– Знаю, знаю! – закричал. – Папка прислал!
Мать глянула на сына. Думает, рассказать или нет про рубаху? Мал Николка. Глуп. Где ему понять про рабочую солидарность. Решила смолчать.
Надел Николка новую рубаху, помчался на улицу, кого ни увидит – хвастает.
Повстречал рабочего парня Степана Широкова:
– А мне папка рубаху прислал!
– Да ну?! – удивился парень.
– Прислал, прислал. Не забыл! – закричал Николка и помчался дальше.
Увидел слесаря Тихона Громова:
– А мне папка рубаху прислал!
– Ты смотри, – улыбается Громов. – Добрый, выходит, отец, вспомнил.
– Добрый, добрый! – смеется Николка. – Добрый!
Догнал старика токаря Кашкина:
– А мне папка рубаху прислал!
– Скажи-ка на милость, – говорит Кашкин. – И правда. Ну и рубаха!
– Новая, новая, – не умолкает Николка. – И про карман не забыл, и про пуговку, и про маковый цвет.
Прижал к себе Кашкин Николку, гладит по голове, а у самого на глазах слёзы. Поднял Николка голову.
– А ты чего плачешь?
– Это я так, – засмущался старик. – Беги. Играй. Май нынче… рабочий праздник.
Калач с маком
Принес отец Нюте калач с маком.
– На, – говорит, – получай. Это тебе Кот в сапогах прислал.
Смеется Нюта. Знает, что никаких Котов в сапогах нет. Нюту не проведешь. Понимает она, откуда калач с маком. Бастовали на Май рабочие. Победили. Пришлось хозяину повысить рабочим ставки. Сегодня была получка – вот откуда калач для Нюты. Калач большой, пышный. Никогда еще в жизни Нюта таких калачей не пробовала. Поднесла Нюта калач ко рту да задумалась…
– Ну что же ты, – говорит мать. – Пробуй!
Однако есть Нюта калач не стала. Положила на стол, отломила кусок, протянула отцу.
Улыбнулся отец:
– Спасибо.
Отломила девочка второй кусок, протянула матери.
Засмущалась мать:
– Да ты не дели. Ты кушай.
Поднесла снова Нюта калач ко рту, да спохватилась. Положила на стол и стала опять делить.
– А это кому?
– Это Варьке Рыжовой, – начинает перечислять Нюта своих дружков, – это Павке Зозуле, это Семке Сорокину, это Лизе Бубенчиковой, а это вот мне.
Схватила Нюта калач, побежала из дома.
Только ушла – стук в дверь.
– Кто там?
– Это я, Лиза Бубенчикова.
– Заходи.
– Мне бы к Нюте.
– Нет Нюты.
– Вот тут для Нюты гостинец… с отцовской получки, – проговорила Лиза Бубенчикова и протянула желтый ландринчик.
Только ушла Лиза, стук в дверь.
– Кто там?
– Это я, Семка Сорокин.
– Заходи.
– Мне бы к Нюте.
– Так нет Нюты.
– Вот для Нюты… – протянул он кусок пряника.
Только ушел Сорокин, снова стук в дверь.
– Кто там?
– Это я, Павка Зозуля.
Заходит Павка, протягивает карамельку.
Вслед за Павкой прибежала Варька Рыжова, принесла кусок макового калача, точь-в-точь такого, как купил и Нютин отец.
Обошла Нюта дружков, торопится домой. Зажала в руке остаток макового калача. «Вот прибегу и сразу же съем», – рассуждает Нюта. Бежит и вдруг видит: стоит Капка Телегин. Стоит и горько плачет.
– Ты что? – спрашивает Нюта.
– Коленку зашиб. Больно.
Посмотрела Нюта на Капку. Знает: Капка растет без отца. Некому ему с майской получки купить гостинец. Взглянула на свой калач, протянула Капке.
– На, – говорит, – вытри слёзы.
Схватил Капка калач, повеселел, побежал к дому. И Нюта пошла. Только уже не бегом, не как раньше, а медленно. Куда торопиться, раз от калача ничего не осталось…
Первая рота
За участие в рабочей маевке большевик слесарь Иван Петров был отдан в солдаты. Шла мировая война. Привезли Петрова на фронт, определили в пехотный полк, в первую роту.
– За что тебя, парень? – стали интересоваться солдаты.
– За Первое мая.
Вся рота была из дальних деревень. Про Первое мая никто не слыхал.
Принялся Петров объяснять солдатам. Рассказал и откуда праздник пошел, и почему он рабочий, и почему его празднуют.
– Так, выходит, это праздник и наш, крестьянский, – решили солдаты.
Многое узнали солдаты от слесаря Ивана Петрова.
Изменилась первая рота. Соберутся солдаты в окопах, о жизни, о войне, о мире говорят. Стали понимать солдаты, что к чему, за чьи интересы воюют, на кого гнут спины рабочие и крестьяне.
Прошел без малого год. Опять наступило Первое мая.
Собрались солдаты и тайно отметили пролетарский праздник. Но кто-то узнал и донес начальству. Первую роту сняли с передовой, расформировали. Разослали солдат по разным другим фронтам, по новым полкам и ротам.
Прибыл Иван Петров на новое место.
– За что тебя? – стали и здесь интересоваться солдаты.
– За Первое мая.
Сгрудились солдаты вокруг Ивана Петрова, слушают большевистского агитатора.
Прибыли в новые части и другие солдаты из первой роты.
– За что вас? – стали спрашивать новичков.
– За Первое мая.
Принялись солдаты рассказывать про Первое мая. Да так ловко, не хуже самого Ивана Петрова.
Приехал на фронт один агитатор – Иван Петров. Через год стало сто агитаторов – вся первая рота.
Упрямая льдина
Весна в этот год задержалась. Река набухла. Но лед не тронулся. Река взломала лед в ночь под самое Первое мая.
С утра на набережной собрался народ.
Одна за одной шли по реке огромные льдины, скрежетали, кружились, становились ребром и, поднимаясь тысячами брызг, снова ложились на воду.
Стоят люди – любуются.
Здесь же, у самой реки, нес свое дежурство и урядник Охапкин. Видит урядник, что собралось много народу, думает: «Ой, как бы беды не вышло. Первое мая. Как бы мастеровые чего не устроили».
Только подумал, как вдруг из-за поворота реки выплывает огромная льдина. Смотрит Охапкин и не верит своим глазам: на льдине красное знамя! Повалил народ к самому берегу.
– Ура! – раздалось за спиной у Охапкина. – Да здравствует Первое мая!
Урядник растерялся. Схватил свисток. То в сторону толпы свистнет, то в сторону льдины.
Смеется народ. Стоит. Не расходится.
– Осади! Осади! Не толпись! – надрывает глотку Охапкин.
А льдина подплывает все ближе и ближе. Словно нарочно, направляется к самому берегу. Трепещется по ветру красное знамя.
Заметался урядник из стороны в сторону, что придумать, не знает. Остановился, набрал в грудь побольше воздуху и снова давай свистеть.
Свистит, а льдина уже и вовсе приблизилась к берегу, задержалась рядом с Охапкиным, стоит, упрямая, дразнится.
Разгорячился урядник, думает: «А что, если прыгнуть на льдину, содрать знамя, и делу конец?»
– Прыгай! – кто-то выкрикнул из толпы.
Охапкин и прыгнул. Прыгнул, а льдина словно только этого и дожидалась. Раз – и от берега.
– Караул! – завопил урядник. – Спасите!
Мечется Охапкин на льдине, забыл про свисток и про знамя, фуражка сползла на затылок, машет руками, молит о помощи. Только кому же охота ради урядника лезть в студеную воду?
– Поклон Каспийскому морю! – кричат ему с берега.
– Счастливого плавания!
– С майским приветом!
Ударилась льдина о льдину, не удержался урядник, бухнулся в воду.
– Спаси-и-те! – еще раз крикнул Охапкин и камнем пошел ко дну.
Отделилась от толпы группа молодых парней. Бросились в воду. Вытащили перепуганного Охапкина на берег.
Стоит урядник, побелел, посинел, трясется, под общий смех крестится.
А льдина тем временем отплыла к середине реки, развернулась и пошла себе вниз по течению. Затрепетало, заиграло в весеннем воздухе красное знамя.
– Да здравствует Первое мая! – раздается над берегом.
Красное знамя труда
Май встречали вместе, сразу тремя заводами. Двинулись рабочие с Нагорной, с Литейной, с Маршевой и других улиц плотными колоннами в центр города. С утра к своему заводу отправился и Гошкин отец.
– И я с тобой, – пристал было Гошка.
– Мал еще! – усмехнулся отец. – Сиди дома.
– Я тоже хочу, – упирается Гошка. – Я вот чего смастерил, – и показывает красный флажок.
– Дельный флажок! – похвалил отец, однако сына с собой не взял.
Остался Гошка. Покрутился он в комнате, сунул незаметно флажок за пазуху, направился к двери.
– Ты куда? – насторожилась мать.
– К Ваньке Серегину.
Выбежал Гошка во двор, сделал вид, что направляется к Ване Серегину, а сам – вокруг дома и ветром помчался на Нагорную.
Прибежал на Нагорную – народу! Идет по улице колонна рабочих. Впереди над головами – красное знамя. Переждал Гошка, пока прошли рабочие, пристроился сзади. Только полез за пазуху за флажком, как вдруг:
– Домой! Марш! К мамке! – закричал какой-то рабочий.
– Так я с вами. Я Май встречаю.
– А ну-ка живо. Немедля!
Пришлось убираться. Постоял Гошка, подумал, помчался на Литейную. Прибежал на Литейную – народу! Идет по улице колонна рабочих. Над головами – красное знамя. Пристроился Гошка к рабочим. Только полез за флажком, как вдруг:
– Ну, а ты зачем здесь?!
– Да я…
– Уши нарву. Домой!
Отстал Гошка. Постоял, подумал, помчался на Маршевую. Прибежал – народу! Идет по улице колонна рабочих. Впереди над головами – красное знамя. Подошел Гошка к рабочим, схитрил:
– Я к папке, к папке. Меня мамка послала. Мне нужно. Он впереди.
Раздвинулись рабочие, уступили дорогу Гошке. Добрался он до самого первого ряда. Перевел дух, глянул – а рядом и вправду отец. Идет, красное знамя держит в руках.
Хотел Гошка незаметно юркнуть назад, да поздно.
– А ну-ка ступай сюда, – поманил отец.
Подошел Гошка.
– Тебе что ж, ни мать, ни отец не указ?
– Так я же как все. Я тоже хочу. Я же вот чего смастерил, – вытаскивает Гошка из-за пазухи красный флажок.
Улыбнулся отец, доволен сыном. Засмеялись другие рабочие.
– Ты смотри – знамя!
Настоящее!
Красное!
Глянул отец на свое большое красное знамя, посмотрел на Тошкин флажок, опять улыбнулся, потрепал сына по голове:
– Ну, а теперь ступай к мамке.
– Да я…
Гошка не договорил. Из переулка наперерез демонстрантам выскочили солдаты с винтовками.
– Стой! – закричал офицер рабочим. – Стой!
Замедлили демонстранты шаг, остановились.
– Разойдись!
Сдвинули рабочие теснее ряды, окружили Тошкиного отца и знамя.
– В ружье! – скомандовал офицер.
Солдаты вскинули ружья.
– Сынок… – зашептал отец Гошке. – Сынок, беги!
Гошка не двигался.
– Кому говорят, беги! – закричал отец. Он с силой оттолкнул мальчика.
Отлетел Гошка к самому тротуару. Стоит. Маленький. Глазенками хлопает. То на солдат, то на рабочих смотрит. Видит: поднял офицер руку. Прижали солдаты к плечам винтовки. Секунда – и стрельнут. И вдруг:
- Смело, товарищи, в ногу!
- Духом окрепнем в борьбе,
- В царство свободы дорогу
- Грудью проложим себе, —
запел Гошкин отец. Взмахнул он красным знаменем, и в тот же миг, в один шаг, словно один человек, рабочие двинулись навстречу солдатам.
– Пли! – прохрипел офицер.
– Папка! Папка! – закричал Гошка и бросился к демонстрантам. Подбежал, уткнулся в отцовские брюки. – Папка! Па-а-пка!
Наклонился отец, подхватил Гошку и посадил к себе на плечи.
Глянул мальчик: уступают солдаты дорогу рабочим, опустили ружья, сошли с мостовой.
– Пли! Пли! – хрипел офицер.
Да только никто офицера не слушал.
Улыбнулся Гошка, приветливо замахал красным флажком солдатам.
Прошли рабочие по Маршевой улице, повстречали тех, кто шел по Нагорной, кто шел по Литейной, кто шел по другим улицам и площадям города. Стало людей много-премного. Заколыхалось не одно и не два знамени. Десятки красных знамен полощутся в майском небе. Гремит, не умолкает над городом песня.
- Свергнем могучей рукою
- Гнет вековой навсегда
- И водрузим над землею
- Красное знамя труда!
Сын великана
Повесть о Февральской революции 1917 года
1917 год. Февраль. В России происходит революция. Трудовой народ свергнул ненавистную власть царя. Но власть в стране не досталась рабочим и крестьянам. Ее захватили капиталисты и помещики. Они по-прежнему угнетали трудовой народ.
Большевики призывали рабочих, крестьян и солдат продолжать борьбу.
О событиях, которые происходили в нашей стране весной, летом и осенью 1917 года, о необычной судьбе петроградского мальчика Лёши Митина – одного из маленьких свидетелей и участников Великой Октябрьской социалистической революции, вы и узнаете из повести «Сын великана».
Глава первая
«Смит и Вессон»
На Знаменской площади
«Смит и Вессон» – это пистолет. Достался он Лёшке случайно. Работал в то время мальчик у аптекаря Золотушкина – разносил порошки и лекарства.
Февраль 1917 года вообще был месяц тревожный.
То бастовал Путиловский завод, то сразу и «Динамо», и завод Михельсона, и Бари. По городу разъезжали конные жандармы, появились казаки. Особенно неспокойно было на рабочих окраинах. Здесь люди собирались большими группами. Они прорывались в центр города, запружали Невский, Литейный, Садовую. Раздавались призывы:
– Долой войну!
– Мира!
– Хлеба!
Потом к ним прибавился еще один:
– Долой царя!
Дело становилось серьезным. 23 февраля Лёшка видел, как жандармы разогнали демонстрацию женщин-работниц. А через день рабочие сами перешли в наступление, и на глазах у Лёшки несколько молодых парней стащили с коня жандармского пристава и сбросили его в Фонтанку.
26 февраля в Петрограде появилось много солдат. Лёшка встречал их и у Летнего сада, и у Казанского собора, и в других местах. А когда попал на Знаменскую площадь, там шла настоящая пальба, и мальчик впервые увидел убитых.
Молодой парень в рабочей поддевке, без шапки, с пистолетом в руке, заметив Лёшку, крикнул:
– Марш домой! К мамке! – и двинул торцом ладони по Лёшкиной шее с такой силой, словно собирался перерубить ее.
Мальчик отбежал к подворотне какого-то дома, вскарабкался на полураскрытую створку ворот и стал оттуда смотреть. Лёшка видел, как со стороны Невского на толпу наседали казаки и конные жандармы. Они взмахивали оголенными шашками и стреляли в воздух.
– Разойдись! – вопил жандармский офицер.
Люди отступали, но неохотно. По чьей-то команде из толпы полетели камни.
– Разойдись! – снова закричал офицер и дважды выстрелил в небо.
Толпа загудела:
– Ироды! Душегубцы!
– Сыночки! Да в кого вы? – кричала какая-то женщина.
– Пли! – прохрипел офицер.
Грянули выстрелы. Люди шарахнулись. Заметались. Бросились в разные стороны. Человек двадцать устремилось к Лёшкиной подворотне. Снова ударил залп и плачущим эхом отозвался на Невском.
Лёшка хотел бежать вместе со всеми, но вдруг увидел прогонявшего его парня – в рабочей поддевке, худощавое лицо, заостренный нос, большие глаза, широкая дуга черных, сросшихся у переносицы бровей, короткие, непокорно торчащие во все стороны волосы. Зайдя за фонарный столб, парень целился из пистолета. Вот он нажал спусковой крючок, и в ту же секунду жандармский офицер взмахнул руками, наклонился, уронил голову на грудь и стал медленно сползать с лошади.
Бах-вьить, бах-вьить! – снова всхлипнули казачьи выстрелы.
Лёшка метнулся во двор. Двор оказался маленьким, с высокой каменной стеной в глубине. Мальчик был уже у самой стены, как вдруг услышал чьи-то шаги за спиной. Шмыгнув за уступ дома, Лёшка остановился. Перед глазами его мелькнула фигура знакомого парня. Ловко подпрыгнув, парень повис на каменной кладке забора. Когда он подтянулся и стал заносить ногу, из кармана его брюк что-то выпало. Лёшка бросился к стене.
Под ногами лежал новенький, отливающий вороненой сталью пистолет «Смит и Вессон».
Не ужился
Ни отца, ни матери Лёшка не помнил. Солдат Герасим Митин погиб на Японской войне еще до рождения сына. Ткачиха Варвара Голикова померла от чахотки, едва Лёшке исполнился год.
Вырос мальчик в Петрограде, на Охте, у бабки Родионовны. Старуха была въедливой и на редкость сварливой.
– У других дети как дети, а наш непутевый, – чуть что заводила Родионовна и все причитала: – О Господи, и за какие грехи выпало мне наказание!
А какие у Лёшки провинности? С мальчишками бегает, в кости играет. Так кто же не бегает, кто не играет? Только у Лёшки лучше, чем у других, получалось. И бегал быстрее, и целый мешок выигранных костей лежит под Лёшкиной койкой.
А то, что он по весне, в ледоход, любил кататься на льдинах, так и другие катались. Только Лёшка и здесь в первых. Был смел. Не трусил. До середины Невы добегал по льдинам.
А то, что как-то побил конопатого Филимона, сына владельца керосиновой лавки Горелкина, так ведь и другие тоже лупили. Жадный был – вот и лупили. Правда, Лёшка избил сильнее, так ведь на то и кулак у него был увесистей, и удар метче. Да что Филимона Горелкина – Лёшка как-то извозил гимназиста Перчаткина! И тоже за дело. Нечего было гимназисту заглядываться на соседскую девчонку Катьку Ручкину. Лёшка и Катьку избил. Только не так сильно: пожалел.
Ну кто скажет, что Лёшка не прав? А вот бабка сказала! Да хорошо, если бы только сказала. А то сразу за скалку.
Или вот еще такой случай. Выменял как-то Лёшка бабкину пуховую шаль на голубя. Голубь был не простой – породистый турман. Летает, а сам, словно циркач, переворачивается через голову. Вся улица сбегалась смотреть на забавную птицу. Нет бы бабке тоже взглянуть. А она, не разобравшись, снова за скалку.
В общем, Лёшка твердо считал, что не жил он у бабки, а мучился. «Промучился» до самого 1916 года. А с весны ушел и больше не возвращался. Устроился мальчиком у аптекаря Золотушкина, там и прижился.
Приходила бабка, плакала.
– Хороший, ненаглядный, единственный! – выводила старуха и звала Лёшку домой.
Только Лёшка оказался упрям – ни в какую.
А к осени бабка скончалась. Отпели Родионовну. Похоронили. И Лёшка остался совсем один, как неокрепший дубок на нескончаемом поле.
Капли графини Потоцкой
За пистолетом парень не вернулся. Зря Лёшка топтался в чужой подворотне. Зря перелезал через стену и бродил по соседней улице. Наконец, сунув пистолет за пазуху, мальчик помчался домой.
Бежит Лёшка, приятно холодит железная тяжесть «Смит и Бессона» Лёшкин живот, и думает Лёшка: «Прибегу, забьюсь в чуланчик, рассмотрю находку». Не тут-то было.
– Алексей, живо к генералу Зубову! – приказал Золотушкин и передал мальчику сверток с лекарствами.
Дарья, генеральская прислуга, открыв дверь мальчику, пристально посмотрела на отвислую Лёшкину пазуху.
– Что это у тебя?
– Капли для графини Потоцкой, – соврал, не моргнув глазом, Лёшка.
– Капли? – подивилась прислуга.
Ух, уж эта Дарья! До всего-то ей дело. Как придет Лёшка, она его уж и о том и об этом расспросит и непременно накормит. Добрая Дарья. Вот и сегодня.
– Ох, ох, – вздыхает, – замучил тебя аптекарь! Сиротинушка ты моя, – тянет Лёшку на кухню.
– Да я не хочу, – упирается Лёшка.
– Ешь, ешь, – заставляет и опять причитает: – Сиротинушка ты моя. Некому-то о тебе позаботиться.
Ест Лёшка, а самому не терпится – скорей бы в чуланчик.
– Тетка Дарья, так мне же к графине Потоцкой быстрее надо.
– Ну ступай! – отпускает наконец Дарья и сует на дорогу мальчику пряник.
Вернулся Лёшка – сразу в чуланчик. Только сунул руку за пистолетом, а его опять вызывает аптекарь и – надо же! – действительно дает ему капли и посылает к графине Потоцкой.
До позднего вечера носился в этот день Лёшка по клиентам. Дважды побывал у князя Гагарина, бегал к артистке Ростовой-Задунайской, к приват-доценту Огурцову и еще в несколько мест.
Волнения в городе тем временем стихли. На улицах снова появились нарядные люди, работали магазины, кинематографы. Бегает Лёшка по городу, а у самого одна мысль: как бы рассмотреть «Смит и Вессон»? Пытался он несколько раз вытащить пистолет в пути, да все неудачно. Забежал было в подъезд большого дома на Миллионной. Только сунул руку за пазуху, вошел господин в енотовой шубе, косо посмотрел на Лёшку, кашлянул, но ничего не сказал. Потом появилась нарядная дама с болонкой на руках. Собачонка злобно тявкнула и стала рваться из рук. Лёшка плюнул и вышел на улицу.
Не повезло ему и в подъезде на Литейном: всунулась волосатая физиономия с бляхой под бородой – дворник.
– Ты что тут?.. Вот я те…
Пришлось убираться.
Наконец, уже в темноте, Лёшка вытащил пистолет прямо на улице. До этого смотрел – никого нет. А тут – и откуда она только взялась! – появилась девица в коротенькой шубке. Увидев в руках у мальчика пистолет, девушка с криком бросилась в одну сторону, а Лёшка испугался не меньше и стремглав помчался в другую.
– Бог с ним, – решил наконец мальчик, – вернусь домой – рассмотрю.
Однако дома он неожиданно застал гостя. У Золотушкина был околоточный надзиратель Животов. И Лёшке пришлось прислуживать.
Животов пил рябиновую настойку и рассказывал о городских беспорядках.
– Так вы, того, – говорил околоточный, обращаясь к Золотушкину, – чуть что – к нам в участок. У вас дело такое: ап-те-ка, – протянул он. – Тут может всякое статься. Ну, ваше здоровье, – и выпил рюмку.
– Слушаюсь, – отвечал Золотушкин. – А как же-с. Непременно-с.
– Народ – он стихия, – продолжал Животов. – Он без власти что конь без узды, что овцы не в стаде. Нынче на Знаменской площади жандармского полковника убили. Из пистолета, между прочим. Мастеровой какой-то. Ведется розыск. Я вам скажу, за такие дела ого-го… – заключил Животов.
Лёшка замер, прикрыл рукой пазуху.
«Ведется розыск», – не вылезало из головы у мальчика. Он пощупал пистолет и представил себе ту страшную минуту, когда околоточный Животов своими здоровенными ручищами схватит его, притянет к себе и скажет: «А где ты взял пистолет? А зачем тебе пистолет? А не ты ли убил полковника?» Мальчик похолодел. «Брошу в прорубь, в Неву», – решил Лёшка.
– Государь император, изволю вам доложить, – продолжал между тем околоточный, – прислали депешу: «Прекратить беспорядки». Во как. Мы живо. У нас разговор простой. Становись. В ружье. Пли! – И Животов засмеялся. Потом приблизился к Золотушкину. – Назавтра, будьте покойны, никаких беспорядков. Никаких! – повторил он и снова потянулся за стопкой.
Тем временем Лёшка несколько успокоился, подумал: «Зачем же в Неву?» Выбрав удобный момент, мальчик осторожно прошел на кухню, плотно прикрыл за собой дверь, потом приподнял дверцу подпола и полез вниз. Высмотрев укромное место в дальнем углу, он засунул опасную находку под какие-то ящики.
Когда Лёшка вернулся в комнату, надзиратель прощался с аптекарем.
– Будьте покойны, – еще раз повторил Животов. – Назавтра никаких беспорядков.
Проводив околоточного, Золотушкин перекрестился, прошел в аптечный зал и позвал Лёшку.
Царский портрет
В аптечном зале, на пустынной широкой стене под стеклом, в золоченой раме висел царский портрет. Российский самодержец был изображен во весь рост, в полковничьем мундире, с андреевской лентой через плечо. Император стоял держась за спинку резного кресла, чуть откинувшись назад, словно боясь выпасть из рамы.
За многие месяцы работы у Золотушкина Лёшка возненавидел царский портрет. В обязанность мальчика входило стирать пыль со стекла и надраивать раму. До боли в руках намашется Лёшка тряпкой, а Золотушкину все мало. Подойдет, станет рядом и тычет тростью.
– Тут, – говорит, – не блестит. И тут плохо.
Трость у Золотушкина тонкая, как шпага, ткнет – что кольнет шилом. Вот и сейчас водит Лёшка по царским сапогам, трет по императорской физиономии…
– Не там, не там! – кричит Золотушкин и тычет тростью в золоченую раму.
Лёшка плюет на тряпку и берется за раму.
С улицы постучали. Золотушкин вздрогнул, насторожился. Стук повторился настоятельный, грозный. Побледнев, аптекарь подошел к двери.
– Кто там?
– Откройте!
Золотушкин раздумывал.
– Откройте же!
Голос был женский. Аптекарь повернул ключ. Спиной, чуть согнувшись, медленно переступая порог, в комнату входил неизвестный. А следом за ним еще двое: парень и девушка.
Лёшка глянул и замер…
Безжизненно свесив голову, на руках у вошедших лежал парень со Знаменской площади.
Молодого рабочего положили на диван.
– Простите, – обратилась девушка к Золотушкину. – Ранение. Тяжелое. Нужна срочная помощь.
Аптекарь стоял не шевелился.
– Дайте же йоду! Бинтов! – закричала девушка.
Золотушкин очнулся. Засуетился. Подбежал к шкафчику. Вернулся, подсел на диван и стал поспешно перевязывать раненого. Бинт ложился неровно, сползал, парень морщился и издавал протяжные стоны. Потом аптекарь принес какие-то капли. Парню разжали зубы, и Золотушкин долго целился, прежде чем попал ему ложечкой в рот.
Через несколько минут парень пришел в себя, приоткрыл глаза и увидел царский портрет. Молодой рабочий уставился на него, потом его взгляд перешел на Золотушкина, задержался на лице, скользнул по руками и трости.
Парень стал подниматься. Аптекарь пугливо попятился, бухнулся в кресло.
– Андрей! – вскрикнула девушка.
Она бросилась к парню, но тот оттолкнул ее в сторону, рванулся к аптекарю, выхватил трость. Потом, резко повернувшись к портрету царя, зацепил загнутым концом трости за верхний обрез рамы и что было сил рванул ее на себя. Портрет рухнул. Рама раскололась. Мелким звоном звякнуло и разлетелось стекло.
В ту же минуту парень качнулся и сам свалился рядом с портретом. Когда раненого снова укладывали на диван, он бился и что-то кричал, потом стих и опять безжизненно уронил голову.
Лёшка, шмыгнувший было за аптечную конторку, теперь высунулся и смотрел ошалелыми глазами по сторонам. Он видел, как один из парней вышел на улицу, но вскоре вернулся: пригнал извозчика.
Раненого снова подняли на руки, понесли в экипаж.
Только теперь Лёшка пришел в себя и вспомнил про «Смит и Вессон». Он бросился вслед неожиданным посетителям. Лёшка кричал. Он даже бежал за извозчиком.
Не догнал. Не услышали.
Мальчик вернулся в аптеку. В зале стало удивительно тихо. Лишь: «Воды…» – из кресла простонал Золотушкин. Да гневным взором с пола на Лёшку глянул царь Николай Второй.
Как же это понять?
Обещал Животов, что в городе больше не быть беспорядкам. Однако на следующий день, разнося лекарства, Лёшка вышел на набережную Невы и снова увидел массу народу. Люди шли с правого берега реки, с Выборгской стороны и со стороны Охты. Прорвав солдатский заслон, они двигались по Литейному мосту. Многие шли прямо по льду, через саму Неву.
В городе заговорили, что восстал Волынский полк, что на сторону рабочих переходят и другие воинские команды. Даже казаки якобы отказываются стрелять в народ.
Слухи оказались верными. Вначале у Летнего сада, а потом и на самом Невском Лёшка видел, как рабочие обнимали солдат, а солдаты – рабочих, как вместе кричали они «ура!» и «Долой самодержавие!».
У Арсенала Лёшка попал в самый водоворот событий. Восставшие захватили оружейный склад и тащили кто по одной, кто по две, а кто и по нескольку винтовок сразу. Двое парней волокли тяжелый ящик с патронами. Вышла девушка со связкой ручных гранат.
Лёшка тоже сунулся в Арсенал, как и все, полез за винтовкой, но какой-то плечистый рабочий, увидев мальчика, строго сказал:
– Положь!
– Так я для тятьки, – нашелся Лёшка.
– Положь!
Пришлось отступиться. Зато в другом месте мальчику повезло. Он наткнулся на ящик с гранатами. Поспешно сунув одну из них под пальто, Лёшка выскочил на улицу. Бежал, озирался: все боялся – отнимут.
Вернувшись домой, Лёшка тут же спустился в подпол и спрятал гранату рядом со «Смит и Бессоном».
– Ты где пропадал? – набросился Золотушкин.
– Так я же лекарство…
В этот день Лёшка еще раз бегал на улицы. У Литовского замка он встретил еще большую толпу, чем у Арсенала. Восставшие громили тюрьму. Какой-то бородач, выйдя на волю и щурясь от яркого света, увидев Лёшку, подбежал, обнял, стал целовать и кричал:
– Сыночек, милый, свобода! Свобода!
А через час на Невском Лёшка слышал стрельбу и снова, как на Знаменской площади, видел убитых. Стреляли жандармы из окон какого-то дома. То же произошло на Гороховой: с крыши полоснул пулемет и скосил человек десять. Помутневшим взглядом смотрел на Лёшку, умирая, какой-то старик, хрипел и рвал на себе рубаху.
Вскоре на улицах появились грузовики, набитые вооруженными людьми с красными бантами в петлицах и такими же повязками на рукавах. Лёшка увязался за одним из грузовиков и бежал целый квартал следом. Тогда из кузова свесились чьи-то жилистые руки и подхватили мальчика.
Здоровенный детина в бушлате и морской бескозырке, расплывшись в аршинной улыбке, сказал:
– Место герою.
Кто-то приколол к Лёшкиному пальто кумачовый бант. Кто-то похлопал мальчика по плечу.
Вооруженные люди распевали революционные песни.
И Лёшка пел вместе со всеми и без устали махал руками прохожим. Потом в городе стали хватать жандармов и арестовывать царских генералов. На Литейном проспекте мальчик видел, как какой-то молоденький солдатик подсаживал в кузов дородного генерала и приговаривал:
– Садитесь, садитесь, ваше благородие, да только так, чтобы и другим место осталось.
«Вот бы сюда Животова», – подумал Лёшка. Однако, к удивлению мальчика, Животова никто не тронул. Когда Лёшка вернулся домой, на улице было спокойно, словно в городе ничего не происходило. Околоточный снова сидел у аптекаря. Как и в прошлый раз, Животов пил рябиновую настойку и, обращаясь к Золотушкину, говорил:
– Я вам скажу: монархия – она что стена. Нет такой силы. Будьте покойны. К Петрограду идут войска. Завтра никаких беспорядков.
Увидев вошедшего Лёшку с красным бантом на груди, околоточный поднялся.
– Стервец! – проревел Животов. Он придвинулся к мальчику, сорвал кумачовый бант и принялся неистово топтать его сапогами. Потом схватил Лёшку за ухо. – Ах, стервец! – выкрикивал околоточный и драл Лёшкино ухо с такой силой, словно старался оторвать его вовсе.
Наконец Животов успокоился, взял фуражку и, не прощаясь с аптекарем, направился к выходу. Проходя через аптечный зал, надзиратель глянул на стену и вдруг не нашел на привычном месте портрета царя.
