Читать онлайн Жизнь в пограничном слое. Естественная и культурная история мхов бесплатно
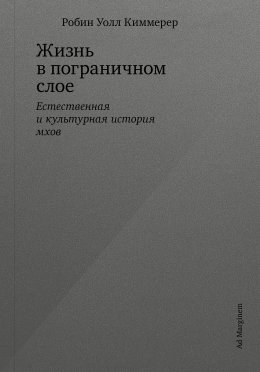
Robin Wall Kimmerer
Gathering Moss
A Natural and Cultural History
of Mosses
Oregon State University Press
Corvallis
Gathering Moss: A Natural and Cultural History of Mosses by Robin Wall Kimmerer
© 2003 by Robin Wall Kimmerer. All rights reserved. This edition was published by Ad Marginem in 2023 by arrangement with Oregon State University Press.
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2023
Предисловие
Видеть мир сквозь очки цвета мха
Мое первое сознательное воспоминание о «науке» (а может, о религии?) связано с детским садом, который помещался в бывшем зале для собраний сельскохозяйственной ассоциации грейнджеров[1]. Мы бежали и приклеивались носами к заиндевелому стеклу, когда начинали падать первые завораживающие снежинки. Мисс Хопкинс, учительница, была слишком мудра, чтобы обрывать упоение пятилеток при виде первого снега. Так что мы выходили на улицу в башмаках и рукавицах, теснясь вокруг нее среди этого мягкого белого кружения. Из глубокого кармана пальто она доставала лупу. Никогда не забуду, как я впервые посмотрела сквозь эту линзу на снежинки, усеявшие рукав ее темного-синего шерстяного пальто, словно полуночные звезды. Десятикратно увеличенная снежинка повергла меня в изумление своей сложностью и филигранностью. Даже сейчас я помню ощущение возможности и тайны, которое сопровождало этот первый взгляд.
В первый раз – но не в последний – я почувствовала: в мире есть не только то, что сразу же открывается нашим глазам. Я смотрела, как снег мягко падает на ветви и крыши, с новообретенным пониманием: каждый сугроб, каждый снежный холмик сложен из мириада звездных кристаллов. Я была поражена этим, как мне казалось, тайным знанием о снеге. Лупа и снежинки стали пробуждением, началом ви́дения. Тогда в моей голове промелькнула догадка: мир, и без того великолепный, становится еще прекраснее, если поглядеть на него пристально.
Постижение искусства видеть мох смешивается в моей голове с первым воспоминанием о снежинке. Сразу за пределами обычного восприятия находится другой уровень иерархии красоты: уровень листьев, тончайших, превосходно устроенных, наподобие снежинки, уровень невидимых жизней, сложных и прекрасных. Всё это требует внимания и умения смотреть. Я нашла, что мох – это средство стать ближе к окружающему миру, постичь сокровенные тайны леса. Эта книга – приглашение проникнуть в окружающий нас мир.
Спустя тридцать лет после того, как впервые посмотрела на мох, я почти всегда ношу на шее ручную лупу. Ее шнурок путается с кожаным ремнем моей аптечки – и метафорически, и вполне конкретно. Мои знания о растениях происходят из многих источников: из самих растений, из моего научного образования, из интуитивного приобщения к традиционному знанию моих предков – индейцев потаватоми. Задолго до того как я поступила в университет и узнала их научные названия, я считала растения своими учителями. В колледже два метода изучения жизни растений – субъективный и объективный, духовный и материальный – обвивались вокруг моей шеи, как два шнурка. Способ, при помощи которого я постигала науку о растениях, до предела обогатил мое традиционное знание о них. При написании этой книги я вспоминала о том, как ко мне приходило это понимание, и отводила ему законное место.
Бытующие среди нас легенды о далеком прошлом рассказывают о времени, когда все живые существа – птицы, деревья, мхи, люди – говорили на одном языке. Этот язык, однако, давно забыт. И мы познаём легенды друг друга, вглядываясь, знакомясь с образом жизни других существ. Я хочу рассказать историю мха, так как его голос почти не слышен, а между тем он может многому нас научить. Мы должны воспринять его связные послания, узнать о том, что думают представители видов, отличных от нашего. Мой внутренний ученый хочет узнать о жизни мха, и наука дает мне мощные инструменты для того, чтобы рассказать его историю. Но этого недостаточно. История касается среди прочего отношений между мной и ним. Мы долго познавали друг друга, мох и я. Излагая его историю, я начала видеть мир сквозь очки цвета мха.
Коренные народы считают, что вещь не понята, пока мы не познали ее всеми четырьмя аспектами своего существа: разумом, телом, эмоциями и духом. Научное познание основано лишь на эмпирической информации о мире, собранной моим телом и истолкованной моим разумом. Чтобы рассказать историю мха, мне нужны оба подхода, объективный и субъективный. В этих очерках я намеренно отвожу место и тому и другому: материя и дух как бы дружески прогуливаются бок о бок. А порой даже танцуют друг с другом.
Стоячие камни
Я ходила по этой тропе ночью, босиком, лет двадцать – кажется, бóльшую часть жизни; земля упиралась в свод моей стопы. Чаще всего я не включала фонарик – пусть тропа ведет меня домой сквозь мрак Адирондака. Моя нога касалась земли, словно пальцы – фортепианных клавиш, наигрывая по памяти старую прекрасную песню сосновых иголок и песка. Я могу сказать, не раздумывая, что на большой корень сахарного клена, где каждое утро греются подвязочные ужи, надо ступать осторожно. Однажды я ударилась о него пальцем ноги и хорошо это помню. У подножия холма, где тропа размыта дождем, я сворачиваю и делаю несколько шагов среди папоротников, стараясь не наступать на острые камни. Тропа поднимается и ведет на гребень из гладкого гранита, еще хранящего дневное тепло. Всё остальное просто – песок и трава; место, где моя дочь Ларкин наступила на осиное гнездо, когда ей было шесть; заросли полосатых кленов, где мы однажды нашли целое семейство птенцов ушастой совы, которые сидели рядком на ветке и крепко спали. Я сворачиваю к своему домику, на том месте, где могу слышать весеннюю капель, обонять весеннюю сырость, ощущать весеннюю влагу между пальцами ног.
Я впервые оказалась здесь студенткой, чтобы пройти практику по полевой биологии на биологической станции Кренберри-Лейк. Там я как следует познакомилась со мхом, бродя с доктором Кечледжем по лесам и разглядывая мох через стандартную ручную лупу (модель для студентов производства «Уардс сайтифик»), взятую из кладовой и подвешенную к моей шее на грязном шнурке. И я поняла, что попала, когда по окончании практики потратила часть своих скудных студенческих сбережений на профессиональную лупу «Бауш и Ломб», такую же, как у Кечледжа.
Эта лупа до сих пор со мной, я ношу ее на красном шнурке, когда сама вожу студентов по тропам возле озера Кренберри – я вернулась сюда и стала преподавателем, а затем начальником биологической станции. За все эти годы мох изменился далеко не так сильно, как я. Pogonatum[2] вдоль Башенной тропы, тот, который показывал нам Кеч, по-прежнему растет там. Каждое лето я останавливаюсь, чтобы разглядеть его получше, и дивлюсь его долголетию.
В последнее время я каждое лето выбираюсь на камни, стараясь понять, как образуются массивы мха. Каждый валун стоит отдельно от других: одинокий остров в бушующем море леса. Единственный его обитатель – мох. Мы пытаемся понять, почему на одном камне спокойно сосуществуют десять и более видов мха, тогда как соседний, внешне точно такой же, занят всего одним видом, растущим в одиночестве. Какие условия способствуют возникновению разнообразных сообществ вместо отдельных индивидов? На этот вопрос нелегко ответить даже применительно ко мхам, а тем более – к людям. К концу лета должна выйти чудесная небольшая публикация – наш вклад в выяснение правды относительно мхов и камней.
По всем Адирондакским горам разбросаны ледниковые камни, круглые глыбы гранита, оставленные отступающим льдом десять тысяч лет назад. Из-за этих мшистых шаров лес кажется каким-то первобытным, но я знаю, как сильно изменился пейзаж вокруг них: от голой, выглаженной ледником равнины до густых кленовых лесов, окружающих камни в наши дни.
Большинство валунов доходят мне лишь до плеча, но есть и такие, которые полностью можно обследовать, лишь встав на лестницу. Мы со студентами обматываем их мерной лентой, определяем освещенность и кислотность, устанавливаем количество трещин и толщину тонкого слоя гумуса. Мы тщательно заносим в каталог положение всех видов мха и их названия. Dicranum scoparium. Plagiothecium denticulatum. Студенты хотели бы указывать другие имена, покороче. Но у мхов, как правило, нет расхожих названий – никто ими не озаботился. Есть только научные, обремененные всеми формальностями согласно классификации Линнея, великого таксономиста растений. Своему собственному имени он, в интересах науки, предпочитал его латинизированный вариант – Carolus Linnaeus.
Многие камни здесь имеют прозвища, и люди, бродящие близ озера, пользуются ими для ориентирования: Стул, Чайка, Обгорелый, Слон, Скользящий. За каждым прозвищем стоит какая-нибудь история, и всякий раз, когда мы произносим его, перед нами приоткрывается прошлое и настоящее этого края. Мои дочери выросли в местах, где у камней по умолчанию есть имена, и дали им свои собственные: Хлебный, Сырный, Китовый, Читальный, Ныряльный.
Имена, которыми мы наделяем камни и другие существа, зависят от нашей точки зрения, от того, находимся мы внутри или вне круга. Имя, что срывается с наших губ, отражает наше знание о другом, и поэтому мы даем своим любимым тайные, нежные имена. Те, которые мы придумываем для себя – это четкое самоопределение, установление границ нашей личной территории. За пределами круга научных названий мхов может быть достаточно, но внутри – как они сами себя называют?
Одна из прелестей биологической станции состоит в том, что она мало меняется от лета к лету. Мы как бы надеваем ее на себя каждый июнь, как выцветшую фланельную футболку, еще пахнущую дымом от дров из прошлого лета. Это основание нашей жизни, наш подлинный дом, нечто постоянное в столь переменчивом мире. Не было еще лета, когда парулы не гнездились бы в елях напротив столовой. В середине июля, когда еще не созрела черника, в лагерь то и дело забредает какой-нибудь голодный медведь. Бобры проплывают мимо причала, через двадцать минут после захода солнца – как по часам, а утренний туман всегда задерживается дольше всего на южном склоне Медвежьей горы. Что-то меняется, конечно. Суровой зимой, когда озеро замерзает, лед выталкивает плавучий лес на берег. Однажды старое серебристое бревно с веткой наподобие шеи цапли передвинулось на шестьдесят футов. А как-то летом дятлы-сокоеды стали вить гнезда на другом дереве, после того как буря отломала верхушку сгнившей старой осины. Но даже изменения складываются в привычный узор, как следы волн на песке: на совершенно спокойном озере появляются трехфутовые валы, листья осины начинают шуметь за несколько часов до дождя, строение вечерних облаков предвещает завтрашний ветер. Я черпаю силу и успокоение в этой физической близости с землей, в сознании того, что знаю имена камней и мое место в мире. На этом диком берегу мой внутренний пейзаж становится почти идеальным отражением внешнего мира.
Итак, я была поражена тем, что увидела в тот день на такой знакомой тропе, в нескольких милях от моего домика, если идти к берегу. Я застыла как вкопанная. Растерявшись, я затаила дыхание, оглядываясь, стараясь успокоить себя: я на той же самой тропе, я не уклонилась ни в какое сумеречье, где вещи не таковы, какими они кажутся. Я ходила по этой тропе несчетное число раз, но только в тот день увидела их: пять глыб, каждая размером со школьный автобус, сгрудившиеся в кучу – их очертания так хорошо сочетались друг с другом, что, казалось, они обнимаются, как пожилые супруги. Видимо, их принес сюда ледник, расположил, уподобив любящим существам, и ушел. Я молча обошла это скопление, ощупывая пальцами мох.
На восточной стороне было отверстие – пещероподобная темная щель между глыбами. Почему-то я знала, что оно должно быть там. Этот проход, никогда не виденный мной, казался странно знакомым.
Моя родня происходит из Медвежьего клана Потаватоми. Медведь владеет целительскими знаниями, которыми делится с людьми, и состоит в особых отношениях с растениями. Он называет их по именам, знает их истории. Мы призываем его, чтобы обрести понимание, выяснить, каково наше предназначение. Думаю, что я следую по пути Медведя.
Даже местность вокруг выглядела какой-то настороженной, всё до мельчайших деталей находилось в каком-то неестественно резком фокусе. Но когда я тряхнула головой, чтобы прийти в себя, то услышала знакомый шелест волн, набегающих на берег, и щебет горихвосток над головой. Встав на четвереньки, я поползла в темную пещеру, надо мной были тонны каменной породы, и я вообразила, что попала в медвежью берлогу. Я понемногу продвигалась вперед, шероховатый камень больно обдирал голые локти и предплечья. Поворот – и свет, шедший снаружи, погас. Я принюхалась: воздух холодный, медведем не пахнет – только мягкой почвой и гранитом. Нащупывая дорогу пальцами, я двинулась дальше, не очень понимая, зачем. Пол пещеры клонился вниз и состоял сплошь из сухого песка – дождевая вода не доходила до этого места. Впереди, за следующим поворотом, начинался подъем. Увидев свет и зелень – лес, – я поползла туда. Наверное, я нашла сквозной проход под глыбами. Выбравшись из туннеля, я обнаружила, что вокруг меня вовсе не лес, а луг с невысокой травой, окруженный каменными стенами. То была комната, залитая светом комната, круглый глаз, созерцавший небесную голубизну. Цвела индейская кисть, по краям, у каменной ограды, рос пахший сеном папоротник. Я оказалась внутри круга. Никакого прохода, кроме найденного мной, не было, и я ощутила, как это отверстие закрывается позади меня. Оглядев кольцо, я не обнаружила никакой щели. Сначала я испугалась, но нагретая трава пахла так сладко, а каменные стены были усеяны мхом. Странно было слышать перекличку горихвосток среди деревьев за пределами круга, в параллельной вселенной, исчезнувшей, как мираж: меня окружали мшистые стены.
Внутри каменного круга я необъяснимым образом лишилась мыслей и чувств. Глыбы полны смысла: это глубинное присутствие, притягивающее жизнь. То было место силы, обмена энергией, который идет на чрезвычайно длинных волнах. Я стояла под взглядом камней, и мое присутствие заметили.
Глыбы невероятно медленны и сильны, но всё же не могут устоять перед еле слышным дыханием зелени, могучим, как ледник: мох истирает их поверхность, крупица за крупицей, медленно обращая камень в песок. Есть старинный диалог – в стихах, если уж быть совсем точным – между мхами и скалами. О свете и тени, о смещении континентов. Это называется «диалектикой мха на камне – взаимодействие безмерности и малости, прошлого и настоящего, неподвижности и динамизма, инь и ян»†. Материальное и духовное живут здесь бок о бок.
Сообщества мхов могут быть тайной для ученых, но они известны кое-кому другому. Живя в тесном соседстве со скалами, мхи знают их очертания. Они помнят, как вода находит путь по расщелине, так же как я помню дорогу к дому. Стоя внутри круга, я знаю, что мхи обладают именами, обретенными задолго до Линнея, придумавшего латинские названия растений. Время идет.
Не знаю, надолго ли я отлучилась, на сколько минут или часов. Всё это время я не ощущала собственного существования. Только глыбы и мхи. Глыбы и мхи. Потом, словно почувствовав мягкое прикосновение чьей-то руки к моему плечу, я пришла в себя и оглянулась. Транс прервался. Я снова слышала перекличку горихвосток над своей головой. Стены, сомкнувшиеся кольцом, сияли всевозможными мхами, и я вновь увидела их, как в первый раз. Зеленое и серое, старое и новое, здесь и сейчас: всё это осталось навсегда друг рядом с другом, принесенное ледниками. Мои предки знали, что в скалах заключены истории нашей планеты, и я какое-то время могла слышать их.
В мои мысли ворвался шум, назойливое жужжание, прервавшее неторопливую беседу глыб. Дверь в стене вновь открылась, время опять пошло. В каменном круге появилось отверстие, дар был сделан. Я способна смотреть на вещи по-разному, изнутри и извне круга. Дар сопровождается ответственностью. Мне совсем не хотелось именовать мхи в этом месте, присваивать им Линнеевы эпитеты. Я решила, что моя задача – передать сообщение о том, что у мхов есть свои имена. Их способ существования в мире нельзя выразить посредством одних лишь данных. Они напоминают мне: нельзя забывать, что есть тайны, которые не раскрыть при помощи рулетки, вопросы и ответы, которые не имеют отношения к истине относительно глыб и мхов.
Мне показалось, что ползти обратно легче. На этот раз я знала, куда направляюсь. Я обернулась, взглянула на глыбы и поставила ступню на знакомую тропу, ведущую к дому. Я знала, что следую путем Медведя.
Учиться видеть
Проведя четыре часа на высоте в тридцать две тысячи футов, я, наконец, впала в отупение, сопутствующее трансконтинентальным перелетам. Время между взлетом и посадкой – это как бы застывший кадр из мультика, пауза между главами жизни. Когда мы смотрим в окно, на сверкающее солнце, пейзаж выглядит плоской проекцией, а горные хребты уменьшаются до морщинок на коже континента. Не обращая внимания на нас, летящих в небе, под нами внизу разворачиваются другие истории. Черника зреет под августовским солнцем, женщина собирает чемодан и колеблется, ступив на порог, конверт вскрывается, и из письма выпадают поразительные фотографии, вложенные между страниц. Но мы движемся слишком быстро, мы слишком высоко, все истории ускользают от нас, кроме нашей собственной. Я отворачиваюсь от окна, и истории пропадают внизу, на просторах двухмерной карты, коричнево-зеленой. Так форель исчезает в тени нависающего берега, и ты глядишь на плоскую поверхность воды, размышляя о том, видел ли ты ее вообще.
Я надела новые очки для чтения, к которым еще не привыкла, проклиная свое плохое зрение человека средних лет. Слова на странице плывут, оказываются не в фокусе. Как это – я не могу видеть то, что раньше было таким четким? Бесплодная попытка увидеть то, что, как я знала, находится прямо передо мной, напомнила мне о первой поездке в леса Амазонии. Проводники-туземцы терпеливо показывали на игуану, отдыхавшую на ветке, или тукана, смотревшего на нас сквозь листья. Мы почти не замечали того, что без труда видели их натренированные глаза. Не имея нужной сноровки, мы попросту не могли распознать игуану в узорах света и тени, и она была прямо перед нашими глазами, досадно невидимая.
Мы, несчастные близорукие люди, никогда не обретем остроты зрения хищника или панорамного взгляда мухи. И всё же, благодаря внушительному мозгу, мы, по крайней мере, сознаем пределы своих возможностей. Со смирением, редким для наших видов, мы соглашаемся с тем, что не видим многого, и изобретаем удивительные средства для наблюдения за миром. Инфракрасные снимки со спутников, телескопы, в том числе орбитальный «Хаббл», значительно расширяют область человеческого зрения. Электронные микроскопы позволяют проникнуть в далекую вселенную наших собственных клеток. Но на средней дистанции, там, где нужен невооруженный глаз, чувства странно притупляются. Вооружившись современными технологиями, мы стараемся увидеть то, что пребывает вне нашего обычного мира, но нередко остаемся слепыми к мириадам искрящихся граней предметов, находящихся на расстоянии вытянутой руки. Мы полагаем, что видим, но лишь скользим взглядом по поверхности. На этой средней дистанции острота зрения, похоже, притупляется, и не по вине глаз, а из-за лености мозга. Неужели могущество наших устройств вызвало недоверие к собственным невооруженным глазам? Или мы стали пренебрегать тем, что познается не через технологии, а лишь с помощью времени и терпения? Одно лишь внимание способно соперничать с самыми сильными линзами.
Я помню, как впервые оказалась на северотихоокеанском побережье, в Риальто-Бич на полуострове Олимпия. Сухопутный ботаник, я предвкушала, как впервые увижу океан, крутя головой на каждом повороте извилистой грязной дороги. Прибыв на место, мы оказались в густом сером тумане, висевшем на деревьях, и моя голова сразу стала влажной. Будь небо ясным, мы бы увидели лишь то, что ожидали: скалистый берег, пышный лес, широкий морской простор. В тот день воздух был непрозрачным, и задник прибрежных холмов показывался лишь тогда, когда из облаков ненадолго выглядывали вершины ситхинских елей. О присутствии океана говорил только низкий рокот прибоя, там, за лужами, что остаются после отлива. Странно: на краю этой безмерности мир стал крошечным, туман скрывал всё, кроме того, что видно на средней дистанции. Мое затаенное желание узреть панораму берега сосредоточилось на том единственном, что я могла видеть: пляже и лужах.
Бредя в серой полумгле, мы быстро потеряли друг друга из вида – через несколько шагов мои друзья растворились, словно призраки. Нас связывали только приглушенные голоса: один обнаружил чудесный камушек, другой – целую раковину двустворчатого моллюска… Читая перед поездкой всякие справоч ники, я знала, что мы «должны» найти морских звезд в приливных лужах. Я никогда еще не видела морскую звезду – разве что высушенную, на занятиях по зоологии, – и очень хотела встретить ее в естественной среде обитания. Я поискала их среди мидий и морских блюдечек: ничего. Лужи были полны усоногих рачков, водорослей экзотического вида, актиний, панцирных моллюсков – достаточно, чтобы удовлетворить любопытство начинающего исследователя луж. Но ни одной морской звезды. Ступая по скалам, я клала в карман раковины мидий цвета луны и облизанные водой щепочки топляка, постоянно приглядываясь. Ни одной морской звезды. Разочарованная, я выпрямилась, чтобы размять затекшую спину, и внезапно увидела ее. Ярко-оранжевую, прилепившуюся к скале, прямо передо мной. Потом с моих глаз будто спала пелена, и я увидела их повсюду. Точно звезды, что загораются одна за другой в темнеющем летнем небе. Оранжевые звезды в расщелинах черной скалы, пятнистые бордовые звезды с вытянутыми лучами, фиолетовые звезды, сгрудившиеся, словно члены семейства в холодный день. Открытия следовали без перерыва – невидимое внезапно сделалось видимым.
Один знакомый из Шайенна, старше меня, однажды сказал, что лучший способ найти что-нибудь – не искать вовсе. Ученому тяжело постичь это. Он говорил, что надо смотреть уголком глаза, быть открытым любой возможности, и тогда искомое предстанет перед тобой. Внезапное обнаружение того, к чему я была слепа всего несколько мгновений назад, стало великолепным опытом. Я могу воспроизвести в памяти эти моменты и до сих пор испытываю чувство выхода на простор. Границы между моим миром и миром другого существа отодвинулись, внезапно всё стало ясно: опыт, принижающий и радостный одновременно.
Внезапное визуальное осознание частично стало следствием поискового образа, возникшего в мозгу. При сложном визуальном ландшафте мозг первоначально фиксирует всю поступающую информацию, не оценивая ее критически. Пять оранжевых лучей, расположенных звездообразно, гладкая черная скала, свет и тень. Всё это – вводные данные, но мозг не сразу интерпретирует их и передает соответствующий смысл сознанию. Лишь когда схемы повторяются и дополняются сведениями из сознания, мы понимаем, чтó видим. Именно так хищник становится умелым преследователем добычи: сложные визуальные схемы складываются внутри его мозга в конфигурацию «пища». Так, некоторые певчие птицы охотятся очень успешно при зашкаливающем количестве определенных гусениц, таком, которое создает поисковый образ в их мозгу. Но те же насекомые могут остаться незамеченными, если их мало. Нейронные цепочки следует тренировать на опыте, чтобы мозг обрабатывал увиденное. Синапсы возбуждаются, и появляются звезды. Невидимое внезапно делается четко различимым.
В масштабе мха бродить по лесам, будучи шестифутовым человеком, почти то же самое, что лететь над континентом на высоте в тридцать две тысячи футов. Находясь так высоко над землей, к тому же по пути куда-то, мы рискуем потерять целое королевство под своими ногами. Каждый день мы ступаем по ним, не видя их. Мхи и другие мелкие существа приглашают задержаться на время, длительность которого едва различима обычным восприятием. Всё это требует от нас внимательности. Посмотри определенным образом, и перед тобой откроется целый новый мир.
Мой бывший муж дразнил меня, высмеивая мою страсть ко мхам – говорил, что это всего лишь декорация. Он воспринимал мхи как обои леса, фон для фотографий деревьев, которые он делал. И правда, ковер мха излучает глянцевитый зеленый свет. Но наведите лупу на эти «обои»: нечеткое зеленое пятно на заднем плане войдет в резкий фокус и перед вами возникнет совершенно новое измерение. Эти «обои» с однородным, на первый взгляд, узором в действительности – настоящий гобелен со сложным рисунком. «Мох» – это множество мхов, которые сильно различаются между собой. Одни напоминают миниатюрные папоротники, другие – страусиные перья, третьи блестят, словно шелковистые волосы ребенка, собранные в пучок. Приглядываясь к покрытому мхом бревну, я неизменно представляю себе магазин тканей с безумными расцветками. В его витринах – куча образцов с богатой текстурой и насыщенными цветами, которые приглашают рассмотреть их получше. Можно ощупать шелковистый драп Plagiothecium или глянцевую парчу Brotherella. А еще – темная шерсть Dicranum, золотые холсты Brachythecium, сверкающие ленты Mnium. Узловатый черный твид Callicladium прошит золотыми нитями Campylium. Миновать их в спешке, не присмотревшись – всё равно что пройти мимо «Джоконды», уткнувшись в мобильник.
Приблизьтесь к этому ковру из зеленого света и тени: тонкие ветви смыкаются над крепкими стволами, образуя лиственную башенку, капли дождя просачиваются сквозь лесной покров, по листьям ползают алые клещи. Архитектура окружающего леса повторена в ковре мха, хвойный лес и моховой лес – зеркальные отражения друг друга. Приглядитесь к тому, что размера капли росы, и лесной пейзаж превратится в размытые обои, став лишь фоном для неповторимого микромира мха.
Учась видеть мох, мы больше слушаем, чем смотрим. Беглый взгляд здесь не поможет. Чтобы уловить далекий голос, различить оттенок подтекста беседы, требуется внимательность, умение фильтровать все шумы и воспринимать музыку. Мох – не фоновая музыка, а переплетенные темы бетховенского квартета. Можно смотреть на мох так же, как вы прислушиваетесь к журчанию воды, бегущей по скалам. Успокаивающий шум ручья содержит в себе множество голосов – как и успокаивающая зелень мха. Фримен Хаус пишет о звуках низвергающегося водопада: вот здесь вода стремительно несется вниз сама по себе, вот здесь ударяется о скалы. Проявите терпение, небезразличие, и вы различите отдельные тоны в этой фуге: скольжение воды по валуну, на несколько октав выше – глубокие тоны шуршащей гальки, бульканье потока, что протискивается между камнями, звонкие ноты капель, падающих в водоем. Так же и с разглядыванием мха. Замедлив шаг и подойдя ближе, мы увидим, как перед нами возникают рисунки, выделяясь из запутанных мотивов ковра. Отдельный узор отличен от целого и одновременно является его частью.
Знание фрактальной геометрии снежинки делает зимний пейзаж еще более чудесным. Знание мха обогащает наше знание мира. Я чувствую перемены, глядя на то, как мои студенты-бриологи[3] учатся видеть лес совершенно по-новому.
Я преподаю бриологию летом, бродя по лесу, делясь своим знанием мха. Первые дни курса – настоящее приключение: студенты учатся различать мхи сначала невооруженным глазом, потом с помощью лупы. Я пробуждаю в них понимание того, что камень покрыт не «мхом», а двадцатью видами мха, и у каждого есть своя история.
И на тропе, и в лаборатории я люблю слушать разговоры студентов. День за днем их словарь обогащается, они с гордостью называют зеленые облиственные побеги «гаметофитами», а крохотные коричневые штуковины на верхушке мха, как и следует, – «спорофитами». Вертикальные пучки становятся «акрокарпами», горизонтальные листочки – «плеврокарпами». Узнавая слово для обозначения каждой формы, ты лучше ощущаешь различия между ними. Имея в своем распоряжении нужные слова, ты видишь всё яснее. Нахождение слов – один из шагов на пути к умению видеть.
Еще одно измерение, еще один набор слов появляются, когда студенты начинают разглядывать мох под микроскопом. Листки терпеливо отделяются друг от друга и помещаются на стекло для тщательного исследования. При двадцатикратном увеличении оказывается, что их поверхность покрыта великолепным рельефом. Яркий свет, пропущенный сквозь клетки, выявляет их изящные очертания. За изучением всего этого время проходит незаметно: это всё равно что бродить по картинной галерее, обнаруживая неожиданные формы и цвета. Порой, проведя час за микроскопом, я отрываюсь от него и поражаюсь тому, как скучен обычный мир, как однообразны и предсказуемы очертания предметов.
По-моему, язык микроскопа убедительно ясен. Кромка листа – не просто неровная, для ее описания есть ряд особых слов: «зубчатая» – если зубцы большие и грубые, «пильчатая» – если край напоминает этот плотницкий инструмент, «мелкопильчатая» – если зубцы небольшие и ровные, «реснитчатая» – если вдоль нее идет бахрома. Если лист сложен гармошкой – он «складчатый», если словно расплющен между страницами книги – «уплощенный». Для каждой особенности архитектуры мха есть свое слово. Студенты обмениваются ими, как члены тайного братства, использующие особый язык, и я наблюдаю за тем, как они всё теснее сближаются друг с другом. Обладать словами – значит, помимо прочего, входить в близкие отношения с растением, тщательно исследовать его. Даже для поверхности каждой клетки есть отдельные термины – «мамиллозная», «папиллозная», «густо-папиллозная», в зависимости от размера выростов клеточной стенки и их количества. Поначалу это кажется какой-то непонятной технической тарабарщиной, но в каждом слове есть жизнь. Можно ли найти лучшее слово для толстого, круглого, набухшего от воды побега, чем «булавовидный»?
Мхи так плохо известны широкой публике, что лишь у некоторых есть обычные имена. У большинства имеются лишь научные латинские названия, и поэтому люди обычно не решаются установить вид мха. Но я люблю научные термины, они так же прекрасны и замысловаты, как обозначаемые ими растения. Только послушайте, проникнитесь этой музыкой, этим ритмом, пусть они слетят с ваших губ: Dolicathecia striatella, Thuidium delicatulum, Barbula fallax.
Чтобы узнать мхи, однако, необязательно учить их научные названия. Латинские слова, которые мы связываем с ними, всего лишь произвольные конструкты. Часто, когда я нашла новый вид, но еще не выяснила его официального названия, я даю ему имя, которое имеет смысл для меня: зеленый бархат, закрученная верхушка, красный стебель. Слово нематериально. Для меня важно распознавать мхи, признавать за каждым из них индивидуальность. Туземный путь познания предполагает, что все существа – личности, хотя и отличные от человеческих, и носят имена. Звать их по имени – знак уважения, пренебрегать этим именем – знак неуважения. При помощи слов и имен люди устанавливают отношения не только друг с другом, но и с растениями.
Слово «мох» обычно относят к растениям, которые вообще-то не являются мхами. «Олений мох» – это лишайник, «испанский мох» – цветковое растение, «морской мох» – водоросль, «клубный мох» – ликофит†. Что же такое мох? Настоящий мох, бриофит, – самое примитивное из всех растений, встречающихся на суше. Мхи часто описываются через то, чего у них нет, в отличие от лучше знакомых нам высших растений. У них нет цветков, плодов, семян, корней, сосудистой системы, ксилемы и флоэмы для внутреннего тока воды. Это самые простые растения, изящные в своей простоте, имеющие лишь рудиментарные стебли и листья. Между тем эволюция произвела на свет двадцать две тысячи видов мохообразных. Каждый из них – вариация на определенную тему, уникальное творение, предназначенное для того, чтобы добиться успеха, заняв крошечную нишу буквально в любой экосистеме.
Разглядывая мох, мы глубже узнаём лес, становимся ближе к нему. Бродя среди деревьев, обнаруживая присутствие того или иного вида за пятьдесят шагов, по одному лишь цвету, я крепко привязываюсь к этому месту. Особый оттенок зелени, способ поглощения света выдает неповторимость растения, словно ты узнаёшь походку друга до того, как различил его лицо. Близкая связь порождает узнавание в мире, полном стольких безымянных предметов: так мы распознаём голос любимого в шумном помещении, улыбку своего ребенка среди моря лиц. Это ощущение связи создается благодаря различению особого вида: у нас есть поисковый образ, появляющийся в результате долгого смотрения и слушания. Близость дает нам возможность видеть по-иному в тех случаях, когда зрение оказывается недостаточно острым.
Как хорошо быть маленьким: жизнь в пограничном слое
За мое запястье держится плачущий малыш, и я удостаиваюсь неодобрительного взгляда от дамы с кислым лицом. Моя племянница безутешна – я заставила ее уцепиться за мою руку, чтобы перейти улицу. Теперь она вопит во весь голос: «Я совсем не такая маленькая, я хочу быть большой!» Если бы она знала, как быстро сбудется ее желание… Мы возвращаемся в машину, она рыдает, оскорбленная тем, что ее пристегнули к детскому креслу, я пытаюсь урезонить ее, напоминая о том, как хорошо быть маленькой. Она помещается в секретное убежище под кустом сирени, где брат ни за что не найдет ее. А как насчет того, чтобы послушать сказку, сидя на коленях у бабушки? Но нет, она не покупается на это и засыпает по пути домой, сжимая в руке веревочку своего нового воздушного змея, с той же недовольной миной.
Я принесла обросший мхом камень в ее детский сад, на занятие по науке, и спросила у ребят, что такое мох. Они не стали разбираться, к какому царству он принадлежит – животному, растительному или минеральному, и сразу перешли к главному: мох, он маленький. Дети мгновенно проникают в суть дела. Это самое очевидное свойство мхов колоссально влияет на способ их существования в мире.
Растения мха невелики, поскольку не обладают системой, способной поддерживать их в вертикальном положении. Мох крупного размера встречается большей частью в озерах и реках, где вода может справляться с его весом. Деревья высоки и стройны, поскольку имеют сосудистую ткань, ксилему, состоящую из толстостенных трубчатых клеток, через которые в дерево поступает вода. Мхи – самые примитивные из растений, они не смогли бы держаться прямо, если бы были выше. Отсутствие ксилемы означает также, что они не могут брать воду из почвы и гнать ее к листьям на вершине растения. Только растение в несколько сантиметров высотой, не больше, способно обеспечить себя водой.
Однако «маленький» не означает «неуспешный». Мхи успешны по всем биологическим меркам: они встречаются почти в любой экосистеме Земли, образуют двадцать две тысячи видов. Так же как моя племянница, находящая укромные места, чтобы прятаться, мох может обитать в самых разнообразных микросообществах, где плохо быть большим. Мох заполняет пространства, куда не проникают крупные растения, поселяется внутри трещин в асфальте тротуара, на ветвях дуба, на спине жука, на кромке утеса. Прекрасно приспособленный к миниатюрной обстановке, он сполна извлекает выгоду из своей малости и выбирается из своего мирка на свой страх и риск.
Бесспорно, деревья, с их развитой корневой системой и обширной кроной, – настоящие властелины леса. Обильно роняющие листья, они обладают конкурентным преимуществом, мох им не ровня. Если ты невелик, одно из последствий – невозможность конкурировать за солнечный свет: деревья всегда оттеснят тебя. Хлорофилл, содержащийся в листьях мха, не таков, как у его солнцелюбивых собратьев, он приспособлен к тому, чтобы получать свет, просачивающийся сквозь кроны деревьев.
Мха много во влажных местах, под густыми кронами вечнозеленых деревьев: там он образует плотный зеленый ковер. Однако в лиственных лесах мох практически не может выжить осенью, оказываясь под темным, влажным одеялом опавших листьев. Убежищем для него служат поленья и пни, возвышающиеся над лесной подстилкой, как холмы над равниной. Мху хорошо там, где деревьям не по себе, на твердых, не пропускающих влагу поверхностях – на камнях и скалах, на древесной коре. Изящно приспособившись к этим условиям, он не чувствует себя ущемленным – нет, он безраздельно повелевает средой, которую выбрал.
Мох обитает на поверхности камня, дерева, бревна – там, где земля и атмосфера впервые вступают в контакт. Это место, где встречаются воздух и почва, называют пограничным слоем. Плотно прилегая к камням и бревнам, мох хорошо знает очертания и строение подложки, которую устилает. Размер для него – не минус, а плюс, он позволяет извлечь выгоду из жизни в микросреде, которая возникает в пограничном слое.
